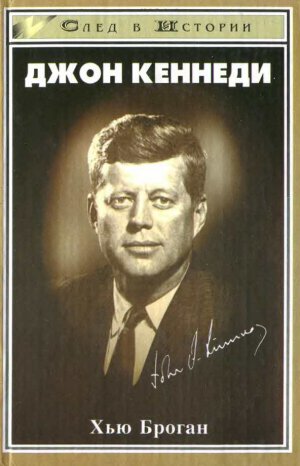
БЛАГОДАРНОСТИ
Эта книга создавалась на протяжении длительного времени, поэтому прежде всего я хочу поблагодарить моих терпеливых издателей, в том числе редактора серии профессора Кейта Роббинса. Он не только проявлял внимание, но и поддерживал, а каждый автор знает, как это важно.
Я также получил поддержку, совет и помощь от столь многих, что их трудно перечислить, чтобы быть справедливым. Я чрезвычайно благодарен Ричарду И. Нойштадту, осветившему многие моменты в своих лекциях и беседах в Гарвардском и Эссекском университетах; Артуру Шлезингеру-младшему, встречи с которым в Лондоне и Нью-Йорке были весьма полезны. Также могу добавить, что большую помощь этой книге оказали их знания и научные труды, и, надеюсь, это придало ясности некоторым отрывкам.
Книга не была бы написана без того времени, которое я потратил, работая в библиотеке Джона Фицджеральда Кеннеди. Осенью 1990 года я провел там два плодотворных месяца и благодарен сотрудникам, особенно Мауре Портер и Джун Пейн. Я также премного обязан Чарльзу Уоррену Сентеру из Гарвардского университета, который отнесся ко мне как к другу, оказав сердечный прием и всячески помогая мне не только в исследованиях, но также предоставив пишущую машинку. Я горячо признателен Бернарду Вэйлину, благодаря которому была осуществлена эта работа. Следует также воздать должное комиссии Фулбрайта, которая не только оплатила мои поездки по стране, но и организовала несколько полезных встреч в Гарвардском университете. Жизнь Джона Ф. Кеннеди невозможно понять, не побывав в Бостонском университете, и своим пребыванием там я также обязан комиссии.
Многое я почерпнул из встреч с Дональтом Балмером, Д. Дж. Р. Брукнером, Дж. К. Гелбрейтом, Найджелом Гамильтоном, Энтони Льюисом, Дэвидом Найгэном, Юджином В. Ростоу, Вирджинией Сапи-ро, Вильямом Саттоном, Марком Дж. Уайтом и Грэхэмом К. Уилсоном. Я благодарен за помощь Майклу Жиллетту, работнику Национального архива, и Дону Бейкону, который нас познакомил. Мне помогли также коллеги из Эссекского университета, а именно Тим Хэттон, Колин Сэмсон и Эрик Смит. Доктор Смит прочел часть книги, а Энтони Дж. Баджер, сэр Майкл Говард, Хью Таллок и Энн Туса отредактировали остальные отрывки, что уберегло от многих грубых ошибок (а результат этой работы был доставлен мне). Я сердечно благодарен им всем.
Я также признателен Эйлин Фрейзер за разрешение процитировать строки из ее поэмы «Вместо элегии».
И, наконец, я хочу поблагодарить Эссекский университет за возможность работать в превосходной библиотеке этого учебного центра и цивилизованные условия для исследований, без чего эта книга не была бы завершена.
Хью Броган Вивехау,22 мая 1996 г.
СОКРАЩЕНИЯ
ИП = Документы Пентагона. История постановлений министерства обороны США по Вьетнаму (издание сенатора Гравела, Бостон; Бикон Пресс, 1971)
КУИ = Мемориальная библиотека Кеннеди. Устные истории
ПАС = Джон Ф. Кеннеди. Почему Англия спала (Лондон, Сиджвик и Джексон, 1962)
ПД = Правительственные документы президента Соединенных Штатов: Джон Ф. Кеннеди в 3 томах (Вашингтон, округ Колумбия, 1961–1963)
ПС = Джон Ф. Кеннеди. Пусть слово звучит»: речи, выступления и письменные документы Джона Ф. Кеннеди с 1947 по 1963 год», издано Теодором Соренсеном (Нью-Йорк, Делакорт, 1988)
ПСД = Джон Ф. Кеннеди. Портреты сильных духом» (Нью-Йорк, издание Покета, 1961)
РК, Выступления = Эдвин О. Гутман и Джеффри Шульман (издания). Роберт Кеннеди в своих выступлениях (Нью-Йорк, Бантам, 1988)
СМ = Джон Ф. Кеннеди. Стратегия мира, издана Алланом Невинсом (Нью-Йорк, Харпер, 1960)
Шлезингер, РК = Артур М. Шлезингер-мл. Роберт Кеннеди и его время (Лондон, Андрэ Дойч, 1978)
Шлезингер, СД = Артур М. Шлезингер-мл. Сто дней: Джон Ф. Кеннеди в Белом доме (Нью-Йорк, издание Фосетт Премьер, 1971).
Глава 1
ВРЕМЯ КЕННЕДИ
Личность Кеннеди привлекает внимание писателей и историков наравне с Елизаветой I, кардиналом Ришелье и Дэвидом Ллойдом Джорджем, хотя это и не столь очевидно. В качестве президента Соединенных Штатов Кеннеди обладал властью, какую только современный мир может дать и, возможно, самой большой за все время истории, но как недолго! Всего два года и десять месяцев отделяют день его инаугурации как президента Соединенных Штатов от убийства; как Теодор Соренсен сказал с горечью, услышав ужасную новость: «Они не дали ему поработать даже трех лет»[1]. Из сорока президентов только шестеро занимали этот пост меньшее время, чем Кеннеди; в двадцатом веке лишь двое ушли раньше (это Хардинг и Форд, хотя они и Кеннеди просто несопоставимы). В своей инаугурационной речи он сказал: «Давайте начнем»; а его преемник, принимая дела: «Давайте продолжим»; и, хотя время его президентства было коротким, это еще нс говорит о том, как оно было наполнено. Основные поворотные моменты его времени, как настаивают некоторые, произошли задолго до того, как он пришел к власти. Став президентом, Кеннеди обучался этой работе и совершенствовал результаты, но был выведен из нее, не успев показать, чему он научился, употребив свои знания в дело. Я не разделяю эту точку зрения, но должен иметь ее в виду.
Это не портрет, а скорее набросок. Хотя жизнь Кеннеди была коротка, она изобиловала большими и малыми событиями, многие из которых не рассматриваются в этой книге. Читателям, которым нужны полные данные, следует обратиться к другим источникам. Но, тем не менее, эта работа потребовала достаточной информации, чтобы обосновать точку зрения, утверждающую, что президентство Кеннеди действительно имело большое значение, что это было время важных решений и выборов и — к худу или к добру — изменило направление истории, результат чего ощущается до сих пор; что это та призма, через которую можно рассмотреть президентство и сами Соединенные Штаты; и, благодаря личности Кеннеди, невероятным обстоятельствам его смерти и вызванных этим последствиям, оно является тем периодом, исследование которого постепенно заставляет политического историка уйти довольно далеко от коридоров власти и архивов. Одним словом, время Кеннеди было важным для истории. (Это даже не следует особо доказывать: количество литературы о нем постоянно увеличивается, что подтверждает данную точку зрения.)
Моей работе помогало время. Порой единственной привилегией историка является освещение давно произошедших событий, а недавние остаются как бы за кадром. В литературе о Кеннеди я нашел очень немного материала, который можно отнести к историческому. И в этом вина не только авторов; дело в том, что прошло недостаточно времени для зрелого и взвешенного анализа. Более тридцати лет отделяет нас от президентства Кеннеди; тридцать лет — время одного поколения (хотя, учитывая продолжительность жизни сейчас, более реалистичным было бы назвать цифру «40»). Как бы то ни было, тридцать лет — это тот рубеж, после которого события перестают называться текущими и становятся историческими; предшественник Кеннеди на посту президента, Дуайт Д. Эйзенхауэр уже стал достоянием ученых-историков, анализирующих его деятельность со всей научной дотошностью и строгостью. Я полагаю (и полагал), что теперь настает очередь Кеннеди. Я вовсе не хочу добавить (если когда-либо это случалось) еще один голос к хвалебному хору, даже оправдывая это молодостью автора, который, однажды увидев Шелли, был им очарован и, как и весь мир, был ошеломлен его убийством. Полного беспристрастия достичь трудно, но это не мешает описывать президентство Кеннеди, проблемы, встававшие перед ним, и их решение, что в итоге способствует лучшему пониманию его деятельности, его страны и его времени. Мы видели достаточно проявлений горя, гнева, предрассудков, восхищения и обвинений. Теперь настало время взвешенного обсуждения — это та цель, к которой историки постоянно должны стремиться.
Время уже начало менять фундаментальные категории толкования. Например, Кеннеди называют президентом «холодной войны» — и эта война сейчас окончена. Одним из не самых значительных последствий этого огромного события явилось то, что большинство исследований по внешней политике Кеннеди оказались устаревшими; некоторые из работ сохранили свою ценность из-за содержащейся в них «сырой», необработанной информации и ценных авторских замечаний; но устарела их интерпретация, и историк, живший в период «холодной войны», имел точку зрения, которую сейчас, вероятно, следует отвергнуть, и, кроме того, он был обременен грузом теорий и мнений других ученых, чьи утверждения еще вчера казались бесспорными. Неважно, к какой школе они принадлежали — правой, левой или центристской — от всех них следует избавиться. То же самое, если возможно, в меньшей степени, следует сказать и о работах, посвященных внутренней политике этого периода: годы президентства Рейгана мало что оставили неизменным. Время Кеннеди перестало быть частью нашего настоящего, оно уже принадлежит определенному историческому периоду, и задача в том, чтобы оценить его значение.
Не все споры вокруг этого времени уже утихли. «Холодная война» окончилась, но продолжают выдвигаться аргументы относительно места Соединенных Штатов в современном мире и выработки нового мирового порядка. Эти тридцать лет вполне доказали разумность политики укрепления гражданских прав, которую начал Кеннеди и довел до завершения Линдон Джонсон в Законе о гражданских правах 1964 года и Законе об избирательном праве 1965 года, но дилемма остается острой до сих пор. А экономические и финансовые проблемы, которым Кеннеди отдавал много времени, стали сейчас даже более настоятельны, чем были в его время. Кабинет президента, где он наиболее ясно выразил свои взгляды, и по сей день остается центром американской политики, где горячо обсуждаются возможности и цели Америки. В последнее время в США не было политических убийств, но страна лидирует по количеству смертей в результате использования оружия, находящегося в частном пользовании, и каждый год из-за этого погибает почти столько же людей, сколько американских солдат во время войны во Вьетнаме. И память об этой войне, в которой Кеннеди принадлежит решающая роль, до сих пор болезненно сказывается на формировании и исполнении дел в американской внешней политике. Поэтому, если стоит изучать прошлое, чтобы улучшить будущее, то именно в этом контексте. Это может не иметь смысла для рассмотрения представлений и решений, сделанных Кеннеди, но то, почему он поступал так, а не иначе, поможет понять Америку не только 60-х годов, но прежде всего ту, какой она является сегодня.
Обязанность ученого — оценить тот период, в течение которого изменились наши представления о президентстве Кеннеди, и свести к минимуму все, что связано с мифами вокруг его имени. Справедливое и подкрепленное фактами отображение столь обширной и сложной темы требует привлечения большого количества различной литературы, в результате чего вопросы политики и деятельности теряют четкость, что не всегда можно полностью исключить. Джона Кеннеди его собственная легенда вводила в заблуждение лишь иногда (хотя он всегда был готов признать это, когда считал политически выгодным); но и он был поражен, сколь мало внимания уделяется реальным обстоятельствам, которые ему пришлось преодолевать, — впрочем, как и его реальным достижениям. Сомнительно, что время когда-либо полностью восстановит всю правду о его репутации: в конце концов, единственное, о чем знают спустя четыре столетия о Генрихе VIII — это то, что у него было шесть жен. В то же время в течение сорока лет после убийства Авраама Линкольна создавали свои «творения» тайные теоретики, которых снабжала невероятными историями возбужденная и падкая на сенсацию публика, но с течением времени интерес к такого рода информации угас, и с тех пор больше никто ничего об этих историках не слышал. Сексуальная жизнь Байрона затмила его поэзию более чем на сто лет после его смерти, но это может быть объяснено скорее превосходным слогом его писем, в которых он описывал свои любовные приключения, а также налетом сенсационности его подвигов — начиная с инцеста и кончая гомосексуализмом (по сравнению с ними похождения Кеннеди выглядят довольно бледно). В наши дни, к счастью, его стихам уделяется больше должного внимания. История семьи Кеннеди — это смешение саги, трагедии и «мыльной оперы» — скорее помешала попыткам понять историю, чем послужила основанием для серьезной темы. Это напоминает некоторые работы о Наполеоне, основной интерес в которых прикован к Жозефине и Марии Валевской. Однако один из плюсов заключается в том, что легенды, связанные с именем Кеннеди, неоценимы в плане исследования американского сознания с его акцентом на сентиментальность, легковерность и склонность к плотским желаниям; но автору небольшого портрета-наброска простительно опустить некоторые несущественные мелочи, даже если потребность в такого рода светской информации не удовлетворена до конца.
Портрет не должен быть результатом свежих архивных изысканий и новой информации, хотя все, что мне удалось найти, не очень сильно изменило прежнее понимание личности Кеннеди и его времени. Сейчас у нас данных больше, чем мы можем усвоить. Этому мешают краткость и незавершенность карьеры Кеннеди и завеса молчания после его смерти. Портрет же требует ясности темы, и в этом случае слово «власть» я считаю не вполне подходящим термином. Скорее, это портрет лидера. Почти всю жизнь — с ранней молодости до самой смерти — Кеннеди интересовала проблема лидерства в демократии. Он читал об этом, писал, изучал из первых рук, анализировал и использовал на практике, пока не приобрел глубокий опыт и стал своего рода экспертом. Как и все политики, он был нетерпелив и чувствителен к критике; он лучше, чем кто-либо другой, мог судить о том, что требуется президенту — как в больших, так и в малых делах. Он играл в большую и продолжительную игру, и в 1963 году был уверен, что выиграет: на одной из своих последних пресс-конференций он отметил, что ожидает введения в действие всех своих основных законодательных предложений — реформы налогообложения, гражданских прав, медицинской помощи престарелым — в 1964, самое позднее — в 1965 году: «Я с нетерпением ожидаю того момента, когда смогу доложить об этом в отчете конгрессу, но… боюсь, что для выполнения данной задачи потребуется восемнадцать месяцев»[2]. Оценка Кеннеди собственной деятельности в области внешней политики была более оптимистичной. Конечной целью этой книги, таким образом, должно быть исследование истоков его уверенности в себе, рассмотрение того, как воплощались его идеи на практике и насколько оправданной была его заявка на лидерство.
Глава 2
КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ
Стать президентом Соединенных Штатов было единственным наиболее трудным достижением Джона Кеннеди, включая три года упорного труда, расчетов и удачи. После того, как он занял этот пост, легко было считать, что его победа была неизбежна, но мало кто так думал, когда он был выдвинут кандидатом от Демократической партии в 1960 году, и ни один реально мыслящий человек не допускал такой возможности после небольшого перевеса голосов на осенних выборах. Не допускал этого и сам Кеннеди. Когда Бенджамин Брэдли напомнил ему, что одного из организаторов его избирательной кампании назвали «блистательным профессионалом», президент усмехнулся и ответил: «Иногда эти парни забывают, что, будь 50 тысяч голосов у другого кандидата — и они все стали бы «блистательными олухами»[3]. Этот небольшой перевес над кандидатом от республиканской партии Ричардом Никсоном — 118 574 голоса, или 0,17 % состава избирателей, — самый точный индикатор важности той задачи, которую поставил перед собой Кеннеди.
«Перспективность» (термин, обозначающий особого рода умение в традиционной американской политике) была требованием, предъявляемым всем общественным деятелям в 1957 году, когда Кеннеди начал всерьез планировать выдвижение своей кандидатуры, и было очевидным, что, согласно ему, случай Кеннеди был безнадежен[4]. С точки зрения Демократической партии на перспективность (Республиканская имела свой, несколько отличный взгляд), Кеннеди был выдвинут от «не того» штата: Массачусетс имел только 14 голосов, хотя, тем не менее, устойчиво оставался «демократическим» штатом. Перспективным демократом считался тот, кто был выдвинут от крупного нецентрального штата — такого, как, например, Нью-Йорк или Иллинойс, — чей статус «любимого сына» мог помочь ему достичь дня выборов. Кеннеди был очень молод: 29 мая 1957 года он отпраздновал только сороковой день рождения (Линдон Джонсон, грозный лидер демократов в Сенате, обычно называл его не иначе как «молодой человек»). Он был американским сенатором, особо не отличающимся ни заслугами, ни усердием. По традиции, при выдвижении в кандидаты на пост президента предпочтение отдается губернаторам штатов перед членами конгресса, так как обычно в их полномочия входит формирование делегаций на встречи и съезды, а также благодаря их опыту исполнения власти, что, как принято думать, является лучшей подготовкой для президентства, чем опыт обычного законодателя; кроме того, сенаторы, если они дойдут до тура голосования на национальном уровне, могут на своем пути встретить недоброжелателей там, где губернаторы благополучно избегнут. Далее, Кеннеди вызывал нарекания со стороны либерального крыла партии из-за двусмысленных заявлений относительно сенатора Джозефа Маккарти, злого гения антикоммунизма, и того, что был сыном миллионера, нажившего состояние «пиратским» способом, Джозефа П. Кеннеди, известного своей сомнительной деловой карьерой и либеральными взглядами на внешнюю и внутреннюю политику. Наконец, для большинства людей последним и наибольшим минусом Джона Кеннеди являлось то, что он был католиком (хотя бывший президент Гарри С. Трумэн, будучи убежденным баптистом, заметил, что больший интерес вызывает земной, чем небесный отец кандидата в президенты). После того, как в 1928 году великий Эл Смит был блистательно разбит Гербертом Гувером, лидеры Демократической партии решили более никогда не выдвигать католика кандидатом в президенты[5].
Но времена изменились, и Кеннеди был достаточно умен, чтобы понять это. Деньги его отца, практичность и влиятельность не были лишними, а его молодость могла стать ценным качеством. Во время президентства Эйзенхауэра Америка процветала, но даже у тех, кто дважды проголосовал за него и сделал бы это еще раз, не будь 22-й поправки Конституции, запрещающей переизбрание президента на третий срок, оставалось чувство, что страна понемногу теряет свой путь под его патриархальным, осторожным руководством; возможно, Америка была очень благополучна и убаюкана, потеряла свое ощущение цели, что могло позволить ужасным советским коммунистам застать ее врасплох; чтобы справиться с этой проблемой, вызывающей беспокойство, Эйзенхауэр создал комитет, призванный выработать «цели американцев». Экономическая политика Эйзенхауэра справедливо может быть оценена как умеренно консервативная: три спада за восемь лет — это достаточно много в век господства кейнсианских методов и открытий. И даже сам Эйзенхауэр чувствовал, что в каком-то смысле Америка миновала свой пик расцвета: разрушения, причиненные Европе и Азии во второй мировой войне, давно стали достоянием прошлого, и уникальное положение Соединенных Штатов как единственной страны, благополучно вышедшей из нее, также переставало соответствовать действительности. В экономике росло число успешных конкурентов, и горы золота, хранящиеся в Форт Нокс, начинали таять. Пришло время перемен; причиной тому могла быть и энергия молодежи. Это всеобщее настроение было столь сильно, что не только Кеннеди, но и Ричард Никсон (которому тогда было 48 лет) сделал это одним из тезисов своей предвыборной программы в 1960 году; и, возможно, именно недостаточная убедительность выступлений Никсона на эту тему по сравнению с Кеннеди (в качестве вице-президента Айка он должен был поддерживать политический курс, начатый Эйзенхауэром) и лишила его победы.
Действительно, не являлось препятствием то, что Кеннеди был сенатором — скорее это выглядело преимуществом, поскольку из пяти основных соперников, выдвинувших свои кандидатуры от Демократической партии на выборах 1960 года, четверо были сенаторами (Кеннеди, Джонсон, Хамфри, Саймингтон), а пятый, Эдлей Стивенсон, не имел никакого преимущества, кроме того, что однажды занимал пост губернатора Иллинойса. С расширением федерального правительства сенаторы получили большую возможность влиять на положение дел в своих штатах, а во время «холодной войны» внешняя политика стала одной из важнейших сфер интересов. Без преувеличения можно сказать, что это было делом жизни и смерти, и ни один губернатор даже не мог надеяться конкурировать с сенатором в этом вопросе, если только они не переходили, подобно Стивенсону и Нельсону Рокфеллеру от Нью-Йорка (республиканец), из госдепартамента США в законодательный орган штата. Из двадцати двух кандидатов на посты президента и вице-президента, выдвинутых от основных партий в период с 1960 по 1988 год, семнадцать были членами либо Сената, либо Палаты Представителей; трое, включая Кеннеди, работали в обоих местах; и пятеро имели большой опыт исполнительной власти в штатах. Это была эра «своих людей Вашингтона», и она клонилась к закату очень медленно — первыми сигналами тому были появление Джимми Картера и Рональда Рейгана, оба — бывшие губернаторы, и оба открыто выступали против того, что, как они считали, было коррумпированным и неэффективным правительством «с Кольцевой дороги»: Кольцевой дорогой называлась скоростная автострада, построенная в 60-х годах и опоясавшая округ Колумбию и Большой Вашингтон, которую вызвало к жизни непрерывное расширение федерального правительства и увеличивающееся количество людей, которые хотели иметь с ним дело. Дорога была символом этой эры, весьма ей соответствующим, — как во время ее расцвета, так и упадка. В 1957 году, в самом начале этого периода, Кольцевая дорога только планировалась, и доверие федеральному правительству было все еще очень сильно, так что отождествление ее с Вашингтоном не являлось недостатком.
Католицизм Кеннеди также мог обернуться для него плюсом. Следует сказать, что демократы признали право голоса за католиками с 1798 года, когда был принят закон об иностранцах; и с 1850 года, когда республиканцы унаследовали нативизм, антикатолики голосуют от Американской, или «Ничего-не-знаю», партии. В свою очередь, отождествление избирательного права католиков с движением рабочего класса в растущих городах стало основой усиления демократов на всем Юге и обеспечило массовую поддержку множества людей при проведении «Нового курса». Но в 50-х годах дети выходцев из рабочего класса стали называть себя средним классом и селиться в пригородах; католики ощущали привлекательность Республиканской партии. Антикоммунисты казались более надежными, чем Демократическая «ялтинская» партия, которая якобы уступила Китай «красным» и не смогла сделать ничего лучше, чем завести в тупик войну в Корее. Кеннеди, католик ирландского происхождения, который осудил администрацию Трумэна за то, что она потеряла Китай («То, что сохранила наша молодежь — растратили наши дипломаты и президент»), мог воззвать к традиционной верности ирландцев и католиков, как никакой другой кандидат; и, хотя это не могло оказаться недостаточным для победы на выборах (так как на другой стороне было много предубежденных протестантов), но, как ни парадоксально, вполне хватило бы для выдвижения в кандидаты: его кандидатура могла иметь сильную привлекательность в больших городах демократов, таких, как Чикаго, Бостон и Нью-Йорк, где еще была жива старая политическая машина — или, по крайней мере, не совсем мертва.
Как бы то ни было, занятие определенного поста в партийной структуре предполагало проверку на перспективность, что, говоря откровенно, начало терять свое значение. Этим занимались высокопоставленные руководители и государственные лица, которые, с тех пор как была официально организована Демократическая партия, обычно распоряжались и контролировали работу, выдвигая тех или иных кандидатов. Закон и политика им не были безразличны, но их первостепенные интересы прежде всего были нацелены на победу, и выбранные ими кандидаты (кроме тех случаев, когда в 1896 году избиратели с ними не согласились, или когда в 1924 году выборы затянулись настолько, что все были буквально истощены, работая, пока не остался один-единственный кандидат) должны были иметь, согласно их холодному суждению, наилучшие шансы на выигрыш или, по меньшей мере, иметь право участвовать в гонках. В начале XX века участие в первичных выборах мало влияло на результат, и в 1952 году они были отменены президентом Трумэном как «очковтирательство». Но через несколько недель после этого замечания Трумэн был посрамлен сенатором Истесом Кефаувером, победившим его на первичных выборах в Нью-Гемпшире, что заставило президента объявить не только о своей отставке из-за проигрыша, что само по себе уже было достаточно плохо, но и о походе против первичных выборов в других местах, которые попали в почти непреодолимую зависимость от партийной политики выдвижения кандидатур с ее жесткой ставкой на лидерство. Кефаувер был остановлен губернатором Эдлеем Стивенсоном, чья перспективность была выше, хотя он не участвовал в первичных выборах, сопутствующих выдвижению в кандидаты; но в 1956 году, когда снова понадобилось остановить Кефаувера, Стивенсону на первичных выборах пришлось потрудиться, чтобы тот не обогнал его, и на сей раз на финишной прямой шансы их были примерно равны. Со всей очевидностью первичные выборы приобрели новое значение, и кандидат, который умел продемонстрировать свою способность и желание выиграть все выборы или, по крайней мере, те, где он выдвигал свою кандидатуру, мог не опасаться таких препятствий, как неодобрение Элеоноры Рузвельт, или того, что он был выдвинут от небольшого штата. Теперь перспективность понималась иначе, по-новому, и это был единственный путь, подходящий Кеннеди, так как только таким способом он мог развеять сомнения боссов на свой счет. К тому же он выглядел многообещающе. Кеннеди принадлежал к типу кандидатов, умеющих вызвать интерес избирателей, а благодаря богатству его отца у него было достаточно денег, чтобы совершать поездки и встречаться с ними.
Кеннеди не упоминал публично об этих причинах при выдвижении своей кандидатуры. Когда его спросили, не странно ли то, что он участвует в предвыборных гонках, он ответил: «Да, так и было до тех пор, пока я не остановился и взглянул на остальных, кто боролся за этот пост. После чего я счел, что для этой работы я столь же подготовлен, как другие[6]. Девизом его избирательной кампании, когда он впервые баллотировался в Сенат в 1952 году, было: «Он может сделать для Массачусетса больше», и теперь он считал, что может сделать больше для Соединенных Штатов или, по меньшей мере, для Демократической партии. Он полагал, что Линдон Джонсон малопривлекателен для избирателей из-за того, что его отождествляли с белыми Юга, и пресловутого консерватизма в вопросе о гражданских правах. Эдлей Стивенсон публично отказался от притязаний на пост президента в 1956 году, после чего у обоих братьев Кеннеди (особенно у Роберта, который работал со Стивенсоном в его предвыборной команде) осталось столь невыгодное впечатление о Стивенсоне как участнике кампании, что они не считали, что партия захочет или сможет обратиться к нему вновь. Аверрел Гарриман, губернатор штата Нью-Йорк и опытный дипломат, мог стать опасным конкурентом, но потерял шанс на переизбрание в 1958 году, когда в это же время Кеннеди выиграл перевыборы в Сенат с высоким процентом голосов — 73,6 % от общего числа избирателей. Кеннеди не сомневался, что он на голову выше по сравнению с сенаторами Стюартом Саймингтоном и Хьюбертом X. Хамфри. К тому же его привлекательная уверенность в себе была одним из его ценнейших качеств политика. Ни один из его соперников не мог с ним в этом сравниться.
И небезосновательно. Когда Кеннеди только начинал свой путь в политике в качестве кандидата от 11-го округа г. Бостона в 1946 году, он зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Это были выборы, о которых его отец сказал: «Мы будем продавать Джона как мыльные хлопья», но он мог позволить себе расходы[7]. С его необыкновенным обаянием (что, в частности, привлекало избирательниц), признанной репутацией героя войны, скромностью, выдающимся умом и твердой решительностью, «Джон мог войти в конгресс очень легко, почти за десять центов», по выражению его двоюродного брата Джо Кейна (того самого Кейна, который сказал, что в политике необходимы три вещи, чтобы выиграть: «Во-первых — деньги, во-вторых — деньги и в-третьих — тоже деньги»[8]. И к своим четвертым выборам Кеннеди подошел, обладая несравнимо большими достоинствами и политическим мастерством.
Наиболее убедительные доводы в пользу Кеннеди как потенциального кандидата в президенты появились в 1956 году во время съезда Демократической партии в Чикаго. Кеннеди приехал туда в качестве влиятельного помощника Стивенсона, надеясь быть выдвинутым в кандидаты на пост вице-президента. Он давал пояснения к фильму, внесшему оживление в сухие протоколы первых заседаний, и произнес речь в пользу кандидатуры Стивенсона («Бесспорно и вне всяких сомнений он является для нас наиболее подходящей, убедительной и достойной фигурой»)[9]. Оба выступления произвели большое впечатление на собрание делегатов и не менее сильное — на телевизионную аудиторию. Это превратило Кеннеди в «звезду». Стивенсон по не совсем понятным причинам (возможно, даже для нёго), решил предоставить съезду самому выбрать кандидата на пост вице-президента, вместо того, чтобы сделать это за них. Такой демократический жест привел в смятение профессионалов и внес оживление в заседания. На первичных выборах Кеннеди уже почти отобрал победу у Истеса Кефаувера, другого кандидата и соперника Стивенсона, но в последнюю минуту решение делегации Тенесси поддержать своего сенатора спасло Кефаувера от поражения. Сенатор от штата Массачусетс произнес мягкую компромиссную речь («То, что сегодня произошло, подтверждает справедливость высказывания нашего губернатора Стивенсона о том, что решение этого вопроса следовало оставить на усмотрение съезда»)[10], но наедине с собой он отдавал отчет в своем поражении. Кеннеди не любят проигрывать. «Он ощущал себя индейцем, в которого вонзилось множество стрел, и на вопрос о том, как он себя чувствует, мог ответить только, что ему больно лишь тогда, когда он смеется»[11]. Но Кеннеди обладал гибкостью и оптимизмом, которые развились в нем с детства, и вскоре осознал, что все происшедшее, хотя и не дало конкретных результатов, оказалось для него политически выигрышным. Это сделало его видной фигурой и привлекло к нему внимание влиятельных лиц, вершащих дела в коридорах власти, в то же время поражение на съезде уберегло его от того, чтобы в дальнейшем быть связанным с проигравшей командой Стивенсона; важно и то, что так как он был в списке кандидатов от Демократической партии той осенью (списке, который непреходящая популярность Эйзенхауэра обрекла на неудачу), то многие могли винить в поражении партии его католицизм и сомнения в его перспективности усилились бы. Как бы то ни было, Эдлей Стивенсон оказался более дальновидным пророком, чем ему хотелось бы, когда заметил: «У меня ощущение, что сейчас именно он — настоящий герой, и в будущем мы еще услышим об этом многообещающем молодом человеке»[12].
Таким образом, у Кеннеди были основания смотреть в будущее, в том числе на гонки 1960 года, с большими надеждами. Демократы были за его кандидатуру на пост вице-президента (что уже само по себе доказывало, что вопрос о католицизме потерял былую остроту), но, как он сказал в интервью журналисту Джо Элсопу: «Я категорически против ограничений во всех проявлениях»[13]. Столь же определенно он высказался и в беседе со своим другом Дэйвом Пауэрсом: «Если мы как следует поработаем в течение следующих четырех лет, то можем получить всю мыслимую власть»[14]. Именно так он понимал перспективность.
И как все теперь знают, он достиг цели; но, судя по другим оценкам, не было столь очевидным, что он станет президентом. Перспективность имеет мало общего с заслугами или опытом. Вряд ли кто-либо из членов партии удивился бы, если бы Кеннеди оказался не подготовленным к этой работе. Президентство стало исторической вершиной его карьеры. Три выдающихся человека занимали по очереди этот пост: демократы Рузвельт и Трумэн и республиканец Эйзенхауэр. Большие исторические испытания, последовавшие одно за другим — депрессия, затем вторая мировая война и, наконец, «холодная война» — были успешно преодолены, и страна почти непрерывно процветала, начиная с 1945 года. Наконец был осознан потенциал возможностей Америки и, в то время как страна превосходила все другие нации в мире, президент, который ее олицетворял, выглядел наиболее представительным из государственных лиц. Его ответственность была столь же велика, как и его власть, и к любому, кто претендовал на эту должность после Эйзенхауэра, не казалось чрезмерным предъявлять требование иметь способности и опыт, по меньшей мере равные тем, которыми обладал Айк. Единственная задоринка состояла в том, что приобрести их было невозможно. Из всех вероятных кандидатов лишь Эдлей Стивенсон в чем-то соответствовал этому требованию, но так как он дважды проиграл президентские выборы, то с трудом верилось, что достигнет успеха в третий раз.
Создатели конституции США, при всем благоговении перед историческим прошлым, не подумали об учреждении чего-то наподобие почетной должности, что предусматривало создание консульства в республиканском Риме для тех, кто до этого служил на менее важных постах. Такая должность неофициально возникла в первые пятьдесят лет существования конституционного правительства, когда никто, кроме Джорджа Вашингтона, не мог быть избран президентом, не поработав до этого в качестве вице-президента, госсекретаря США или сенатора; так, Мартин Ван Верен прослужил на всех трех постах. Но в 40-х годах прошлого столетия на первый план вышел критерий перспективности, и с тех пор основные политические партии стали обращать внимание на кандидата только в том случае, если он мог выиграть; не собирались отказываться от принятой практики и на выборах в 1960 году. Даже в XIX веке, когда Джеймс Брайс писал свое классическое объяснение того, почему больших людей не выбирают президентами, эта система в целом работала не так уж плохо[15]. Это ненамеренно причинило вред в случае с Бачененом и Грантом, но принесло пользу республике, выведя на арену Полка, Кливленда и, несомненно, Линкольна (чья карьера вплоть до 1860 года давала мало поводов считать, что он подойдет для этой работы). Вместо создания абстрактных и малореалистичных критериев оценки Кеннеди (и его соперников) следует обратиться к имеющему гораздо больший смысл вопросу о том, какие качества Кеннеди сыграли важную роль для его избрания президентом. И с конца 50-х годов множество опытных политиков и журналистов с жаром принялись исследовать этот вопрос.
Кеннеди был американским аристократом, хотя снобы Бостона и Филадельфии с трудом принимали этот факт. Его семья считалась парвеню, «выскочкой», почти как это было с лордом Мельбурном, английским либеральным премьер-министром, которым Кеннеди так восхищался и на кого весьма походил. Оба его дедушки были лидерами Демократической партии в Бостоне: его дед по матери, Джон «Душка» Фицджеральд (более известный как «душка Фиц») был первым американо-ирландским мэром города. Его отец являлся одним из первых помощников Франклина Рузвельта и впоследствии в правительстве «Нового курса» занимал должность главы службы безопасности и валютной комиссии (согласно пословице, «нет лучше лесника, чем бывший браконьер»), а также председателя морской комиссии. С 1938-го по 1940 год он служил послом в Британии, вначале успешно, затем с губительным для себя результатом: он придерживался политики мира даже после того, как от этого отказался его друг Невилл Чемберлен, и вызвал к себе негативное отношение как в Британии, так и в своей стране. Его пригласили для поддержки кандидатуры Рузвельта при выдвижении на третий срок, но после этого его политическая карьера окончилась, и ему пришлось направить силы на воспитание своих сыновей (дочерям предписывалась поддерживающая роль). Он дал своим мальчикам полезное, т. е. не католическое образование; это были привилегированные протестантские закрытые учебные заведения, Гарвардский колледж и различные высшие академии (его старший сын, Джо-младший, поступил в Лондонскую экономическую школу). Джек, второй сын, также воспользовался предоставленными шансами. Дж. Л. Гелбрейт с полуиронией-полусожалением вспоминал его буйные проделки на последнем курсе, когда он и сам был небогатым молодым гарвардским преподавателем, выходцем из отдаленных сельских провинций Канады. Ирония состояла в том, что Кеннеди всегда считал себя неудачником, одним из угнетенных ирландцев, которых сначала притесняли англичане в Ирландии, затем «истинные» бостонцы в Массачусетсе. Обычные отношения между бостонскими ирландцами, независимо от их богатства, однажды стали важнейшей взаимосвязью между конгрессменом Кеннеди и его избирателями. Но все же это было достаточно фантастично.
Молодой Джек воспользовался и другими возможностями Гарварда, помимо времяпрепровождения с женщинами и разъездов на машинах. В свои ранние годы он относился к учебе серьезно и больше удовольствия получал от изучения специальных дисциплин, что впоследствии отличало его всю жизнь. Как отмечает Феликс Франкфуртер, оба старших сына Кеннеди работали у него по очереди в качестве личного секретаря, следуя примеру семьи Адамс, три поколения которой дали стране министров, представлявших интересы США в Лондоне. Джека уже отметили как весьма многообещающего молодого человека на общественной сцене Лондона, но его опыт секретаря (с февраля по сентябрь 1939 года) был той подготовкой, которой не имел ни один будущий президент со времен Джона Куинси Адамса. Этот опыт не пропал даром: у Джека развился интерес к внешней и военной политике, который остался у него на всю жизнь.
Путешествия были лишь небольшой его частью, будь это поездка в Москву или Иерусалим, нацистский Берлин или фашистский Рим (где Кеннеди представляли свою страну на коронации своего старого знакомого, кардинала Паселли, когда он стал папой римским Пием XII). Джек помогал своему отцу в текущей работе в посольстве и исполнял небольшие поручения для посла США в Париже Вильяма Буллита, который, как и посол Кеннеди, мог легко получить замечание от президента Рузвельта. Когда через несколько часов после начала второй мировой войны немцы торпедировали лайнер с американцами, Джек был послан в Глазго, чтобы устроить и помочь оставшимся в живых, а заодно проявить себя. Но истинное значение этих месяцев проявилось в другом. Благодаря своим друзьям и той жизни, которую он вел, он постепенно превращался в настоящего англофила: стиль жизни и ценности, разделяемые правящим классом Британии, становились его собственными; они были теми стандартами, которыми, как человек общества, он всегда руководствовался, стараясь строить свое поведение (его сентиментальная привязанность к «старой доброй Ирландии» никогда серьезно не изменяла его позицию). И он как-то вдруг возмужал, чему способствовала напряженность тех дней, когда Гитлер вверг Европу и весь мир в войну.
Несмотря на вольность поведения, никто из тех, кто хорошо знал Джека Кеннеди, не принял бы его за плейбоя. Его родители (особенно мать) воспитали всех своих детей в идеалах служения обществу и прививали интеллигентное отношение и интерес к политике. Посол Кеннеди играл ведущую роль во время одного из самых больших кризисов XX века. Поэтому вряд ли кого удивило, что после возвращения в Гарвард осенью 1939 года Джек решил использовать свой опыт, написав диссертацию на старших курсах о неудаче Британии в эффективном перевооружении в 30-х годах нашего столетия. Получив завидную оценку с «отличием» в апреле 1940 года (правописание и синтаксис были достойны сожаления, так как Кеннеди, как это обычно принято у студентов, не оставил себе достаточно времени, чтобы привести все в порядок), диссертация была сразу же подготовлена к публикации и в июле вышла в виде небольшой книги под названием «Почему Англия спала». Она стала бестселлером; президент Рузвельт послал автору письмо, поздравив его (и сделав это так хорошо, как возможно, принимая во внимание, насколько книга поддержала его авторитет). В 23 года Джон Ф. Кеннеди начал свой путь к известности.
«Почему Англия спала» была хорошо построена, исчерпывающе документирована и написана с предельной ясностью. Возможно, некоторые простые моменты излагаются с излишней подробностью. Не все аргументы выглядят сегодня убедительно: в частности, небесспорна интерпретация мюнхенского кризиса. И все же эта книга всегда будет занимать свое почетное место в небольшой библиотеке, которая вызвала споры, затрагивая вопросы британской политики времен Болдуина и Чемберлена. Это относится и к другим книгам — «Гроза надвигается», «Виновный» и «Не достаточно ли неведения?»[16]. Все эти работы не являются обычной данью истории и следствием понимания некоторых ее моментов — это было своего рода политическим вмешательством. И отсюда их большой успех: они представляли собой эффектное изложение тех сообщений, которые американцы слышали отовсюду из других источников. Это был вклад молодого Кеннеди в подготовку к встрече опасности и принятию обязанностей, которые уже в 1940 году встали перед ними лицом к лицу. И это же было его обращением и предостережением: Америка больше не может позволить себе пребывать в уверенности, что ей нечего бояться, и поэтому продолжать бездействовать, что морские границы защитят ее от нападения и поэтому ей не нужны армия и морской флот. За шестнадцать месяцев до Перл-Харбора Кеннеди призывал Соединенные Штаты извлечь урок из опыта Британии и провести перевооружение вовремя. Между строк ясно читалось, что Кеннеди ожидал войны, хотя говорил об этом скупо. Скорее, он хотел показать очевидность того, что вооружение само по себе не является причиной войны, что безумство — отвечать пацифизмом на такую угрозу, как нацистская Германия, и что люди должны осознать как опасность, грозящую им, так и свою ответственность, в противном случае лидеры страны не смогут успешно служить своему народу. И он был услышан. Но сегодня основное значение и интерес книги «Почему Англия спала» состоит в том, что касается личности автора; как заметил Найджел Гамильтон (возможно, ошибаясь во многом другом, но достаточно точно подметив в данном случае): «Ничто другое, написанное Джеком за всю жизнь, не могло бы лучше выразить его человеческую суть»[17]. Ему недостает лишь немного юмора. Если бы кто-нибудь из демократов, заинтересовавшись, прочел это в 1960 году, то он наверняка заключил бы, что речь идет о ком-то, рангом равным президенту.
Книга несет на себе отпечаток личности автора, она обнаруживает себя в его стиле. Кеннеди пишет в соответствии с академическими требованиями быть предельно объективным как в манере письма, так и в материале — во всем. Но холодный скептицизм, который вскоре станет узнаваем во всем мире, пронизывает каждую страницу. Только однажды проскальзывает чувство в призыве Кеннеди к своим согражданам обратиться лицом к фактам: «Теперь, когда мир в огне, Америка повернулась к проблемам. Но в прошлом мы постоянно отказывались ассигновать деньги на оборону. Мы не можем обойти тот факт, что демократия в Америке, как и в Англии, спала, пока ее не разбудили. Если бы мы не были окружены тридцатью пятью тысячами миль океана, мы бы сами оказались в положении Мюнхена в Европе»[18]. Книга означала переход из-под влияния его отца к самостоятельному мышлению по политическим вопросам. Посол был горячим поборником миротворчества и изоляционизма; он верил, что Соединенные Штаты никогда не вступят в войну, если не будут атакованы первыми, и был глубоко обеспокоен перспективой того, что ему придется рисковать жизнью своих сыновей в этой войне. В 1938 году его позиция отражала воззрения консервативного класса, связанного с бизнесом, к которому он принадлежал, и в Невилле Чемберлене он нашел человека со сходными взглядами. Джека же более привлекал Уинстон Черчилль, но ко времени его возвращения в Гарвард он разделял (или считал, что разделял) взгляды своего отца в другом отношении. Важные события, влияние его гарвардских учителей, упорная работа над подготовкой книги к печати все изменили. Влияние его отца всегда было значительным (до того времени, когда с ним случился удар в 1961 году), и Джек впитал некоторые из его воззрений и даже фразы, использовав их, например, в книге «Почему Англия спала», но сейчас, на пороге своей карьеры, сын доказал, что он сможет отказаться от этого, если будет необходимо. Формировалось новое видение позиции Америки в мире. Изоляционизм быстро становился кредо людей среднего и пожилого возраста. А атака Перл-Харбора окончательно изменила взгляды молодежи: после этого в семье Джо-младший остался приверженцем традиционного кредо. Таким образом, Джек продемонстрировал истинную независимость характера, не говоря уже об уме, на том пути, который выбрал, что, впрочем, не было особенно удивительным, учитывая, что этот юный американец, своими глазами видевший гитлеровскую Европу, отверг устаревшую благодушную веру и поддержал сторону Британии, став, выражаясь языком того времени, интервенционистом.
Он чувствовал себя уверенным в мире происходящих событий. В своей книге он отказывается как от благодушного самообмана консерватизма, так и от высокоморальных иллюзий прогрессизма[19]. На интерпретацию событий повлиял и его характер: как и всем в 1930 году, ему пришлось испытать положительные и отрицательные стороны как диктатуры, так и демократии — и сравнить их между собой; и его симпатии отнюдь не были полностью на стороне демократии. Он видел ее справедливость и устойчивость на протяжении долгого времени; но временами он наблюдал ее несостоятельность, которая привела Запад к краю гибели. Он всегда считал, что общественное мнение при демократии (по крайней мере, в Британии и Америке) часто пробуждается тогда, когда уже слишком поздно: на это может повлиять только очень сильный шок (несомненно, он имел в виду Перл-Харбор и его последствия в доказательство своей правоты). Несколько наивным кажется то, что Кеннеди, тем не менее, считал важным для государственного деятеля, предвидящего ход событий, выступать, убеждать и публиковаться: именно поэтому он был так восхищен Уинстоном Черчиллем. Ему особенно нравилось цитировать мысль Черчилля о том, что демократия — худшая форма правления, за исключением всех остальных. Будучи президентом, он с радостью присвоил Черчиллю звание почетного гражданина США, сказав при этом: «Во время черных дней и еще более черных ночей, когда Англия осталась одна… он обратился к великому английскому языку и начал сражаться с его помощью»[20]. Это не может не наводить на мысль о том, что и в своем предостережении о приближающемся кризисе и недостатках реактивного вооружения, и в состоянии беспокойства во время своего первого года пребывания на посту президента — не говоря уже о его неизменном стремлении к красноречию — он сознательно хотел быть Черчиллем своего поколения. Влияние этого человека просматривалось даже в самом названии книги «Почему Англия спала», что было прямым намеком на работу Черчилля «Пока Англия спала». По иронии, позиция Кеннеди как президента во время его борьбы с приоритетами гораздо более была близка к позиции Чемберлена, чем бросающего вызов целеустремленного лидера.
И, вопреки черчиллевскому пессимизму по поводу общественного мнения, Кеннеди оставался твердо убежден в том, что в своей основе люди рациональны и делают разумный выбор, и дело лидера — просвещать их, чтобы их выбор был возможно более информирован. Таким образом, в книге «Почему Англия спала», далее выражая неодобрение паники в Британии по поводу бомбардировки («бомбардировщик всегда достигнет своей цели», сказал Стэнли Болдуин), которая так сильно повлияла на политику 1937–1938 гг., Кеннеди мог допустить замечание: «Даже если предположить, что человек в своей основе разумен и остается таковым долгое время, то в течение года после Мюнхена паника не оставила и намека на это»[21]. Эта вера в рациональность не была ни странной, ни наивной, как это могло показаться; и она служила Кеннеди ориентиром до самой смерти.
Кроме того, книга «Почему Англия спала», несомненно испытавшая на себе влияние отдела политической науки Гарварда, является примером изучения проблемы лидерства в демократии. Кеннеди увлекали не столько вопросы внешней политики, сколько положение демократических политиков: даже если они знали, что им требуется (Кеннеди не обязательно имел в виду Болдуина и Чемберлена), они не всегда могли действовать, если их избиратели были с ними не согласны, а если все же что-то предпринимали, то это могло разрушить их политическую карьеру (как это почти произошло с Черчиллем). К этой теме он возвратился годы спустя в книге «Портреты сильных духом», и она занимала его всю жизнь. Он еще не выдвигал свою кандидатуру на какой-либо пост, но ни один читатель (особенно те, кто был осведомлен об этой ранней работе выпускника Гарварда, а ныне конгрессмена) не сомневался, что перед ним будущий политик. И тем более не возникает сомнений сейчас, когда мы читаем утверждение 23-летнего молодого человека, затрагивающего вопрос, который стал для своей страны одним из основных в области обороны и внешней политики до конца столетия: «Наше вооружение всегда должно соответствовать тому, что мы делаем. Мюнхен учит нас этому; мы должны осознать, что любой самообман опасен»[22]. Возможно, обращение Кеннеди к берлинскому кризису и, несомненно, подчеркивание необходимости будить чувства народа и просвещать его («Англии был нужен человек, который мог выйти за рамки непосредственной ситуации, оценить изменившиеся условия и определить благоприятные возможности на будущее»)[23]предвосхитили исход президентской кампании 1960 года. Даже тема его инаугурационного обращения была предопределена в его высказывании о Британии 30-х годов: «… она испытывала большой недостаток в молодых, прогрессивных и способных лидерах. Те, кто должен был вести дела, принадлежали к военному поколению, большая часть которых осталась на полях Фландрии»[24]. Будущее Кеннеди угадывается в каждой строке, прочитанной с позиции сегодняшних дней.
Но в самих военных действиях Кеннеди не участвовал. Даже записавшись добровольцем в морской флот США до событий в Перл-Харборе, он затем оказался в информационном отделе военной контрразведки в Вашингтоне (в основном «благодаря» тому, что был вовлечен в историю из-за любовной связи с датской журналисткой Инге Арвад, которая одно время была близка к руководству нацистской Германии), пока, наконец, попал на патрульную торпедную лодку (ПТ), несущую службу на юге Тихого океана. Его корабль, казалось, был сконструирован, чтобы демонстрировать свои лучшие качества, и в то же время мало на что был пригоден реально[25]. Эти лодки были не очень быстроходны, сделаны из гладкой клееной фанеры, а их торпеды устарели. Тем не менее, они внушали страх, были обласканы вниманием прессы и имели полуавтоматическое управление; в целом то, что они привлекли такого отчаянного, своенравного парня, как Джек Кеннеди, было понятно. Но вклад ПТ-лодок в победу (модели 109 и затем, после того как затонула первая из них, — ПТ-59) был незначителен; вероятно, самым полезным делом, в котором принимал участие Кеннеди, была кампания по выводу флота из окружения близ острова Шуазель, входящего в группу Соломоновых островов[26]. Кеннеди вскоре понял, что если у лодок ПТ и было будущее, то только в качестве орудийных кораблей, но именно их уязвимость и устаревшее вооружение сделали его героем. 1 августа 1943 года, во время безнадежно плохо подготовленной операции (флотилия лодок ПТ была послана в непроглядную тьму ночи на перехват четырех японских эсминцев, шедших за подкреплением на свою базу, находившуюся на островах Нью-Джорджии; лишь на немногих лодках были радарные установки — (ПТ-109 не входили в их число), корабль, на котором находился Кеннеди, был протаранен и наполовину срезан вражеским эсминцем «Амагири», вследствие чего погибли два человека. Кеннеди мобилизовал команду и руководил людьми, латая пробоину; на следующий день лодка, преодолев десять миль и имея сильное повреждение, достигла пустынного острова, и Кеннеди удалось вытащить ее на берег с помощью кожаных ремней, буквально зажатых зубами. Руководитель операции, пославший лодку на это задание, не позаботился о надлежащей организации поисков тех, кто выжил, и это было счастливой случайностью, что через несколько дней Кеннеди и его людей нашли дружественно настроенные местные жители на челноках-каноэ, после чего спасательная команда не заставила себя долго ждать. Как и следовало, Кеннеди и его помощнику вручили честно заработанные медали за спасение жизни солдат, поддержание их боевого духа и оказание помощи при спасении. Без усилий Кеннеди команда ПТ-109 могла бы бесследно исчезнуть, пополнив собой бесконечный список людей, напрасно погибших на войне по вине высшего командования.
Это событие сильно повлияло на Джека Кеннеди. Задолго до того он простил себе (если вообще это делал) потерю двух своих людей. Однажды, во время торжественного парада, молодой дерзкий поклонник Джека крикнул ему: «Как вы стали героем?» — «Я потерял свой корабль», — ответил кандидат, и вряд ли были причины полагать, что он будет смотреть на это иначе. Он выполнил свой долг, как это полагается офицеру, и отнесся бы к себе с презрением, если бы не сделал этого. Он обоснованно считал, что если бы флотилией руководили надлежащим образом, то всего этого не произошло бы, и важным последствием этого случая стало растущее неприятие высшего военного руководства. Он испытывал радость от того, что преодолел боль, страх, усталость и сохранил веру вместе со своей командой; с этими людьми у него остались самые тесные связи, которые когда-либо были у него в жизни. Когда его выбрали президентом, он пригласил их на парад по случаю своей инаугурации, а впоследствии с помощью федерального правительства помогал им найти работу (в свою очередь, они также оказывали ему поддержку).
Но Кеннеди не был ни глуп, ни сентиментален. После 1945 года в Соединенные Штаты вернулось много героев, желавших использовать военные заслуги, сколь угодно незначительные, чтобы построить политическую карьеру. Ричард Никсон построил ее, играя в покер. Линдон Джонсон с помощью генерала Макартура стал «серебряной звездой» вследствие жеста в сторону общественности (самым известным поступком Джонсона был единственный полет на бомбардировщике в качестве пассажира, но он был конгрессменом, а Макартур знал, как обращаться с такими людьми). Джо Маккарти, как и Кеннеди, получил медаль «Пурпурное сердце», которой награждают за ранение в ходе боевых действий, так как сломал ногу, спускаясь по лестнице к гостям (несомненно, он был пьян). Он осаждал Пентагон с просьбами о награждении его Крестом за выдающиеся заслуги в воздушных боях за 25 или более вылетов — он не совершил ни одного[27]. Видя это, Кеннеди счел безрассудством не использовать свою историю с ПТ-109 и с помощью своего отца эффектно это сделал. Писатель Джон Хер-си, друг семьи, написал для «Нью-Йоркера» статью о его приключении, которую затем перепечатала «Ридерз дайджест», после чего, как заметил Кеннеди, «в любой кампании, в которой я когда-либо участвовал, мы использовали миллионы копий статьи Херси, распространяя их всюду»[28]. Таким образом, для американского народа он стал не просто богатым наследником своих родителей — он был отважен и имел преданных друзей.
Кеннеди не возражал против того, чтобы быть героем — это питало его заметно возросшую уверенность в себе; но хвастовство было ему чуждо; и он был удивлен, даже изумлен, когда в 1961 году Роберт Дж. Донован решил написать книгу о ПТ-109. Тем не менее он понял, сколь полезен мог быть для него этот проект, и выразил полную готовность сотрудничать. Позже он принял участие в работе над постановкой фильма по книге Донована, редактируя сценарий и отбирая актеров, будучи уверен, что это не повредит администрации Кеннеди (но он взял на себя слишком многое, и фильм провалился)[29]. Это был типичный пример создания Кеннеди своего имиджа. Точно так же, несмотря на свою и жены любовь к уединенной жизни, он был убежден, что следует извлечь всю возможную пользу из рекламы своего брака и своих детей, вплоть до приглашения фоторепортера на свой медовый месяц в 1953 году. С другой стороны, его беспорядочная сексуальная жизнь, хотя и не была секретом в Вашингтоне, тем не менее не становилась достоянием прессы. Откровения последних лет повредили его репутации более, чем что-либо другое, но легенда о Джоне Ф. Кеннеди как примерном семьянине завоевала популярность столь же быстро, как и о моряке-герое, также внеся свой вклад в рост его перспективности.
Другая легенда сложилась о Кеннеди как о спортсмене: его считали яхтсменом, выдающимся пловцом, звездой футбола, получившим почетную грамоту в Гарварде. Правда заключалась в том, что его спортивные достижения, кроме яхты, были в лучшем случае минимальны (он проиграл соревнования по плаванию с Йельским университетом из-за плохого здоровья и получил сносную оценку за футбол исключительно из-за доброты тренера — почти как в случае «серебряной звезды» Линдона Джонсона)[30]. Здоровье не позволяло ему добиться более высоких результатов. Казалось, что он родился с уже несимметричным телом: одна сторона его имела большую длину, чем другая, и эта непропорциональность, вдобавок к беспечному отношению к своему телу и решимости достичь физического совершенства, скоро привела к постоянным, а в итоге — угрожающим жизни проблемам со спиной. Еще хуже дело обстояло с недостаточностью надпочечных желез, называемой болезнью Аддисона, что, видимо, было врожденным (насколько известно, этим же страдала его сестра Юнис). Несомненно, эта болезнь объясняет недомогание Кеннеди в детстве: болезнь Аддисона ослабляет иммунную систему, а юный Джек подхватывал любую болезнь. В результате он проводил недели и месяцы своего детства в лазарете, что сильно его расстраивало, но в то же время сделало его увлеченным читателем и писателем (что сослужило ему неоценимую службу в политике). Его флотская жизнь, когда он не уделял внимание своему телу, оказалась губительной как для спины, так и для надпочечников: в 1945 году он был признан инвалидом и в течение последующих десяти лет боролся со своей немощью, что временами казалось безнадежным, а диагноз «болезнь Аддисона» не был поставлен вплоть до 1947 года. К счастью, получил известность кортизон, и когда в 50-х годах он стал доступен для приема внутрь, болезнь перестала быть большой проблемой: кортизон не мог вылечить, но смягчал большинство последствий. Со спиной дело обстояло иначе: ни хирургия, ни лекарства, ни самые известные инженерные изобретения не могли обновить его позвоночник. Каких-либо значительных улучшений не наблюдалось до тех пор, пока он не стал президентом и был передоверен заботам военных врачей. К 1963 году строгий режим массажа и плавания сделали Кеннеди гораздо более здоровым для своего возраста, чем это казалось возможным во время всей его предыдущей политической карьеры. После смерти Джека Бобби Кеннеди имел все основания сказать: «По меньшей мере половина дней, проведенных им на этой земле, были днями непрерывной физической боли»[31], но перед своим отъездом в Даллас Кеннеди однажды заметил, что он сейчас чувствует себя лучше, чем до сих пор все эти годы.
Защищая спину, ему все время приходилось носить поддерживающий корсет и обувь со съемной подошвой, чтобы было удобно ходить и не напрягать мускулы неравномерной нагрузкой; он каждый день должен был принимать кортизон и не мог выполнить и дюжины простых физических действий. Он говорил о своем маленьком сыне: «Он будет носить меня на руках прежде, чем я его»[32], и в 1961 году на церемонии не мог посадить традиционное дерево без того, чтобы высвободить спину, что причинило ему острейшую боль, которая продолжалась в течение месяцев. И большая ирония заключалась в том обстоятельстве, что в 1960 году он «выиграл» первые из четырех телевизионных дебатов с Ричардом Никсоном из-за того, что последний, не успевший подлечить поврежденное колено, выглядел разбитым, в то время как Кеннеди, казалось, лучился здоровьем и энергией.
Хотя, впрочем, энергии у него действительно было много. Как и все Кеннеди, он отличался неуемной энергией и вкусом к жизни. Вдобавок ко всему он обладал жизнерадостным характером своего деда «душки» Фица: это помогало ему переносить все испытания с удивительным спокойствием (даже когда они были весьма серьезны, как, например, в середине 50-х годов, когда дела со спиной обстояли столь плохо и причиняли сильное беспокойство, что личный секретарь Кеннеди, Эвелин Линкольн, думала о том, чтобы сменить работу). Он не собирался отступать перед своими болезнями, а скорее, боролся против них с теми же упорством и волей, с какими прошел войну на Тихом океане. Казалось, его обуревали мечты о политике, если не конкретные планы, с 1942 года[33]. Это было вполне естественно. Его родители верили в ценность общественной жизни, и хотя посол был прежде всего бизнесменом, тем не менее к политике он испытывал истинную любовь. Он сам подумывал о президентстве, но, погубив собственные шансы (которые, впрочем, никогда не были особенно велики), сосредоточил все честолюбивые стремления на старшем сыне. Но Джо погиб молодым в бою в последний год войны, к безграничному горю своего отца, и казалось только справедливым, что Джек займет его место. Хотел этого также и Джек. Он был еще по-юношески застенчив и обращен внутрь себя; чувствовал себя на высоте в небольших группах, у которых не вызывала симпатий экспансивность демократической политики; но весь его опыт студента, дипломата-любителя, автора, моряка и журналиста (он успешно работал в газете «Херст» после того, как получил инвалидность и ушел из флота), намеренно или нет, готовил его к политической карьере. В нем проснулся инстинкт к соперничеству, сильно развитый у всех Кеннеди: это был еще один вызов, чтобы утвердить себя. Поэтому он выдвинул свою кандидатуру в конгресс, хотя знал, что ему, возможно, придется вести жизнь полуинвалида; и уж наверняка не допускал мысли о том, что не сможет успешно завершить предвыборные гонки. Он становился фаталистом, если флотская служба не сделала его таковым; казалось, он был уверен, что умрет молодым; он находил смешное в любой ситуации; он оставался равнодушен к физическому риску (не напоминает ли вся его жизнь игру?) и с пугающей лихостью демонстрировал это; и он не позволял осмотрительности помешать, когда чего-то хотел. С его стороны было неблагоразумно бросить вызов Генри Кейботу Лоджу-младшему на выборах в сенат в 1952 году; люди старой закалки, включая его отца, сочли, что он поступает неразумно, выдвигая свою кандидатуру на пост вице-президента в 1956 году; и самой большой дерзостью со стороны столь молодого человека была заявка на то, чтобы стать президентом в 1960 году. Кеннеди игнорировал все подобные соображения. Он не знал, сколько у него осталось времени; неблагоразумие было для него единственно разумной вещью.
Эта позиция придавала ему привлекательности, но если бы американский народ осознал это, то его планы кандидата в президенты могли бы расстроиться. Только нация ипохондриков могла считать плохое здоровье Кеннеди причиной для его дисквалификации на эту должность; он был инвалидом менее, чем Франклин Рузвельт, о котором, однако, нельзя сказать, что он плохо справлялся со своими обязанностями. Даже зная все факты, идет ли речь о 1944 или 1960 годе, стоило выбирать скорее Рузвельта-Трумена и Кеннеди-Джонсона, чем Дьюи-Брикера или Никсона-Лоджа. Но американскую общественность очень легко напугать медицинской стороной дела, и в обоих случаях правда была тщательно скрыта. Это было особенно благоразумно в 1960 году, так как о Франклине Рузвельте было известно уже достаточно «компрометирующего» материала. К Кеннеди еще только подбирались, и вполне резонно мог быть задан вопрос, разумно ли выбирать человека, столь небрежно относящегося к ограничениям скорости. Республиканцы могли потребовать ответа на этот вопрос самым решительным образом.
Курьез заключался в том, что дерзость поведения была ему скорее приписана и, казалось, беспокоила Кеннеди лишь в том, что касалось его одного. В конце 50-х годов те, кто этим интересовался, узнали другого человека — того, чьей основной политической позицией была осмотрительность. В то время как годы правления Эйзенхауэра шли не спеша, Кеннеди был убежден, что отразилось в его самом известном призыве, что для Америки пришло время двинуться дальше. Но то движение, которое он имел в виду, не имело ничего общего с доктринерством, импульсивность которого (к примеру) была характерной для нововведений Маргарет Тэтчер в ее бытность премьером. Кеннеди, кроме книги «Почему Англия спала», не сразу признал влияние, оказанное на него Франклином Рузвельтом, покровителем и противником его отца; но ни один политик его поколения не мог избежать этого влияния, и это научило его не только тому, что с помощью правительства можно многое изменить, но также тому, что лучше всего этого можно было достичь трезвым и умелым применением политического мастерства. Лидерство, вдохновляющее общественность, было одним из них: он ценил это очень высоко и стал одним из его лучших представителей; но инстинкт подсказывал ему, что удобные случаи для смелых успехов бывают нечасто. В каждодневной политической работе пропуском является осторожность, и усовершенствования представляют собой лишь небольшую ее часть, их проводят постепенно, шаг за шагом, но даже в этом случае они могут оказаться под угрозой из-за неосмотрительности. Несомненно, Кеннеди была известна книга «Рузвельт: лев и лиса», написанная первым биографом Рузвельта Джеймсом Мак-Грегором Бернсом. Карьера самого Кеннеди была иллюстрацией макиавеллиевского афоризма о том, что, когда того требуют события, принц должен проявлять сначала одни качества, потом другие.
Невозможно узнать, когда Кеннеди впервые увидел тот день, когда станет принцем. В 1947 году, став конгрессменом, он сосредоточил свое внимание прежде всего на укреплении своего влияния в 11-м округе Бостона. Как все истинные американские политики, он начал работать над созданием своей репутации. И делал это эффективно, но без претензий на оригинальность. Он скрупулезно следовал известному совету Сэма Рейберна и ассигновал столько средств своему округу, что в результате стал известен — это и есть «Новый курс» — своей заботой о вопросах труда и строительства жилья для ветеранов (этот округ был одним из немногих, поддержавших непопулярное вето президента Трумэна на акт Тафта-Хартли) и одновременно — громкими антикоммунистическими и антиниспровергательскими выступлениями в те годы. В северном Бостоне могли не увидеть противоречий в этих позициях, хотя в Кембридже (который также являлся частью его округа), где находился Гарвардский университет, вполне могли. Но не следует думать, что Кеннеди был обычным оппортунистом. Когда он впервые начал задумываться о своей политической карьере, то глубоко проработал вопрос о труде, а что касается антикоммунизма, то в то время это было непререкаемой истиной почти для всех американских католиков (со всей иерархией, начиная с главы) и особенно для посла Кеннеди. Через Юнис Кеннеди Джо Маккарти стал другом семьи, включая Джека. Но эти связи теперь значили меньше (человек может изменять свои мнения, что часто и происходит), чем многократный абсентеизм конгрессмена. Джек очень быстро учился, легко ориентировался в вопросе и мог очертить его основные положения; но ему быстро наскучило в Палате Представителей, отчасти из-за того, что его члены обладали очень небольшой властью («мы были ничтожны», скажет он несколько лет спустя)[34], и отчасти потому, что его пока еще мало интересовали внутренние вопросы. Он часто пропускал голосования по списку и слушания комитета, так как находился на прогулке или проходил лечение, а вследствие одного случая дал повод конгрессмену Джону Мак-Кормаку, лидеру соперничающего бостонского политического клана, заметить: «… Он присоединился к группе конгрессменов, рассматривающих жилищное законодательство, — внимательно огляделся вокруг, ища отсутствующего Кеннеди, положил перед собой бостонскую газету, в заголовок статьи которой был вынесен запрос Кеннеди о росте строительства, спрашивая: — «Где Джонни? Где Джонни?»[35] Лишь однажды Кеннеди заметно отличился, когда Мак-Кормак обратился к нему с просьбой подписать петицию, чтобы освободить Джеймса Майкла Керли из тюрьмы. Несколько лет назад Керли (который продолжал действовать как мэр Бостона, оставаясь в камере) положил конец успешной политической карьере деда Кеннеди, «душки» Фица, предав гласности информацию о его супружеской измене; возможно, внук «душки» Фица и допускал проявление великодушия за давностью лет, чтобы помочь старому негодяю (Керли был осужден за мошенничество с письмами). Но Керли был все еще чрезвычайно популярен в Бостоне; он являлся непосредственным предшественником Кеннеди в одиннадцатом округе, а посол Кеннеди присоединился к его избирательной кампании по выдвижению в мэры, что лишило его места в Палате и освободило путь Джеку. И это придало некоторую храбрость, чтобы отвергнуть предложение Мак-Кармака. Что гораздо важнее, этот поступок Джека показал, что в будущем Кеннеди обещал стать новым типом американо-ирландского политика. Старая клановая лояльность дала ему старт в политике, и он мог эксплуатировать ее до конца; он был в превосходных отношениях с профессиональными политиками Бостона, но ему не было суждено стать одним из них даже в мелочах. В юности он любил коллекционировать различные головные уборы, но, когда открыл однажды, что каждый американо-ирландский политик в Бостоне имеет свою шляпу, то оставил это занятие и в противоположность им стал известен тем, что обходился вообще без шляпы, даже в буран.
Внешняя политика по-прежнему оставалась его первой любовью и областью его наибольшей эрудиции. Журналистом он побывал на открытии сессии ООН в Сан-Франциско в 1945 году и на всеобщих выборах в Британии в том же году; Джеймс Форрестол, министр морского флота, послал его на конференцию в Потсдаме; в 1951 году он побывал в Европе и на Дальнем Востоке (включая Вьетнам), что помогло смягчить категоричность его взглядов на внешнюю политику Трумэна (но самым важным результатом его дальневосточной поездки стало то, что он очень сблизился, особенно вначале, со своим братом Бобби, с которым они путешествовали вместе). Для молодого конгрессмена во внешней политике не было большого простора для деятельности; но, впрочем, Кеннеди не помышлял делать карьеру в конгрессе. В нем не было ничего от характера жителя небольшого городка, который счастлив тем, что имеет, находясь там, где он есть. Кеннеди вскоре решил выдвинуть свою кандидатуру на государственный пост и, ожидая подходящего случая, в то же время, что стало его основным приемом в политике, прокладывал свой путь, принимая в Массачусетсе отовсюду приглашения выступать перед любой аудиторией и по любому вопросу. «Я ручаюсь, что он переговорил по меньшей мере с миллионом людей и пожал руки семистам пятидесяти тысячам», — сказал один из знакомых семьи. Джеймс Мак-Грегор Бернс считает, что это было сильным преувеличением[36].
Следуя этому пути, он успешно выдвинул свою кандидатуру в сенат США в 1952 году и был избран большинством, набрав 70 000 голосов (51,5 %). Это было замечательной победой, учитывая, что с 1928 года 1952-й был наихудшим для демократов. Они потеряли президентство и большинство в обеих палатах конгресса; кроме того, в Массачусетсе они потеряли губернаторство. Таким образом, Кеннеди имел причину быть собой довольным. Возможно, своим триумфом он обязан благоприятному стечению местных обстоятельств: у него был целый набор небольших козырей. Но они не сыграли бы своей роли без упорных усилий кандидата и его семьи. Игнорируя боль в спине, которая становилась все сильнее, Кеннеди объявил о выдвижении своей кандидатуры в начале апреля и с того момента не прекращал работы вплоть до ночи перед выборами. Его соперник, сенатор Генри Кейбот Лодж-младший, напротив, начал кампанию поздно и реального успеха так и не добился[37]. С 1946 года Кеннеди подключил к этому свою мать, братьев и сестер. Деятельность Розы Кеннеди была особенно эффективна, когда она рассказала о своем замечательном сыне на десятке вечеринок и утренних приемов, что было тем успешнее, что замечательный сын, без сомнения, сам был не прочь погреться в лучах женского восхищения. А молодой Бобби (которому было тогда 27 лет) оказался прекрасным организатором кампании: он был энергичен, как и его брат, и относился непринужденно-доброжелательно к каждому, кто мог оказаться полезен в этой работе.
Возможно, именно поэтому Бобби был привлечен к работе: он являлся единственным, кто мог противостоять своему отцу[38]. Тем не менее, кампания 1952 года стала шедевром Джозефа Кеннеди. Он пустил в ход все свои политические связи, мобилизовал многочисленных друзей среди массачусетских республиканцев правого крыла, держал под контролем все решения — стратегические и тактические и уволил по крайней мере одного из ближайших консультантов Джека; и никто не знает, сколько потратил или каким образом он это сделал (официально кампания Джека обошлась в 350 тысяч долларов, но вряд ли кто-то в это верил). Он только назывался демократом (он вложил средства в кампании по переизбранию Роберта А. Тафта и Джо Маккарти, впрочем, как и в президентскую кампанию Эдлея Стивенсона) и хотел, чтобы его сын выдвинул свою кандидатуру как открыто антитрумэновскую и изоляционистскую, так как Лодж, вопреки семейным традициям, стал известен своим интернационализмом. Джек не решался обидеть множество массачусетских либералов, заняв подобную позицию; не могла помочь и апелляция к авторству книги «Почему Англия спала».
Он также не мог причинить беспокойство своим избирателям — ирландцам и католикам — тем, кто был его основной опорой, заняв открыто антимаккартиевскую позицию. Он и не хотел этого делать: не то, чтобы он считал публичные обвинения Маккарти необходимыми, но прежде всего полагал, что его взгляды не были неверны, и уж тем более не рассматривал их как угрозу американской демократии. Маккарти нравился ему лично, и вскоре после выборов он на одном из гарвардских собраний обличил спикера, проведшего параллель между Элджером Хиссом и Маккарти: «Как вы смеете ставить рядом имя великого американского патриота и этого изменника!»[39]. Молодому мистеру Кеннеди следовало еще многому научиться: он оставался сыном своего отца и конгрессменом из Бостона; но, чтобы выиграть выборы в Сенат и остаться на этом посту, ему следовало подняться на более высокий уровень. Возможно, лучшее, что сделал посол — это использовал свои контакты, чтобы удалить Джо Маккарти из Массачусетса на время предвыборной кампании. Великий демагог переживал пик своей популярности; нельзя было позволить, чтобы он атаковал или поддержал Джека Кеннеди, и этого не могло произойти, пока он находился вне штата.
И все же появление Бобби, как и другие разнообразные признаки, указывали на то, что у них появились реальные шансы. Начиная с 1952 года, влияние Джо Кеннеди пошло на убыль, в то время как сенатор приобретал все большую самостоятельность. Потребности и желания его избирателей, число которых включало в себя уже всех жителей Массачусетса, неизбежно начали формировать большинство направлений его политического курса; ему пришлось глубоко вникнуть в серьезные государственные экономические проблемы, чтобы оправдать лозунг, под которым проводилась его кампания, о том, что он может сделать больше для Массачусетса, и быть избранным, чтобы продолжать их исследование. Он также счел, что Массачусетс является частью большего региона — Новой Англии и, чтобы добиться успеха, ему придется обратить внимание на проблемы Коннектикута, Род-Айленда, Мэна, Нью-Гемпшира и Вермонта в той же мере, что и своего штата. Он вскоре понял, что быть сенатором от Новой Англии и оказывать поддержку в штатах янки — это не только хорошая сенаторская, но и президентская политика. Он успешно продолжал изучать многие проблемы и, хотя никогда особенно не разбирался в сельскохозяйственных вопросах, тем не менее к 1960 году ориентировался во внутренней политике довольно хорошо и явно получал удовольствие, бросая вызов экономике. И этот путь все дальше уводил его от желаний, мнений и людей его отца.
До 1953 года его удовлетворяла работа с командой, подобранной послом Кеннеди, почти все члены которой были из ирландских бостонцев. Кеннеди прекрасно с ними ладил, но был весьма категоричен в своих суждениях о том, кто остался для него ценен теперь, когда он в Сенате, а кто — нет. Из прежней команды перешел только Дэвид Пауэрс в качестве кого-то вроде придворного шута; остальные из известной «ирландской мафии» — Лэрри О’Брайен, Кеннет О’Доннелл, Ральф Данджен и другие — были приглашены отдельно, во время кампании 1952 года или в ближайшие годы; они были людьми сенатора, не посла. Это явилось еще одним актом утверждения независимости, и Джек был рад это сделать. Ему никогда не нравилось, что некоторые люди из его окружения следили за всеми его действиями и затем докладывали отцу.
Лэрри О’Брайен оказался чрезвычайно ценным пополнением, человеком обширного политического опыта, чему свидетельством была его карьера до и после президентства Кеннеди; но в 1953 году в команду пришел гораздо более важный участник. Теодора Соренсена обычно рисуют человеком, писавшим речи для Кеннеди, но с самого начала он занимал более значительное место. Он был приглашен, чтобы помочь сенатору и обдумывать дела, и произносить речи. Он должен был изучать информацию и вопросы текущего дня и тем самым помогать Кеннеди вырабатывать и укреплять его политическую позицию. Его отношение к своему работодателю было таким же, как английского поверенного к своему барристеру (т. е. помощника адвоката к адвокату, занимающему более высокий ранг): он кратко инструктировал Кеннеди и вводил его в курс дела относительно выступлений на заседаниях или, по меньшей мере, политических вопросов. Он был безымянным автором, писавшим для Кеннеди большинство статей, благодаря которым сенатор получил известность как вдумчивый и хорошо информированный молодой государственный деятель. Это было вполне обычной практикой (которая с тех пор стала еще обычнее) и, возможно, имело свои минусы. Близкое сотрудничество, возникшее между двумя друзьями, способствовало обучению их обоих. Соренсен был прогрессистом со Среднего Запада, поддерживающим коренные преобразования (его отец-республиканец близко знал сенатора Джорджа Норриса, главу администрации долины Теннесси); даже будучи моложе Роберта Кеннеди (ему исполнилось 24 года), он оставался глубоко убежден, согласно традициям «Нового курса», что правительство следует использовать в помощь делу, проведя для этого, если необходимо, структурные и экономические реформы. Кеннеди, как и приличествует бостонцу, голосовал в Палате Представителей, всегда сообразуясь с точкой зрения Соренсена; нетрудно было обсудить с ним какую-либо проблему в более широком контексте или побудить предпринять более смелые шаги. Эта работа проводилась, соответственно, для того, чтобы расширить имеющиеся связи между сенаторами Кеннеди и Маккарти[40]. В свою очередь, Кеннеди обучал Соренсена правилу и всему необходимому в политической практике.
Избрание в Сенат было частью общего подведения итогов, пересмотра и упорядочения жизни Кеннеди. В сентябре 1953 года он женился на Жаклин Бувье, что также придало стабильности его жизни, хотя и не остановило его безудержное волокитство. Муж и жена должны унести свои секреты в могилу, если они вместе лгали, но, вероятно, можно сказать о том, что, хотя их брак не был гладким, самым важным для них, особенно для Джека, после появления детей было нечто более ценное. Миссис Кеннеди не была обычной женой политика и никогда специально не обучалась тому, как привлечь симпатии во время предвыборной кампании; но ее своеволие (с точки зрения Капитолийского холма) отдалило ее и, как и присущие ей красота и элегантность, служила доказательством, что Джек Кеннеди женился на очень необычной женщине. В глазах американского общества, у четы Кеннеди был «класс». Джек старался укрепить это впечатление, отказавшись от легкомысленной, даже небрежной одежды, которую он носил до женитьбы, и став наподобие денди. Он также пытался сделать что-нибудь радикальное со своей спиной — то, что могло бы освободить его если не от боли, то по меньшей мере от костылей. Он перенес две опасные и болезненные операции на спине, хотя это мало помогло: улучшение было минимальным. Но во время выздоровления он много читал, как бывало прежде, и у него появилась идея написать книгу.
Биографы обычно отмечают, что Кеннеди отнюдь не был интеллектуалом, равно как и его бостонские друзья настаивают, что он не являлся либералом; но с тем же успехом можно сказать, что в действительности он — не политик. Если бы он был очень доброжелателен и общителен, человеком широкой души, которого долго помнят друзья, то ему дали бы отставку, если бы он сфальшивил. Действительно Лэрри О’Брайен вспоминает, что в свое время он еще не был политиком в полном смысле слова: «он был очень сдержан, очень закрыт. Стоять около заводских ворот и пожимать руки — нелегкое занятие»[41]. Но пожимание рук — это искусство, которое следовало изучить. Прежде всего Кеннеди видел, скорее спонтанно, необходимость утверждения себя как мыслящего человека, если он хотел достичь более высокого уровня, чем Сенат (он имел это в виду с самого начала). У него неплохой академический стиль. Он пригласил Дж. К. Гелбрейта, чтобы обучаться экономике, в чем быстро преуспел, и теперь, одолеваемый старыми проблемами со здоровьем, обратился к Соренсену за помощью в достижении своих главных целей.
Работа «Портреты сильных духом» написана популярнее, но слабее, чем «Почему Англия спала», и читается скорее как цикл журнальных статей. В основном она состоит из восьми эссе о политиках — членах Сената США в XIX и XX столетиях, пытавшихся решить те же проблемы, что и Кеннеди, впервые поставивший их для себя в книге «Почему Англия спала»: что следует делать государственному деятелю-демократу, если его партия и избиратели хотят того, что он считает неверным и даже опасным? Сенаторы считали: все, что они делают, — верно (или, по меньшей мере, верно то, что они думают), когда они следуют своим убеждениям, но история не всегда доказывала их правоту (протест Роберта А. Тафта против суда в Нюрнберге — не очень мудрый поступок). Многие из них заплатили в политике большую цену. И написать об этом книгу было великолепной идеей. К несчастью, ни Кеннеди, ни Соренсен (признанный «исследователь» и непризнанный соавтор) не обладали достаточно солидными познаниями в истории, чтобы копнуть глубже того, что лежало на поверхности, в результате чего книга немногим более отличалась от сборника анекдотов. Сегодня она, как и ее предшественница, ценна прежде всего своей автобиографичностью — и это пока ее единственное достоинство. В качестве документа о Джоне Ф. Кеннеди работа «Портреты сильных духом» не менее интересна.
В этом компилятивном труде авторство порой угадывается с трудом, что, впрочем, не относится к вступительной статье Кеннеди «Сила духа и политика»: она более личностна, чем «Почему Англия спала», написана с большей искренностью и открытостью. Насколько здесь обнаруживает себя рука Соренсена, настолько же — язык Кеннеди. Временами проскальзывает незамысловатый юмор его юношеских писем к своему другу Ле-Мойну Биллингсу: «Если бы мы мысленно сказали нашим избирателям, что мы ничего не делаем, они сочли бы нас некомпетентными и вызывающими неприязнь. Если бы мы что-то попытались предпринять и не выполнили — как обычно, встретив противодействие со стороны других сенаторов, имеющих свои интересы — они бы сказали, что мы не отличаемся от остальных политиков. Все, что мы можем сделать, — это поплакаться на плече своего сочувствующего коллеги или пойти домой и поругаться с женой»[42]. В этом аргументе обнаруживается многое. Прежде всего становится очевидным, что вступление к серии эссе, прославляющее политическую смелость, является, по сути, апологией искусства политического компромисса. Лучше иметь наполовину хороший или даже плохой счет, чем не иметь его вовсе, говорит автор по определенному поводу[43]. Герой этой главы — не один из непреклонных гигантов политики: не Джон Куинси Адамс, но Великий Соглашатель Генри Клэй. Здесь Кеннеди говорит с большой политической и личной убежденностью, имеющей глубокие корни. Это не было отражением книги «Почему Англия спала», так как могло бы выглядеть попыткой оправдать Болдуина и Чемберлена. В «Портретах» он мог свободно высказать свою точку зрения — о том, что давление, оказываемое на государственного деятеля-демократа, большей частью узаконено, и, кроме того, очень сильно; что нет смысла все время с ним бороться, так как тем самым можно лишь спровоцировать свою преждевременную отставку. Политика похожа на катание в шторм на лодке, когда собственное спасение можно считать лучшим результатом. С другой стороны, Кеннеди искренне уважал смелость и честность. Как ясно из второй главы, в которой авторство Кеннеди просматривается столь же четко, он был очарован Джоном Адамсом и Джоном Куинси Адамсом, тем более что во многих отношениях их можно рассматривать как предшественников Джозефа П. и Джона Ф. Кеннеди; как и английские либералы, они продемонстрировали образец, к которому должен стремиться сенатор. Но представить Кеннеди ловкачами было не легче, чем Брейнтри — твердыми пуританами. И Джек Кеннеди видел честность карьеры Адамса, искренне уважал в нем это, хваля перед читателями, но все же удивляясь ему; даже допуская то же в отношении себя, он не был в этом твердо уверен. И в то же время он был прав: было трудно поверить, что поддержка Адамсом эмбарго Джефферсона, стоившая ему места в Сенате, принесла какую-либо пользу Америке или Массачусетсу; тем не менее это способствовало дипломатической карьере Джона Куинси.
Это было еще одним выбором между львом и лисой, и если Кеннеди и не сделал его, то, по меньшей мере, обдумал это с точки зрения разумности и политической целесообразности. Что имелось в виду, возможно, лучше всего понятно из главы об Эдмонде Г. Россе и других сенаторах-республиканцах, чьи голоса спасли президента Эндрю Джонсона от импичмента в 1868 году. Кеннеди не сомневался, что импичмент был вредной и опасной интригой, направленной на подрыв Конституции; но он утверждал: Росс, Фессенден и другие были убеждены (или их убедили), что Джонсон на верном пути: «Я хочу, чтобы мои друзья и избиратели поняли, что я, а не они, могу судить о президентстве. Я, а не они поклялся быть беспристрастным в своем суждении. Я, а не они отвечаю перед богом и людьми за свои действия и их последствия»[44]. Именно Фессенден обращает внимание на Кеннеди, предлагая объяснение, почему в 1954 году этот джентельмен не выразил вотум недоверия Джо Маккарти. Он был слишком болен, чтобы явиться лично (голосование состоялось сразу после того, как он перенес первую операцию и был близок к тому, чтобы отправиться к праотцам), но его оплошность, к тому же имеющая документальное оправдание, могла ему дорого стоить; он писал о Россе, поддерживая его косвенно. Возможно, это не было очень убедительной поддержкой. Конечно, Маккарти следовало обсудить согласно Конституции и законам; его коллеги-сенаторы были обязаны уважать приличия, чем так часто пренебрегал он сам; и, как сказал позже Кеннеди Артуру Шлезингеру-младшему: «Если кто-то не разбирается в вопросе, то как им можно разрешить об этом судить?»[45]. Но реальные причины, заставившие Кеннеди столь вяло выступать против Маккарти, заключались в существовании тесных взаимосвязей этого человека с его семьей, особенно отцом, сильной поддержке Маккарти в Массачусетсе (бостонская «Пост» обвинила всех сенаторов Новой Англии, голосовавших против Маккарти, в том, что они действуют по указке Кремля»)[46] и, плюс ко всему, в двусмысленной позиции и неверном понимании самого Кеннеди. Он был ненамного мудрее остальных американцев того времени и, казалось, действительно верил (о чем утверждал многократно), что коммунистическая угроза ниспровержения США была действительно серьезной. Поэтому он одобрил «охоту на ведьм» и явно не был разочарован ее методами. Несколькими годами позже он допустил: «Возможно, мы не были столь впечатлительны, как некоторые, и должны были действовать быстрее»[47]. Это небольшая уступка и касается только медлительности Сената по отношению к Маккарти; она немного напоминает запоздалое и неохотное раскаяние Ричарда Никсона по поводу уотергейтского скандала. Что касается сенаторов Росса и Фессендена, то они игнорировали своих избирателей, в то время как Кеннеди поворачивался лицом к некоторым из них. В целом данный случай достаточно хорошо объясняет, почему Кеннеди пришлось столь усердно работать, чтобы завоевать доверие либеральных демократов, когда он понял — а это произошло довольно быстро, — что они нужны ему, и это заставило его принять в основном все их позиции.
Не «Портреты сильных духом» побудили его так поступить. Это было бы невозможно без тщательного политического расчета, и Кеннеди прекрасно знал, что ни один демократ не может надеяться стать кандидатом в президенты от своей партии без поддержки Юга, не говоря уже о президентских выборах. Так, никто из прославленных героев книги не был демократом с Севера, и Кеннеди счел весьма возможным сказать нелицеприятные слова об аболиционистах и добрые — о Джоне С. Кэлхоуне (он не имел представления о революции в историографии, касающейся рабства, гражданской войны и периода реконструкции, которая набирала обороты даже когда он писал и собиралась привлечь его внимание к этому безвременью). Он был очень снисходителен к Роберту А. Тафту, что, возможно, происходило вследствие отождествления себя с ним в этой работе: «Мне вспоминается, — говорит он, — сильное впечатление удивительного и необычного личного обаяния и обезоруживающей простоты в обращении. Это были качества, сочетаемые с непоколебимым мужеством, демонстрируемые им в течение всей жизни и особенно в последние дни, которые связали его приверженцев с ним неразрывными узами»[48]. Он поместил фотографию неукротимого Тафта на костылях, идущего в зал Сената, в последние дни жизни: они были в этом схожи, как Кеннеди часто говорил о себе. Вся книга была направлена на то, чтобы получить одобрение Центра и умеренного Правого крыла, Юга и Среднего Запада. В середине тех лет, когда у власти была администрация Эйзенхауэра, он не предполагал, что инициатива вновь перейдет к левым, как, разумеется, и того, что он выиграет выдвижение в кандидаты на пост президента отчасти благодаря тому, что лидеры демократов-южан сочтут его наименее радикальным из северян. «Портреты сильных духом» с очевидностью это доказали.
Но впечатление от книги не столь однозначно. Говорит ли сенатор о смелости или компромиссе, или имеет в виду и то и другое (смелые поступки, которыми он восхищается, скорее напоминают действия умеренно сопротивляющихся экстремистов) — все это отражает его натуру и навыки политического лидера; и в заключение звучит общее утверждение о том, что в конце концов наивысшим законом является благо нации: если оно поставлено на карту, то государственный деятель должен быть готов противостоять любому давлению, даже если это повлечет за собой временное или окончательное поражение. Это было кредо Кеннеди, и в ближайшие годы он намеревался неуклонно ему следовать. Это явилось главным актом его самоопределения и обнаруживало его твердое желание повести за собой Америку. Это было — и могло быть единственно — позицией претендента на президентство и убедительно демонстрировало, как далеко он продвинулся с тех пор, как почти нехотя согласился баллотироваться в конгресс десятью годами ранее. Мощный соревновательный инстинкт, воспитанный его родителями во всех своих детях, теперь громко заявил о себе — что неудивительно, если мы примем во внимание, что политика оставалась миром Кеннеди в течение почти всей его взрослой жизни.
Некоторые обозреватели заметили подтекст бестселлера: популярные работы по истории редко удостаиваются серьезного анализа, которого они могли бы ожидать. Напротив, Кеннеди полагал, что успех книги вверг его в другую беду.
Он воспользовался помощью Соренсена для написания портретов так же, как и для составления своих речей и статей, и книга отразила интересы его помощника в той же мере, что и интересы сенатора. Но писать было для Кеннеди невозможным. На Капитолийском холме каждый знал, что «Преступность в Америке», недавний бестселлер сенатора Кефаувера, был большей частью написан его персоналом, хотя на титульном листе стояло только его имя. Возможно, эта практика покажется оскорбительной для возвышенного читателя, но в этом есть свой коммерческий смысл: «Портреты» имели бы меньший спрос на рынке литературы, если бы продавались как совместная работа Кеннеди и Соренса, а не произведение (вклад в которое со стороны других людей мог быть сколь угодно велик) молодого героя войны — учено-го-сенатора, написанное им самим. Точно так же одна из самых известных книг XIX века — «Три мушкетера» — была издана как роман Александра Дюма, так как его соавтор и помощник-исследователь был весьма неизвестен, чтобы быть достойным, полностью или частично, выпавшего на их долю признания. Кроме того, Соренсен не собирался утверждать свою репутацию в литературе. Трудность возникла, когда книга получила Пулицеровскую премию за биографичность.
Кеннеди не искал этого (хотя доходили темные слухи о том, что его отец подкупил жюри), но и не отвергал: вручение этой премии стало одним из самых замечательных моментов его жизни, которыми он мог гордиться. Даже если временами у него возникала мысль отказаться, то он ее тотчас гнал, так как основанием для этого служило лишь то, что он не являлся единственным автором книги: он обвинял себя в мошенничестве, в том, что тем самым приобретает дурную репутацию, хотя во многих отношениях он был автором (даже если труды знающих толк в литературе конструктивистов не имеют никакой ценности, то, по крайней мере, они показывают, насколько запутано понятие авторства) — обвинять себя означало обвинять невиновного. И даже глава о Джордже Норрисе, в основном написанная Соренсеном, подчеркивает достоинство сенатора-протестанта, поддержавшего на президентских выборах 1928 года Эла Смита, который был католиком — еще одна черта Кеннеди. Таким образом, моральная дилемма заключалась не в самом деянии, как часто бывает в Америке, когда что-то пытаются скрыть, в результате чего журналисты начинают задавать «неудобные» вопросы. Дрю Пирсон действительно утверждал, что Соренсен — такой же реальный автор. У Кеннеди не было выбора. Как он заметил Соренсену, призывавшему быть осторожным, «это подвергает сомнению мою способность написать книгу, мою честь, когда я ставил свою подпись, и мою честность, когда я получал Пулицеровскую премию»[49]. Он мог повторить вслед за Дюма: «Я набирал сотрудников, как Наполеон назначал генералов», но шутить по этому поводу с непреклонной американской прессой было небезопасно. Поэтому он считал, что должен бороться, лгать и, выиграв это дело (Дрю Пирсон позволил себя убедить в том, что был неправ), он и Соренсен были вынуждены до конца жизни утверждать, что не возникло ни малейшей проблемы с авторством книги. Это очень понятно, но придает иронии фразе «портреты сильных духом». По крайней мере, у этого сенатора хватило духа и смелости, чтобы выпутаться из сложного положения.
Основную массу времени после 1957 года он потратил на то, чтобы стать президентом. Он поддерживал своих основных избирателей тем, что последовательно отстаивал контроль Демократической партии в Массачусетсе и, чтобы о нем узнали демократы во всей Америке, продолжал помещать статьи в газетах и журналах и использовать методы, опробованные в Массачусетсе, на более высоком уровне, принимая столько приглашений выступить, сколько мог себе позволить. Это означало, что он пропускал много заседаний, но это обстоятельство никогда его не останавливало, и он продолжал идти своей дорогой, точнее, воздушным путем. Позже Тед Соренсен (который, по обыкновению, был на стороне Кеннеди) вспоминал, как он вручную устанавливал «дворники» на небольших самолетах под проливным дождем, как смотрел вниз с места второго пилота, отыскивая посадочную полосу, или держал закрытой аварийную дверь весь путь от Финикса до Денвера. Как утверждает Соренсен, однажды им угрожала реальная опасность, когда во время полета в Рино в мотор чуть не попала горлица, при заходе на посадку в Скалистых горах. Это путешествие они завершили ночью на другом, одномоторном, самолете, пилот которого всю дорогу уверял их, что одного мотора для безопасности достаточно, так же как и двух. Они приземлились в одном конце аэропорта Рино, «в то время как чины от демократической партии и духовой оркестр ожидали нас, выйдя встречать более солидный двухмоторный самолет на другом конце поля, привезший двух удивленных промышленников»[50]. Соренсен вздохнул с облегчением, когда в 1959 году Джозеф Кеннеди отдал сыну во владение самолет «Каролина», названный так в честь младшей дочери Джека; и во время первичных выборов в 1960 году сенатор не упустил случая снисходительно поинтересоваться у отнюдь не щедрого Хьюберта Хамфри, как он может без этого обходиться.
Непрерывные поездки (Джеймс Мак-Грегор Бернс подсчитал, что в 1957 году у Кеннеди было, «по меньшей мере, 150 выступлений по всей стране», и в 1958 — «вероятно, на две сотни больше»)[51] дали ему широкие, хотя и поверхностные впечатления о Соединенных Штатах, но их целью было не столько получить знания об Америке, сколько помочь Америке узнать Кеннеди. Своим желанием работать в качестве кандидата от Демократической партии в любом месте и в любое время он показал себя истинным ее приверженцем (Ричард Никсон, будучи республиканцем, поступал так же в 50-х годах); своим обаянием и красноречием, чему способствовал Соренсен, он убедил многих сомневающихся, что перед ними действительно возможный президент. Он не ограничивался обращением только к простым людям. «Я понял, что в политике нельзя далеко продвинуться, пока вы не станете «политиком для всех». Это означает, что вам следует иметь дело как с лидерами партий, так и с избирателями. И именно таким политиком я хочу быть»[52]. Он пришел в сенат, создав отдельную «организацию Кеннеди»; в раздробленном на фракции Массачусетсе у него не было шанса; но, чтобы выиграть президентские гонки, требовалось меньше, чем от разведчика[53]. Он достиг своего прежде, чем главы католичества попытались его обойти. Они оказались среди сильно сомневающихся, которые считали, что предубеждение против католиков, поднявшееся в связи с выдвижением Кеннеди, стоявшего на вершине лестницы, могло повредить католикам, стоявшим на ее низших ступеньках, но постепенно они начали понимать, что Кеннеди очень сильно отличается от Эла Смита. Особенно большое впечатление на них оказала его убедительная победа на перевыборах в 1958 году, после чего Джон Бейли из Коннектикута понял, что Кеннеди сможет вести Новую Англию, а Дик Дейли из Чикаго счел, что ему можно доверить Иллинойс. Дейли был близким помощником Эдлея Стивенсона, но тот уверил его в своем неучастии в гонках. Поэтому Дейли получил возможность поддержать Кеннеди и активно убеждал других католиков и городских боссов сделать то же самое. Ему помогала репутация Кеннеди как великолепного организатора рабочего класса, множество фондов и помощники предвыборной кампании: Кеннеди успешно удалось сгладить острые углы Билля Лэндрама-Гриффина и провести антипрофсоюзные меры, которые в 1959 году стали законом благодаря коалиции в конгрессе между республиканцами и демократами-южанами.
В 1960 году гонки были во многих отношениях предопределены переходом от одной политической системы к другой, и Кеннеди стоял во главе этих перемен. Боссы уже были не столь всемогущи, как раньше, но все еще имели вес, и Кеннеди благоразумно считался с ними. Но состоялись, кроме того, предварительные выборы, и только они смогли показать, что ему удалось преодолеть религиозный вопрос (чему напоминанием была поддержка боссов), доказав, что на его стороне избирателей больше, чем у любого другого демократа. К счастью, в этот переходный период ему не требовалось пройти ничего, кроме предварительного голосования: оно было необходимо, чтобы собрать съезд делегатов. Ему также не нужно было выигрывать на нем в условиях, когда оппозиция была чисто символической или отсутствовала вовсе. Ему был нужен бой — и победа, и благодаря Хьюберту Хамфри он получил и то, и другое.
Будучи политиком творческим, деятельным, восприимчивым, порядочным и немного наивным, Хамфри в некотором отношении являлся наиболее подходящим из демократов для предвыборного марафона 1960 года. Но это был не его год, хотя он упорно не хотел принять этот факт. Он был выдвинут от Миннесоты, где был неуязвим, и считал, что имеет хорошие шансы победить на предварительных выборах в штате, соседствующем с Висконсином. Кеннеди был с этим согласен, и много сделал для того, чтобы выдержать предвыборную борьбу до конца, и не собирался уклоняться от брошенного ему вызова. Демократы Висконсина в основном были выходцами из сельскохозяйственных районов, либералами и протестантами; все они знали и любили Хамфри и проголосовали против другого ирландца-католика сенатора Джо Маккарти, недавно ушедшего. Именно по этим причинам Кеннеди должен был участвовать в гонках. Если бы он хорошо показал себя в Висконсине, то тем самым продемонстрировал бы свою «перспективность»: кандидат, который мог победить в Висконсине, штате, где «средняя Америка» представлена лучше всего в стране, мог рассчитывать на победу где угодно в любом другом месте от Гудзона до Скалистых гор. И Кеннеди действительно выиграл, но с небольшим перевесом — возможно, из-за предубежденности против католиков, либо потому, что был для них слишком богат, этот горожанин с Восточного побережья, или из-за популярности Хамфри. Победа была неабсолютной и немногим могла помочь избирательной кампании Кеннеди, не считая того, что его незначительное преимущество поддержало надежды Хамфри, с тем чтобы он продолжил участвовать в гонках, которые были так нужны Кеннеди. Он продолжил свою борьбу на предварительных выборах в Западной Вирджинии.
Западная Вирджиния была самым протестантским и коррумпированным из всех штатов. И поэтому давала Кеннеди прекрасный шанс. Если бы он обошел там Хамфри, то можно было бы забыть о религиозной теме; и он победил. Обе стороны прибегали к грязным трюкам, за которые потом приносили извинения, но когда все заканчивалось, то забывались все сомнения по поводу значимости результата. Кеннеди набрал 61 % голосов; он лидировал во всех округах, кроме семи; за него проголосовали фермеры, шахтеры и черные американцы. И, кроме того, он победил потому, что демократы Западной Вирджинии страстно желали доказать, что они не фанатики.
После этого кандидатство было почти гарантировано. Ни Линдон Джонсон, ни сенатор Стюарт Саймингтон — бесцветный политик, который мог бы стать кандидатом от партии, если бы Кеннеди и Джонсон устранили друг друга — не попытались ущипнуть Кеннеди на предварительных выборах, хотя им настоятельно следовало проявить свою перспективность: Джонсону — потому что он был хорошо известен в Вашингтоне как мошенник, которому не очень следует доверять, и был южанином; а Саймингтону — так как у него не было мощной поддержки на национальном уровне. Они позволили себе поверить тому, что съезд будут контролировать их друзья, имеющие большое влияние, в то время как Кеннеди был холодно-реалистичен с самого начала. Жизнь научила его не основываться на иллюзиях, когда он предпринимал что-нибудь серьезное (легенда о Камелоте, случись она в его жизни, вызвала бы его отвращение), и, возможно, его немного удивила глуповатость соперников. Саймингтон и Джонсон не снизошли до серьезной работы с делегатами округов, но не Кеннеди. Эдлей Стивенсон в который раз продемонстрировал склонность к тщеславию, нерешительность и уход в сторону, так что стало трудно поверить в то, что он окажется подходящим кандидатом в трудное время; кроме того, он уже дважды проигрывал. Кто еще оставался? Партия могла обратиться только к Кеннеди — теперь, когда он имел небольшое, но достаточное большинство делегатов, выигрыш на предварительных выборах и трудные переговоры с боссами. Действительно, если бы лидеры партии знали его слабые места в предвыборном марафоне, то знали бы также и уязвимые стороны его самого — но то же самое стало бы известно и Кеннеди о них. В отличие от тех, кто живет надеждами, он оценивал себя холодно и бесстрастно, как и свою кампанию, во время которой он направил усилия прежде всего на исправление недостатков. Замечательно то, что на выборах 1960 года никто из демократов не предпринял похожей попытки, пока не стало слишком поздно.
Таким образом, Кеннеди отправился на съезд в Сан-Франциско с достаточным количеством голосов, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на первой баллотировке, что также было правильным, так как он не мог рассчитывать, что все его избиратели твердо поддержат его на второй и третьей. Предпринятая в последнюю минуту попытка склонить мнение съезда на сторону Стивенсона полностью провалилась. Лидеры партии приступили к традиционному процессу зализывания ран, к которому с энтузиазмом примкнул и выдвинутый кандидат.
Но главная польза была в том, что это обещало стать одним из немногих важнейших поворотных пунктов его карьеры. Кандидатом в вице-президенты он предложил Линдона Джонсона, несмотря на то, что его брат Бобби и все остальные, к кому он обращался с вопросом, убеждали его не делать этого. Так же, как и в случае с изменением решения Стивенсона в 1956 году, это действие было несколько неожиданным, но, возможно, тому есть вполне логичное объяснение: Кеннеди произвел свои обычные хладнокровные расчеты и понял, что Джонсон будет полезен более, чем любой другой претендент. Демократам было важно усилить свои позиции в Техасе и на всем Юге (где Никсон и Эйзенхауэр зашли опасно далеко в 1956 году), и только Джонсон мог им это гарантировать. Допускал ли Кеннеди, что он примет предложение — другой вопрос, но у Джонсона были свои причины так поступить. Его прекрасное исполнение роли хозяина Сената при известном президенте-республиканце невозможно было повторить, если бы он был при демократе или даже при Ричарде Никсоне; время шло, а вице-президентство как национальный институт могло дать ему шанс покончить с его отождествлением с определенным местом и заново оформить верительные грамоты (это был человек, заявивший в первые 24 часа после смерти Кеннеди: «фактически, откровенно говоря, Джон Ф. Кеннеди был несколько консервативен, по-моему мнению»[54]. Таким образом, он ухватился за предложение Кеннеди, которое тот сделал, чтобы поддержать перешедших на его сторону. В пользу этого решения было много других аргументов, помимо предвыборных соображений. Джонсон столь же хорошо разбирался в делах, как и президент, и, вероятно, был наиболее подходящим демократом, который мог принять должность, если бы что-то случилось с Кеннеди; выбор пришелся по душе Сэму Рейберну, спикеру Палаты Представителей (однажды он пришел взглянуть на это, что было наилучшим способом не допустить Никсона к Белому дому), Гарри Трумэну и всей остальной старой гвардии; кроме того, это устраняло Джонсона как возможный источник проблем в Сенате. Либералы, которым некуда было отступать, научились жить с этим выбором. Этого нельзя было сказать о Роберте Кеннеди. Он и Джонсон испытывали друг к другу взаимную неприязнь, и с тех пор она постепенно росла, способствуя, возможно, осознанию Бобби того, что в этом важном вопросе Джек не доверял ему полностью, скорее, манипулируя им. Последствия были далеко идущими, но более важно то, что никто не мог предвидеть, что этот выбор позволил Джеку Кеннеди одержать окончательную победу в его программе внутренней политики и одновременно скомпрометировать его собственную репутацию в истории: если бы Джонсон в качестве президента стал проводить прогрессивные преобразования с той быстротой и доведением дела до конца, какой Кеннеди не удалось достичь, то он мог ввергнуть Соединенные Штаты в разрушительную войну, чего Кеннеди сумел избежать. Но такая идея ни у кого не возникла, как только сделка была совершена и съезд сделал свое дело. Для борьбы существовали выборы.
Кеннеди не верил, что большинство американцев, будучи предоставлены сами себе, не предпочтут ему Ричарда Никсона. Но они не были предоставлены сами себе. Никсон тоже был энергичным политиком. Его кандидатура была известна гораздо лучше. Демократы могли его не любить (их излюбленной шуткой было «купили бы вы подержанный автомобиль у этого человека?»), но дурная слава способствовала его известности у публики, и восемь лет его вицепрезидентства он потратил на то, чтобы использовать эту позицию для укрепления своего влияния в Республиканской партии и завоевать уважение не принадлежащих к ней. Он также был последователем чрезвычайно популярного Эйзенхауэра. Это были трудные выборы.
Кеннеди не решился атаковать Айка прямо, но видел свою задачу в том, чтобы выступить против политики Эйзенхауэра столь же твердо, как и против политики Никсона. Потому что, пока он не переубедил избирателей в необходимости изменения политики и команды Эйзенхауэра, он мог почти наверняка проиграть выборы, так как Эйзенхауэр все еще был мощной силой, как показали последние дни кампании, когда президент был в растерянности. Согласно предварительным опросам, Кеннеди убедительно лидировал; это было тем, что Артур М. Шлезингер-мл. назвал «сдержанным незаметным отливом»; Кеннеди тогда же заметил: «На прошлой неделе Никсон запаниковал и побудил Айка заговорить, и в каждом слове слышалось: «Я чувствую, что теряю голоса избирателей»[55]. Он мало что мог сделать, кроме как рассчитывать на искусство Айка (к которому, к счастью для Кеннеди, обратились слишком поздно); но он мог атаковать его репутацию — что и сделал. Появились предостережения по поводу множества совершенных и несовершенных ошибок и тяжести грядущих перемен: «За обманчивым фасадом мира и процветания скрыты опасно растущие, нерешенные, долго откладываемые проблемы, которые неизбежно вырвутся на поверхность в течение ближайших четырех лет во время работы следующей администрации: отсутствие паритета в реактивном вооружении, подъем коммунистического Китая, отчаяние слаборазвитых народов, взрывоопасная ситуация в Берлине и в Тайваньском проливе, ослабление НАТО, недостаток соглашений по контролю над вооружениями и все наши внутренние проблемы с фермерскими хозяйствами, городами и школами»[56]. Эти и другие темы подчеркивались все время в период проведения кампании; сегодня они не выглядят столь убедительными, особенно голословное утверждение об отсутствии паритета в реактивном вооружении. Чтобы быть справедливым к Кеннеди, следует сказать по этому поводу, что относительно вопроса об отсутствии паритета существовало согласие между всеми демократами и даже многими независимыми экспертами: успех Советского Союза в запуске в 1957 году первого космического спутника под тем же названием был большим ударом для американской самонадеянности и вело к тому, что сильно были переоценены как достижения, так и потенциал советской военной технологии. И так или иначе, разуверения бывшего генерала Дуайта Д. Эйзенхауэра, президента Соединенных Штатов, главы НАТО (Североатлантического союза) и Объединенных экспедиционных войск в Западной Европе не возымели успеха, хотя были хорошо обоснованы. Речи Кеннеди по этим вопросам, произнесенные как до, так и во время кампании 1960 года, с их подчеркиванием определенной и реальной опасности, в настоящее время вызывают у читателей недоумение. В сенатской речи в августе 1958 года он определенно сравнивает 50-е годы в Америке с 30-ми годами в Британии, используя при этом фразу Стэнли Болдуина: «годы, которые съела саранча»[57] (которую он впоследствии приписал Уинстону Черчиллю). В следующем году он приравнял 1959-й к 1939-му году[58]. Сегодня это выглядит безнадежно преувеличенным.
Мы должны напомнить себе, что сейчас нам известно, что Кеннеди этого не сделал: не было войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами, а затем советская экономика начала приближаться к своему краху исключительно из-за собственной хронической и неизлечимой неэффективности. И все же непоследовательность и противоречия в высказываниях Кеннеди очевидны; то, что сей факт не был замечен ни самим выступающим, ни его слушателями, возможно, вызывает наибольший интерес. Американцами владело как беспокойство, так и самомнение: они требовали от администрации Эйзенхауэра столь многого и одновременно хотели, чтобы все оставалось по-прежнему; они опасались ядерной угрозы, экономического краха и потери национальной независимости, но, как и их молодой оратор, верили, что современный американский капитализм «может время от времени замедлять свой ход или демонстрировать слабость. Но он способен достичь гораздо больших высот, чем мистер Хрущев когда-либо видел или мог себе представить. Он может создать защиту, которая нам нужна, и школы, и дома, и промышленность — и в то же время помочь сформировать ситуацию могущества и стабильности во всем некоммунистическом мире»[59]. Другое противоречие, скорее кажущееся, чем реальное, но в то же время и более опасное, заключалось в попытке Кеннеди использовать свои предостережения о национальной угрозе и слабости в качестве причины, по которой он настаивал на необходимости переговоров с Советским Союзом. Его точка зрения действительно была проста и заключалась в том, что ядерная война столь ужасна, что обе стороны были весьма заинтересованы в установлении мирных отношений и, следовательно, налаживании дипломатических связей; он не намеревался вести переговоры с позиции слабости, но американцам, как и другим, было легко истолковать его слова неверно, увидеть в нем скорее Чемберлена, нежели Черчилля.
Но тогда выступления сделали свое дело: если Кеннеди не удалось напугать американский народ, заставив поверить, что они стоят на краю самого опасного момента в своей истории, то, по меньшей мере, он убедил самого себя. Но его настойчивость никому не показалась ненадуманной. Тем не менее суждение было таково, что если выборы потребуют обсуждения этих вопросов, то Кеннеди «заслужит проигрыш» (что совсем не то же самое, что сказать о Никсоне, что он «заслужит выигрыш»).
Но существовало три фактора, помогавших Кеннеди, которые подпитывали друг друга и все вместе предали значительность победе на выборах 1960 года. Первым фактором было всеобщее чувство неудовлетворенности и беспокойства в связи со спадом в 1957–1958 годах и кризис в американо-советских отношениях, что подтвердила неудача на встрече в Париже, усугубленная инцидентом с самолетом У-2 (Советский Союз распорядился сбить шпионский самолет У-2, пролетавший над его территорией, и воспользовался этим случаем в целях пропаганды в полной мере). Возможно, американцам трудно поверить, что их мир и процветание будут длиться долго; может быть, по пуританскому обычаю, они хотели наказать себя за то, что им так хорошо жить; как бы то ни было, Никсон не был и наполовину более убедителен, чем Эйзенхауэр. Эти треволнения наверняка помогли демократам (и Кеннеди, как мы видели, постарался сделать их более убедительными и приспособленными к местным условиям), но сами по себе не были решающими. Тем не менее эффект беспокойства был усилен вызовом, брошенным поколением. Начиная с 1945 года, когда солдаты стали возвращаться с войны, в американской политике наметилась тенденция, направленная против существующего порядка, которую с блеском использовал Кеннеди в своей массачусетской предвыборной кампании. Теперь он обратил свой призыв к национальным ценностям, перенеся акцент со слабых сторон на достоинства. «Наша страна молода, — сказал он 4 июля, — созданная 184 года назад молодыми людьми, сегодня она имеет молодое сердце, юный дух, ее благословили новые молодые лидеры обеих партий, обеих палат конгресса и губернаторы всех штатов. Белому дому в равной мере нужны сила, здоровье и энергия этих молодых людей»[60], и Ричард Никсон был человеком, который не мог этого обеспечить, потому что, хотя, «разумеется», он был молод, но «его подход был устаревшим, как у Маккинли»[61].
Это обращение к силе и энергии, несомненно, было смелым: публика еще помнила правление Эйзенхауэра, его сердечные приступы и боли в животе, и не знала о проблемах Кеннеди со здоровьем. Тактика имела заметный успех. Кандидатство Кеннеди открыло дорогу молодым смелым идеалистам, многих из которых вдохновили кампании Эдлея Стивенсона. В последнюю неделю своей кампании он выдвинул предложение о создании Корпуса мира. Реакция была незамедлительной и вызвала широкий отклик: пресса одобряла, Ричард Никсон — нет («эта программа внешне хороша, но опасна внутренне»)[62]. Это был решающий момент: возможно, более чем на что-либо другое во время кампании, он указывал на то, что Кеннеди собирался сделать. Но Кеннеди также привлек на свою сторону множество не столь альтруистично настроенных бунтовщиков против высшего военного офицерства и высокопоставленных чинов, против всех этих осторожных консервативных старомодных политиков, которые позволили Джо Маккарти так долго действовать, которые полностью предоставили Уолл-стриту и его союзникам управлять экономикой (чаще всего вспоминается высказывание «что хорошо для «Дженерал моторз» — хорошо для Америки»), стояли в стороне, в то время как белый Юг боролся за сохранение превосходства белых и расовую сегрегацию, и казались неспособными понять или вступить в схватку с межнациональными проблемами нового дня. Это было скорее ощущением, чем взвешенным анализом, и Кеннеди прекрасно его использовал не только потому, что мог преподнести себя преемником Эдлея Стивенсона; не могло также принести вреда и то, что лидеры «партии ветеранов» первоначально выдвинули не его. У демократов, как и у республиканцев, был истеблишмент; Кеннеди мог стать претендентом от обеих партий, несмотря на то, что он, в противоположность Никсону, только что вошел в эту среду. И, становясь на очень либеральную партийную платформу, широко изложенную последователями Хьюберта Хамфри, Кеннеди получил все наиболее идеалистическое, прогрессивное и энергичное в американской политике. Ему удалось даже расположить к себе Элеонору Рузвельт.
Но самым драматичным вопросом 1960 года оставался религиозный. Возможно, в 90-годах, когда между и внутри наций религиозный вопрос стал очень настоятелен и горячо обсуждается политика поликультурализма, проще понять, что было многими поставлено на карту в то время. В тот момент, когда американская политика формировалась под влиянием расового, классового и внешнеполитического вопросов, многим наблюдателям и участникам было трудно увидеть за страстями, поднятыми «религиозным вопросом», что-то, кроме атавизма и устаревших взглядов. Сегодня, когда нам все время настойчиво напоминают о силе религии как пути индивидуального и социального отождествления, мы можем осознать огромную важность кандидатства и победы Кеннеди для понимания Соединенных Штатов в 1960 году, а также того, с помощью каких инструментов убедительно удалось добиться небольшого, но подлинного социального прогресса.
Сенатор Юджин Маккарти, слегка угрюмый и, несомненно, искренний обозреватель жизни семьи Кеннеди, заметил с сожалением, что кандидат-католик был очень неважным католиком. Эго было неправильно. Пожалуй, не считая сестру Кэтлин, которая вышла замуж за пределами США и за человека другой веры, Джек был очень привержен в вопросах веры и, хотя в своей частной жизни не являлся образцом христианина, но добросовестно придерживался ритуалов веры, молясь, регулярно ходя к обедне и искренне наслаждаясь хорошей проповедью[63]. Он отказывался подавать себя как кандидата-католика, говоря, что не уверен, что проголосовал бы за себя в этом случае, но, несмотря на советы, был готов публично отстоять право католика на выдвижение своей кандидатуры на пост президента. Он мог открыто обсудить эту тему и серьезно ответить на все вопросы, касающиеся предмета, даже самые глупые. Эта политика обернулась добром и оказалась хорошим упражнением в самоопределении. Нравилось ему или нет, он был кандидатом-католиком и ему пришлось взять на себя ответственность этой роли. Не то чтобы действительно не хотелось этого делать: его неприятие сектантской политики было искренним, но он имел в виду прежде всего уши протестантов. Это не объясняло всего. Его ощущение себя членом преследуемого религиозного меньшинства было очень прочным; он не собирался предавать своих людей, дипломатично обыграв религиозный вопрос, далее если бы у него была такая возможность, чего, тем не менее, не было.
Протестанты Соединенных Штатов успешно себя защитили в 20-е годы нашего столетия, когда настояли на своей идее Америки как республики, проведя ограничительный Закон об иммиграции в 1921 году, а в 1924-м разгромив Эла Смита. С тех пор они постепенно утратили свои завоевания: Франклин Рузвельт отменил запрет и ввел иудеев и католиков в самый центр федерального правительства, и с 1945 года обе группы, особенно католики, добились огромных преимуществ в предвыборной политике: даже Филадельфия стала демократической. Пришло время, когда белые протестанты обнаружили, что они являются просто другой этнической группой, вместо того, чтобы, как когда-то давно, считаться американцами. Можно было ожидать некоторого роста социальной напряженности, даже насилия; но был принят закон о несанкционированных действиях. Благодаря Закону об иммиграции (одной из мелких обязанностей Кеннеди была их корректировка или отмена) доля иностранцев в США снизилась с 13 % в 1920 году до 5,6 % в 1960-м, в то время как численность населения возросла со 106 миллионов до 179. В этнических и религиозных вопросах разногласия сменились растущей стабильностью; одно за другим выросло два поколения американцев, которые за время «Нового курса» и большой войны за демократию научились стыдиться предубеждений, как показало предварительное голосование в Западной Вирджинии. Одним словом, Кеннеди втолкнули в открытую дверь, но это не уменьшило необходимости политической смелости и не избавило предприятие от риска историки сейчас обсуждают этот вопрос так же, как это делали журналисты и политологи в то время, но наиболее вероятно то, что религия Кеннеди почти стоила ему выборов. Было ясно, что его кандидатура — смелый и неизбежный вызов одному из самых старых, могущественных и наименее терпимых американских предрассудков.
Наиболее благоприятный момент для кампании наступил в сентябре, когда Кеннеди встретился лицом к лицу с министрами-протестантами в Хьюстоне, штат Техас. «Они устали от того, что их называют фанатиками за их оппозиционизм к католиками, — сказал Пьер Сейлинджер, помощник Кеннеди по связям с прессой, — но их вопросы продемонстрировали, насколько они были далеки от реальности: один из них поинтересовался, будет ли просить претендент у кардинала Кушинга, «собственного настоятеля мистера Кеннеди в Бостоне», одобрения политики отделения церкви от государства. Кеннеди не позволял такого рода вопросам сбить себя с толку («Я являюсь кандидатом на пост президента, а не кардинал Кушинг»)[64]. Он отвечал с достоинством и уважением, а его речь, возможно, была самым успешным выступлением, касавшимся религиозной свободы и равенства, когда-либо сделанным американским политиком (наверняка американцы об этом читали и слышали более, чем кто-либо другой). «Я считаю, что в Америке наступит время, когда религиозная нетерпимость окончится, когда ко всем людям и церквям будут относиться одинаково, когда у каждого человека будет право посещать или не посещать церковь по собственному выбору, когда не будет голосования за или против католика, как и любого другого препятствия для голосования, и где католики, протестанты и иудеи как в светской, так и религиозной жизни будут воздерживаться от пренебрежения и разногласий, что так часто мешало им в прошлом, и вместо этого содействовать американскому идеалу братства… Я верю в такую Америку и за нее сражался на юге Тихого океана, как и мой брат, погибший за нее в Европе. И тогда никто не сможет сказать, что у нас «разногласия в лояльности», что мы «не верим в свободу» или принадлежим к нелояльной группе, которая угрожает «свободам, за которые погибли наши отцы»[65].
Кеннеди и его избирательная команда были уверены, что эта речь поможет его кампании или разрушит ее. Возможно, более эффективным было бы обратиться к интересам католиков, иудеев, неверующих и либералов, чем уверять не-католически настроенных приверженцев, которые продолжали муссировать религиозный вопрос до самого дня выборов. Но настойчивость Кеннеди победила, а вместе с ней пришла и окончательная победа, правда, малая; и красноречие, ум и убежденность, с какими он отстаивал свое право, как и право всех граждан-католиков претендовать и стремиться в этой стране на пост президента, навсегда закрыли этот вопрос. Это было важным делом в длительных попытках побудить традиционную Америку принять современность.
Но если право католика выдвигать кандидатуру на официальный пост следовало защитить, то гораздо более важным было убедить большинство избирателей, что именно этот католик более других подходил на пост президента в этом году. Несмотря на толпы обожавших его, задача могла бы стать для Кеннеди трудновыполнимой, если бы не согласие Никсона появиться вместе с ним на четырех теледебатах. Сегодня этот ритуальный турнир является частью предвыборной политики, поэтому трудно понять, почему предложение об их проведении в 1960 году выглядело радикальным: но они состоялись, хотя Никсон мог благополучно уклониться от состязаний. Но он проигнорировал указание на то, что его участие только придаст популярности Кеннеди. Он считал, что сможет разбить его с помощью аргументов. Это было полным просчетом.
В наши дни деталям дебатов уделяется самое пристальное внимание. Оба кандидата подавали себя наилучшим образом или так, как это соответствовало их представлениям о наилучшей подаче себя. Никсон подавил свое стремление к ударам ниже пояса (не совсем удачно). Кеннеди тщательно скрывал свое чувство юмора (хотя в одном месте он все же не удержался от смеха); это выглядело так, как будто он решил отнестись серьезно к своему пути к президентству. Никсону также пришлось изображать себя ответственным государственным деятелем. В результате они оба почти все время пытались вернуть себе вид тяжеловесной неискренности. На третьем раунде один из журналистов («дебаты» действительно были не более чем совместной пресс-конференцией перед камерой) попросил кандидатов прокомментировать характерно-приземленный язык, с помощью которого Гарри Трумэн выразил все, что думал по поводу республиканцев. Никсон, чья незабвенная способность ругаться так хорошо была всем памятна со времен уотергейтского скандала, благочестиво пробормотал что-то незначительное о важности использования подобающего президенту языка во всех случаях; Кеннеди, который в частной обстановке также не брезговал «словами из четырех букв», откровенно ответил, что не его дело указывать мистеру Трумэну, какой язык использовать, но он не высмеял вопрос, во всяком случае, перед камерой. Оба кандидата сделали все от них зависящее, чтобы победитель, кто бы им ни был, имел основания сожалеть о своей победе. Прежде всего Кеннеди настаивал на необходимости что-нибудь делать с недавно установившейся тиранией Фиделя Кастро на Кубе и поддерживать, если необходимо, настроенных против Кастро эмигрантов, если они попытаются затеять контрреволюцию. Он в равной мере мог знать и не знать, что администрация Эйзенхауэра уже применяла такую политику, в любом случае ему могли напомнить о его словах, чтобы привести в замешательство.
С точки зрения выборов все это было неважно. Четвертые дебаты показали, что Кеннеди и Никсон спорили на равных, и с тех пор Кеннеди, как более привлекательный кандидат, стал считаться лидером предвыборных гонок. Попытка Эйзенхауэра вмешаться в последнюю минуту потерпела крах, но президент не был в состоянии проводить кампанию с необходимой энергичностью, хотя, возможно, именно благодаря его вмешательству Кеннеди победил с очень небольшим перевесом. Айк все еще был самым популярным и вызывающим доверие человеком в Соединенных Штатах.
Демократы правильно выбрали кандидатуры: возможно, никакая другая команда не смогла бы превзойти преимущество Никсона как кандидата популярной администрации в период мира и процветания. Джонсон обрабатывал Юг в своей неподражаемой манере, в то время как Кеннеди старался закрепить успех в остальной стране. Ошибки происходили (так, кампания в Калифорнии проходила сумбурно, и Никсону удалось набрать только 36 тысяч голосов), но не были фатальны, и в критические моменты Кеннеди демонстрировал свое умение действовать как интуитивно, так и с расчетом. 19 октября в Атланте во время демонстрации за гражданские права был арестован и Мартин Лютер Кинг-мл. (он в этот момент сидел в ресторане, где были места отдельно для белых и черных). Несколькими днями позже его посадили в тюрьму на четыре месяца, что было само по себе нелепо и показало, что риск линчевания был реален. Шурин Кеннеди Сэрджент Шривер порекомендовал Джеку позвонить миссис Коретте Кинг и предложить помощь, что Кеннеди немедленно сделал. Миссис Кинг была ему очень благодарна, и эта новость тотчас распространилась. И, скорее импульсивно, Бобби Кеннеди позвонил судье, выразив протест против нарушения прав подсудимого, и на следующий день Кинг был освобожден. На черных американцев это произвело такое впечатление, что они безоговорочно проголосовали за Кеннеди в день выборов. Это было умным политическим ходом, но казалось, что оба брата поступили так из чувства естественного негодования и хороших побуждений без консультаций друг с другом: «Лучшая стратегия возникает обычно в результате несчастного случая», — сказал Джек Кеннеди несколько недель спустя[66]. Его комментарий на реакцию Мартина Лютера Кинга-ст. по поводу инцидента весьма характерен. Пока сын придерживался нейтралитета на выборах, его отец сказал: «Я обращусь хоть к католику, хоть к самому дьяволу, если это поможет высушить слезы моей невестки. У меня целый портфель голосов — вся моя церковь — за сенатора Кеннеди». Услышав это, сенатор заметил: «Это заявление сильно отдает фанатизмом, не так ли? Представьте: что, если Мартин Лютер Кинг примет своего отца за фанатика? Впрочем, — улыбнувшись, — у нас у всех есть отцы, верно?»[67].
Читая о подобном курьезе, трудно не почувствовать, что Кеннеди не заслужил победы, но он не поступил бы так только из хороших побуждений, даже если бы ему помогли незаурядные способности Бобби как руководителя кампании. Линдон Джонсон и другие демократы-южане собирались отобрать у республиканцев Луизиану, Западную Вирджинию и, разумеется, Техас. На Севере в последнее время подтверждало свою состоятельность старое искусство политической машины. Легенда утверждает, что мэр Чикаго подтасовал в пользу Кеннеди результаты выборов в Иллинойсе, а затем и на президентских выборах. Легенда лжет, так как победа Кеннеди не зависела от положения дел в Иллинойсе, но 27 голосов на выборах в этом штате были неплохой прибавкой к демократическому большинству. Кеннеди относил эту заслугу исключительно на счет усилий политической машины Чикаго: выборы стали звездным часом Ричарда Дж. Дейли, поэтому неудивительно, что он и его семья были первыми гостями в Белом доме, как только Кеннеди поселился там. Первым его действием в качестве президента было признание другого политического долга — он подписал распоряжение, удваивающее количество продуктов, выделяемых федеральным правительством четырем миллионам бедных Америки. Это было его ответом на острую нищету, которую он видел в горняцких общинах Западной Вирджинии. Его глубоко потрясла встреча с такой ужасающей бедностью, какую ему никогда не приходилось видеть раньше: продвижение по пути к президентству дает опыт обучения, и Западная Вирджиния сыграла такую же роль в том, что он стал президентом, как и Чикаго.
Многочисленные усилия были вознаграждены 8 ноября 1960 года, когда Кеннеди с небольшим перевесом победил Ричарда Никсона и кандидатов от менее крупных партий (Партия социалистического труда, прогибиционисты, Партия защиты прав национальных штатов и т. д.). Это были захватывающе интересные выборы; «Нью-Йорк Таймс», которая обещала победу Кеннеди в своих утренних выпусках, остановила печатные станки в 4.45 утра, которые стояли по меньшей мере до 7 утра, когда ее экстренный выпуск наконец объявил о том, что КЕННЕДИ ПОБЕДИЛ. Когда в свое время Джеймс Рестон сказал Кеннеди, какой ужасной была ночь, он ответил: «Если вас напугала «Таймс», то вам нужно было видеть меня»[68]. Никсон мог предполагать другое, как и многие в Соединенных Штатах, и не верил в поражение до десяти часов утра (люди Кеннеди бушевали из-за того, что он все еще не уступил, когда появился на телевидении в три часа утра, но Кеннеди заметил про себя: «Почему он должен уступить? Я бы этого не сделал»)[69]. Если граница победы была столь неуловима, то количество голосов производило впечатление: проголосовало 64,5 % избирателей, что было на 11 % выше, чем в 1956 году, и с тех пор эта цифра не была превзойдена. Возможно, Кеннеди не смог бы сдвинуть Америку, но ему удалось ее наверняка расшевелить: единственное, что вскоре случилось и принесло огорчения, был переход избирателей на другую сторону. Как указал ранее Теодор X. Уайт, результат был в некотором смысле счастливой случайностью: даже потеряв несколько сотен голосов в Иллинойсе и Техасе, Никсон мог победить, получив большинство как в коллегии выборщиков, так и на прямых выборах, чем Кеннеди в тех же процедурах[70]. Но отнюдь не был счастливой случайностью огромный рост числа голосов демократов на президентских выборах. Республиканцы потеряли более одного миллиона голосов, которые они получили в 1956 году, но, тем не менее, положение было лучше, чем в 1952 году, когда при голосовании за Лика произошло резкое перераспределение голосов. Демократы получили почти 8 миллионов голосов из 34 миллионов. Только в двух штатах (Оклахоме и — как предупреждение — Миссисипи) снизилось количество отданных за них голосов. Даже если допустить, что это произошло в результате естественного количественного роста электората, достижение все же было значительным.
Но что это означало на самом деле? Просматривая результаты, Кеннеди вполне мог прийти к выводу, что страна, или по крайней мере та ее часть, которая проголосовала за него, принимала то, что Америке было необходимо снова двинуться вперед; это привлекло внимание к «партии активности» и к кандидату, провозгласившему курс «Новый рубеж». «Новый курс» Франклина Рузвельта обещал помощь и безопасность всем, кто в этом нуждался. Но «Новый рубеж», о котором я говорю — не набор обещаний, а серия вызовов. И я спрашиваю не о том, что Америка может сделать для американцев, но что они могут дать своей стране. Я взываю к их гордости, а не к кошельку — это обещание скорее того, что потребуется жертвенность, а не обещание безопасности»[71]. Теперь Кеннеди был законно избранным президентом: граждане, которые его выбрали, не могли сказать, что их не предупредили. Он получил мандат на свободу действий.
Но у него не было права на конкретные решения. Многое зависело от того, насколько ему удастся склонить на свою сторону конгресс, а положение дел здесь было далеко от идеального. В 1952 и 1964 годы число демократов в конгрессе было весьма внушительным, но между этими «пиками» оно оставалось немного меньшим, и в 1960 году партия потеряла 20 мест в Палате Представителей и 2 — в Сенате. Если к этому добавить тот факт, что крайние демократы на Юге были настроены консервативно и почти готовы сотрудничать с консервативными республиканцами, то Кеннеди столкнулся со значительными трудностями при выполнении своей программы. Делу помогало и то, что за Кеннеди проголосовало почти столько же американцев, как и за Никсона. Чтобы обеспечить себе переизбрание в 1964 году и усилить свой авторитет в настоящее время, ему требовалось получить как можно больше голосов тех, кто раньше поддерживал Никсона; и так как в целом они были сторонниками сохранения статус-кво, то эта необходимость приходила в столкновение с его радикальны-ми инстинктами. Не то чтобы его инстинкты были очень радикальны. В основном «Новый рубеж» состоял из демократических предложений, которые уже прорабатывались в течение предыдущих лет, а в некоторых случаях — и со времен второй администрации Рузвельта. Однако новые безотлагательные вопросы потребовали новых предложений, как достаточно убедительно продемонстрировали ближайшие годы: но как можно было переиграть консерваторов, получив их поддержку, чтобы Кеннеди имел количественное большинство и конгресс, желавший бы с ним сотрудничать в предстоящие четыре года? В день своей победы Кеннеди заслуживал прощения за то, что, решая одну проблему, он порождал другую: выиграв выборы 1960 года, он тут же начал готовиться к следующим.
В любом случае он уже не был кандидатом. Два месяца, с ноября по январь, он потратил на создание своей администрации и подготовку инаугурационной речи: вдохновляли также растущий интерес и энтузиазм, которыми, если верить журналистам и общественным опросам, сопровождалось каждое его действие. Казалось, что уже многие из тех, кто не голосовал за «Новый рубеж», начали верить, что они за него голосовали. 20 января 1961 года, когда ярко светило солнце и стоял крепкий мороз (метель за ночь укутала Вашингтон снегом), Кеннеди произнес клятву и свою самую знаменитую речь. Как обычно, это было усилием, направленным на сотрудничество: Соренсен набросал пожелания президента и разнообразные предложения других людей, а затем вместе с Кеннеди они придали им окончательную форму. Годы практики превратили его из неуклюжего Кеннеди в эффективного, если не великого, оратора: и теперь звучал его сильный голос, передавая послание, которое никто из тех, кто его слышал, не мог забыть. Это было его самое смелое заявление о столь долгосрочных целях. Оно было определено, и это слышалось почти в каждом предложении, влиянием «холодной войны», как это видел Кеннеди, и не было свободным от обвинений высокомерной риторики, что стало обычным стилем в Америке, начиная с Декларации Независимости. Даже спустя 30 и более лет оно поражает своей силой: «За долгое время мировой истории лишь нескольким поколениям выпадала роль защитить свободу в час наибольшей опасности. Я не отступаю перед своей ответственностью — я принимаю ее. Я не думаю, что кто-нибудь из нас мог бы поменяться местами с любым другим народом или другими поколениями. Энергия, вера, преданность, которые мы вложили в наши усилия, будут освещать путь нашей страны и всех, кто этому служит, — и жар этого огня действительно может осветить мир.
Итак, мои дорогие американцы, не спрашивайте, что страна может сделать для вас — спросите, что вы можете сделать для своей страны.
Мои дорогие граждане всего мира, спрашивайте, не что Америка сделает для вас, а что мы можем сделать вместе для свободы человека.
Наконец, являетесь ли вы гражданами Америки или мира, просите нас здесь придерживаться тех же высоких стандартов силы и жертвенности, о чем мы просили вас».
Речь заслуженно имела большой успех, но некоторые заметили, что она в основном касается темы места Америки в мире. Ничего не было сказано о внутренних проблемах Соединенных Штатов или о том, как Кеннеди планировал ими заниматься. Это исключение возникло потому, что Кеннеди не хотел портить элегантность своего обращения, добавив к нему обломки платформы Демократической партии, но он также хотел избежать риска преждевременного возникновения оппозиции в конгрессе. Президентство уже побудило его прибегнуть к компромиссам.
Глава 3
ДЕЛА И ЗАБОТЫ
Вопросы внешней политики почти всегда являются предметом самого пристального внимания национальных правительств. И в Вашингтоне 1961 года совершенно определенно ничто не выглядело более настоятельным. Не успел Кеннеди произнести клятву при вступлении на пост президента, как ему пришлось столкнуться с серией следующих один за другим кризисов, связанных с зарубежными странами, которые не прекратились ни с его смертью, ни много позже. Будет лишь поучительно рассмотреть, насколько он был хорошо подготовлен, чтобы справиться с ними.
Со времен своей юности в Лондоне до назначения в сенатский комитет иностранных дел в 1957 году и много позлее он видел себя специалистом по вопросам внешней политики. Ему не хватало политического опыта, недостаток которого болезненно отражался на результатах в первый год его работы в качестве президента (это было платой за популярность). Чтобы отдохнуть, он путешествовал, проводил совещания, учился, писал речи и публиковал статьи, наиболее важным из которых он был обязан как себе, так и Соренсену. Эти действия усилили его нетерпимость к старому поколению, людям 40-х и 50-х годов, которые в это время начинали сходить со сцены. Например, ему казалось, что не имеет смысла уважать планы и интересы загнивающих европейских империй. Его поездка в Индокитай не вызвала у него ничего, кроме презрения к французскому империализму, британцы пустили по ветру свою империю с похвальной быстротой, в лице Португалии он не видел своего единомышленника, который пойдет на компромисс в вопросах, касающихся ее колоний, и Бельгия ие стеснялась покрыть себя позором как имперская сила, жестоко попирающая законность, которая оставила за собой нерешенные проблемы, когда спасалась бегством из Конго. В вопросах такого рода Кеннеди был весьма радикален (гораздо радикальнее он был по отношению к представителям «старой гвардии», таким, как Дин Ачесон, занимавший при Трумэне пост госсекретаря). Он считал, что интересы Америки состоят в том, чтобы способствовать развитию постимпериалистических стран Африки и Азии, и ему хотелось как можно сильнее встряхнуть квазиимпериалистическое прошлое самих Соединенных Штатов в Латинской Америке. Все эти отношения имели смысл в 1961 году: они начали входить в моду и проходили проверку временем, гак как им невозможно было подобрать какую-либо разумную альтернативу. Особый вклад Кеннеди состоял в том, что он был подготовлен для того, чтобы переработать их в энергичную и детальную политику, как он продемонстрировал это в 1957 году, когда произнес свою самую известную допрезидентскую речь, убеждая Соединенные Штаты поддержать независимость в Алжире против своего союзника Франции[72]. Такими действиями он показывал, что молодой свежий ум действительно сможет придать заметно новое направление внешней политике США, и за его короткое президентство было предпринято множество инициатив, которые, к несчастью для Америки и всего мира, не были проведены последовательно. Кеннеди полагал, что бывшие колонии хотят американизироваться: он так считал потому, что эти государства стремились к национальной независимости, демократии и процветанию, и, как наследник революции 1776 года, он очень желал помочь им. В его подходе было много наивности, когда начались эти события, но они начались также потому, что в этом было достаточно мудрости.
К несчастью, к этим надеждам и ожиданиям примешивались и совершенно другие интересы. Как все в его время, кто делал политику и определял мнения, Кеннеди был убежден, что центральной проблемой, с которой предстоит иметь дело Америке и всему миру, является глобальное соперничество не просто между Соединенными Штатами и Советским Союзом за влияние, но между западной демократией и восточным коммунизмом. Несомненно, он хотел ради дружбы установить связи с такими новыми государствами, как Гана и Республика Индия, но он также сильно боялся, чтобы американская пассивность не открыла дверь советскому экспансионизму. Во всех его речах, в которых эти страны вскоре стали называться «странами третьего мира» (а вскоре будет названо и кое-что еще), разрабатывалась тема о международной коммунистической угрозе. Кеннеди не повторил ошибку Джона Фостера Даллеса, госсекретаря в администрации Эйзенхауэра, предположив, что каждое государство, которое старается остаться нейтральным по отношению к «холодной войне», разумеется, является врагом или тайно сочувствует коммунистам, но в своем анализе он близок к тому, чтобы легко впасть в другое заблуждение, к которому был склонен Даллес: он рассматривал развитие других стран исключительно в свете советско-американского соперничества; он полагал, что сила соперничества присуща нациям таких стран, как Египет и Индонезия, в большей мере, чем это было там в действительности, и он почти полагал, что правительства этих стран никогда не смогут действовать автономно и им придется примкнуть к приоритетам Америки либо России. Пока новый мир оставался сферой чьих-либо интересов, он считал, что Соединенные Штаты должны проявлять заинтересованность в том, чтобы ни один американский штат не стал коммунистическим, а если это произойдет, то чтобы такое положение вещей оставалось недолго.
Эти точки зрения показывают лишь, что Кеннеди не был свободен от некоторых заблуждений своего поколения. Доктрина Мойра, свободно интерпретированная в том смысле, что Соединенные Штаты имеют преимущественную ответственность в обеих Америках (невзирая па то, что Лима от Вашингтона дальше, чем Лондон, Рио-де-Жанейро — дальше Берлина, а Буэнос-Айрес — дальше Москвы), была постоянным заклинанием американской политики, и ни один кандидат на пост президента не осмелился бы сказать, что Соединенным Штатам мало дела до того, какая система правительства существует в государствах южнее Рио-Гранде и каковы их связи с Советским Союзом. Я конце 80-х годов Рональд Рейган мог вполне серьезно полагать, что если Эль-Сальвадору позволить «стать коммунистическим», то следующее, что случится, будет марш красных в Техасе. Он много над этим смеялся, но это не повредило его отношениям с избирателями. Что касается Кеннеди, он излагал все свои предложения по внешней политике в терминах «холодной войны». За более чем сорок лет американцы допускали лишь простейшую дихотомию в объяснении мировых проблем, и теперь, когда она потерпела крах, они почувствовали себя в проигрыше. Пока это было личными взглядами Кеннеди, он не имел альтернативы принятию и использованию категорий «холодной войны» при поиске поддержки своей внешней политике. В лучшем случае он мог только просвещать американцев относительно однозначности и нюансов дипломатии, что, к его чести, он все время пытался делать.
С одной стороны, соперничество с Советским Союзом, какими бы естественными причинами оно ни было вызвано, являлось реальностью, и потенциально — опаснее всех других реальностей. Имея факты и опыт борьбы против Гитлера, было неудивительно, что Кеннеди, войдя в Белый дом, видел свою первейшую обязанность в том, чтобы управлять «холодной войной» более эффективно, чем Эйзенхауэр. Все его заявления (включая инаугурационную речь) показывают, что он считал, будто ситуация требует больших усилий, большего понимания и большей самоотдачи (что на практике означало большие затраты на оборону). Он считал, что Эйзенхауэр очень сильно зависел от ядерного сдерживания: вооруженные силы должны были иметь более разнообразное оружие и расположение тактических сил. Он полагал, что Советский Союз начнет действовать, если сочтет, что Соединенные Штаты теряют свое могущество и, следовательно, их можно запугать; это надлежало изучить. Он также думал, что разум и терпимость могут уменьшить напряжение «холодной войны» и разрешить некоторые разногласия, разделявшие Запад и Восток. Этот последний пункт указывал на слабость и противоречивость «старой гвардии», но также мог быть и просто продуктом здравого смысла.
Реальная слабость Кеннеди заключалась в той трудной области, когда большие замыслы требовалось переработать в конкретную политику. У него не было непосредственного опыта в этом: это один из минусов системы разделения власти в противоположность парламентской, которая утверждает, что политик может достичь президентства без прохождения подготовки в министерстве. Опытный госсекретарь мог успешно справиться с этим недостатком, и Эдлей Стивенсон как нельзя более подходил на эту должность, но, к несчастью, в то время Кеннеди питал к нему сильную личную неприязнь, что не только повлекло за собой несколько бесполезных (и нехарактерных для него) действий, вместо того чтобы ускорить ход событий, но и сделало сотрудничество в Вашингтоне невозможным. Таким образом, Стивенсона направили в Нью-Йорк в качестве посла при ООН, где он так превосходно работал, как будто решил доказать, каким хорошим госсекретарем он мог бы быть. Кандидатура Честера Боулза, почти столь же хорошо подготовленного, не могла быть одобрена без главной битвы в сенате (Ричард Никсон предупреждал Кеннеди, что он открыто будет против кандидатуры Боулза). Сенатор Уильям Фулбрайт, которого Кеннеди больше других хотел видеть на этом посту, не подходил по той причине, что он поддерживал власть белых на Юге и, кроме того, был чрезвычайно полезен на посту председателя комитета по связям с зарубежными странами. Поэтому Кеннеди вновь обратился к Дину Раску, бывшему заместителю секретаря и помощнику госсекретаря, которого настоятельно рекомендовали Дин Ачесон и другие. Кеннеди никогда не встречал его, но не сомневался после полученных заверений, что он будет превосходным вторым игроком: Кеннеди имел в виду — быть «его собственным» госсекретарем, хотя, как заметил Раск несколько лет спустя, теперь работа охватывает такое множество дел, что даже госсекретарь не может быть «собственным»[73]. Раск действительно оказался хорошим «рассыльным»; оба Кеннеди и, как следовало ожидать, Линдон Джонсон, оценили его профессионализм, умение быть незаметным, лояльность и честность. К несчастью, американской системе требовалось иное, история госдепартамента с очевидностью показывает, что система функционирует лучше, если госсекретарь действует по своему усмотрению, способен противостоять своему президенту, принимая вызов и высказывая свою точку зрения, если необходимо, намечать и проводить собственную внешнюю политику (с одобрения президента и в сотрудничестве с ним); вести единую и эффективную дипломатическую команду. Такими были Джордж Маршалл, Дин Ачесон и (со всеми его ошибками) Джон Фостер Даллес; таким мог быть Генри Киссинджер. И таким не был Дин Раск, что повлекло за собой множество отрицательных, порой тяжелых последствий.
По всей видимости, в первые дни своего президентства Кеннеди был озабочен не столько внешней политикой, сколько экономикой и относящимися к ней вопросами. Обращения в конгресс содержали предложения по законодательству в области социального обеспечения, налогов, расходов на социальные нужды, минимальной заработной платы и так далее: казалось, что Кеннеди прежде всего постарается преодолеть медленный спад, который он унаследовал от Эйзенхауэра. В этот период «медового месяца», когда его популярность оставалась высока (согласно опросам общественного мнения), конгресс разумно продемонстрировал свою готовность к кооперации, но его долгие процедуры показали, что при такой спешке невозможно ожидать большого количества результатов, а тем временем подспудно накапливались вопросы по внешней политике, которые наконец потребовали внимания президента. Две проблемы надо было решать, и третья стучалась в дверь: Лаос, Куба и Берлин. Он не мог этого знать, но они воплотили в себе те главные вопросы, которые Кеннеди пытался разрешить весь период своего президентства и которые продолжали доминировать у его последователей.
В последние десятилетия XX века трагедия Индокитая[74] обещала стать тем, во что Соединенным Штатам никогда не следовало себя вовлекать. Теперь кажется ясным, что когда французская империя пала, непременно должно было начаться острое соперничество, чтобы заполнить образовавшийся вакуум: можно было сказать уже при первом приближении, что в это будет вовлечен старый буддистский уклад или то, что от него осталось, новая европеизированная элита и коммунисты; при более глубоком рассмотрении это станет соперничеством между вьетнамцами, более слабыми народами Лаоса и Кампучии и огромным Китаем, который на протяжении всей истории преследовал в Юго-Восточной Азии свои имперские замыслы. Соединенные Штаты могли повлиять на эту борьбу лишь незначительно, когда события выйдут на поверхность: говоря на жаргоне марксизма, баланс сил был против этого. Но те, кто делал американскую политику в 50-х годах, не видели и, возможно, не могли увидеть состояние дел столь ясно. По крайней мере, некоторые из них видели, что Лаос мало что значил для Америки. Ему самому следовало найти новое место в изменяющемся мире: маленький, замкнутый и окруженный хищными соседями, все, на что он реально мог надеяться — это найти свою нишу, но, по возможности, мирным путем. Надежды были обречены на обман, Америка обвинена в ошибках, повлекших за собой недели страданий, которые пришлось перенести. В конечном счете эти ошибки были порождены «холодной войной» и умонастроением, которое она взрастила, и Кеннеди не был свободен от этого. Но в 1961 году в самом начале своего руководства Кеннеди справлялся с проблемой Лаоса довольно хорошо.
Два вопроса встали перед американцами. Первый: что произойдет, если Соединенные Штаты повернут назад? На него несколько раз без обиняков отвечал президент Эйзенхауэр (как он поделился в своих мемуарах): «Несмотря на удаленность, мы были обречены охранять независимость Лаоса, чтобы нас не сменили северные соседи — коммунистический Китай и Северный Вьетнам. Так как если бы Лаос стал коммунистическим, началась бы цепочка переходов к этому строю — как цепь падающих костяшек домино — их пока еще свободных соседей, Кампучии и Южного Вьетнама и, по всей вероятности, Таиланда и Бирмы. Такая цепь событий могла бы открыть путь коммунистической экспансии на всем Юго-Востоке Азии[75]. Эта «теория домино» была широко принята в то время, история ее опровергла: окончательная коммунистическая победа в Индокитае повлекла за собой множество ужасных последствий, но предсказанная международная дестабилизация не входила в их число. Самое лучшее, что можно было сказать о кампаниях США в Индокитае — то, что они дали какое-то время Малайзии и Сингапуру, но и это вызывало сомнения, так как для завершения этих дел можно было использовать менее жестокие средства.
Однако Кеннеди, став президентом, столкнулся прежде всего не с «теорией домино», но, в основном благодаря деятельности Эйзенхауэра, со вторым вопросом: что произойдет, если Соединенные Штаты продолжат вторжение в Лаос? На этот вопрос не мог ясно ответить даже Эйзенхауэр, который ставил его перед Кеннеди на его доинаугурационных встречах. Русские наладили снабжение в эту страну, не считая помощи коммунистическим повстанцам, которых широко поддерживало коммунистическое правительство Северного Вьетнама своей усиливающейся армией, Соединенные Штаты продолжали обеспечивать антикоммунистические силы, при необходимости посылая туда собственные войска. Айк, без сомнения, был рад демобилизации: Кеннеди не мог понять, почему он не был взволнован столь ужасными рекомендациями[76]. Он был гораздо более озабочен, когда понял, что объединенный комитет начальников штабов был готов, если необходимо, использовать ядерное оружие в Индокитае, при этом оставаясь уверенным, что это не спровоцирует войну в «третьем мире». Он не мог разделить эту уверенность. Действительно, все эти инструктивные совещания (позже он жаловался, что потратил на Лаос больше времени, чем на что-либо другое в первые месяцы своего президентства), казалось, имели обратный эффект. Кеннеди не собирался вести дела в таком ключе, подразумевая ядерную войну — следовало найти другую политическую стратегию: и чем больше он обсуждал этот вопрос со своими советниками, тем яснее становилась альтернатива (та, к которой склонялась даже администрация Эйзенхауэра в свои последние дни»)[77]. Бисмарк заметил, что восточный вопрос не стоит и ногтя одного померанского мушкетера. Кеннеди решил, что Лаос не стоит ногтя любого американца. Не следовало вносить разобщение в администрацию, ни продолжая интервенцию, ни открыто выйдя из игры. Но, тем не менее, лаосский вопрос надо было закрыть. «Нейтральное» правительство должно быть учреждено международным соглашением: оно также могло успешно образоваться и само. Советско-американское соперничество за влияние могло преследоваться повсеместно. Это решение явилось платой за него. С точки зрения попытки Лаоса избежать коммунистического рабства это было преступно низко. С точки зрения антикоммунистического Вьетнама это было чрезвычайно опасно, особенно после того, как стало известно о появлении Тропы Хо Ши Мина, по которой из Северного Вьетнама в Южный к повстанцам переправлялись продукты и оружие. Разумеется, это не решало всех проблем американской политики в данном регионе. Но с точки зрения президента Соединенных Штатов это было наименее плохой альтернативой и, следовательно, той, которую ему следовало выбрать.
Вырабатывать новую политическую стратегию было бы утомительно и отняло бы много времени: это было поручено прежде всего Авереллу Гарриману, послу, имевшему большой опыт и работавшему помощником секретаря по вопросам Дальнего Востока. Но Кеннеди не отступил, ему были ясны два основных пункта: Лаос не представлял реальной стратегической ценности ни для Москвы, ни для Вашингтона, и до тех пор, пока супердержавы не связывали свой престиж с тем, что там происходило, переговоры оставались возможны: во-вторых, американцы с трудом представляли, где находится Лаос, и наверняка не интересовались этим. И, пока их не убедили, что администрация Кеннеди «теряет» Лаос (как правительство Трумэна уже якобы «потеряло» Китай), они спокойно игнорировали ее проблемы. Из этого следовало, что Кеннеди должен постараться заключить некоторое соглашение с Советским Союзом, которое наконец появилось, решив лаосский вопрос, что тут же попало на первые страницы газет и в телепрограммы новостей. В результате республиканцы поверили, что трудно, если не невозможно, повернуть назад. Расчеты в данном случае, как и в других, были низкими, но Кеннеди был прав, делая их. Его юношеское «я» автора «Почему Англия спала» могло вспомнить сожаление, высказанное Невиллом Чемберленом по поводу Чехословакии («далекая страна, о которой мы ничего не знаем»), и обвинить его в том, что он потворствует появлению другого Мюнхена: никогда еще о вероломстве коммунистов, чтобы расстроить соглашение, заключенное Гарриманом в Женеве в 1962 году, не говорилось с такой убежденностью, как и во времена Гитлера. Но вся эта критика упускала основной момент: Мюнхен был тщетной попыткой предотвратить войну, которая была неизбежна; но, по крайней мере, Женева помогала предупредить войну, которая не соответствовала ничьим интересам (даже лаосским).
Другой проблемой Кеннеди была Куба, решения которой он не видел столь ясно. Как и большинство граждан его страны, он был жертвой очень многих непроверенных предположений по этому вопросу. Он не переносил вульгарных клише, но действительно верил, как и каждый обыватель со Среднего Запада, что Карибы и, возможно, вся латинская Америка являются «задним двором» для Соединенных Штатов и, следовательно, к ним надо относиться собственнически (здесь любой неамериканец может определить губительное влияние доктрины Монро). Ему не хотелось, чтобы США оказывали поддержку коррумпированной и слабой кубинской диктатуре Фульгенсио Батисты, и он, как и многие другие американцы, приветствовал романтическое восстание Фиделя Кастро, которое свергло Батисту в 1959 году. К несчастью, Кастро был нетерпимо-враждебно настроен к Соединенным Штатам. Он экспроприировал большую часть американской собственности. Это было скверно, но мироощущение «холодной войны» сделало неизбежным то, что официальный Вашингтон почувствовал в желании Советского Союза распространить свое влияние гораздо большую угрозу для безопасности США. Как и во времена Эйзенхауэра, администрация вербовала множество эмигрантов, теперь бежавших с Кубы: в течение зимы 1960–1961 годов Центральное разведывательное управление (ЦРУ) сформировало повстанческие отряды из 1500 человек, которых начали тренировать в Гватемале для контрреволюционного вторжения на остров.
В некотором отношении кубанская и лаосская проблемы были похожи. Оба слабых народа боролись за достижение своей независимости, подавляемые могущественными соседями (Лаос, к несчастью, имел двух таких соседей — Вьетнам и Китай). Их трудности усугубляла «холодная война». Вмешательство супердержавы также не могло принести ничего хорошего. Разница между обеими странами заключалась в том, что Куба находилась в непосредственной близости к США и являлась их страной-спутником с 1898 года. Американцам искренне не нравилась диктатура, которую устанавливал Кастро. Американская разведка сильно недооценила трудность свержения нового режима. Кеннеди разделял эти позиции (как и Эйзенхауэр, Никсон и большинство высоких умов страны), к тому же ощущая некоторое личное соперничество с Кастро, который был еще одним молодым действующим политиком.
Все это было понятно. Менее понятными были шаги, которые предпринимал Кеннеди в отношении Кубы в первые месяцы работы своей администрации. Он видел, что быстрота действий против Кастро была вопросом первостепенной важности. Если раньше Национальный совет безопасности уделял время Лаосу, то теперь на обсуждении была Куба. Кеннеди хотел заручиться поддержкой ЦРУ и Пентагона. И он получил ее: адмирал Берк, глава штаба военно-морских операций, сказал ему: «Пока мы будем в состоянии выполнять эту работу, все будет в порядке. Это хороший план»[78]. Алан Даллес, шеф ЦРУ, говорил Кеннеди, что он гораздо более уверен в кубинском плане, чем в том удачном ходе, который предприняло ЦРУ в Гватемале несколькими годами раньше[79]. Несколько разумных и веских голосов были подняты против этого проекта, но они не возымели действия, возможно, потому, что Кеннеди, усиленно убеждаемый экспертами, подавил свои собственные сомнения. К тому же все еще протестовало британское правительство, считая такие действия незаконными, согласно их стандартам международного права, которые Соединенные Штаты, казалось, поддерживали: но этому не суждено было сбыться. По этому поводу характерно высказывание Дина Ачесона, который говорил президенту, что он не считает необходимым звонить в Прайс Уотерхауз, чтобы понять, что 1500 кубинцев на самом деле являются 25 тысячами[80]. Фулбрайт утверждал, что вторжение обернется бедствием независимо от того, достигнет ли оно успешно своих целей или нет, и осудил навязчивую идею Кастро: «Режим Кастро — это заноза в теле, но не кинжал в нашем сердце»[81]. Артур Шлезингер, работавший в Белом доме, приводит убедительный аргумент, что если бы захватчики утвердились на Кубе, то почти наверняка за этим последовала бы гражданская война, создав затруднительную ситуацию, в которую были бы вовлечены Соединенные Штаты, и формирующаяся международная репутация Кеннеди как человека «великолепного ума, рассудительности, честности и твердости» была бы принесена в жертву[82]. У Дина Раска были свои сомнения, но, как он с грустью замечает в своих мемуарах, Кеннеди не всегда эффективно использовал свои плюсы: «Будучи полковником пехоты и руководителем военных операций на китайско-бирманско-индийском театре во время второй мировой войны, я знал, что небольшая бригада этих кубинских эмигрантов вряд ли имела хоть малейший шанс на успех. Я не переношу это военное суждение на президента Кеннеди, потому что сам больше не участвую в военных действиях»[83]. Но это не имело бы большого значения и в том случае, если бы он участвовал. Кеннеди был одержим идеей свергнуть Кастро, заплатив небольшую цену. Успех этого предприятия был подкреплен ЦРУ и его репутацией, снискавшей дурную славу. Начальники штабов, возражения которых он мог услышать, уступили или поддержали (как сказал Раек, «они полагали, что если весь спектакль был операцией ЦРУ, то им следовало лишь одобрить это и умыть руки»)[84]. Гарри Уиллс высказал точку зрения, что Ричард Уиллс, ответственный за проведение операций ЦРУ, убеждал нескольких последователей «Нового рубежа» в Йельском университете, включая Макджорджа Банди, советника по национальной безопасности, уступить ему: и он вполне мог быть уверен в том, что президент это одобрит, так как весь план был образцовым приключением в стиле «Нового рубежа», романтичным, неортодоксальным, импровизированным, смелым — такого рода делом, которое было достойно Джеймса Бонда (Кеннеди очень любил триллеры Яна Флемминга)[85]. Несомненно, Кеннеди чувствовал, что Эй-зейхауэр и Никсон пошли бы дальше, как мог бы и он, и, возможно, он вспомнил опрометчиво данное обещание поддержать кубинских «борцов за свободу», которое он сделал во время предвыборной кампании[86]. 14 апреля он дал «добро», и операция началась.
Вторжение потерпело трагическое фиаско. Секретность перестала быть таковой задолго до этого; президенту пришлось ответить на несколько неудобных вопросов на своей пресс-конференции 12 апреля (его ответы изобретательно уводили в сторону без того, чтобы стать явной ложью). Предупрежденному и, следовательно, вооруженному Кастро не составило труда разбить вторгшиеся отряды, в то время как они старались отбить плацдарм недалеко от местечка Бей-оф-Пигз.
На Кубе освободителям не было оказано широкой поддержки. Еще несколько дней Кеннеди надеялся и верил, что те, кто останется жив после битвы, уйдут в горы, чтобы создать партизанские отряды (как говорил брат Роберт, он верил, что это возможно, только потому, что он допустил это предприятие)[87], но он ошибался: когда планировалась операция в Бей-оф-Пигз, ЦРУ не заметило, что поблизости совсем нет гор, только болота, где отрядам Кастро было легко поймать беглецов. Успокаивало лишь то, что все закончилось очень быстро (меньше чем за неделю). Соединенным Штатом больше не на что было опереться, не было смысла бросать туда какие-то силы, что могло бы длиться бесконечно и не приносить результата, как того боялся Шлезингер.
Несомненно, операция в Бей-оф-Пигз была самым неудачным моментом администрации Кеннеди. Она продемонстрировала целый ряд слабостей американской стороны, начиная с некомпетентности ЦРУ (управления, которое регулярно доставляло правительству США больше трудностей, чем само того заслуживало) и заканчивая благодушием начальников штабов объединенного комитета и недостатками концепции Дина Раска относительно его обязанностей. Это показало несостоятельность некоторых претензий «дяди Сэма»; он просто не мог удержаться от незаконного, с применением насилия, вторжения на Карибы, даже проклиная свою глупую привычку несколько раз. Но для президента Кеннеди главным являлось исполнение его роли в этом несчастье. Он не стеснялся в выражении извинений, и делал это со всей искренностью (в противоположность президенту Рейгану, который в сходных обстоятельствах вынужден был допустить, что дела шли не так, как следовало, «на мой взгляд», использовав это в качестве прелюдии, чтобы перейти к другой теме). Другие старались «переписать» ход событий заново; как он сказал на конференции 21 апреля, «давно сказано, что у победы сто отцов, а у поражения — ни одного».
Он сам не избегал очевидного: «Я отвечаю за то место в правительстве, которое занимаю»[88]. Но это была ответственность особого рода. Он позволил себе сказать то, против чего его тщетно удерживали инстинкты: он подверг риску интересы США, не сумев убедить, что предложения ЦРУ были адекватно проанализированы: из-за его ошибок он дал нескольким смелым кубинским эмигрантам погибнуть бесполезной смертью и сотням — попасть в плен к Фиделю Кастро. Последнее он ощущал очень остро, так как это напоминало ему потерю ПТ-109, когда он реабилитировался в собственных глазах только тем, что попытка спасти свою команду оказалась успешной. Теперь он снова потерпел крах, и снова люди, за которых он отвечал, платили свою цену. «Как я мог не понимать всего этого? Вся моя жизнь научила меня лучше экспертов. Как я мог быть столь глуп, чтобы позволить им действовать?»[89]. Он размышлял, он действительно горевал по поводу своего провала. Позже Бобби Кеннеди сказал, что в то время он был расстроен больше, чем когда-либо еще», и заметил, что однажды он стал свидетелем того, что «он качал головой и прижимал ладони к глазам»[90]. Он также не скрывал своего угнетенного состояния, когда 22 апреля его посетил экс-президент Эйзенхауэр в его резиденции в Кэмп-Дэвиде (Кеннеди не хотел, чтобы республиканцы возобновили непрерывные атаки из-за его неудачи: он также пригласил Ричарда Никсона). Айк нашел его «очень открытым и искренним, но в то же время весьма подавленным и более чем озадаченным».
КЕННЕДИ: Невозможно представить, как трудна эта работа, пока не посвятишь ей несколько месяцев. ЭЙЗЕНХАУЭР: Мистер президент, я прошу прощения, но я думаю, что уже упоминал об этом три месяца назад.
КЕННЕДИ: Я многому научился с тех пор[91].
В этом была суть дела. Кеннеди понял, что президентство — это непрерывное обучение. Это радикально его изменило, и Бей-оф-Пигз был его самым трудным и мучительным уроком. Благоприятный аффект этого дал себя знать почти сразу же, когда начальники штабов объединенного комитета (которые, казалось, были неспособны обучиться какому угодно уроку) начали защищать отправку войск США в Лаос. Несколько острых вопросов президента (в тоне, который он прежде не допускал по отношению к тем, кто спланировал операцию в Бей-оф-Пиг) сделали явным тот факт, что если бы они высадились, то были бы смяты превосходящими силами и в этом случае, как советовали начальники штабов, пришлось бы использовать ядерное оружие[92]. И войска не были посланы.
Хотя президент принимал всю ответственность за кубинский кризис, он не мог наказать себя, не мог уйти в отставку (и не хотел): он желал продолжать заниматься той работой, на которую был избран. Но не стоило смотреть сквозь пальцы на грубые ошибки подчиненных, которые так подвели его в беде, и он, по меньшей мере в глубине души, обвинил их гораздо больше, чем они того заслуживали. Он приложил все силы, чтобы предотвратить губительное желание возбудить взаимные обвинения внутри администрации, остановив публичное обсуждение дела (пресса приняла его мягкий отказ говорить об этом на своих пресс-конференциях) и одновременно предприняв шаги, чтобы восстановить доверие людей. Довольно легко было с начальниками штабов: в любом случае они скоро выходили на пенсию и их можно было проводить без лишнего шума, вручив медали в саду роз Белого дома. (Адмиралу Берку было предложено остаться еще на один срок руководителем военно-морских операций, но у него хватило здравого смысла отказаться, как это от него и ожидали)[93]. Председателю объединенного комитета начальников штабов генералу Лемницеру разрешили остаться на своем посту до конца срока, но одновременно Кеннеди пригласил генерала Максвелла Тейлора, к которому благоволил, в Белый дом в качестве своего военного советника, что обеспокоило Пентагон, и, когда пришло время, Тейлор сменил Лемницера на посту председателя. В ноябре Аллену Даллесу, которого Кеннеди утвердил в должности на следующий день после своей победы на выборах, были вручены награды, и он также ушел в отставку. Бисселла заменил Ричард Холмс в качестве руководителя тайных операций. После всех этих перестановок президент надеялся, что бюрократия получила предупреждение.
Заботясь о том, чтобы больше не потерять контроль, Кеннеди произвел также несколько решающих изменений в том же духе, когда он шел к президентству. Они были столь заметны, что значительно усиленный персонал Белого дома отныне активно стал осуществлять контроль за всеми правительственными действиями. Макджорджу Банди было поручено держать в поле зрения и координировать все вопросы обороны и рекомендации по внешней политике, которые поступали к президенту. Назначение Максвелла Гейдара также было внесено в список. Президент говорил Теду Соренсену, который до того в основном занимался вопросами внутренней политики, что ему следует начать уделять некоторое время внешнеполитическим делам[94]. Бобби Кеннеди, (который, как и Соренсен, не участвовал в разработке операции Бей-оф-Пигз — он занимал пост генерального прокурора) решил никогда больше не позволять тупым подчиненным причинять брату столько вреда. Он счел это своей обязанностью и, с его проницательным умом, безграничной преданностью Джеку и готовностью нажить врагов, был для этого достаточно подготовлен. И эта его связь с президентом постоянно укреплялась, что побудило вице-президента кисло заметить: «Не смейтесь над тем, кто является первым советником… Бобби входил в дела первым и завершал последним, он был тем, кого Кеннеди слушал»[95]. Заняв пост президента, Джек решил не назначать начальника штаба, как это сделал Эйзенхауэр в отношении Шермана Адамса, но теперь он у него был.
Бобби Кеннеди сказал в 1964 году: «Бей-оф-Пигз, возможно, было лучшим, что случилось за время пребывания администрации у власти»[96], подразумевая, что это преподало много ценных уроков. Могли счесть, что удачливый президент — один из тех, кто совершает ошибки поначалу. Опыт научил его быть осторожным и осмотрительным до того, как он сделает первый шаг. Президенты, у которых в первые годы дела шли хорошо, становились благодушными либо высокомерными, что влекло за собой несчастья. Это случалось даже с Франклином Рузвельтом, которому пришлось бы в 1941 году уйти с поста с подорванной репутацией, не случись второй мировой войны. Либо при благоприятных условиях президент мог допустить грубую ошибку, но не извлечь из нее урока или не поправить ее. Так произошло с Джимми Картером.
Но невозможно закрыть глаза на серьезные ошибки. Даже Эйзенхауэр, который проводил сдержанную политику, как и любой современный президент, с неохотой занимался проблемой Джо Маккарти, плохо решал вопрос о гражданских правах и, благодаря своему упорному консерватизму в экономике, способствовал созданию условий, которые сделали возможной победу Кеннеди (которую Айк с уверенностью рассматривал как несчастье). Президенты — это люди, а президентство — пост, где многое значит личность, и еще никто не изобрел средства, которое надежно защитит должность от самой себя. Тщательно разработанная система совета национальной безопасности Эйзенхауэра не спасла его от неприятности с У-2, неформальные приемы Кеннеди не предотвратили Бей-оф-Пигз, и гораздо более официальные действия Линдона Джонсона не уберегли его или страну от направления американской армии в Южный Вьетнам. Это не особенно удивляет: в каждом случае президент налаживает систему, с которой он чувствует себя удобно, систему, которая, как он считает, даст ему возможность управлять наиболее эффективно и сформулировать такую политику правительства Соединенных Штатов, которую он сочтет наиболее подходящей. В ней реализуются его достоинства, но неизбежно, так как он лично к этому причастен, на системе также отражаются и его недостатки. Практически только президент может осознать свои ошибки и исправить их. Следовательно, важно, чтобы он мог быстро учиться и у него было бы на чем учиться.
Если все это действительно так, то катастрофа Бей-оф-Пигз воистину была самой лучшей возможностью, когда-либо предоставившейся президенту Кеннеди. Он сам нес ответственность за эту путаницу и осознавал это, и поэтому первое, что он себе пообещал, было не повторять ошибок в будущих критических ситуациях (он решил, что наихудшим было то, что он задавал недостаточно много вопросов). Но некоторых важных уроков он все же не извлек, например, теперь кажется довольно очевидным, что продолжать попытки свергнуть правительство Кастро было как неверно, так и повторно обречено на поражение. Он не всегда достигал успеха, пытаясь улучшить процедуры принятия решений. Но в целом афоризм Бобби Кеннеди был верен.
Инцидент причинил на удивление мало вреда отношениям между президентом и гражданами: как ничто другое, это сделало его более популярным, чем когда-либо, чего он искренне не мог понять и был этим немного насторожен. Увидев результаты опроса общественного мнения, которые утверждали, что его поддерживает 82 % населения, он сказал: «Так же, как это было и с Эйзенхауэром. Чем хуже я веду дела, тем популярнее становлюсь»[97]. Левые провели против него демонстрации в стране и за рубежом. Но союзные Америке правительства, обрадованные тем, что эпизод закончился так быстро, выступили в его поддержку. Только в одной стране это обернулось серьезным ущербом — в Советском Союзе. К несчастью, как заметил Артур Шлезингер-мл., именно это было самым сложным испытанием — «способность Кеннеди иметь дело не с Фиделем Кастро, а с Н. С. Хрущевым»[98].
Постоянное утверждение Кеннеди о том, что в 1961 году Соединенные Штаты столкнутся с большой опасностью, обрело действительность в состоянии русско-американских отношений. Советский Союз продемонстрировал свои технологические достижения, создав атомную и водородную бомбы, запустив «Спутник» (весной 1961 года в космос отправился также первый человек — Юрий Гагарин). Он грубо, но успешно подавил выступления в Берлине и Венгрии в ближайшие годы, прошедшие после смерти Сталина: вновь утвердилась его гегемония в Восточной Европе. Его официальная статистика показывала, что уровень экономического роста в Союзе был выше, чем в Соединенных Штатах; лишь немногие понимали, что эта официальная статистика ничего не стоит. Хрущев, который так поспешно сменил Сталина на его посту, наконец обрел могущественное влияние в 1957 году. Он немедленно продемонстрировал, что Советский Союз, наконец, обладает большей уверенностью и силами, чтобы рискнуть бросить вызов Западу по поводу статуса Берлина и Восточной Германии. В 1956 году он грозил подписать односторонний мирный договор с Германский Демократической Республикой, как она тогда называлась, и тем самым (как он утверждал) ликвидировать право западных союзников на их продолжавшееся присутствие в Берлине и гарантию свободы западноберлинцев. Запад был непоколебим, и Хрущев не осуществил своих угроз, но тучи над Берлином все еще не развеялись, когда Эйзенхауэра сменил Кеннеди, и пожар мог вспыхнуть в любой момент. Хрущев начал разрабатывать план на тот случай, если опять произойдет Бей-оф-Пигз. Эта катастрофа, когда она случилась, дала ему повод думать, что его могут счесть слабаком, и он не упустил открывшуюся перед ним возможность.
В некоторых отношениях перед Хрущевым, как и перед Кеннеди, встала та же дилемма. Кеннеди, для того, чтобы быть избранным, и Хрущев, чтобы сохранить власть, были схожи в стремлении продемонстрировать свою приверженность идее наращивания международной мощи обеих стран: никто не желал инцидентов за рубежом, которые бы отвлекли их от проведения программ в их собственных странах. Но это требовало времени на создание обычного фундамента, который бы стал ощутим. Хрущев был очень индивидуалистичен и вспыльчив. Его громко провозглашаемая вера в достижения и обещание построить коммунистическую систему, которые очень насторожили американское общественное мнение, были весьма искренни, но сочетались с горьким осознанием слабости Советов как в военной, так и в экономической областях. Его напыщенность была, проще всего, попыткой скрыть слабость от мира, но не намеревалась замалчивать оппозиционность Советского Союза. Он надеялся на ослабление напряжения в отношениях с Западом отчасти ради самого ослабления, отчасти потому, что связи с маоистским Китаем становились все более затруднительны; но он не мог прибегнуть к средствам дипломатии договоров из-за страха перед старой сталинской гвардией и коммунистическими лидерами других стран, которые могли подумать, что он проявляет слабость перед капиталистическим миром. Он излучал чисто человеческое обаяние, которое многих с Запада располагало к себе, но также мог вести себя как упрямый шумливый хулиган. Он мог быть искренним, но и приврать к случаю без тени стыда. Он считал, что Запад понять трудно, имея чрезвычайно малый опыт общения с ним: смесь провинциализма и догматичной идеологии делала его слепым по отношению ко многим реальностям капитализма. До последнего дня он не верил в то, что их однажды ставшие знаменитыми переговоры на кухне с Ричардом Никсоном были чем-либо большим, чем утопической фикцией: мысль о том, что такие кухни действительно могут быть обычным делом в Соединенных Штатах, была выше его понимания.
Кеннеди был плохо подготовлен к тому, чтобы иметь дело с таким человеком, и вскоре это понял: как и Эйзенхауэр, он не верил в переговоры в верхах как в форму, где можно решить существенные вопросы, и собирался обратиться к Дину Раску, отчасти потому, что Раск был его официальным представителем. Но он не видел ничего плохого в проведении частной встречи с советским лидером, которая позволила бы им лучше узнать друг друга. Как заметил Чарльз Боулен (бывший посол в Москве), Кеннеди «как почти каждый человек, с которым я познакомился во время этой работы на данном поприще, действительно хотел выяснить это для себя. Серьезные вопросы и последствия ошибок, которые появляются, когда вы имеете дело с Советским Союзом, столь велики, что человек любого характера и ума не может полностью воспринять взгляды кого-либо другого»[99]. Но это было косвенным указанием на недостаток опыта президента: кроме этого, другой трудностью была сильно разрекламированная оборонная политика Кеннеди. Он заявил, что Соединенные Штаты не могут оставаться перед лицом коммунистической угрозы, опираясь только на ядерное превосходство. Он принимал доктрину «гибкого ответа», предложенную Максвеллом Тейлором, и, чтобы ее воплотить, назначил очень способного Роберта С. Макнамару министром обороны. Новая политика означала, кроме всего прочего, увеличение расходов на вооружение: автор книги «Почему Англия спала» был спокоен. Он помнил, как военная ослабленность заставила Чемберлена согласиться на Мюнхен, и решил не допустить повторения этого. «Давайте никогда не проводить переговоров, если нас побуждает страх»[100]. Вооружаться из страха, с другой стороны, было всего лишь здравомыслием. Таким образом, в течение первых месяцев своего президентства он повторял, что Соединенные Штаты оказались в серьезном историческом положении. Это позволило ему провести свои предложения в конгрессе, но встревожило русских, так же, как бахвальство Хрущева насторожило Кеннеди. Они не могли понять Кеннеди, так как ожидали, что он будет гораздо менее воинственен, чем Никсон. Затем последовал Бей-оф-Пигз. Казалось, что это побудило Хрущева принять предложение о встрече, которое Кеннеди сделал в феврале и которое до сих пор оставалось без ответа. Так как Кеннеди решил посетить в начале июля Францию, то было решено, что он продолжит свою поездку в Веку, где его будет ожидать Хрущев.
В 1961 году лидер русских был озабочен берлинским вопросом. Из Восточной в Западную Германию через открытые ворота старейшей столицы хлынул поток эмигрантов. Он грозил разрушить экономику Восточной Германии (так как уезжали прежде всего наиболее образованные и квалифицированные), и в 1961 году, как и тридцать лет спустя, было ясно, что крах Восточной Германии может привести к падению всей советской империи. Но в то время как в 1989 году Горбачев ощущал бессилие, чтобы сопротивляться событиям, Хрущев так не считал. Необходимо было только точно решить, что и когда надо сделать. Хрущев рассматривал встречу в Вене как свой шанс узнать, насколько американцы окажутся терпимы. Поэтому в обсуждение был включен вопрос о ядерных испытаниях. Запад проявлял большую заботу о радиоактивных осадках и последствиях испытаний, которые могли вызвать политическую дестабилизацию; действительно, период около тридцати лет, прошедший после Хиросимы, можно было назвать веком ядер ной опасности, и Кеннеди, как дитя своего времени, имел большое желание подписать договор о запрещении ядерных испытаний; но советским руководителям нужна была хорошая реклама ядерного оружия для того, чтобы запугать Китай, и Хрущеву надо было успокоить своих генералов. Он отмечал, что советские испытания скоро будут возобновлены вопреки добровольно установленному мораторию, который США и СССР соблюдали в течение трех последних лет; но, так как он ожидал, что американцы первыми нарушат мораторий, то считал, что стоит подождать, пока это произойдет, — пусть они будут теми, кто пострадает от осуждения мирового общественного мнения. В этом отношении Вена была хорошим шансом, чтобы успокоить американцев, внушив им ложное чувство безопасности.
Президент и миссис Кеннеди вылетели из Нью-Йорка в Париж вечером 30 мая и на следующий день прибыли в аэропорт Орли, где их встречал генерал Де Голль. Последующие три дня, проведенные в интенсивной работе, оказали чрезвычайно хорошее влияние на моральное состояние Кеннеди. Неожиданно выяснилось, что европейцы восхищены им так же, как и американцы; французы, казалось, были особенно очарованы красотой, элегантностью, умом и превосходным французским Жаклин Кеннеди. Свою пресс-конференцию Кеннеди начал со слов: «Я сопровождаю Жаклин Кеннеди в Париж, и мне это доставляет удовольствие»[101]. Везде, где они появлялись, их ждала огромная восторженная толпа: все великолепие, которое имелось в распоряжении французского государства — от золотых ванн Парижа до блестящих банкетов в Версале — в лучших традициях королей, щедро изливалось на чету Кеннеди. Президенты обеих стран провели пять встреч и относились друг к другу с самой любезной предупредительностью, хотя каждый из них оставил некоторые соображения про себя. Старый генерал, с его особенной проницательностью, дал понять своему молодому гостю, чего он хочет прежде всего. Он поддерживал политику нейтрализации Лаоса, о чем всегда предупреждал, если верить его мемуарам: «Чем более вы вовлечены в противостояние с коммунизмом, тем чаще коммунисты кажутся вам победителями в области национальной независимости и тем больше поддержки они получают, даже из чувства отчаяния… Шаг за шагом вы будете погружаться и военную и политическую трясину независимо от того, сколько вы займете этим людей и вложите средств»[102]. Он говорил Кеннеди, что государственный деятель должен быть убежден в своем высказывании; он также настаивал, что уместно и возможно противостоять русским по берлинскому вопросу. Хрущев блефует; он посылал угрозы в течение двух с половиной лет, которые до сих пор ничем не кончились, и он никогда не решится на войну относительно Берлина»[103]. Укрепленный таким образом, 3 июня Кеннеди отправился в Вену.
В этом городе его тоже приветствовали толпы, но Кеннеди приехал не для того, чтобы посмотреть на австрийцев и показать им себя, и два дня встреч с Хрущевым отразились болезненным контрастом по сравнению с его беседами с Де Голлем. Он не собирался предпринимать постоянные дипломатические усилия, но надеялся, что будет создана достаточная основа, чтобы прогресс в переговорах по различным вопросам был возможен. Хрущев не был одержим этими иллюзиями. Он приехал в Вену, чтобы проверить Кеннеди и по возможности запугать его или, во всяком случае, вывести из равновесия. Как Кеннеди вскоре понял, это делало его невосприимчивым к обаянию, искренности, доводам, учтивости и всему остальному. Вместо этого он все время давил, давил, давил на своего противника, стараясь выяснить, насколько он сможет уступить и что заставит его сдаться. Кеннеди такое поведение привело в ужас: по окончании первого дня переговоров он спросил у Луэллина Томпсона, посла США в Москве: «И так всегда?» — «Эго его обычное состояние», — ответил посол[104].
Что-нибудь меньшее, чем дух товарищества сената США, трудно было представить. Приложив множество усилий, Кеннеди все же не смог найти общего языка с Хрущевым, поэтому неторопливая беседа, приправленная юмором, в чем он был мастер, оказалась невозможной. Хрущев начал с того, что отбросил свои обычные причитания о том, что ядерная война может произойти в результате ошибки в расчетах с той или с другой стороны. «Ошибка в расчетах? Все, что я слышу от ваших людей, ваших журналистов и ваших друзей, — это проклятое слово «ошибка» в расчетах… Мы не делаем ошибок. Мы не начнем войну по ошибке»[105]. Он не сказал ничего дельного о ядерных испытаниях: «Мы никогда первыми не нарушим мораторий. Нарушите вы, и это заставит нас возобновить испытания»[106]. Берлинский вопрос заставил его напустить на себя напыщенность и ярость. Он прибег к еще нескольким угрозам, которых не было ранее, настаивая, что пришло время подписания мирного договора, по которому Восточная Германия признавалась законным государством и ей передавался контроль над Восточным Берлином (Западный Берлин должен был остаться «свободным городом»), но теперь он это делал, оказавшись лицом к лицу с президентом Соединенных Штатов, похлопывая по столу, кидая свирепые взгляды и говоря с силой: «Мне нужен мир. И если вам нужна война, то это ваша проблема. Если Соединенные Штаты не пойдут на некоторые уступки, то в декабре Советский Союз подпишет мирный договор с Восточной Германией. «Если это правда, — сказал Кеннеди, — то зима будет холодной»[107].
Он уехал из Вены, погруженный в уныние, раздражение и беспокойство, но ситуация была менее серьезна, чем он полагал. Он остался тверд, не пойдя на уступки Хрущеву, и в то же время не дал себя в обиду: не его вина, что русские не поняли, что он не тот человек, которого можно запугать. Он мог не знать этого, но Хрущев, ни на йоту не уменьшив своего давления, видимо, почувствовал к нему симпатию. Он побудил советского лидера согласиться на его уступку, которая хотя и мало значила для Хрущева, в то же время много дала Кеннеди: как они договорились, Лаос был одним из важных вопросов в открытой дискуссии двух супердержав. Это сходство взглядов отразилось на лаосцах, но означало, что между США и СССР стало меньше возможных взрывоопасных моментов, а у республиканцев — меньше поводов упрекнуть президента. И он понял, почувствовал: все, что ему нужно знать о личности Хрущева, — это то, что он никогда не согласится встретиться с ним снова. Как только к нему вернулось его обычное хорошее расположение духа, он смог убедиться, что эта конференция, в итоге, ничего не изменила: западные союзники остались в Берлине, НАТО было по-прежнему прочно. Де Голль вполне мог оказаться прав: если судить не по словам, а по делам Хрущева, то реальная опасность войны была мала. Он не обманывался относительно того, что берлинский кризис был предотвращен, но он отказывался говорить об этом. По возвращении в Соединенные Штаты он выступил в своей яркой и ясной манере, дав отчет американскому народу, в котором он был (по британским стандартам) удивительно откровенен, но не обратил особого внимания на трудность, связанную с берлинским вопросом. Вместо этого он сделал предположение, что соперничество между Востоком и Западом в следующем десятилетии развернется в странах «третьего мира», и использовал эту идею в подтверждение развертывания своей программы помощи другим государствам, которая была отдана на рассмотрение в конгресс. После этого он вернулся к основной теме: он не давал пресс-конференций в течение трех недель: когда он встретился с журналистами, то сделал твердое продолжительное заявление по берлинскому вопросу: «В Германии и Берлине — мир. Если там кто-то обеспокоен, то это прямая ответственность советской стороны»[108]. Однако он еще не провозгласил никакой политики, и казалось, что журналисты в целом интересовались другими вопросами. Но, оставшись вдали от глаз, президент лихорадочно изучал кризис во всех его аспектах.
Жаль, что, переключившись на Кубу и Лаос, он действовал не так быстро, позволив русским захватить инициативу, которые не упустили такой возможности. 10 июня они вновь повторили свою угрозу подписать сепаратный мирный договор с Восточной Германией, хотя Кеннеди дал ясно понять, что подобное действие приведет к основному кризису в отношениях Запада и Востока. Возможно, они думали, что Кеннеди блефует. Если так, то они сильно ошибались. В конце июля подписание документов начало оборачиваться тем, что Вашингтон стал готовить похожий случай, и 25 июля Кеннеди обратился по телевидению «к городу и миру». Раньше он предоставлял другим широкое поле деятельности, когда принял президентство — теперь же он сам постарался захватить командование.
Проводя линию, согласованную со всеми союзниками, Кеннеди настаивал на том, что если для установления мира требовалось угрожать, то это была целиком заслуга советской стороны: «Мир знает, что сегодня для берлинского кризиса нет причины, и если он разовьется, то это произойдет благодаря попытке Советского правительства посягнуть на права других и усилить напряженность»[109]. Он старался по возможности доступно объяснить, что западные союзники, и Соединенные Штаты в частности, намереваются защитить эти права. Программа была подана на рассмотрение в Сенат и требовала более трех миллиардов долларов на дополнительную оборону и добавку в 207 миллионов долларов на гражданскую оборону. Это означало, что будет набрано больше человек в армию и флот, призваны резервные части, гражданским лицам придется больше работать, самолеты и суда, у которых кончается срок эксплуатации, продолжат службу, и появится дополнительное обеспечение в виде неядерного вооружения, боеприпасов и снаряжения[110]. Обращение было более чем ясно. Кеннеди придерживался трех основных положений, начало которым дала администрация Эйзенхауэра: воздушный и наземный доступ на территорию Берлина, остающееся там западное военное присутствие и свобода Западного Берлина[111]. На этом настаивало НАТО, и в результате необходимое было успешно достигнуто; но кое-что в то же время упустили. В. В. Ростов однажды заметил: «Кеннеди был готов рискнуть, решившись на войну, чтобы защитить Западный Берлин, но не поддерживая свободное сообщение между советским и западными секторами»[112], хотя эго сообщение было достаточно большим для законных прав Запада, как и для других трех вопросов. В своей телевизионной речи Кеннеди упомянул Западный Берлин четырнадцать раз, как будто остальные части города не представляли для него интереса.
В этом выступлении он был откровенен с американским народом, но также, возможно, ненамеренно, открыл свои планы русским[113]. Эгон Бар, один из коллег Вилли Брандта, позднее мэр Берлина, упоминая об этих трех основных положениях, напрасно возражал: «Это же почти приглашение Советам делать то, что они хотят, с Восточным сектором»[114]. И так думали не только западноберлинцы. Советскому правительству было ясно, что НАТО было готово предоставить Восточному Берлину положиться на судьбу. И в полночь 12 августа 1961 года коммунисты начали строить то, что позже стало пресловутой Берлинской стеной. Таким образом русские охраняли свои собственные интересы.
Постройка Берлинской стены вызвала волну страха и возмущения на всем Западе. Она тут же превратилась в зловещий символ коммунистической тирании и оставалась таковой в течение тридцати лет до падения режима в Восточной Германии. Ее дурная репутация укрепилась после того, как множество людей пыталось ее преодолеть: они были убиты, ранены или схвачены пограничниками под самым носом у Запада, и их судьба постоянно побуждала ассоциировать Западный Берлин со свободой, а Восточный — с ненавистью и беззаконием. Хрущев не помог делу, пожимая плечами: «Я ожидал подобной неприятности», и называл стену «пограничным контролем»[115]. За долгое время своего существования стека объединила мнения Запада, отказав Восточной Германии в любой законности, и внесла вклад в развенчание Советского Союза в глазах Запада (и в то же время добавив романтизма относительно маоистского Китая и Кубы Фиделя Кастро). Но ни одно из этих соображений не оправдывало молчаливого согласия Кеннеди с постройкой Стены.
И все же было трудно придумать, что еще он мог сделать. Верно, что соглашения 1945 года, которые узаконили британское, французское и американское присутствие в Западном Берлине, также предусматривали создание единого правительства Берлина: «железный занавес» не собирались устанавливать непосредственно перед Брандербургскими воротами. Но на практике власти Запада уступали Восточный сектор коммунистам — российским и немецким, как это было и в 1953 году, когда Запад отказался поддержать берлинское восстание, и в 1956 году, при отказе в помощи Венгрии. Теоретически Запад мог не признать существование Германской Демократической Республики (ГДР), но практически ему пришлось бы это сделать. Берлинская стена просто придала этому факту видимость с помощью колючей проволоки и бетона. Кеннеди не считал, что право на свободное передвижение между секторами может привести к войне или к риску ее возникновения: примечательно, что никто из его советников, даже упорный Дин Ачесон, никогда не предположил обратного. Все они понимали, что престиж и сила Советов очень зависят от того, насколько постоянен режим Ульбрихта, и допускали, что в случае необходимости Хрущев пойдет на решительные меры. И когда в июле поток беженцев с Востока на Запад достиг уровня 10 тысяч человек в неделю, было трудно не понять, что время пришло. Немцы же в действительности держали ситуацию под контролем.
Несомненно, тревога по поводу кризиса, желание уехать, пока можно, несколько увеличила поток эмигрантов, но не было причины считать, что миграция совсем прекратится, потому что Хрущев ничего не предпринял, или потому что она началась в результате кризиса: скорее, кризис возник вследствие роста миграции. Кеннеди и Хрущев с января наступали друг другу на мозоли, но именно Ульбрихт настоял, что необходимо что-то сделать с тем, что вызвало появление стены, и Хрущев не мог ему что-либо противопоставить без того, чтобы не подвергнуть опасности собственную политическую позицию. Неясно было даже, будет ли дальше работать эйзенхауэровская тактика уверток, которая более или менее была успешна на первой фазе берлинского кризиса; как бы то ни было, выборы 1960 года привели демократов к власти, и все они, от Ачесона до Эдлея Стивенсона, выразили свое неодобрение внешней политикой Эйзенхауэра. Они не верили в «помутнение сознания», и Хрущев вздохнул с облегчением, когда направления наконец были четко определены. В то же время обычная осторожность советской дипломатии была очевидна: постройка стены была наименее агрессивным действием, которое могло бы произойти. Установился статус-кво, который Кеннеди всегда обещал соблюдать. За короткое время это не привело к ослаблению ни одной из сторон, но отдалило день, когда вопрос об объединении Германии был решен. Как заметил один историк[116], призрак Большого Альянса все еще не ушел со сцены. Ни Восток, ни Запад в действительности не хотели немедленного объединения Германии; даже федеральное правительство в Бонне не желало этого; и никто не хотел, чтобы ядерная война послужила причиной объединения Германии или спасения Берлина. Эти факты обусловливали происходящие события — неоспоримые, но о которых не упоминалось: они убедительно объясняли происходящее. Сделка по берлинскому кризису (с течением времени упоминания об этом постепенно исчезли из заголовков газет и больше никогда не появились) всех прекрасно устраивала, за исключением негодующих берлинцев.
И все же, так как они очень много потеряли, следует спросить, был ли возможен какой-то другой выход: вероятнее всего, ответ будет отрицательный, ветераны берлинской блокады, такие, как Ачесон, всегда были склонны верить, что русские отступают всякий раз, если их ждет достаточно холодный прием, но пустые угрозы Ачесона, как мы видели, не всегда совпадают с его рекомендациями президенту. Полагаться на европейских союзников было бесполезно; как сказал Соренсен: «французы были против любых переговоров, и немцы с приближением у них осенних выборов были против этих позиций, и, видимо, вообще против всего»[117]. После смерти брата Бобби Кеннеди вспоминал о французах как о тех, кто особенно сопротивлялся сотрудничеству: «Французы выступали по этому поводу и отказывалась беседовать с Хрущевым. По фундаментальным вопросам: что вы будете делать, если самолет собьют с земли… будете ли вы атаковать эти наземные военные сооружения и какие виды бомб примените; если самолеты атакуют вас в то время, когда вы нападаете на наземные сооружения, вызовете ли вы подкрепление; если вызовете, то в каком количестве; если самолет будет сбит другим самолетом, что вы сделаете — и по всем этим основательным вопросам людям, которые были готовы на решительные меры в случае, если русские или коммунисты предпримут действия против нас, всегда противостояли французы. Они делали публичные заявления о том, что встанут на защиту Берлина и не уступят им ни на йоту. Но когда это наконец дошло до действительно неприятной части всего предприятия, они не спешили его отстаивать»[118]. Операция Бей-оф-Пигз привила обоим Кеннеди глубокое отвращение к недостаточно продуманным романтическим проектам, и во время берлинского лета они ничего не слышали кроме того, что выбранный ими курс может противостоять осмотрительным вопросам, которые будут км заданы. У нового главы штаба военно-воздушных сил, Кертиса Ле Мэя, на все проблемы был только один ответ: «Да завалите их всех бомбами!»[119]. Это подтверждало сомнения Джека Кеннеди относительно своих генералов.
Но на его плечи легло и другое бремя, которое никто не мог разделить, даже Бобби и которое редко оставляло его внимание. Будучи, согласно конституции, главнокомандующим США, он и только он один из всех американцев мог, сделав ошибку, дать начало ядерной войне и разрушению всего мира. Это заставило Ачесона оглянуться далеко назад, в те дни, когда в Берлин по воздуху перебрасывались войска: у Советского Союза тогда не было ядерного оружия. Это устраивало генерала Де Голля, нового хозяина ударных соединений, который говорил о явно вызывающем поведении России, которое он хотя и не мог сломить, но, по крайней мере, мог как-то укротить.
Примечательно, что три первые ядерные державы — Соединенные Штаты, Британия и Советский Союз — оставались по-разному, но самыми осторожными во время всего спора. Кеннеди был твердо убежден, что он ошибался относительно осторожности, и убедил в своих взглядах Макнамару и Раска[120]. Кеннеди считал, что суть кризиса заключена в восприятии Хрущевым Соединенных Штатов. Если он считает, что американская позиция слаба, он мог впасть в ошибку, инициировав однажды войну: «Если Хрущев хочет облить меня грязью, то он это сделает». Если советский лидер считал, что Кеннеди пытается задеть его, то он в равной мере мог ответить и губительным открытым вызовом. Некоторому здравому смыслу Хрущев все же был научен, но «это животное не обращало внимание на слова. Ему нужно было увидеть ваши действия»[121]. Для Кеннеди это был самый поучительный аспект берлинского дела, который год спустя принес неоценимые плоды. Что касается берлинцев, Кеннеди принес им извинения и был готов для них сделать все, что в его силах: но всю берлинскую ситуацию он рассматривал как неудачную историческую аномалию, непредвиденным и нежеланным последствием второй мировой войны и определенно неподходящей причиной для развертывания третьей. Он обвинял западных немцев в том, что они сделали из Берлина мелодраму: «Что ж, если они думают, что мы ввяжемся в войну из-за Берлина исключительно потому, что сочтем это нашей последней отчаянной попыткой сохранить альянс НАТО, то пусть они лучше подумают о чем-нибудь другом»[122].
Оглядываясь назад, берлинский кризис можно рассматривать как один из двух драматичных эпизодов (другой эпизод — военный ракетный конфликт на Кубе), ставший началом второй фазы «холодной войны», а ее можно назвать киссинджеровской — по имени государственного деятеля, который был ее ведущим теоретиком и практиком. «Холодная война» уже стала государственным институтом как на Западе, так и на Востоке и оказала разнообразное влияние на жизнь народов мира. Кеннеди было предназначено судьбой стать частью поколения государственных деятелей, завершавших переход от первой фазы, фазы Ачесона. Они уже забыли некоторые уроки. Немного времени прошло с тех пор, как Джон Фостер Даллес говорил о возврате коммунизма: когда бы западные государственные деятели ни собирались на закрытых совещаниях, вопрос об объединении Германии обсуждался как непосредственная перспектива; Кеннеди в это не верил [123], но однажды в разговоре упомянул о «свободной Кубе» так, как будто это вскоре могло произойти[124]. Постепенно появилось осознание того, что «холодная война» больше не является движущей силой, но остается болезненным вопросом. НАТО и страны Варшавского Договора были непременными фигурами пейзажа, коммунизм не мог продвинуться западнее Рейна, не говоря о Ла-Манше; западная демократия вернула бы большевизм к границам Советского Союза. Во времена Киссинджера обе стороны поняли, что не следует ожидать или искать что-то другое, кроме небольших достижений, и что военная угроза все же привела к некоторому сотрудничеству по основным позициям между супердержавами. В целом это была западная, даже американская логика, и именно администрация Кеннеди первой внушила это Востоку. И она оставалась в действии, пока экономическая и политическая слабость Советского Союза не привела к третьей и последней фазе «холодной войны» — фазе Горбачева.
Но то, насколько далек был Советский Союз от принятия такой точки зрения, показывает не только оптимистичность взгляда Хрущева в связи с берлинским вопросом (он рассматривал его как чистую победу советской политики), но также то, как 28 августа Кеннеди воспринял новость о том, что Советский Союз готовится возобновить ядерные испытания в атмосфере. «Опять, черт возьми!» — таковы были слова президента Соединенных Штатов[125]. Он был взбешен, и, как полагали его советники, взбешен этим предательством более, чем каким-либо другим надувательством со стороны Советов за все время его президентства. Он полагал, что мораторий является достаточным политическим гарантом (большинство граждан считало, что ему также следует возобновить испытания), он верил обещанию Хрущева о том, что СССР не начнет испытания первыми; его глубоко заверили в том, что будет уменьшена угроза ядерного оружия и радиоактивных осадков, и вот Хрущев демонстрирует, что он предпочел развивать советское вооружение, удовлетворить аппетиты своих военных и показать всему миру, что Советы могут соперничать с Западом (возможно, в качестве компенсации за то, что из берлинского дела удалось извлечь столь немногое)[126]. Кеннеди отозвал американского представителя со ставшей теперь бесполезной конференции по разоружению в Женеве. 4 сентября, после трех больших испытаний в атмосфере, проведенных Советами, он дал согласие на возобновление подземных испытаний США. Чтобы смыть с себя вину, Кеннеди совместно с британским премьер-министром Гарольдом Макмилланом выдвинул предложение о запрещении проведения в будущем ядерных атмосферных испытаний ядерными державами; до сих пор Хрущев его отвергал. Даже сейчас Кеннеди неохотно шел на то, чтобы вновь начать испытания в атмосфере. Когда 25 сентября он появился перед генеральной ассамблеей ООН, в своем обращении он сделал основной упор на предложения по разоружению, но это не принесло пользы. 30 октября Советский Союз, проигнорировав последнее заявление Кеннеди, провел испытание бомбы в 50 мегатонн: в тот же день Кеннеди отдал приказ подготовиться к испытаниям в атмосфере. Возможно, это было необходимо для американской безопасности, а если не для нее, то для американского народа.
На первый взгляд, первый год управления американской внешней политикой для Кеннеди нельзя назвать успешным. Бей-оф-Пигз стало бедствием, и другие его инициативы также не были триумфальны. Самое большее, на что он мог претендовать, это поддержание мира и западного альянса, когда он од-повременно дал ход новой оборонной программе, которая очень укрепила Соединенные Штаты. Это было не совсем тем, что он обещал в своем инаугурационном обращении. Но за этим стояло многое. Кеннеди изучил правила сложной игры, в которой он теперь принимал участие, и набирался силы на будущее. Хрущев мог считать его зеленым юнцом, ко тем, кто недооценивая Джона Ф. Кеннеди в прошлом, пришлось платить в будущем. Кроме того, постоянные кризисы усилили влияние Кеннеди на американское общественное мнение. Американцы могли или не могли быть в большей безопасности в январе 1962 года, чем в январе 1961-го, но они чувствовали, что находятся в хороших руках. Кеннеди убедил их и большинство стран в мире, что, пока Советский Союз не обошел его тактически или в военном отношении, он искренне будет стремиться к переговорам, к тому, чтобы мирными средствами разумно разрешать спорные вопросы. Это личное влияние постоянно возрастаю в течение последующих двух лет и стало ценным качеством, с чем Хрущев не мог сравниться или чему противостоять. Вряд ли Кеннеди достиг бы этого так быстро, если бы ему не пришлось извлечь столько уроков в 1961 году.
Глава 4
ВЗГЛЯД
ИЗ БЕЛОГО ДОМА
Внешняя политика была самой тяжелой ответственностью, возложенной конституцией США на плечи президента, но ни в коем случае не единственной, и время от времени становилась основным вопросом для американских политиков и американского народа, даже во время «холодной войны». Согласно конституции, президент был наделен исключительной властью в правительстве; с меньшей степенью возвеличивания, но большей точностью его можно также назвать домохозяйкой всей нации. Прежде всего его обязанностью было удостовериться, что все идет хорошо; он дает клятву «беречь, охранять и защищать» конституцию. Законотворчество предположительно закреплено за конгрессом, но практическая необходимость стерла эти различия. В наше время не только президент обязательно создает свою законодательную программу, но также и конгресс вовлечен в дела исполнительной власти правительства. О президенте можно широко судить по законам, которые он проводит в конгресс или которые ему не удается провести через конгресс или вето; сенаторы и конгрессмены проигрывают или побеждают на выборах отчасти в зависимости от того, какие отношения у них сложились с президентом. Главной задачей национального «ведения хозяйства» является (и являлось), конечно, разделение ответственности между всеми. Никто не мог стать успешным президентом, если не относился к этому серьезно и не был готов этому посвятить по меньшей мере половину своего времени, а зачастую и больше.
Это было реальностью, с которой столкнулся Кеннеди, и он знал это. Он принял вызов; ему понравилась идея стать «главным законодателем» (по выражению Гарри Трумэна) и ощутить в действии власть, которой у него не было в Капитолии. Но едва ли ему были нужны предостережения Ричарда Нойштадта о том, что его власть сильно ограничена[127]; он начал размышлять об этом факте с того момента, когда написал свои первые серьезные тезисы. Он очень хорошо знал, что ни один из демократических принципов не укоренился так глубоко в сознании американского народа, как принцип разделения властей. Как по вертикали — разделение на законодательную, исполнительную и судебную функции — так и по горизонтали — существование федерального, на уровне штата и местного управления — все вместе это образует политическую структуру и, возможно, само по себе достаточно, чтобы объяснить огромное число адвокатов, которое стало ныне заметной чертой американского общества. И этого наверняка достаточно для объяснения, почему жизнь президента — это постоянная борьба с обстоятельствами, чтобы что-то сделать: но ему также приходится бороться с другой неизбежностью, которую можно назвать третьим разделением властей.
Если бы корпорации, средства массовой информации, церкви, профсоюзы, лобби и так далее не были бы институтами в том смысле, как их понимал Монтескье, то они бы работали как постоянная система блокирующей друг друга элиты, которой были бы подотчетны все политики, прежде всего президент: их влияние подтверждено многочисленными полуофициальными объединениями, в которых участвуют и они, и официальные лица. Поэтому такой президент, как Кеннеди, с его большой и бросающей вызов программой, нацеленной на реализацию, оказался лицом к лицу с системой, которая изначально была предназначена как раз для того, чтобы препятствовать любому смелому шагу и с самого момента своего создания развила высокоэффективную систему дублирования.
Препятствия были очень великими и, хотя они могли немного меняться в деталях от поколения к поколению, по сути своей оставались неизменны. Для их преодоления президент полагал заручиться поддержкой одной-двух крупных политических партий, но в реальности партии образовали еще один слой обструкции, поэтому силы, которые поддерживали республиканцев и демократов, часто освобождали своих лидеров на уровне государства и конгресса от любой сколько-нибудь существенной необходимости сотрудничать с номинальными руководителями их партий. Это верно прежде всего в отношении проигравших кандидатов в президенты: для них партийное руководство становится чисто номинальным в тот момент, когда подсчет голосов закончен. Президент находится в очень прочной позиции, но лояльность и дисциплина требуют, чтобы он это заработал и продолжал заслуживать. И избирателям, и их президенту, и партийным политикам нетрудно увидеть, где бездействует высшая власть, и поступать соответственно.
Эти необходимости только определяют проблему, но не утверждают, что она неразрешима. Просмотрев деятельность трех своих предшественников, Кеннеди счел, что у него нет особой причины разочаровываться. Рузвельт, Трумэн и Эйзенхауэр переживали каждое серьезное поражение вместе с конгрессом, или с народом, или с группами людей, но у каждого на счету было также несколько заметных побед, которые изменили направление американской истории. Со дня его избрания и далее настал черед Кеннеди разрабатывать стратегию и тактику, которая помогла бы ему действовать так же хорошо, а по возможности и лучше: стратегия, которая привела бы к переизбранию его и других демократов в 1964 году. Он понимал, что на этой дороге много камней.
На первом из них он споткнулся сразу же после инаугурации, и это бросило его в гущу сражения, которое, если бы он его проиграл, стало бы катастрофой для внутренней политики, эквивалентной Бей-оф-Пигз, и происходило, как и то дело, из-за неопытности новой администрации. Сторонники Кеннеди в Палате Представителей почти проиграли голосование по расширению Комитета по урегулированию.
После выборов 1960 года демократы все еще контролировали обе Палаты конгресса, но потеряли двадцать мест в Палате Представителей. Это могло не иметь значения, если бы партия была едина в вопросах политики, но это был далеко не тот случай. Хотя «упорный Юг» начал уступать под нажимом революции гражданских прав, почти все сенаторы и конгрессмены из южных штатов являлись демократами все еще номинально, и многие из них не только твердо поддерживали власть белых, но были чрезвычайно консервативны в целом. Благодаря системе старшинства джентльмены с Юга возглавляли большинство важнейших комитетов при конгрессе, от комитета по международным связям в Сенате до постоянной бюджетной комиссии Палаты Представителей, и таким образом имели прекрасную возможность влиять на прохождение предложений президента и определять, что могло, а что не могло пройти через конгресс. Но важнее было то, что эти реакционно настроенные демократы работали в неофициальной коалиции с республиканцами с 1938 года, когда они отошли от Франклина Рузвельта, оставив его одного. Их преобладание объясняло, почему конгресс пропустил сравнительно мало либеральных. предложений по законодательству за двадцать лет до 1960 года.
Комитет по урегулированию первоначально был учрежден для помощи и содействия в делах Палаты Представителей. Их обязанностью было взаимоувязывать графики заседаний и комиссий, что совершенно не предполагало определение вопросов политики. Но со временем комитет присвоил себе часть законодательной власти. Его председателем был «судья» Говард Смит из Вирджинии, большой реакционер, который при поддержке демократов-южан в комитете и республиканского меньшинства взял за правило не пропускать любое прогрессивное предложение, которое проходило через него: он не выпустил бы из своего комитета ничего, что было предназначено для голосования в Палате Представителей. Чтобы вырвать билль из его челюстей, существовали процедуры, но они были громоздки, неопределенны и отнимали много времени. Кеннеди мог быть уверен, что Смит, предоставленный сам себе, замнет большую часть президентской программы, что уже будет достаточно плохо; но то, что Комитет по урегулированию — организация, обладавшая небольшим демократическим авторитетом, либо вовсе его не имевшая, созданная исключительно для удобства Палаты Представителей, — в действительности превратилась в третью палату конгресса, было из ряда вон выходящим. Если отцы-основатели хотели бы создать такой институт, они бы это сделали, но они предполагали достаточным Сенат и Палату Представителей.
Кеннеди не был одинок в своей оппозиции к тому, что комитет узурпировал власть. Либералы Палаты Представителей годами боролись против этого и наверняка примкнули бы к президенту, если бы он затеял бой. Более важным было другое: уважаемый спикер пришел к заключению, что с этим ничего нельзя сделать, кроме как вызвать на открытый обмен мнениями. Мистер Рейберн, чья максима управления звучала как «если вы хотите поладить — ладьте», годами терпимо относился к поведению Смита — столько, сколько председатель был готов ладить, пока спикер говорил ему, что это действительно необходимо. Оба ветерана знали всю политическую жизнь друг друга, и Рейберн помнил, что именно он способствовал тому, чтобы Смиг занял в комитете первое место. Но Смит, с растущей уверенностью в своей несокрушимости, предпочел забыть это и в течение 50-х годов, особенно после подъема движения за гражданские права, все менее и менее сотрудничал с большинством из тех, кто, как предполагалось, был его собственной партией. Еще до того, как Джек Кеннеди выиграл президентские выборы, мистер Рейберн пришел к выводу, что с этим надо что-то делать.
Прямое нападение было вне обсуждений. Учитывая почти врожденный консерватизм Палаты Представителей и приверженность ее членов принципу старшинства, было бы тщетно стараться убрать «судью» Смита с поста председателя и тех, кто его поддерживал — из комитета. Спикер решил попытаться ввести трех новых членов в комитет, где их до этого было двенадцать: одного республиканца и двоих заслуживающих доверия демократов. Таким образом, теперь на стороне президента было большинство с перевесом в один голос. На мистера Рейберна произвела глубокое впечатление предвыборная кампания Кеннеди и его инаугурационная речь, и, по мере того, как он узнавал его лучше, Кеннеди нравился ему все больше. Если кто-нибудь и мог разбить «судью» Смита, то это был он, и он был готов это сделать. Таким образом, Кеннеди был рад предоставить возможность побороться старым ветеранам. Хотя спикер и предупреждал его, что будет сложно, Кеннеди не нуждался в предупреждениях о том, что он проиграет, за день до голосования.
Как заметил позже Лэрри О’Брайен, новая команда Белого дома едва ли успела бы снять фраки, которые надела в день инаугурации[128], и начала бы действовать немедленно. Голосование было отложено до дня ежегодного послания президента конгрессу «О положении в стране», и О’Брайен с несколькими доверенными помощниками поспешил в Капитолий. Была использована каждая мелочь президентского влияния: это был один из трех случаев за время его президентства, когда Кеннеди поставил на карту все, всю свою власть и престиж, на эту проверку, не оставлявшую обходного пути[129]. У него был небольшой выбор. Он заявил публично, что все это является делом конгресса, от которого он как президент стоит и должен стоять в стороне. На пресс-конференции он сказал, что, пока поддерживает Рейберна, «ответственность остается на плечах членов Палаты Представителей, и я не попытаюсь нарушить эту ответственность. Я только обнародую свои взгляды перед всеми заинтересованными гражданами»[130], но каждый улыбнулся бы иронично, если бы всерьез предположил, что президент действительно поступит так. Каждому было понятно, что успех администрации Кеннеди сильно зависит от победы в этом сражении. В день последнего голосования разразилась драма: мистер Рейберн покинул свое кресло спикера, что происходило редко, и сделал серьезное заявление, которое, как он знал, могло позволить предложению пройти — соотношение голосов оказалось 217 к 212. Это сделало ему честь в глазах его биографов, но без вмешательства Белого дома победа не могла бы быть отпразднована.
Победа! Но, как Кеннеди заметил Соренсену, «со всем, чем это было для нас, с репутацией самого Рейберна, поставленной на карту, со всем давлением и обращениями, какие новый президент мог сделать — мы выиграли с перевесом в пять голосов. Это показывает, против чего мы поднялись»[131]. Мораль очевидна: лидерство в законотворчестве не могло быть делегировано демократам в конгрессе. Скорее, к его удивлению, Лэрри О’Брайену предложили постоянную работу по организации взаимодействия между членами обеих палат, и его специально с этой целью созданная группа стала постоянной. Это обернулось одним из самых удачных планов Кеннеди. Его лидерство в конгрессе безуспешно пытались очернить в течение лет, сравнивая с его последователем — Линдоном Джонсоном, который был одним из самых успешных руководителей конгресса в истории, возможно, самым успешным. Линдон Б. Джонсон был определенно гениален в своем умении склонить конгресс на свою сторону, но даже гениям необходимы благоприятные обстоятельства, в которых бы они проявили себя наилучшим образом, даже гениям надо с кем-то сотрудничать, и Кеннеди снабдил своего преемника и тем, и другим, институт, который унаследовал Джонсон, был уже гораздо более управляем, чем это было в 1961 году, и Джонсон оставил О’Брайену — человеку Кеннеди — работу, которую он так хорошо выполнял. В противоположность мифу, Кеннеди и сам отлично руководил конгрессом — факт, который обычно упускают, так как за все время он имел не очень заметную поддержку в конгрессе, и отчасти из-за того, что его стиль так отличался от джонсоновского. У О’Брайена было два принципа, ни один из которых не восходил к Джонсону, но оба — к Кеннеди. Он добросовестно соблюдал разделение властей, что он должен был делать: еще никогда не было столь хорошо взаимодействующей постоянной команды Белого дома, и было очень легко убедить чувствительных законодателей в том, что им навязывают мнение и происходит узурпация. Во-вторых, О’Брайен никогда не просил сенатора или представителя Палаты совершить политическое самоубийство ради президента. «Нам действительно в самом деле нужно ваше голосование: сделайте это, потому что Джек меньше всего может этого просить»[132]. Кеннеди сам взял это за правило в Овальном кабинете: если конгрессмен или сенатор указывали, что политически было невозможно помочь президенту, Кеннеди молча соглашался с утверждением. Что касается школы Джонсона, то все это казалось ему слабостью: но обычно Кеннеди был дальновиден. Он никогда не забывал, как мало конгресс был ему обязан, как мало было его большинство в 1960 году: свою задачу он видел в том, чтобы постепенно завоевывать уважение и лояльность, накапливая основной капитал, из которого он мог бы позже почерпнуть. О’Брайен все время «взращивал» конгресс; когда он не занимался активно переговорами, то перед каким-нибудь решающим голосованием приглашал законодателей на обед или в поездку на президентской яхте «Секвойя». Долгое время он был в прекрасных отношениях в конгрессе с каждым, кроме известного своей непреклонностью члена Палаты Представителей Отто Пэссмэна из Луизианы, чьей целью жизни было саботировать программу иностранной помощи. С Пэссмэном ничего нельзя было сделать, он был невыносим как для президента Эйзенхауэра, так и для президента Кеннеди: но большинство из его коллег-демократов, иногда даже республиканцы, находили, что время от времени было весьма приемлемо работать с Белым домом. Было приятно находиться на стороне победителя. О’Брайен оставил президента в резерве: он всегда хотел иметь честь и случай получить звонок от Кеннеди; но он видел, что члены конгресса, и особенно лидеры стали понимать президента лучше, одновременно осознавая, как сказал Сэм Рейберн, что он им очень нравится. О’Брайен стал мастером в продвижении президентской программы; как он любил заметить, у него был хороший 1961 год, и еще лучший — 1962-й. В 1961 году из пятидесяти четырех президентских биллей, посланных в конгресс, прошли тридцать три («больше, чем прошло в последние шесть лег администрации Эйзенхауэрам»[133]) с большинством голосов в 61 %. В 1962 году из следующих пятидесяти четырех прошли сорок с 74 %[134]. На каждого, кто привык к британской системе, где правительство может спокойно ожидать, что пройдет каждый поданный на рассмотрение билль, эти цифры могут оказать не столь большое впечатление, но в системе США, с ее разделением властей и гораздо меньшей партийной дисциплиной, эти цифры наглядно демонстрируют умение О’Брайена и лидеров-демократов в конгрессе (сенатора Майка Мэнсфилда, спикера Джона Мак-Кормака и других) и, кстати, законодательную активность Кеннеди.
И все же они были проданы не за свою первоначальную стоимость. Билли, которые президент, поставив подпись, превращал в законы, часто существенно отличались от того, что он сам подавал в Капитолий (как называют его вашингтонцы); вопреки утверждениям О’Брайена, не все билли, которые прошли, имели большое значение, а некоторые из очень важных либо не прошли (например, предложения по гражданским правам до 1963 года), либо не были представлены на рассмотрение. Кеннеди никогда не удавалось. командовать конгрессом — лишь немногим президентам выпадала такая удача. Его задачей было понемногу отвоевывать место у оппозиции, чтобы постепенно твердо обосноваться, в надежде, что триумфальные перевыборы в 1964 году сломят оставшееся сопротивление и сделают неизбежным полное осуществление программы Кеннеди. Тем временем автор «Портретов сильных духом» никогда не забывал своего правила о том, что «хороший или плохой билль лучше, чем его отсутствие, и только после компромиссов с обеих сторон любой билль имеет шанс получить одобрение Сената, Палаты Представителей, президента и народа»[135].
Предположения Лэрри О’Брайена по меньшей мере показывают точку зрения, широко распространившуюся после смерти Кеннеди, что администрация, которая не соглашается с конгрессом, неправа. Это был миф, связанный с другим, который представляет самого Кеннеди как довольно незаинтересованного во внутренней политике и не связанного со своей программой: миф, который усматривал что-то дурное в вере Кеннеди в компромисс. Это глубоко неверно. Как и всем детям Джо Кеннеди, Джеку нравилась борьба и победа, и если это была борьба за то, чтобы провести законы через конгресс, то он был тем человеком, кто не мог этого избежать и желал победить. Когда в 1981 году он услышал, что его предложению по минимальной зарплате в 1 доллар 25 центов не хватило в Палате Представителей одного голоса, это привело его в такое негодование, что он тут же написал открытое гневное письмо[136]. Но в этом проявилось гораздо большее. По натуре Кеннеди был очень замкнутым человеком: он всегда что-нибудь оставлял про себя, с кем бы ни общался (возможно, кроме Бобби и, позже, своей жены); его обаяние, юмор, ироничный подход к жизни охраняли его глубоко запрятанное «я», но его порывы были гуманны и щедры. Он очень любил жизнь, отчасти потому, что понимал, насколько защищен своим воспитанием, что позволило ему не знать нужды в деньгах: он застал Депрессию и «Новый курс», как Лэрри О’Брайен и Линдон Джонсон. Поэтому было неизбежным то, что большая часть его законодательных рекомендаций шла в конгресс без глубокой эмоциональной подпитки с его стороны: несомненно, он был убежден в их достоинствах и политической необходимости, но, вероятно, не только Хьюберт Хамфри не верил с той же страстью в каждый отдельный билль. Просто их было очень много. Но Кеннеди мог научиться быть более восприимчивым к чувствам на непосредственном опыте. Как мы видели в главе 2, он был потрясен бедностью, которую увидел в Западной Вирджинии: он решил, что должен что-то с этим сделать, и его первым распоряжением было ускорить распределение продуктов питания беднякам. Незадолго до смерти он готовил программу, которая позже, очень расширенная во времена Линдона Джонсона, стала войной с бедностью.
В образовании Кеннеди большую роль сыграла семья. Его старшая сестра Розмари была инвалидом: имея с детства умственную отсталость, она перенесла лоботомию, которую ей сделали, послушавшись лучшего (или, по крайней мере, самого дорогого) медицинского совета в 1941 году: операция привела к ухудшению. Ее отдали в дом для инвалидов, где она оставалась с тех пор, в то время как ее родители, братья и сестры пытались успокоить свою совесть и горе. Когда был убит Джо-младший, в его честь основали фонд, который с успехом возглавила Юнис Кеннеди Шривер: он ежегодно выделял 1,5 миллиона долларов на программы в помощь умственно отсталым. У миссис Шривер, возможно, самой способной из всех Кеннеди, нимало не вызвало сомнений то, что избрание Джека президентом — это посланный Богом подарок, чтобы помочь ей. Эта помощь включала в себя уход за душевнобольными, заботу о детях до рождения («У нас тратится больше денег на беременных коров, чем женщин», — любила она говорить)[137], но ее основной заботой была связанная с этим проблема умственно отсталых. Заинтересованный ее проблемами, Кеннеди учредил комитет, который оказывал помощь в уходе и предупреждении умственной отсталости, и делал рекомендации: и затем, когда в результате билли начали проходить через конгресс (которым положило начало специальное послание президента от 27 февраля 1962 года)[138], давая своего рода рекламу оказываемой им помощи в каждом возможном случае. Он давал согласие всегда, о чем бы миссис Шривер ни попросила его, и, так как конгресс считал, что ее влияние преодолеть невозможно, билли становилась законами.
Это произвело революцию в обустройстве умственно отсталых в Соединенных Штатах, но, как и при всех законах, последствия этого были разнообразны — хорошие, плохие, никакие и непредвиденные. Например, предыдущий билль в конгресс, который Кеннеди подписью превратил в закон, касался «конструирования оборудования для медицинской области, имеющей отношение к умственной отсталости, и построение общественных центров психического здоровья». Он не скупился на похвалы биллю: это было, как он сказал, самым значительным усилием в данной области, которое конгресс когда-либо предпринимал. «Я думаю, что в ближайшие годы те, кто занимался этим делом… осознает, что существовало не так много вещей, которые они сделали за время своего пребывания в должности и которые бы оказали столь большое влияние на счастье и благо многих людей». И, конечно, билль смонтировал исследования по умственной отсталости и недоношенности, предполагал обучение большего числа сиделок и открытие новых терапевтических центров. «Это должно быть достигнуто за одно-два десятилетия, чтобы снизить число пациентов в психических клиниках на 50 % или более». Все это действительно было приятно слышать[139].
К несчастью, как указывал сенатор Патрик Мойнигэн тридцать лет спустя (он был одним из авторов программы), дела никогда не идут так, как задумано. Были начаты исследования и расширена терапевтическая система, и хотя государственные психические клиники были пусты, так что в одном только Нью-Йорке число больных сократилось более чем на 90 % к 1995 году, общественные центры здоровья не были построены в достаточном количестве, пациенты просто перешли из государственных клиник в частные, что не означало никакого улучшения[140].
Это грустная история, которая иллюстрирует границы человеческого предвидения и либеральных реформ 60-х годов, а также мудрость христианского высказывания о том, что если вы положите руку на плуг, то вам нельзя оборачиваться назад. Но Кеннеди вряд ли можно обвинить в том, что он оставил Америку в момент беспомощности: он не мог поспеть всюду, чтобы противостоять этому. Худшее, что можно было сказать о нем и его сестре, — это то, что они имели хорошие намерения, что не всегда можно сказать о тех, кто находится в конгрессе сегодня. Его путь на этом посту был честным и характерным для него. Он любил детей: на замечательных фотографиях он снят с мальчиком-инвалидом около Белого дома во время Недели заботы об умственно отсталых. Здоровье детей было еще одним вопросом, который проходил красной нитью через весь его личный опыт: когда он спросил миссис Шривер, почему необходим новый институт детского здоровья («у него были трудности с бюджетом»), она ответила: «А как насчет твоего собственного сына? Возможно, благодаря тому, что мы узнаем больше о преждевременном рождении, ты не потеряешь одного из своих детей»[141]. И такой случай произошел: в августе 1963 года Жаклин Кеннеди преждевременно родила мальчика, спешно окрещенного Патриком Бувье Кеннеди, который умер в сорок часов из-за болезни стекловидной мембраны, к большому горю своих родителей. С тем же намерением Кеннеди подходил и к укреплению мира, так как он хотел, чтобы его Каролина и Джон-младший жили в безопасном мире.
Другие рассказы о его отношении к законодательству можно назвать историей аристократической щедрости — «ноблесс оближе». Но такие вопросы, как умственная отсталость, могли быть подняты человеком, который разделял общую судьбу человечества. Удар, случившийся в 1961 году с послом Кеннеди, уже сам по себе был несчастьем и обрекал семью на то, чтобы всю оставшуюся жизнь иметь дело с огромными счетами за лечение и уход. Семья Кеннеди могла не испытывать таких трудностей, но президент счел, что ноша будет непосильна для большинства семей, у которых нет миллионного состояния. Это укрепило его решение учредить систему федерально поддерживаемого медицинского страхования («Медикеэр»), которая в любом случае являлась частью программы демократов с 1945 года. Это не прошло через конгресс ни при его жизни, ни после выборов в 1964 году, но то, что президент отождествлялся с этим предложением (чрезвычайно популярным среди избирателей старшего поколения, но не в Американской медицинской ассоциации), проясняло и укрепляло позицию его и его партии в американской жизни, а также подготавливало путь великой победе Линдона Джонсона. Постоянное обращение к публичным выступлениям Кеннеди было продиктовано его огромной верой в возможность и желательность просвещения американских избирателей, он снова и снова подбирал новые аргументы, пока не убедил их. Умственной отсталости уделялось внимание; он постоянно формулировал 3–4 простые позиции: например, в то время как в Швеции 1 % населения можно отнести к умственно отсталым, то в США — 3 % — разница, которая убедительно доказывала возможность прогресса; и эта профилактика имела больший экономический смысл, чем настоящие условия, так как умственная отсталость обходилась стране в большую сумму, чем программа по ее снижению; и успехи в науке, на которое отчасти выделял средства Фонд Кеннеди, могли сильно повлиять на эту разницу. Снова и снова он рассказывал о посещении Белого дома двумя девочками, сестрами, одна из которых была пожизненно приговорена к болезни, а другая хотя и не была, но имела ту же предрасположенность, что и у сестры, и за два года, которые отделяли время рождения девочек, наука открыла основные изменения в диете, которые могли ее спасти. Таким путем Кеннеди надеялся показать людям возможность и, следовательно, желательность действия, и если не людям (этот случай не был очень популярен), то конгрессу. Это было типичным подходом Кеннеди[142].
Тем временем ежедневно следовало заниматься делами обеих палат. Палата Представителей была очень неподатлива, и смерть спикера Рейберна в 1961 году оказалась не столь страшна, как представлялось. Рейберна сменил его опытный заместитель Джон Маккормак из Массачусетса. Семьи Кеннеди и Мак-Кормаков были старыми кровными бостонскими соперниками[143], и в 1962 году сын спикера Эдди прошел предварительные демократические выборы в качестве кандидата, заняв место в Сенате, которое покинул Джек Кеннеди. Младший брат Кеннеди Тедди также был кандидатом и опережал Мак-Кормака до того, как внезапное перераспределение голосов принесло тому победу на всеобщих выборах. Это могло привести к ухудшению взаимоотношений между президентом и спикером (Джек сомневался, стоит ли Тедди выдвигать свою кандидатуру), но, как видим, не принесло вреда. Мак-Кормак и его команда (Карл Альберт из Оклахомы и Хейл Боггз из Луизианы) сотрудничали с О’Брайеном лояльно и эффективно с начала до конца. Все были согласны, что секрет прогресса был связан с демократами-южанами. Так как представительство в Палате было от количества человек, а не от штата[144], то демократы-северяне и из городов имели гораздо больший вес, чем в Сенате: они образовывали ядро поддержки президента, но ни в 1961, ни в 1963 году не смогли сформировать большинства в конгрессе, лояльность и дисциплина Республиканской партии (которая всегда была прочнее, чем у демократов) были гарантом того, что либерально настроенные республиканцы вряд ли могли помочь. Таким образом, О’Брайену пришлось поухаживать за самыми неподатливыми южанами: они могли не только обеспечить ему перевес, но также, благодаря системе старшинства, контролировали большинство важных комитетов. Комитет по урегулированию можно было приручить (хотя он все еще время от времени покусывал), но следовало наладить руководство бюджетной комиссией Палаты Представителей. Ее председатель, Вильбур Миллз из Арканзаса, был столь могуществен, что постоянным вопросом О’Брайена в отношении любого политического предложения (например, повысить расходы на медицину) всегда было: «Как это согласуется с мнением Вильбурга?» Он знал, где власть лжет, и не скрывал (по крайней мере впоследствии), что готов оставить либералов в беде, даже когда они могли работать на предложения президента, если это означало повышение для Миллза и таких людей, как он. Ему так сопутствовал успех, что в итоге он отошел, как считал, от коалиции с республиканцами-южанами: осенью 1963 года по меньшей мере половина демократов-южан регулярно голосовала за его партию[145]. Палата Представителей никогда не была либеральной во времена Кеннеди, но становилась управляемой. Сенат разительно отличался от этого. Он был меньше Палаты, сенаторы избирались на шестилетний срок (в противоположность двум годам у Палаты Представителей), и во время президентства Кеннеди у демократов было 65–67 мест против 35–33 у республиканцев. Все это облегчало сотрудничество. Но по отношению к количеству населения Юг и Запад (также консервативный регион) были представлены в более неравном соотношении: сенаторы из Нью-Йорка, самого населенного штата (16 782 000 человек, согласно переписи населения в 1960 году), имели те же два голоса, что и сенаторы из Северной Дакоты (618 000 человек). Это поддерживало консервативную коалицию, и в дальнейшем укрепило сенатский принцип открытых дебатов, что означало, что решительно настроенная группа сенаторов могла устроить обструкцию неприемлемому биллю, не пропустив его, пока две трети сенаторов не будут присутствовать и проголосуют за прекращение прений, подведя дебаты к окончанию. Но Кеннеди хорошо знал Сенат и имел советников, являвшихся гораздо большими экспертами, чем он (хотя Линдону Джонсону не приходилось давать советы особенно часто), и уже давно подобрал ключи, чтобы достичь успеха. Он поместил, насколько мог ненавязчиво, постоянную коалицию между республиканцами и демократами-южанами, и временную — между республиканцами и демократами-северянами.
В начале 60-х Республиканская партия, возможно, была разнородна, как это случилось после раскола в 1912 году. Наступление на права было консерватизмом, позже ассоциировавшимся с сенатором Бэрри Голдуо-тером из Аризоны; все еще оставался левым (до тех пор, пока губернатор Нельсон Рокфеллер не отобрал все его шансы на выдвижение кандидатом в президенты)[146] республиканизм Нью-Йорка, который был обязан своим успехом отношению к «Новому курсу» в обычном стиле «да, но…». Между ними располагался неоднородный республиканизм Среднего Запада, который представлял все — от интересов бизнеса в Чикаго до неконструктивного изоляционизма сельскохозяйственной Айовы. В Сенате большая часть этой пестрой армии шла за своим лидером — сенатором Эвереттом Дерксеном из Иллинойса. Дерксен мог регулярно обеспечивать двадцать голосов или около того, и они, если их добавить к голосам либеральных и умеренных сенаторов-демократов, образовывали в Сенате большинство. Кеннеди не хотел, чтобы эта коалиция проявлялась очень часто (обычно он полагался на О’ Брайена, который «ухаживал» за южанами, как это делал в Палате Представителей), но она могла ему понадобиться в больших делах. Таким образом, он сам принялся «ухаживать» за Дерксеном.
Он и Бобби также старались «поглаживать» Дж. Эдгара Гувера, влиятельного главу федерального бюро расследований (ФБР), но безуспешно. С Дерксеном договориться было легче. Он представлял штат с большими промышленными и городскими интересами, поэтому не мог себе позволить слишком далеко отойти от линии, которую хотел проводить Чикаго: этот город контролировал альянс между крупными бизнесменами и политической машиной демократов. Его экономические и социальные взгляды были консервативны, но небезосновательны, неразумны или непатриотичны. Человек большого личного обаяния, он прекрасно поладил с Джеком Кеннеди. Наконец, как лидер меньшинства, он знал, что только через сотрудничество с Белым домом он может надеяться достичь большого влияния (ему было недостаточно только препятствовать чему-нибудь). Несомненно, он предпочел бы, чтобы пост президента занимал республиканец, но так как это было не так, то и Кеннеди хорошо подходил. Он стал завсегдатаем Белого дома, и «обмен лошадьми» ни на минуту не затихал.
Кеннеди никогда не афишировал или объяснял свою связь с Дерксеном: это могло навлечь неприятности. Но все же проявления этого не могли остаться незамеченными. Например, на выборах в конгресс в 1962 году Кеннеди энергично содействовал предвыборной кампании кандидатов от его партии, при этом говоря везде, где ему приходилось бывать, что «Новому рубежу» нужно больше конгрессменов и сенаторов-демократов. Но он заметно уступал в выражении более чем формальной поддержки оппонента Дерксена в Иллинойсе на сенатских выборах (которые выиграл Дерксен). В том же году сотрудничество президента с Дерксеном едва не привело к провалу билля сенатора Кефаувера о лекарствах и вывело их из-под механизма контроля цен. Эти маневры непонятны для непосвященного ума; но было очевидно, что сотрудничество Дерксена с президентом выходит далеко за рамки успеха обычного демократа.
Расчеты с лихвой окупались. Был ли это договор о запрещении ядерных испытаний, подписанный в 1963 году (для принятия которого требовалась поддержка двух третей присутствующих сенаторов), или закон 1964 года о гражданских правах (который хотя и прошел после смерти Кеннеди, но благодаря именно им принятой стратегии), присутствие Дерксена отмечалось повсюду. Этот процесс требовал шагов навстречу с обеих сторон: законодательство, проведенное Кеннеди через конгресс, а затем и Джонсоном, редко оказывалось тем, что требовалось исполнительной власти, и иногда решительно изменялось, сильно отличаясь от того оригинала, который некогда был выработан Белым домом. Но альтернативой было полное отсутствие законодательства; как бы то ни было, странный либерализм отклонял право конгресса внести свой вклад в реформы и новые законы согласно их собственному пониманию и долгу. В итоге у конгресса появилась утвержденная обязанность выработки и введения в действие законов; он также стал организацией, начинающей большинство реформ, что окончательно нашло свое отражение в своде законов. Президент является скорее энергетизирующей силой, чем созидательной, и, кроме случаев появления весьма исключительных лидеров в конгрессе, таких, как Линдон Джонсон, между 1955 и 1960 годами (что вряд ли когда-либо происходило раньше), его основная работа заключалась в том, чтобы находить компромиссы, которые бы успешно довели билли до воплощения; если бы он хотел, то мог бы стать самым важным лидером в законодательстве, но он был не один и в конечном счете не мог выполнять работу за конгресс.
Необходимость по долгу и лично иметь дело с конгрессом (в котором всегда находились тщеславные и неподатливые люди) могла быть связана с собственными сложными обязанностями президента. Это определенно объясняло большинство явных провалов Кеннеди в конгрессе, его успех как законодателя легко объяснялся — если взглянуть широко — тем, что он сеял хлеб: он хотел того же, что и Америка, и ожидал соответственно (это относилось даже к такой его кампании, отдающей донкихотством, как забота о психическом здоровье)[147]. Америка хотела, разумеется, улучшения системы образования, как среднего так и высшего, профессионального и университетского. Кеннеди хотел это обеспечить и каждую сессию посылал в конгресс билли об образовании, но обнаружил, что ему очень мешает религиозное отождествление его с теми обещаниями, которые он давал как кандидат. В Хьюстоне он говорил министрам, что верит, что в Америке отделение церкви от государства будет полным и протестантская Америка его в этом поддержит. Как он заметил Соренсену, настоящей проверкой были не выборы, но деятельность в составе администрации: если своими действиями он доказал, что президент-католик не является орудием в руках католической церкви, то с религиозным вопросом покончено, а если является — то нет[148]. Он был прав, и история с реформами в образовании во время его президентства это продемонстрировала.
Кеннеди серьезно занимался образовательной программой, которую провозгласил во время предвыборной кампании 1960 года. Уровень рождаемости в стране рос с 1945 года — отчасти из-за этого и отчасти из-за того, что на систему школьного образования не выделялось новых средств во время Депрессии и второй мировой войны[149], не хватало учителей и школьных зданий для миллионов детей, которые в этом нуждались; а учителя, которые работали, низко оплачивались и были недостаточно квалифицированные, здания ветшали. Более того, из-за бума детской рождаемости «ожидался неизбежный наплыв студентов в высшие учебные заведения»[150], хотя гораздо меньшее их число могло платить за свое дальнейшее образование, а большинство колледжей и университетов было неспособно справиться с таким количеством. Кеннеди знал всю эту неутешительную статистику наизусть: «Только б из 10 пятиклассников окончат среднюю школу: только 9 из 16 выпускников школ поступят в колледжи; один миллион молодых американцев уже был вне школы и без работы; это приведет к повышению уровня безработицы и снижению доходов»[151]. Только крайние реакционеры считали, что федеральное правительство ничего не должно делать с кризисом, кроме как предоставить решение этого вопроса штатам: даже сенатор Тафт отказался от этой позиции задолго до своей смерти[152]. Президент Кеннеди никогда так не считал. Поэтому неудивительно, что, согласно Соренсену, треть всех основных программ Кеннеди содержала вопрос об образовании в качестве своего основного элемента. Неудивительно также, что одно из многих заметных предложений, сделанных в первый месяц его пребывания в должности, было биллем по привлечению ресурсов федерального правительства в помощь правительствам штатов, которые исчерпали свою налоговую базу в попытках выделить средства на образование.
Еще до своей инаугурации Кеннеди знал, что навлекает трудности: кардинал Спеллмен из Нью-Йорка, прелат, известный своей нелиберальностью, решительно нападал на отчет Кеннеди о силе задачи просвещения. (Эти «силы задачи», как кто-то сказал, могли быть также названы комитетами и были основаны при президенте, чтобы помочь ему в подготовке работы по управлению — их насчитывалось около дюжины). Трудность заключалась в том, что в то время как половина из 10 миллионов детей-католиков в Соединенных Штатах ходила в общегосударственные школы и получала знания, завися от выделяемых на эти школы денег, другая половина посещала школы, принадлежащие католической церкви, которые, согласно интерпретации конституции Верховным Судом, не могли быть субсидированы средствами, выделяемыми из налогов, так как это нарушило бы Первую поправку[153]. Как человек практики, Кеннеди не был благоговейно запуган конституционным фетишем: он знал, что это можно повернуть и иначе; но он знал также и то, что он, первый президент-католик, за которым ревниво наблюдали, не был тем человеком, который мог бы это изменить: «Эйзенхауэр мог бы справиться со всей этой проблемой, но не я»[154]. Так что его билль о помощи школам исключал приходские школы, в результате чего гнев его церкви пал на его же голову. Точка зрения католической церкви стала известна как Сенату, так и Палате Представителей. «Если не нам, то и никому» — говорилось в послании, имея в виду денежные средства.
У Кеннеди никогда не было столько трудностей с Сенатом, как по этому вопросу. Мнения были разнообразны по большинству пунктов, и ни одна группа не могла сказать президенту, что делать: давление с обеих сторон уравновешивало друг друга. Сенаторский инстинкт подсказывал ему, что следует искать среднюю позицию. Таким образом, по вопросу об образовании Кеннеди всегда имел в Сенате большинство. Гораздо сложнее обстояли дела в Палате Представителей. Там не только был выше процент демократов-католиков, но, кроме того, они были выходцами из областей, где католики имели подавляющее преимущество. Даже если это могло не иметь значения, республиканцы были рады использовать раскол в стане демократов: они твердо проголосовали против билля Кеннеди. Все, что более или менее всплывало на поверхность, становилось предметом обсуждения. Консервативные демократы-южане противостояли федеральному вмешательству в образование, так как считали (весьма справедливо), что это приведет к выступлению против сегрегации школ на юге. Давление на администрацию значительно ослаблялось необходимостью президента держаться в стороне. К чему все это привело, показало то, как вновь учрежденный Комитет по урегулированию голосовал о том, следует или нет направлять билль на обсуждение в Палату Представителей. Администрация не могла умиротворить католиков без того, чтобы не разгневать протестантов, и наоборот. Поэтому представитель Палаты Джеймс Делэни из г. Нью-Йорка, демократ-католик, проголосовал за «судью» Смита, и республиканцы не пропустили билль вопреки ходатайствам Лэрри О’Брайена («Он не желал сделать ни малейшего шага, — говорил О’Брайен впоследствии, — но я хотел, чтобы он это сделал»)[155]. О билле не вспоминали весь 1961 год. Кеннеди переподписал его, и даже в более строгой форме, в 1962 году, но потерпел еще более сокрушительное поражение, чем раньше: в частности, Ассоциация национального образования — лобби школьных учителей — выдвинула мощные возражения против предложения о помощи высшему образованию, очевидно, на той основе, что деньги общества не должны идти в частные институты, такие, как Гарвард и Нотр-Дейм[156]. Президент был этим разгневан, министр образования Абрахам Рибикофф и представитель комиссии по образованию ушли в отставку, завершив этим поражение не очень эффективного лидерства администрации.
До отставки, будучи в Сенате, Рибикофф жаловался, что «система образования для этой нации еще не так совершенна»[157]. Кеннеди отказывался так считать, и в 1963 году послал другой билль об образовании. Он пошел еще на две уступки оппозиции: он отказался от текущих планов помочь школам и обеспечить стипендии нуждающимся студентам колледжей. Его билль 1963 года касался исключительно средств высшего образования. И он прошел. Обе стороны скорее испытывали стыд за себя, а кризис в образовании был глубок, как никогда. Католики отозвали свою оппозицию, так как их колледж и университеты могли получать средства от фондов, не входя в противоречие с биллем: и Уэйн Морс, проводя закон через Сенат, ловко отвел угрозу обструкции со стороны южан. Билль был подписан в закон до Рождества; как заметил президент Джонсон, заслуга в этом принадлежит прежде всего президенту Кеннеди. Но Кеннеди погиб, и выборы в 1964 году, когда демократы завоевали 37 мест в Палате Представителей, вызвали ряд мер помощи школам Америки, которые он хотел воплотить в жизнь. Взаимоотношения с конгрессом, хотя и являются главными при оценке лидерства президента внутри страны, ни в коей мере не являются единственными. Ни на минуту ни одни президент не может забыть, что за очертаниями Вашингтона существует такая непредсказуемая реальность, как американский народ; гораздо ближе находятся магнаты общества. Ни один президент не может надеяться доставлять удовольствие всегда и всем, удовлетворять любой интерес моментально; конечно, некоторые президенты успешно построили карьеру, выбирая «нужных» врагов и борясь с ними: но хорошо работающее правительство Соединенных Штатов требует, чтобы современный президент выработал некоторую стабильность в своих отношениях с церквами, корпорациями и внушительными государственными объединениями (если остановиться на каких-либо трех примерах). Конечно, чтобы понять Кеннеди, надо просмотреть его записи по всем этим вопросам, а также проследить, как он пришел к победе и удержал доверие своих избирателей.
Возможно, самым сложным партнером в медленном танце демократии были интересы бизнеса. Отчасти этому способствовала традиция Демократической партии. Лидеры американского бизнеса всегда хотели взять на себя вину за крах 1929 года и последовавшую затем Депрессию, и во времена Рузвельта и Трумэна богатство демократов стало предметом регулярных публичных разоблачений как «преступников с большими доходами», чья жадность и незаконные действия привели американский народ к бедности. В 50-х годах это уже не имело смысла. К добру или нет, но то, что Рузвельт назвал «американской системой дохода», выжило (отчасти благодаря его собственной политике), корпорации вновь обрели уверенность в себе и большую часть своего влияния, и теперь задачей правительства США было убедиться, что система работает с наиболее возможной выгодой. Эдлей Стивенсон был первым национальным демократическим лидером, попытавшимся пойти на сближение с большим бизнесом, и неудивительно, что Кеннеди, который своим высоким положением был обязан отцу-бизнесмену, был готов двинуть это большое дело дальше. Одним из его первых действий в качестве президента было предложение направить значительные «инвестиционные кредиты» туда, где модернизировались заводы или строились новые предприятия. Эти суммы могли не облагаться налогом. Этот проект был одним из президентских планов, чтобы сделать экономику США полностью конкурентоспособной на мировом рынке, и он ожидал, что люди бизнеса останутся довольны. Ни один президент-республиканец не осмелился бы столь открыто благоволить к интересам бизнеса.
Ответом в лучшем случае было недовольство. Кеннеди не следовало ожидать чего-то иного. Американские финансисты, промышленники и торговцы, вопреки своим претензиям, оказались удивительно глухи к политике. По большей части очень консервативные, они судили обо всем сквозь призму идеологии (которая оборачивалась любой несусветностью, о чем на неделе разглагольствовал «Уолл-Стрит Джорнэл»), и плохо понимали мотивы и действия других людей. Непоколебимо убежденные в своей правоте и способности, они не умели осознать свои время от времени проявляющиеся жадность и коррумпированность, как и у других смертных. Прекрасно разбираясь в своих делах, они не могли вот так просто понять, что существует и другой мир: они ошибались лишь отчасти. Они издавна питали предубеждение к искренним принципам. В 1961 году это означало, что к Кеннеди они отнеслись подозрительно, и их реакцией на инвестицию кредитов были два крайних вопроса: почему он не сделал для них больше и почему он вообще что-то для них сделал. Они были психологически неспособны поверить, что демократы могут дать им что-то хорошее, а республиканцы — сделать что-то плохое, хотя частичное предупреждение президента Эйзенхауэра против создания военно-промышленного комплекса было самым памятным из всего им сказанного, а Кеннеди, стараясь уменьшить налоги в бизнесе, открыто продолжил направление политики Эйзенхауэра.
Не каждый бизнесмен был столь туп, и, кроме того, мир бизнеса был очень разделен: интересы большого бизнеса и малого, например, не были одинаковы, и отдельные люди и компании быстро осознали политику администрации. Но если бы Кеннеди установил удовлетворяющее обе стороны партнерство с бизнесом (он хотел бы, чтобы в этом появилась и третья сторона — организованный труд), ему бы пришлось непрерывно с этим работать, причем с гораздо большей, чем обычно, энергией и самоотдачей.
Кризис определился весной 1962 года в сталелитейной промышленности США. На экономическую политику Кеннеди оказывали влияние разные факторы. Самым важным был баланс между оплатой и расходом золота. Благодаря системе Бреттона Вудса доллар приближался к золотому номиналу и был главной стабилизирующей силой в мировой торговле: не причинило вреда то, что в 1945 году Соединенные Штаты находились в позиции подавляющего экономического превосходства; но с оживлением других торговых стран увеличением потока золота на оплату усилий Америки в «холодной войне» эта позиция опасно ослабла. Кеннеди не собирался урезывать средства на национальную безопасность, в которую он включал свои программы иностранной помощи (такие, как «Альянс за прогресс); альтернативой была стабилизация внутренней экономики через удержание низких цен, что восстанавливало международную конкурентоспособность Соединенных Штатов: не было вреда в том, что эта политика была также антиинфляционной. Одним из последствий этого было то, что он и его советники уделяли пристальное внимание сталелитейной промышленности, так как в то время повышение цен на сталь быстро повлекло за собой рост цен на все остальное.
Трехлетние соглашения по заработной плате в индустрии появились вследствие подъема цен в 1962 году, и Кеннеди использовал все свое влияние и связи с профсоюзами, чтобы снизить требования по зарплате до минимума. В свою очередь, благодаря такому ограничению, он ожидал, что крупные сталелитейные компании поглотят небольшие добавки в деке, появившиеся в результате их роста, и откажутся поднимать цену на свой продукт. Общим аргументом было то, что это могло помочь стабилизации экономики, но непосредственный довод утверждал, что удержание низких цеп побудит к экономической активности: будет продано больше стали, а компании получат большую прибыль. Это было прежде всего политикой администрации, которая ее демонстрировала в течение месяцев. Именно в свете этого следует рассматривать то, что Союз сталелитейщиков принял ограничение по зарплате, а Кеннеди считал, что он заключил джентльменское соглашение с компаниями, чтобы продолжать придерживаться своей политики.
И он был разгневан, когда президент сталелитейной промышленности Роджер Блау, посетив Белый дом 10 апреля 1962 года, четыре дня спустя после урегулирования вопроса о зарплате сказал, что он поднимет цену на сталь своей компании на шесть долларов за тонну. Блау не было необходимости говорить, что так как «Биг Стил» являлась главной силой в промышленности, то остальные сталелитейные компании немедленно последуют ее примеру. Кеннеди зримо не показал всей силы своего гнева по отношению к Блау, сказав ему только, что он совершает ошибку, но Артур Голбдерг, министр труда, чья умелая дипломатия внушила веру в то, что договор по зарплате будет сохранен, открыто сказал, что это была уловка[158]. Он и президент лицом к лицу столкнулись с надвигающимся провалом стабилизации экономики, вновь возникшей угрозой балансу оплаты и, что хуже всего, подрывом авторитета президента: если позволить неповиновение сталелитейной промышленности США, то ни один союз или корпорация больше никогда снова не воспримут Кеннеди всерьез.
Едва Блау покинул Овальный кабинет, Кеннеди мобилизовал всю силу своего президентского влияния, чтобы заставить его пойти на уступки. Возможно, именно тогда он высказал мысль, ставшую известной: «Мой отец всегда мне говорил, что сталелитейщики — сукины дети, но я не верил ему до сегодняшнего дня»[159].
Множество книг (например тех, чей автор — Ричард Нойштадг) и статей написаны, чтобы продемонстрировать ограниченность власти президента США. Кризис в сталелитейной промышленности показывает, что ограничения происходят скорее из политической необходимости президента, чем из промышленной настоятельности. Кеннеди решил дать Блау бой, он счел, что цена ничегонеделания перевешивает любой ущерб от борьбы, поэтому он обрушил всю мощь своего президентского авторитета на оппонента. Его главным оружием было право закупок федерального правительства: он приказал департаменту обороны и другим федеральным организациям иметь дело только с теми сталелитейными компаниями, которые не последуют за Блау. Кеннеди также побудил сенатский антитрестовский подкомитет (возглавляемый Истесом Кефаувером) предпринимать расследования возможных нарушений закона; министр юстиции предоставил ФБР свободу проведения своих собственных расследований; с помощью прессы и телевидения американскому народу рассказывали, сколь низко поведение «Биг Стил»; и в два дня Блау отменил вызывающий возражение подъем цен. Все, что Кеннеди следовало сделать, — это заплатить цену за победу.
На первый взгляд, это было внушительной демонстрацией силы президента, хотя на самом деле она не во всем была такова, какой казалась. Кеннеди мог однажды им воспользоваться. Были убедительные экономические доводы думать так, что подъем цен Блау действительно являлся ошибкой: казалось, он действовал так, чтобы удовлетворить своих акционеров, и последующая история сталелитейной промышленности США дала нам мало поводов уважать способность лидеров корпорации к бизнесу. Во всяком случае, администрации не составило труда найти сталелитейные компании, которые не последовали примеру Блау: так, «Инлэнд», «Кайзер» и «Армко» — все они воздержались[160]. Но вряд ли бизнесменов можно обвинять в том, что они усмотрели в поведении Кеннеди только возрождение угрозы Демократической партии, как это случилось, когда Рузвельт поднял налоги и Трумэн конфисковал сталеплавильные заводы. Отношения между администрацией и корпорацией вдруг резко ухудшились.
Кеннеди хотел совсем не этого, и в дальнейшем посвятил много времени, чтобы восстановить отношения. Сенатор Кефаувер был в беде, и использовалась любая возможность, чтобы подчеркнуть, что администрация «не против бизнеса». Упадок на фондовом рынке, который произошел месяц спустя после кризиса в сталелитейной промышленности, не облегчил задачу — было соблазнительно обвинить в этом президента: но к осени Кеннеди удалось вернуть себе большую часть утраченного было доверия. Продемонстрировав свою власть и определенность в формировании экономической политики, он почувствовал, что вновь волен показывать свою решимость работать в партнерстве с бизнесменами. 7 июня 1962 года он объявил о своих планах по существенному снижению налогов[161].Он правильно рассчитал, что почти каждый с одобрением встретит его предложение. Это должно было уничтожить неприятный осадок, который остался после сталелитейного кризиса и обвала на рынке. Затем он изложил свою зрелую концепцию управления экономикой в одной из своих наиболее заметных речей — обращении по случаю получения почетной степени Йельского университета 11 июня. Он начал с приятной шутки («Теперь я могу сказать, что преуспел в обеих областях — получил как образование в Гарварде, так и степень в Йеле»)[162], но эта речь стала известна своей твердой убежденностью в том, что старым мифам и предрассудкам больше не следует позволять переключать внимание с технической на идеологическую природу большинства экономических проблем, с которыми сталкивается современное правительство: «Неблагоприятная сторона дела заключается в том, что наша риторика отстает от социальных и экономических изменений. Наши политические дебаты, наши публичные выступления по текущим внутренним и экономическим вопросам очень часто или вообще не связаны с актуальными проблемами, с которыми столкнулись Соединенные Штаты»[163]. Миф о том, что он хотел нарушить систему, был верой в то, что федеральный бюджет всегда должен быть по возможности сбалансирован: чтобы снизить налоги, что он предлагал сделать, пришлось бы ввергнуть бюджет в дефицит, и многие из его советников считали, что было бы неплохо, если бы дефицит был неизменен.
Во многих отношениях задача, стоящая перед ним, была проще, чем он полагал. Федеральный бюджет испытывал дефицит почти все время с 1929 года, и хотя конгресс, младшие члены торговой Палаты и «Уолл-Стрит Джорнэл» все еще обращались к устаревшим аргументам («Джорнэл» напечатал сильную статью на эту тему в тот же день, когда Кеннеди посетил Йель), никто уже не верил в это всерьез. Как заметил историк-экономист Герберт Штейн, дефициты в результате Депрессии и второй мировой войны не причинили никакого вреда: «Молния никого не задела. Страна «не обанкротилась», что бы там ни говорили»[164]. И всем нравилась идея снижения налогов. Но так как ни Кеннеди, ни кто-либо другой не знал, как слаба стала идеология сбалансированного бюджета, это придало ему смелости привести бюджет к дефициту, что обычно требовало умения и терпения, чтобы провести предложение через конгресс. Это был характерный для Кеннеди успех (хотя, как и во многих случаях, именно Линдон Джонсон в итоге сохранил систему в феврале 1964 год); но, оглянувшись назад спустя тридцать лет, мы видим, что получен не совсем тот результат, который намечался. Он сам немного стал мифом.
Никто не сомневается, что снижение налогов было необходимо. Налоги во время второй мировой и Корейской войн все еще приносят свою пользу, так как они не использовались нигде, кроме как при формировании бюджетных издержек и оплаты национального долга, который мог еще подождать, так как в своей речи в Йельском университете Кеннеди отметил, что они выросли всего на 8 % с 1945 года, в то время как долг частного сектора — на 305 %, а государственный долг и долг правительств штатов — на 378 %.
Верно, доходы могут и, вероятно, должны использоваться для оплаты различных видов государственных работ, как утверждал Дж. К. Гелбрэйт: его «Общество изобилия», развивающее тему частного благосостояния и общественной нищеты, было одной из самых важных работ по политической экономии, опубликованных с 1945 года. Кеннеди и многие из его советников были склонны к тому, чтобы согласиться с ним; он, и они, и все демократы были наследниками традиции Рузвельта. К несчастью, в этом было две трудности. Первая, с которой столкнулся Рузвельт в самом начале при проведении «Нового курса» — то, что не было наработано достаточное количество практических схем для государственного инвестирования и на их развитие ушли годы. Более того, стал поперек дороги конгресс, как продемонстрировали события в области образования, и, уже с более либеральным конгрессом 1965–1967 годов, неудавшаяся попытка Линдона Джонсона убедить обе Палаты дать адекватный ход его программам. Таким образом, совету, который в 1961–1962 годах дал Гелбрэйт, не последовали, и он уехал в Индию в качестве посла. Он продолжал бомбардировать Вашингтон, особенно президента, умными и тонкими аргументами, но по экономическим вопросам Кеннеди скорее прислушивался к министру финансов Дугласу Диллону — республиканцу, который тем не менее стал частью узкого президентского круга, и «новому экономисту» Уолтеру Геллеру, председателю Совета по экономическим вопросам.
Геллер и его команда считали, что их задачей было обучить Кеннеди кейнсианской экономике, и они рассматривали силу экономики США между 1961-м и 1965 годами как доказательство их мудрости и успеха. Их профессиональная компетентность была вне сомнений, но как много их финансовых манипуляций с процветанием во времена Кеннеди было необязательным. Они считали, что их действия вызвали финансовую революцию (увеличение дефицита; «компенсирующая финансовая политика»[165]; несбалансированность бюджета); но, как указал Герберт Штайн, их теории в действительности никогда не были доказаны, ив 70-х годах соперничающие теории монетаризма овладели умами, со столь же сомнительными утверждениями, а в 90-е годы снова вернулся атавистический культ сбалансированного бюджета. В реальном мире работы, торговли и политики процветание Кеннеди вполне могло получить стимул в результате сокращения налогов на 10 миллиардов долларов, которое бы вернуло деньги людям, чтобы они их тратили, как надеялся Геллер, либо инвестировали как хотел Диллон. Кеннеди использовал оба аргумента. Незаметная стагнация последних лет периода Эйзенхауэра стала воспоминанием. Но о ней могли вспомнить благодаря огромной жизнеспособности необъятной американской экономики и политики правительства США, и если бы бизнес и доверие других стран были восстановлены, то только потому, что мир бы увидел, что экономическая политика находится в осторожных и умелых руках Диллона — что было причиной его назначения Кеннеди. Не принесло вреда и то, что командные высоты в конгрессе все еще были заняты ригидными в отношении финансов консерваторами.
Несомненно, Кеннеди был доволен, что ему досталась по наследству экономика, которая находилась в хорошем состоянии и, возможно, также потому, что его политика продвигалась успешно или, по меньшей мере, не ослабляла этого условия. Конечно, его нельзя назвать счастливым в полном смысле слова, так как он недолго был у власти, в то время как противоречия его политики — например, между его желанием остановить вывоз золота и дорогостоящим решением «платить любую цену, нести любое бремя… чтобы обеспечить выживание и успех свободы»[166] — почти не давали о себе знать, но нельзя обойти и тот факт, что ему не пришлось столкнуться с проблемами, как Джонсону и Никсону после него. Но в короткий срок он выработал превосходную экономическую политику, которая легла на его плечи, как он заметил в своей речи в Йельском университете. Прекратилось выкачивание золота, само по себе установилось равновесие в торговле, безработица снизилась, количество продукции — возросло, инфляция была минимальной. Никто из его преемников до сих пор (1996 год) не сделал это столь похвально. Можно ли его считать преуспевшим на длительное время, как он надеялся, — это другой вопрос. Миф о сбалансированном бюджете был надломлен, но не убит. В 1994 году Герберт Штайн чувствовал всю настоятельность опубликования статьи, вновь подтверждающей, что в сбалансированном бюджете не было необходимости — но это не возымело действия. Республиканцы провалили выборы в конгресс в 1994 году, в то же время поддержав пункт конституции, который делал сбалансирование бюджета подведомственным конгрессу и президенту. Более удивительно, что такое развитие событий не побудило Рональда Рейгана во время его пребывания в Белом доме уменьшить налоги, федеральные займы и щедрое выделение средств, что свело на нет значение всего, о чем мечтал Кеннеди (либо счел разумным). В результате интересы национального долга стали второй большой статьей расходов от федеральных доходов и оставили ближайшее будущее страны в руках тех, кто являлся должником, большей частью иностранцев (например японцев). Соединенные Штаты все еще не «стали банкротами», но дефицит во времена Рейгана подорвал доверие к бизнесу и веру в доллар, и обязательства по долгам сильно ограничили свободу действия правительства, как полагал президент Буш, убеждая власти других стран платить за участие США в кампании второй войны в заливе. Президенту Клинтону пришлось уменьшение дефицита выдвинуть в число своих первоочередных приоритетов, что серьезно повредило его отношениям с Демократической партией. В целом нельзя сказать, что провозглашенная в йельской речи эра была отмечена большой финансовой мудростью: налогоплательщики и политики имеют одинаковую тенденцию присваивать лишние деньги, предоставив процветанию устраиваться самому по себе. Только председатель федеральных ресурсов стоял между американцами и последствиями их безрассудного поведения.
Кеннеди бы ужаснулся такому повороту событий. В глубине души он был консервативным финансистом: он хотел получать пользу от денег, и в своей частной жизни был скуповат, что вело к забавным столкновениям с его женой, которая таковой не была[167]. Ему было нетрудно работать с Вильбуром Миллзом, весьма могущественным и традиционно консервативным председателем бюджетной комиссии Палаты Представителей. Так, Миллз был убежден в необходимости объявленного снижения налогов, но настаивал на проведении налоговых реформ: должны быть приняты меры по закрытию разнообразных лазеек в системе и тем самым получен доход в три миллиарда долларов. Миллз надеялся таким образом компенсировать некоторые финансовые последствия снижения налогов. Кеннеди в конце концов принял предложение Миллза, и Белый дом в сентябре 1963 года представил весь пакет документов; но по мере того, как события разворачивались, Сенат становился менее податлив. Гарри Бирд, оппонент Миллза — он был председателем финансового комитета — отказался принять налоговые реформы и был готов далее придерживаться своей позиции, так как билль по гражданским правам тоже проходил со скрипом и Кеннеди не хотел, чтобы в парламенте разгорелось сразу две крупных битвы. Тем не менее, он передал это не Байрду после своей смерти, а оставил в январе 1964 года Линдону Джонсону. Тот, в свою очередь, снизил налоги. Он подписал соответствующий закон в феврале.
Стоит заметить, что если бы Кеннеди остался жив и пошел на те же уступки (с чем ему, вероятно, пришлось бы столкнуться), его критики сказали бы, что это показывает, как он был слаб в качестве лидера конгресса, в то время как репутация Линдона Б. Джонсона была такова, что никто не помышлял о том, чтобы ее расстроить. Через три года Джонсон вновь поднял налоги, чтобы оплатить последствия войны во Вьетнаме. Это могло бы придать основательности утверждению о том, что, останься Кеннеди жив, войны удалось бы избежать и его налоговая политика успешно бы продолжилась.
Осторожный, но не испугавшийся разумного нововведения, этот банальный стиль объясняет, почему Уолтер Липман сказал, что администрация Кеннеди была повторением администрации Эйзенхауэра, но на тридцать лет моложе[168]. Липман считал это оскорблением; сегодня это выглядит скорее как комплимент, Но едва ли это было так, как видело — или хотело видеть — большинство людей, которые обращали взгляд на Белый дом Кеннеди. Молодые, обаятельные и богатые, Джек и Джекки участвовали в ослепительном шоу: они сделали Вашингтон хотя бы на некоторое время в истории модным и веселым; бюджетная политика меньше характеризует стиль Кеннеди, чем призыв президента к молодым романтикам с их «корпусом мира» и проектом запуска человека на Луну.
Все эти поступки, казалось, не вписывались в курс «Нового рубежа» и дали повод для благородного восхищения администрацией Кеннеди, которое не угасло до сих пор. Определенно у Кеннеди была способность к этому виду лидерства, но испытание Корпуса мира и программы «Аполлон» придало ему несколько знакомых и характерных черт. «Пятидесятые годы сделали нас похожими на древних моряков — спокойных, ожидающих, со слегка пересохшим горлом. Затем нас подхватил ветер перемен, принесенный Кеннеди, — «Новый рубеж», новые лица в правительстве, энергичные, вселяющие надежду речи. Корпус мира»[169]. Рождение Корпуса мира было типичным примером того, чего может достичь энергичное политическое руководство. Идея послать молодых американцев за рубеж поработать в программах помощи бедным странам держится уже несколько лет. В 30-х годах зять Кеннеди Сэрджент Шривер (муж Юнис) был вовлечен в деятельность так называемого «эксперимента по между народной деятельности», и два самых успешных агентства «Нового курса» были соединены, получив название «Молодежь» (слово, характеризующее это время); Гражданский переговорный корпус и Национальная молодежная администрация дали старт в жизни и политике Линдону Джонсону. В 50-е годы конгресс обыгрывал эту идею, и Хьюберт Хамфри принял ее на вооружение; в июле 1960 года он представил билль, где впервые прозвучало словосочетание «корпус мира» (мир как слово, также характеризующее время). Этот билль являлся частью стремления Хамфри приложить руку к созданию программы Демократической партии. Корпус мира познакомил бы Америку с миром, а мир — с Америкой. Это даже могло принести практическую пользу: большинство программ помощи в 50-х годах основывалось на инвестициях капитала, но не вкладе в самих людей. Кеннеди симпатизировал предложению, которое прекрасно сочеталось с его желанием увеличить влияние Америки в странах «третьего мира». Как только началась его предвыборная кампания и его обращение к молодым избирателям, особенно студентам колледжей, приобрело ясность, желательность направления всего энтузиазма на конкретные цели стала более очевидной. Поворотным пунктом стала территория Мичиганского университета в Энн-Арборе 14 октября 1960 года, когда десять тысяч студентов прождали до двух часов ночи, чтобы услышать своего кандидата. Кеннеди, который только что приехал со своих третьих дебатов с Никсоном, был уставшим, но такой прием его воодушевил, равно как и поразил. Без подготовки он спросил своих молодых почитателей, хотят ли они записаться в Корпус мира (хотя он не использовал эту фразу). «Я спрашиваю не о вашем желании прослужить один или два года, а о желании отдать часть вашей жизни этой стране. Я думаю, это будет ответом на вопрос, являемся ли мы свободным обществом, способным состязаться»[170]. Это было одной из вариаций его любимой темы, необходимости самопожертвования, чтобы выиграть «холодную войну», но его слушатели воспринимали это как призыв к смелому предприятию. Они были полны патриотической и личной уверенности в себе: ничто в их опыте не научило их сомневаться в себе или своей стране. В трех войнах Соединенные Штаты отстояли свое право быть лидером свободы и прогресса как в долгом противостоянии коммунизму, так и в фантастическом изобилии, которого они достигли. Они были первым поколением «бума рождаемости», достигшим взрослости, и искали то, что дало бы им осуществиться, а не просто респектабельности, которую дали им времена Эйзенхауэра. Также, пусть не совсем осознанно, они хотели прихода лидера: и он неожиданно появился. Как и всегда, Кеннеди пришелся ко времени: год или два спустя идеалисты, стремившиеся поначалу в Корпус мира, влились в движение за гражданские права. Как бы то ни было, он и его слушатели были друг другом удовлетворены. Кеннеди говорил Дэйву Пауэрсу, что он обратился к «нужным» избирателям[171], и в одной из своих последних речей во время предвыборной кампании 2 ноября в Сан-Франциско он открыто пообещал основать «Корпус мира, состоящий из талантливых молодых юношей и девушек», а также квалифицированных преподавателей, врачей, инженеров и медсестер, которые поедут за рубеж на три года с миссией свободы, присоединяясь к войне против бедности, болезней и неграмотности[172]. Это не преследовало цели привлечь на свою сторону избирателей Калифорнии, но выглядело как стремление Кеннеди объединиться с молодежью: как только он пришел к власти, то вскоре приступил к выполнению своего обещания.
Он поручил это дело Сэрдженту Шриверу, который великолепно с ним справился как директор по ресурсам, разыскивая талантливых людей, чтобы ввести их в новую администрацию, и, подгоняемый нетерпеливым президентом, подготовил план к концу февраля. Спешить было необходимо не только чтобы подтвердить, что администрация полна энергии и готова на нововведения, но и потому, что без этого Корпус мира не мог бы привлечь выпускников, оканчивающих колледжи в 1961 году: поэтому Шривер рекомендовал президенту не ждать действий конгресса, а издать постановление, хотя директору было необходимо согласие Сената. Кеннеди принял эти предложения, 1 марта вышло постановление о создании временного корпуса, и Кеннеди одновременно запросил конгресс о разрешении сформировать постоянную организацию. Он также убедил Шривера принять назначение на пост первого постоянного директора Корпуса. Это, как и многое другое, обеспечило успех программы, хотя Шривер утверждал, что он стал выполнять эту работу, потому что «никто не был уверен в успехе, и было проще уговорить согласиться родственника, чем друга»[173]. Шривер, возможно, был самым большим идеалистом из клана Кеннеди; они называли его «коммунистом в нашей семье». Он был целиком привержен францисканскому духу Корпуса мира».
Никто из добровольцев не имел особых привилегий во время службы: они жили так же, как и те люди, которым они помогали: их не использовало ЦРУ и им не разрешалось иметь оружия. Даже администраторы жили не лучше: постоянные напоминания госдепартамента о том, что им нужны водители машин, приводили директора в бешенство[174]. В то же время у Шривера была способность к ведению дел по многим вопросам. Так, он успешно лоббировал конгресс по вопросам Корпуса мира, и 22 сентября 1961 года получил законное основание; и сразу стал почти столь же любимым в конгрессе, как и президент — даже Бэрри Голдуотер изменил свое мнение[175]; с помощью Линдона Джонсона он успешно преодолел бюрократическое поползновение отдать Корпус в подчинение агентству помощи зарубежным странам; и по совету Кеннеди он объехал весь мир, чтобы убедить людей в иностранных правительствах принять его добровольцем, что он опять-таки сделал с заметным успехом. Менее года прошло от Энн-Арбора до постановления о Корпусе мира; Кеннеди и Шривер могли себя поздравить с тем, что их предприятие стало прекрасным примером того, как «Новый рубеж» заставляет жизнь идти вперед. Недовольные могли бы сказать, если бы им довелось, что это единственное, что удалось сделать.
Итак, Корпус мира ожидал успех. Если для своего основателя это символизировало «идеалистическое ощущение цели, которое, я думаю, нас мотивировало»[176], сегодня это выглядит как полезный образовательный эксперимент, который приносит пользу как Америке, так и другим странам, но Америке, вероятно, все же больше. Его расцвет прошел, но он был. «Я бы никогда не сделал ничего политического, патриотического или неэгоистичного, — сказал один доброволец, — если бы никто меня об этом не попросил. Но попросил Кеннеди»[177]. То, чего Кеннеди и Корпус хотели для Америки, возможно, иллюстрируется тем, что случилось после его убийства: на следующий день Корпус мира был завален заявлениями о поступлении к ним на службу, и на следующей неделе «был достигнут пик рекорда — 2500»[178]. Все понимали, что они отвечали на призыв своего лидера сделать то, что они могли, для своей страны.
Но все же Корпус мира был редким явлением, украшением, цветком в петлице, чистым носовым платком в кармане. Это было напоминанием о лучшем мире, чем тот, где президент все время проводил свои дни. Кеннеди сам не имел иллюзий относительно важности Корпуса, его собственный идеализм сочетался со скептицизмом и реализмом южного Бостона более, чем у Шривера. Он любил и уважал своего зятя, но подчас был с ним нетерпелив. Он знал, что о нем не могут и не будут судить в итоге только по тому факту, что он основал Корпус мира, как в равной мере и по его планам приземления на Луне.
Наряду с Корпусом мира, очень романтичный проект высадки на Луну также имел длинную предысторию до его воплощения Кеннеди. Запуск в 1957 году «Спутника», первого космического аппарата, возбудил и обеспокоил американское общественное мнение, но Эйзенхауэра в равной степени не обеспокоили как достижения, так и военная угроза, что, можно сказать, было довольно характерно. Другая реакция была у Линдона Джонсона: Джеймс Н. Джильо цитирует удивительно необдуманную речь, сделанную государственным деятелем, в которой он утверждал, что «контроль над космосом означает контроль над миром. Из космоса хозяева бесконечности получат возможность контролировать погоду Земли, вызывать засуху или наводнение, контролировать приливы и повышать уровень моря, повернуть вспять Гольфстрим и снизить температуру климатов»[179]. Подгоняемая столь ужасными картинами и, возможно, гораздо больше — блеском больших ассигнований для округов конгресса, законодательная власть сделала все, что было в ее силах, чтобы преодолеть бездействие Эйзенхауэра по этому вопросу, но безуспешно, так что Кеннеди мог предотвратить следующую атаку относительно космической гонки против администрации в 1960 году.
Но однажды, уже будучи на посту, он заколебался. Его вице-президент стремился воплотить в жизнь посадку на Луну, но расходы были огромны (в итоге они превысили 30 миллиардов долларов) и достаточны для того, чтобы дать передышку президентам еще на тридцать лет. Но, как это часто бывает, его поторопили события. 12 апреля 1961 года Советский Союз отправил Юрия Гагарина в космос: на орбите оказался первый человек. Это было большим событием, вызвавшим энтузиазм во всем мире. И оно произошло сразу же после фиаско в Бей-оф-Пигз Кеннеди, который в это время рассматривал исследование космоса (как и большинство вещей) целиком в понятиях конкуренции сверхдержав и был особенно внимателен к позициям других стран, не хотел, чтобы они заключили, что именно коммунизм — это путь в будущее, и решил, что наилучшим средством вернуть престиж было бы побудить Соединенные Штаты послать человека на Луну в конце десятилетия. Обращаясь 25 мая к конгрессу, в постоянно звучащем контексте о «большом поле битвы за оборону и распространению свободы» в южном полушарии, он утверждал, что «в настоящий период нет ни одного космического проекта, более впечатляющего для человечества или более важного для долгосрочного исследования космоса»[180], одновременно допуская, что он является и самым дорогостоящим. Ответ конгресса, слушавшего его на объединенной сессии, был прохладен: но за большие ассигнования, о которых он просил, проголосовали почти единогласно. В 1969 году первый человек высадился на Луну. Как и планировал Кеннеди, он оказался американцем.
Исследование Вселенной с помощью таких космических чудес, как телескоп Хаббла, является одним из самых замечательных достижений XX века, и Соединенные Штаты играли в этом ведущую роль. Вклад Кеннеди заключался в том, что немного случайной и не очень сильной космической программе Соединенных Штатов необходимо было стать более мощной, и предприятие с «Аполлоном» (невозможно ответить, почему его не назвали «Артемидой» или «Дианой») как раз подходило для этой цели. Его вклад был существен, как, впрочем, и относительно многих других вещей (включая немецких военных преступников, с чьей экспертной помощью были построены ракеты). Он также заслужил доверие своей решительностью и энтузиазмом, с помощью коих выполнял свои намерения. Он сказал конгрессу, что это нельзя делать, не отдавшись делу всецело, и жил согласно своему правилу. Столь же интересно просмотреть, как изменялось его отношение к этой космической «авантюре»: не в том смысле, что это может не произойти, но в его восприятии политических и дипломатических возможностей.
Даже в начале президентства, когда его стремление к разным кампаниям было в самом разгаре, он надеялся сделать космос ареной международных усилий и привлечь Советский Союз в качестве партнера. Понятно, что Хрущев сначала не ответил. Он стал более сговорчив после того, как полковник Соединенных Штатов Джон Гленн постарался превзойти подвиг Гагарина в феврале 1962 года, хотя это ничего не изменило в жизни Кеннеди. Но после полета Гленна Кеннеди стал подчеркивать важность международного примирения через космос как более возможную, чем важность преобразования коммунистов, хотя он никогда не отказывался от своей патриотической позиции, что «это — новый океан, и я верю, что Соединенные Штаты должны пуститься в это плавание и достичь непревзойденных высот»[181]. Это было существенным изменением акцентов. В равной мере это являлось восхищением перед величием самого космического предприятия. Он не упустил аргумент о безопасности, о том, что Соединенные Штаты не могут спокойно предоставить Советскому Союзу одному осваивать космос, и любил подчеркивать экономические выгоды разнообразных космических технологий, например, как в речи, произнесенной в университете Раиса: «То, что однажды стало главным аванпостом на старой границе Запада, будет им на новом рубеже науки и космоса. Хьюстон, ваш город Хьюстон, с его Центром «Мэнд Спейскрафт», станет центром большой научной и инженерной общности»[182]. Но его заключительный пункт был полон романтики: «Много лет назад британского исследователя Джорджа Мэлори, погибшего на Эвересте, спросили, почему ему так хочется на него взобраться. Он ответил: «Потому что он существует».
Что ж, космос существует, и мы будем идти туда, и существуют Луна и планеты, и новые надежды на разум и мир тоже существуют. И, следовательно, когда мы к этому приступим, то следует попросить благословения на самое рискованное, опасное и большое приключение, какое человек когда-либо предпринимал»[183]. Это придало действительно воодушевляющий конец его обращению, но нет причины сомневаться в искренности того, что он подчеркнул. Как сказал Роберт Кеннеди после его смерти, «он думал об исследовании космоса как об исследовании Америки Льюисом и Кларком, и ему всегда нравилось, когда Соединенные Штаты предпринимали что-нибудь неординарное. То, что требует не только ума и способностей, но и смелости»[184]. Этим объясняется, почему он и его жена так много сделали для полета Джона Гленна; хотя здесь также помогло и то, что Гленн потенциально был (а после смерти Кеннеди — и реально) привлекательным кандидатом на пост в Белом доме.
И все же, оглядываясь назад, едва ли мы можем сказать, что именно Кеннеди превратил возможность в неизбежность. Время требовало космической программы. Ни один президент (даже Эйзенхауэр) не мог долго позволять Советскому Союзу оставаться монополистом славы открывателя космоса. Технологические выгоды спутниковой технологии были очень соблазнительны для мирового бизнеса. Интеллектуальные задачи тоже были заманчивы для людей науки; как заметил Кеннеди в Райсе, «большинство ученых, которых знал мир, живут и работают сегодня», и их число в Соединенных Штатах удваивается каждые двенадцать лет[185]. И это эффективное лобби также было услышано другими президентами. Во всяком случае, нельзя было сказать, что одним из самых важных культурных феноменов была научная фантастика. Это служило средством, с помощью которого человечество справлялось с ядерной угрозой и явно ограниченными обещаниями — или чего оно еще боялось? — человеческой науки; исследование космоса в равной мере было выражением как этих страхов, так и надежд. Я не знаю ни одного свидетельства, которое Кеннеди бы взял из научной фантастики, но его речи показывают, что он очень хорошо чувствовал напряжение, беспокойство и надежду и сделал себя инструментом этого примирения. Космическая программа стала воплощенной научной фантастикой. Никакой другой президент не смог бы среагировать на происходящие события так же, так как никто не воспринял бы их сходным образом, но результат был тот же. Как и многое, что делал Кеннеди, космическая программа была полна решительности.
Такой была репутация Кеннеди как национальной домохозяйки. Он заслужил уважение, это рисует его как компетентного, хотя и идеалистичного, осмотрительного, и в то же время смелого. С другой стороны, в целом это не было столь драматичным (приземление на Луну произошло в другое время, чем предполагал Кеннеди). Нам следует во всем искать кампании и кризисы, которые сделали президентство Кеннеди столь запоминающимся.
Глава 5
ОКТЯБРЬ:
РАКЕТНЫЙ КРИЗИС
Операция в Бей-оф-Пигз[186] и берлинский кризис научили Джона Ф. Кеннеди большему, чем ему было необходимо знать, и ввели его в тайный и опасный мир высшей дипломатии. В частности, Бей-оф-Пигз было той бедой, которая многому его научила. Но более поздние события показали, что этого «образования» все же было недостаточно.
Это подтвердило его убежденность в важности Соединенных Штатов для Латинской Америки. Его политика была обращена к этому региону еще до того, как он стал президентом; Бей-оф-Пигз показал настоятельность этого. Он не хотел, чтобы позже о нем писали как об «империалисте-янки». Кроме того, еще были свежи воспоминания о «политике добрососедства» Франклина Рузвельта, и Кеннеди не хотел показаться несостоятельным в любом отношении по сравнению со своим великим предшественником. Гораздо более заставляла о себе задуматься «холодная война». Для Кеннеди, который считал, что коммунисты и Советы шли маршем по всему миру, Центральная и Поясная Америка представлялись особо подверженными риску. Кубинская революция, казалось, сделала опасность реальной и непосредственной. Быстрое превращение Кастро из партизанского героя в коммунистического диктатора было достаточно настораживающим; вероятность того, что он и его приверженец Че Гевара (аргентинец по рождению) побудят другие латиноамериканские страны последовать их примеру, не прельщала; полагали, что если это и произойдет, то они будут получать эффективную помощь из Советского Союза. Вся территория южнее Рио-Гранде могла сразу стать «красной», и что тогда осталось бы делать Соединенным Штатам? Что-то надо было предпринимать. Это была одна из немногих точек зрения, по которым Эйзенхауэр, Никсон и Кеннеди сходились во мнениях. Для Латинской Америки было бы лучше, если бы было иначе.
Но в этом регионе политика Кеннеди не была просто продолжением политики Айка. Как ясно видел либерал-демократ Кеннеди, поддержка Эйзенхауэром коррумпированных милитаристских диктатур в Латинской Америке была бесчестным и неблагодарным делом. Эти режимы не оставляли ни одной надежды своему народу, они были слабее, чем казались, и как барьер на пути распространения коммунизма, что было главной заботой Кеннеди, являлись весьма неэффективными. Свержение Фульгенсио Батисты на Кубе и утверждение Кастро иллюстрируют все эти моменты. Было ясно, что Соединенным Штатам необходимо выработать новую политику; эта мысль сама по себе выглядела привлекательно для молодого президента с его желанием продемонстрировать, что приняло командование новое, более творческое поколение. В результате появился так называемый «Альянс за прогресс», о намерении создать который говорилось в инаугурационной речи и что было осуществлено 13 марта 1981 года под громкие звуки фанфар. Официально было договорено о проведении межамериканской встречи в августе в уругвайском городе Пунта-дель-Эстэ.
Кеннеди очень надеялся на «Альянзу» (как называли этот союз между собой); он посвятил ему много времени на первых порах, и если сравнить политику США, которая проводилась потом, то она часто бывала безответственной, недостаточно критичной и бездушной, если не преступной (как в Эль-Сальвадоре в 80-х годах), в то время как ту можно назвать освещающей путь и щедрой. Тем не менее дело не удалось: отчасти потому, что Кеннеди настаивал на том, что планы тренировки солдат и полицейских против повстанцев входят в противоречие с показным духом «Альянзы» (но не с президентской концепцией этого союза)[187], и отчасти из-за того, что это было слишком амбициозно. Хотел ли Кеннеди объявить о пересмотре политики, убеждая Соединенные Штаты поддерживать только более порядочные и демократические силы в Латинской Америке и порвать с военными олигархиями, он мог достичь наибольшего и действительно этого достиг, осуществив эту политику США. В качестве пропагандистского хода «Альянзу» ожидал триумф, сильно воодушевивший реформаторов и передовых людей по всей Латинской Америке, что повысило репутацию Кеннеди еще более, чем Корпус мира, которым он занимался в то же время. Но Кеннеди и его людям хотелось большего. Тогда была популярна книга «Стадии экономического роста» У. У. Ростова, которая была признана демократическим контрответом на «Коммунистический манифест». Анализ Ростова говорил о том, что применение правильных техник и достаточное количество денег ускорит достижение третьими странами стадии подъема и они станут самообеспечивающимися капиталистическими демократическими обществами. Автору довелось поработать в администрации Кеннеди, и последователи «Нового рубежа» спешили воплотить его намерения. Они напоминали себе о 1776 годе и объявили, что Соединенные Штаты являются единственной действительно революционной страной в мире: это могло привести к революции изобилия и избавить третьи страны от вторжения коммунистов навсегда. Но идея революции не была единственной, которая могла не подойти, оказаться натянутой и определенной согласно воле государственных деятелей, особенно тех, кто был весьма консервативен (даже если они являлись либералами), демонстрируя определенную фривольность, если использовать этот термин. Люди Кеннеди не составляли исключения из этого правила. Тезис Ростова здесь не подходил.
Последователям «Нового курса» было соблазнительно обвинить конгресс, который год от года все более неохотно голосовал за большие программы зарубежной помощи, о которых запрашивал Белый дом, и оставался явно безразличен особенно к призывам относительно «Альяизы». Но недостаток ассигнований был несравним с дефицитом ресурсов. Соединенные Штаты, которые не осознавали свою мощь — впрочем, как и кто-либо другой, — просто не стали побуждать свои власти к переделыванию Латинской Америки столь окончательно и быстро, как надеялись. Более того, даже если бы они были богаче, то все равно имели недостаточное обеспечение в других областях, чтобы удачно довести своих соседей до спокойной гавани. Речь могла идти только об общем и поверхностном соглашении, а что касается результатов и средств, а также вопросов о том, старались ли североамериканцы вырваться за пределы, в то время как внутренне сдерживались, то не все из них были недостаточно мотивированы или плохо информированы, идеализм и энергия янки были неразрывно связаны с самоуверенностью и культурными предрассудками: непривлекательная смесь. Постепенно стало ясно, что любой успех, какого может достичь «Альянза», придет нескоро. Кеннеди был слишком умен, чтобы ожидать немедленных результатов, и понятно, что он был разочарован, открыв, насколько малы и нескоры будут успехи «Альянзы», но в одном отношении он надеялся сразу получить определенный результат. Его вражда с Кастро не могла ждать.
Бей-оф-Пигз оставил после себя некоторые беспокоящие политические проблемы, которые со временем не исчезли. Фидель Кастро унизил Кеннеди и Соединенные Штаты; хотя американское общественное мнение не было лояльно к президенту после этой операции, тем не менее именно в этом был выход, который, как были уверены республиканцы, можно было использовать столько, сколько потребуется времени на решение проблемы. Они могли это сделать, фатально повлияв как на промежуточные выборы в 1962 году, так и на следующие президентские выборы в 1964 году. Так, лидеры страны с 1947 года старались напугать людей коммунизмом и их аппетитами относительно зарубежных стран. Они достигли в этом немалого успеха, и когда Кастро объявил себя коммунистом, условные рефлексы доделали остальное. Отчасти это была забота об общественном мнении (в отношении которого он сам немало постарался, чтобы разжечь его), что заставило Кеннеди скорее подтвердить, чем отменить план Бей-оф-Пигз, и провал операции не уменьшил давления. Более того, Кеннеди чувствовал, что, санкционируя план, он в каком-то смысле способствует тому, чтобы лидерами стали кубинские изгнанники: их разгром не уменьшал его обязательства перед ними, как раз наоборот. Ни он, ни любой другой американец, принадлежащий к истеблишменту, не видел в Кастро того, кем он был — национального лидера, который в настоящее время заслужил безоговорочную преданность и признание всего народа и которого нельзя было сместить без значительных военных усилий со стороны Соединенных Штатов. Его взаимоотношения с Советским Союзом в лучшем случае являлись далеко не первым и не самым важным делом. Кеннеди же и его советники в первую очередь рассматривали Кастро как обыкновенное орудие в руках советского империализма. Наконец, в 1961 году оба брата Кеннеди почувствовали, что они разгневаны на Кастро лично. Они еще никогда не терпели поражения, да еще от кого! В течение лета они предпринимали шаги, которые, как они надеялись, в конце концов приведут к его свержению. Их не останавливала очевидная трудность задачи блокировать Кастро. Они просто решили, что в следующий раз, когда они предпримут против него действия, добьются успеха.
Как мы видели, президент решил извлечь пользу из кубинских ошибок и считал, что во избежание повторения этого стоит сделать брата своим заместителем и правой рукой. Это было не совсем мудро. Джек Кеннеди, хотя и был настроен здравомысляще и дружески, мог испытывать к людям антипатию (например, как к Эдлею Стивенсону) и почувствовать желание отомстить Кастро. Ио это была мстительность человека, который редко позволял своим эмоциям управлять им. С другой стороны, генеральный прокурор частенько испытывал ненависть, и когда он решал, кого взять с собой и кто бы обладал неослабной энергией и не очень большими сомнениями, как у преступников, подобных Джимми Иоффе, коррумпированное и преступное руководство Профсоюза водителей грузовиков было определено. Джек принимал в этом большое участие; он вплотную этим занимался в течение всего лета и осени 1961 года, но к лету 1962 года Кеннеди, казалось, потерял интерес к тому, что происходило на Кубе, его гнев остыл. Его политика не изменилась. Он все еще надеялся на падение режима Кастро и напряженно работал, пытаясь предотвратить распространение его влияния в Латинской Америке, но предмет перестал быть одним из его главных приоритетов. Он наделил Бобби полномочиями и вскоре был рад предоставить ему все дела.
У Бобби было ясное представление о своей роли: он должен был оживить исполнение президентской политики на Кубе и защитить своего брата от плохих советов. Его приемы стали легендарными в администрации Кеннеди. В своей крайней форме это выглядело так, когда он взрывался на встрече, обличая всех присутствующих в лени и бездеятельности, после чего буря выходила за пределы комнаты. Не имея времени, чтобы отчитать дипломатов и бесхарактерных либералов, он не желал слушать, когда они разъясняли сложности кубинского вопроса: с его точки зрения, они только пытались оправдать свое бездействие. По одному ужасному случаю, произошедшему вскоре после Бей-оф-Пигз, он яростно атаковал Честера Боулза, позже заместителя госсекретаря, который бестактно разъяснял в двух документах от госдепартамента, каковы реальные трудности в свержении Кастро. Это было не тем, что хотелось услышать Кеннеди, во всяком случае, они оба нашли, что Боулз невыносимо скучен, хотя он и был весьма полезен на выборах 1960 года. Кроме того, он был очень готов дать знать своим друзьям в прессе, что был против операции Бей-оф-Пигз. Джек, к которому еще не вернулась вся желчь, сильно вознегодовал на такую нелояльность, и так как в его привычку не входило высмеивать людей, то он предоставил это Бобби. И вскоре после этого Боулз потерял свою работу[188].
Эти методы блицкрига по меньшей мере всех держали настороже, и в департаменте юстиции Бобби проявлял себя как вдохновенный лидер, но, что касается кубинского вопроса, его стиль был просто неподходящим. Бобби хотел (а вслед за ним и президент), чтобы подход к проблеме свержения Фиделя Кастро был прям, динамичен и энергичен. Он не желал, чтобы ему сказали, что это было бы слишком просто. Он не хотел вникать в детали. Как заметил Артур Шлезингер, «в его отношении к Кастро было много эмоций, но мало обеспеченности информацией»[189]. Как и президент, он был поглощен другими заботами; слишком поглощен, чтобы изучить планы атаки Кубы с необходимой тщательностью. Он хотел действовать как вдохновитель, оставив детали исполнителям — так, как это сделал президент по отношению к нему. И все же это было тем же образцом, по которому развивался сценарий, приведший к неудаче Бей-оф-Пигз.
Все снова пошло не так почти с самого начала. Как только возможность нового вторжения была исключена и ни у кого не осталось уверенности в обычных средствах дипломатии, Бобби обратился за помощью к ЦРУ, которое ухватилось за возможность реабилитировать себя. Вновь обратились даже к Ричарду Бисселу. Снова были созданы оперативные группы, и к концу лета 1961 года была отправлена группа с целью саботажа и поощрения общей околовоенной деятельности на Кубе. Так появилась операция «Мангуста». В начале ноября обо всем этом было доложено президенту и Роберту Макнамаре на встрече в Белом доме. Бобби позже писал в своих воспоминаниях: «Моей идеей было ускорить ход событий на острове путем шпионажа, саботажа, общих беспорядков, которые бы разрабатывали и осуществляли сами кубинцы… Не знаю, свергли бы мы Кастро или нет, но нам не следовало ничего упускать, по моему мнению»[190]. ЦРУ засело за работу и, среди прочей деятельности, отыскало схему, первоначально являвшуюся частью плана Бей-оф-Пигз, целью которой было убийство Фиделя Кастро. Споры развернулась вокруг вопроса о том, следует ли знать братьям Кеннеди об этой идее, если что-то случится. Эта часть операции «Мангуста» никогда официально не афишировалась, и Джон Маккоун, новый глава ЦРУ, был категорически против убийства как политики; ревностный католик, он говорил, что будет отлучен от церкви, если согласится на что-либо подобное[191]. Никто из приближенных сотрудников Кеннеди не был допущен к информации о планах убийства, и все утверждали, что Кеннеди их не одобрил бы. Но в мае 1961 года Кеннеди обнаружил, что ЦРУ поставляет оружие в Доминиканскую Республику, чтобы дать там возможность убить диктатора Рафаэля Трухильо, и он безуспешно старался выпутать Соединенные Штаты из этого сценария (что достигло цели на следующий же день), утверждая, что «США в принципе не могут мириться с убийством. Этот последний принцип не принят во внимание»[192]. С другой стороны, некоторые обстоятельства натолкнули его на мысль, что убийство было частью плана Бей-оф-Пигз, и в ноябре 1961 года он заметил в разговоре с одним из гостей, что «находится под сильным давлением, которое заставляет его согласиться на убийство Кастро». Он сказал также (возможно, поняв, что его гость, журналист Тэд Залк, не симпатизировал этому), что «по нравственным причинам» Соединенным Штатам не следует делать ничего подобного, что согласовалось с его утверждением относительно Трухильо, но напоминало никсоновское «это плохо кончится» во время уотергейтского дела. Как заметил Ричард Ривз, все давление относительно того, чтобы «избавиться» от Кастро (что бы это ни означало), исходило от самих Кеннеди[193]. В январе 1962 года, как утверждает Ричард Холмс из ЦРУ, Бобби настаивал, что «основной задачей» правительства США является свержение Кастро[194], поэтому не особенно удивляла уверенность ЦРУ, что вскоре будет дано разрешение на все необходимые действия.
Джек Кеннеди, который питал особую слабость к тайной деятельности любого рода, в итоге смирился с идеей убийства Кастро, но вновь отверг само убийство как инструмент политики — на этот раз публично, хотя и не особо подчеркивая в своей речи 16 ноября 1961 года, через несколько дней после визита Залка: «Как и большинство тех, кто может защитить свободу на Земле, мы считаем, что не можем избежать ответственности за свободу, но и не можем наслаждаться ею без ограничений, налагаемых теми свободами, которые мы хотим защитить. Как свободный народ мы не можем стать на одну доску с нашими противниками, обратившись к тактике террора, убийства и ложных обещаний[195]. Возможно, у него и был соблазн, но в конце концов он остался верен своей порядочности и здравому смыслу: как он заметил в беседе с Тэдом Залком, «мы не можем сделать что-либо подобное, иначе сами окажемся мишенями»[196]. (Возможно, его еще не научило, что президент Соединенных Штатов всегда является мишенью). Что касается Бобби, то он, вероятно, немного подбодрил Хелмса и не осознавал, к чему это приведет. Это стало ясно после инцидента весной 1962 года. ЦРУ считало, что лидеры организованной преступности, которые потеряли много денег во время кубинской революции, могут помочь избавиться от Фиделя: им очень часто удавалось успешно избавиться друг от друга. Одним из тех, к кому обратились, был Сэм Джанкана, заметная фигура чикагского синдиката. Кроме того, в настоящее время его протеже была Джуди Лэмбелл, одна из бывших подруг президента. Эта деталь не укрылась от внимания главы ФБР Дж. Эдгара Гувера, и, возможно, он довел это до сведения президента, что побудило Кеннеди порвать с ней в марте 1962 года. Затем, наконец, в мае ЦРУ было приказано сообщить генеральному прокурору о ее связях с мафией, и с этого момента департамент юстиции повел энергичную кампанию против организованной преступности, что причинило неудобство мистеру Джанкане и его друзьям (как возмущался один из них, «я помогаю правительству, стране, а этот сукин сын расстроил мою игру»). Офицер ЦРУ, который сказал об этом Бобби, провел неприятные полчаса: как он говорил позднее, «если бы вы видели, как глаза мистера Кеннеди сделались стальными, а его голос — низким и четким, то у вас появилось бы чувство надвигающейся опасности». «Я считаю, что если вы когда-либо попытаетесь сотрудничать с мафией снова — с гангстерами, — то вам следует дать об этом знать генеральному прокурору», — сказал Бобби. Он немедленно остановил выкидывающего коленца Джанкану и был расстроен тем, что вообще пожаловался об этом Дж. Эдгару Гуверу, выбор которого в наперсники был столь неподходящим, что само по себе это показывает, как это его встревожило. Но при поддержке своего брата он не прекратил настаивать на не менее жестких действиях против Кастро. Трудность была в том (что позже послужило причиной вьетнамской войны), что, насколько бы ни была неуспешна операция «Мангуста», каковой она, вероятно, и останется, ни у кого не было альтернативы, так как президент мог воспрепятствовать вторжению США. Мак-Джордж Банди предвидел, что это означает: «Нам следует также заявить, будем ли мы строить военные или альтернативные отношения с Кубой и Кастро и, соответственно, нашу политику». Братьям Кеннеди не нравились обе альтернативы, поэтому операция «Мангуста» в октябре 1962 года все еще продолжалась. Бобби даже попытался ее ускорить во время ракетного кризиса — к счастью (так как решение по этому вопросу могло встретить еще большие трудности, чем само дело), без какого-либо более громкого успеха, чем обычно[197].
Читая об этом сегодня, планы смещения или убийства Кастро (ни один из которых не был осуществлен даже отчасти) выглядят несерьезно. Одной из идей было остричь Фиделю бороду и тем самым лишить его привлекательности для народа, другой — подсунуть ему отравленную сигару[198]. (Я помню, как в дни моего счастливого детства мы с моим братом тратили часы, тщательно готовя бутылку с отравленным пивом — из пыли, воды и плюща — чтобы напоить Гитлера). Но это действительно было не смешно, хотя и не более эффективно, чем программка саботажа. Основная статья кубинского экспорта — тысячи тонн сахара — была разрушена за неделю, грузовые перевозки товара прекратились, были предприняты попытки вызвать аварии на медных рудниках, на пропаганду и шпионаж против Кастро были потрачены большие суммы, оказана помощь партизанским отрядам в горах[199]. Гораздо больше вреда принесло эмбарго в торговле между Соединенными Штатами и Кубой. Оба Кеннеди решили, что все это привело к результату, в котором никто не был заинтересован: это сблизило Фиделя Кастро и Советский Союз. Так как Кастро уже был в коммунистическом лагере, то братья полагали, что дела могут пойти еще хуже. Если так, то это было плохо.
Политика «Мангусты» таила в себе ловушку для президента и в другом отношении. Вне узкого круга лиц в Вашингтоне никто точно не знал, что последует, но фигура Кеннеди была достаточно заметной, чтобы возбудить враждебность американцев к Кастро до опасных пределов. «В нашем отношении к Кубе было много эмоций», — сказал Роберт Макнамара несколькими годами позже, что объясняет ход вещей в Соединенных Штатах и то, каким образом история распространилась по всей стране[200]. Американский народ был склонен делать пугала из недружественно настроенных зарубежных лидеров, и летом 1962 года многих из них почти преследовали навязчивые мысли о Кастро, что принесло выгоду республиканцам, которые утверждали, что президент был мягок в этом вопросе. Таким образом, а также благодаря ошибке Кеннеди коммунистическая Куба начала превращаться из обычной занозы в теле — в кинжал в сердце, если употребить сравнение сенатора Фулбрайта.
Более того, как и перед Бей-оф-Пигз, Кеннеди не продумал своего плана действий. Его Особая группа (расширенная), которая была инструментом в его политике на Кубе, совершила элементарную стратегическую ошибку, не учтя того, какова может быть реакция оппонента на их наступление. Фиделя Кастро запугать было нелегко. Как только дал себя знать американский саботаж, он публично выразил протест, громко и не единожды; и когда летом 1962 года военно-морские силы США начали проводить крупномасштабные маневры в кубинских территориальных водах, это его не испугало, как, несомненно, о нем и думали; он объявил, что Соединенные Штаты открыто планируют вторжение (он знал, что некоторые в Вашингтоне энергично отстаивали подобные действия). Что было вполне объяснимо, он усилил контроль своего режима и ускорил превращение Кубы в ленинское государство. Если забота Кеннеди действительно состояла в спасении Кубы от коммунизма, то все равно он бы не мог выбрать менее подходящей политики.
Есть старая сказка о солнце и ветре, которые всегда шли гулять вместе. Однажды, увидев на дороге человека, они поспорили, кто из них скорее заставит его снять пальто. Ветер дул и дул, но человек только сильнее кутался в свою одежду. Затем со всем летним зноем начало припекать солнце. Человек снял пальто и перекинул его через руку.
Кастро знал, что ему не устоять перед огромными Соединенными Штатами без серьезной помощи, и он мог лишь немного надеяться, что ему удастся ее найти. Куба уже была в очень хороших отношениях с Советами — первым государством, ставшим коммунистическим по своей воле (более или менее). Они наверняка не позволили бы Кубе вновь стать «завоеванной капитализмом», если могли это сделать.
У них были другие мотивы. В частности, у Хрущева. И здесь историкам следует быть осторожными, исследование советских архивов только началось и, без сомнения, таило в себе множество сюрпризов. Но основные линии кризиса 1962 года были уже намечены. Зимой и весной того года Хрущев еще помнил уроки холодного приема в Берлине. Не производящий впечатления молодой человек, которого он встретил в Вене, посмел возражать против часто провозглашаемых советских планов в Берлине; его это кое-чему научило. Кроме того, собственная позиция Хрущева начала выглядеть шаткой, его берлинская инициатива обернулась против него же, его большая кампания по увеличению количества сельскохозяйственной продукции в России, построенная на освоении так называемых «целинных земель», развивалась не очень уверенно: урожай 1961 года был самым скромным за пять лет. Разногласия с Китаем становились все ощутимее и серьезнее, и даже Албания, позже страна сталинистской реконструкции, открыто игнорировала ведущую роль Советов[201]. Люди Кеннеди унизили Советский Союз, показав, что отсутствие паритета в ракетном вооружении является мифом и что на самом деле у Соединенных Штатов имеется превосходящее преимущество в ядерном вооружении. Хрущев искал быстрый, дешевый и простой путь, чтобы перехватить инициативу, и в настоящем состоянии кубинской проблемы он увидел такую возможность.
Экономику острова можно было спасти от худших последствий американского эмбарго с помощью советских субсидий; вопрос о спасении кубинской независимости от возможности вторжения был более сложен. Любая попытка послать войска в Гавану была бы расценена Соединенными Штатами как брешь в доктрине Монро. Советский Союз мог бы с этим смириться, если бы это не противоречило международному законодательству, но его правительству пришлось бы задуматься, насколько далеко они могут зайти, провоцируя американцев, при этом оставшись в безопасности. И, как и опасался Кеннеди, Хрущев просчитался.
Он действительно считал, что однажды, в не очень отдаленном будущем, советский коммунизм будет торжествовать на всем Западе: он считал, что это присуще сильной системе, и верил, что это произойдет в момент, который Уолт Ростов назвал точкой подъема. Соединенные Штаты должны были признать Советский Союз себе равным, что означало, что им следовало отказаться от односторонней привилегии делать то, что хочется. Джон Фостер Даллес однажды сказал Андрею Громыко, почти постоянному министру иностранных дел: «Вопросы о размещении американских военных баз решаются Соединенными Штатами, и только ими по своему усмотрению и соглашению со страной, на чьей территории они будут установлены»[202]. В таком тоне разговор больше не шел: или по крайней мере то, что было соусом для гусыни, следовало таковым признать и для гусака. Например, почему СССР терпел ядерные ракеты в Турции, возле самых своих границ? В то время как возле границ Соединенных Штатов не было ни одной ракеты. Хрущев жаловался на это в течение нескольких лет. В 1958 году он спросил Эдлея Стивенсона: «Что бы подумали американцы, если бы русские разместили свои базы в Мексике или другом месте? Как бы вы себя чувствовали?»[203]. Размышляя над этими вопросами и над просьбой Кастро о помощи, Хрущев подумал, что он нашел путь. Ядерные ракеты на Кубе могли решить несколько проблем: они бы охраняли Кастро, заставили бы Соединенные Штаты считаться с амбициями Советов и сохранили бы советский престиж. Это могло бы позволить вновь вернуться к берлинскому вопросу. Логика казалась неопровержимой, и не только Хрущеву: новые инициативы получили единодушную поддержку Политбюро. В мае 1962 года были предприняты первые шаги.
Русские совершили ту же ошибку, что и американцы: они не рассмотрели достаточно серьезно, какой может быть реакция другой стороны. И, как и обоих Кеннеди, их могло увести в сторону оскорбленное самолюбие. В воспоминаниях Хрущева ощущался определенно злобный тон, когда он выложил свои аргументы в пользу размещения ракет: «Теперь они узнают, что значит иметь вражеские ракеты, нацеленные на вас; мы не сделаем ничего, кроме как дадим им немного попробовать их же лекарства. Долгое время Америке не приходилось воевать на своей земле, по меньшей мере в течение последних пятидесяти лет. Она посылала войска за рубеж участвовать в двух мировых войнах — и имела успех. Америка не потратила и нескольких капель своей крови, делая миллиарды на крови других в этом мире»[204]. Если такова была позиция Хрущева, то неудивительно, что он неверно оценил Кеннеди, как Сталин Гитлера за несколько месяцев до июня 1941 года.
Он также упустил и другую блестящую возможность, открывшуюся перед ним. Он был согласен послать на Кубу только обычное вооружение, чтобы можно было спасти Кастро от любой угрозы вторжения США и в то же время аннулировать доктрину Монро. Он бы поставил Кеннеди в ужасное политическое положение. Президенту пришлось бы объяснять своему негодующему электорату, почему он позволил Кубе стать основной опорой Советов и почему он ничего не собирался с этим делать. Не было ни одного нейтрального или союзного латиноамериканского народа по отношению к США, даже если они приветствовали вторжение янки на Кубу, чтобы свергнуть Кастро. Немногие американцы хотели вступить в войну с Советским Союзом, полную риска, по подобной причине. Те же факторы, которые удерживали Запад от того, чтобы поддержать венгерскую революцию, снова вступили в игру; Кеннеди мог потерпеть большое поражение, и что хуже всего — саморазрушиться, а Хрущев — измотать его силы. Но ничего этого не произошло, так как Хрущев тоже хотел убрать западные ракеты из Турции.
То, что русские знали свое дело и немного провоцировали, показывало, что они скрывали это от мира до тех пор, пока дело не было закончено. Это было другой ошибкой: если бы они продолжали действовать открыто, то Соединенным Штатам было бы труднее, если не невозможно, сплотить международную оппозицию. Хрущев полагал, что если бы ему удалось скрыть ракеты до выборов в конгресс б ноября, то Кеннеди бы не чувствовал, что он под давлением и принял бы свершившийся факт (так что Хрущев мог считать себя правым, говоря, что не может повлиять на исход выборов). Но полностью скрыть все было невозможно, как его предупреждал Анастас Микоян, ветеран Политбюро, который вел основные переговоры с Кастро. В августе до Вашингтона дошли слухи, к которым примешивался факт, что Советский Союз посылает на Кубу обычные вооружения и строит там глубоководную гавань. Голоса (в основном республиканцев) утверждали, что на Кубу доставляются стратегические ядерные ракеты, но администрация не заметила этих утверждений, расценив их как рекламные в преддверии выборов. Только Джон Маккоун сказал, что свидетельства указывают на наличие ядерных ракет типа «земля-земля», и что он не может оказать помощь, так как в настоящее время проводит в Европе со своей невестой медовый месяц.
Тем не менее в сентябре опасность казалась достаточно реальной, чтобы побудить президента к действию, поэтому Кеннеди выступил с предостережением 4 сентября и еще раз, более определенно, 13-го; в последнем выступлении он недвусмысленно заявил советскому руководству, что «основание военной базы большой мощности» (то есть с ядерным оружием) на Кубе может спровоцировать Соединенные Штаты на «все надлежащие действия», чтобы защитить свою безопасность[205]. Советское правительство дало ответ публично (11 сентября) и по прямым каналам между Хрущевым и Кеннеди[206], из которого следовало, что оно не будет устанавливать ничего, кроме защитного вооружения на острове — линия, которой они придерживались даже после того, как правда стала известна общественности. Если вам надо солгать, то делайте это смело и правдоподобно; в конце концов, обидно это или служит обороне — субъективный вопрос, по крайней мере, так полагали в Кремле. Факт, что американский народ не придаст внимания таким деталям, можно было предположить.
ЦРУ усилило на Кубе свою разведывательную деятельность. В течение нескольких дней покров облаков препятствовал полетам на знаменитых разведывательных самолетах У-2; но в воскресенье 14 октября небо было достаточно ясным, чтобы удалось заснять объекты на кинопленку. Результаты, расшифрованные с пленки, бесспорно доказывали, что Советский Союз спешно устанавливает баллистические ракеты среднего радиуса действия (ИРБМ), которые могли разрушить любой крупный город США кроме Сиэттла. Мак-Джордж Банди был проинформирован вечером в понедельник 15 октября. Он решил дать президенту выспаться, рассказав Кеннеди о новостях на следующий день за завтраком. Так началось серьезнейшее испытание президента, возможно, самое серьезное в XX веке за всю человеческую историю того времени: никогда до этого у государственного деятеля не было такой власти, чтобы уничтожить большую часть человечества, цивилизаций и, возможно, саму планету как дом обитания.
В 11.45 утра во вторник 16 октября Кеннеди собрал своих советников, и группа начала работать, что за две последующие недели определило политику США (она стала известна как Экс-комм — сокращенно от «исполнительного комитета Совета по национальной безопасности»). Она состояла из двадцати человек, из которых восьмеро были временными участниками, входящими и выходящими из группы по мере возможности и необходимости. Кеннеди посещал группу нерегулярнее всех: после первой встречи Соренсен счел, что члены выскажутся более откровенно в его отсутствие, и Кеннеди согласился. Заседания проходили неформально, в стиле Кеннеди, с хорошими результатами: как сказал Соренсен, «одной из замечательных сторон этих встреч было ощущение полного равенства»[207]. Дину Ачесону, одному из временных участников, очень не нравилось то, что он назвал позже «неопределенной игрой с решениями»[208]. Он считал, что президенту или госсекретарю следует провести встречи с председателями. Но Кеннеди отсутствовал как раз для того, чтобы этого избежать: он не хотел, чтобы из-за его положения кто-нибудь не смог высказаться откровенно. Следовало извлечь все идеи и информацию, рассмотреть со всех сторон, и требовалось, чтобы подчиненные, так же как и начальство, делились своим мнением по важнейшим пунктам. Присутствовал также один из молодых людей, Бобби Кеннеди, который взял на себя руководство, так как Дин Раск, как всегда, стушевался[209]. Бобби имел большой вес в комитете, так как являлся братом президента, но его основной функцией, как всегда, было задавать очевидные вопросы, о которых никто не задумывался, и в то же время не потерять из виду основные принципы. В течение нескольких следующих дней Экс-комм прекрасно поработал, неважно, каковы были методы, благодаря чему укрепилась уверенность в администрации Кеннеди.
Первейшей задачей комитета было определить природу и альтернативы, которые имелись у президента. Возможность ничего не предпринимать, позволив продолжать устанавливать ракеты, вскоре была отвергнута. Ракеты могли увеличить или уменьшить опасность для Соединенных Штатов, но, пока существовало состояние неопределенности, обязанностью Кеннеди было осторожно устранить ее ради национальной безопасности. Неудача в этом деле могла привести к его импичменту, чего он опасался; он должен был это сделать. На этот счет имелись и другие соображения. Пассивность могла причинить вред его президентству, что было далеко не его личным делом; с ним угасли бы все надежды, которые возродили его выборы. Хрущев мог не ожидать успеха Кеннеди либо желать ему поражения, но если бы ему это удалось, даже тайно, то это была бы убедительная демонстрация силы Советов, имеющая непредсказуемые последствия. По меньшей мере, это почти наверняка привело бы к поражению демократов на выборах в 1962 и 1964 годах, и Соединенные Штаты были бы оставлены на милость правых республиканцев. За рубежом удар по американскому престижу мог разрушить Западный альянс до основания. Кеннеди не мог покорно уступить намерениям Советов, так как если бы он это сделал, то оставил бы мир в еще большей опасности, чем тогда, когда он вступил на пост президента. С другой стороны, если бы Кеннеди или кто-либо другой понял всю меру риска, в который они пустились, то они бы неохотно — очень неохотно — на все это согласились. Опасность просчета или неудачи, тяжело легшей на плечи президента, оказалась больше, чем он предполагал.
Как бы то ни было, риск был большой. Одним из мучивших Экс-комм вопросов была непредсказуемость советского руководства. Кеннеди был разгневан всей той ложью, которую ему приходилось выслушивать (в четверг 18 октября он, встретившись с Андреем Громыко, был вынужден принимать уверения в том, что СССР почти ничего не предпринимает на Кубе), и беспокоился еще больше: почему Хрущев предпринял эту большую и нехарактерную для него игру, подвергнув весь мир опасности по столь незначительной причине? Дин Раск считал, что это могло быть обманным маневром, чтобы отвлечь внимание Соединенных Штатов, в то время как главный удар обрушился бы на Берлин, «но я должен сказать, что не вижу смысла, зачем Советам было заходить так далеко, если только не в случае, что они сильно переоценили значение Кубы для своей страны»[210]. Дезориентированные таким образом, американцы были бы вынуждены принимать решения, оставаясь в неведении. Объединенный комитет начальников штабов, как обычно, не сомневался: следует бомбардировать Кубу и затем вторгнуться на ее территорию — таков был их совет. Казалось, все, кроме Максвелла Тейлора, были неспособны понять, что эта стратегия могла иметь неприемлемые последствия: например, длительная война с Советским Союзом. Столь же небезопасно было как оставаться в бездействии, так и предпринимать слишком многое. Так где же находилась золотая середина?
Экс-комм считал, что все аргументы за и против возможных вариантов были взвешены: каждая причина была серьезно обоснована[211]. Так что человеческий фактор был решающим. Американская конституционная система возлагала окончательную ответственность на человека: президента. Все восходило к суждению Джона Ф. Кеннеди (его любимое выражением) — к его характеру, уму и опыту. И он тоже знал это. Глядя из окна своего офиса, он говорил Дину Ачесону: «Я думаю, что за эту неделю я заслужил свое жалование»[212]. Его критичный юмор редко покидал его, даже в дни кризиса. Но он не смог скрыть от своего брата по крайней мере то, сколь большое он испытывал напряжение. Наблюдая его в не самый лучший момент, в среду 24 октября, когда ожидали, воспримут ли русские серьезно американскую блокаду, Бобби вспоминал, как он выглядел в те ужасные дни сразу после смерти их старшего брата, или в те моменты, когда его собственная жизнь висела на волоске: «Он закрыл рукой рот. Все время сжимал и разжимал кулаки. Лицо вытянулось, в глазах застыла боль, они почти почернели. Мы смотрели друг на друга через стол»[213]. У Джека Кеннеди было достаточно воображения, чтобы понять всю меру своей ответственности. К его чести, он не сломался. Пожалуй, за все время кризиса он был самым молчаливым человеком в Белом доме.
Он как раз читал «Оружие в августе», замечательно изложенный доклад Барбары Тачмэн об ошибках правительств, которые привели к первой мировой войне. Он решил их не повторять, если не хотел оказаться в том же положении. Если бы кто-то дозрел до того, чтобы написать об октябрьском ракетном кризисе, сказал он, то «им пришлось бы понять, что мы предпринимали усилия ради мира и для того, чтобы заставить нашего противника двигаться. Я и пальцем не пошевелю, чтобы что-то сделать в отношении русских кроме того, что необходимо»[214]. Возможно, любой президент в тот момент почувствовал бы то же самое; но Кеннеди придерживался этой позиции в течение всего кризиса с удивительной твердостью и последовательностью и преодолел все обстоятельства с большой ловкостью. Его склонность решать все мирным путем не была обычной реакцией его поколения, которое вынесло на себе основную тяжесть второй мировой войны и с тех пор жило под ядерной тенью. В равной мере автор книги «Почему Англия спала» был привержен и невротическому антимилитаризму Британии и Америки 30-х годов. Его желание обезопасить мир было связано с тем, что глубоко укоренилось в его натуре — ответственностью, которую он ощущал за команду ПТ-109, как и за все человечество; он чувствовал, что, как один из Кеннеди и как лидер в семье, он не должен в этой ситуации, бросающей вызов, уронить честь своей семьи неосмотрительностью или бойкими сужениями; он желал счастья и своим детям, чье будущее он хотел сохранить (в этом он был очень похож на своего отца); и он знал, что если события плохо скажутся на его жизни и жизни тех, кого он знал, то конец будет печален. В 1962 году судьба мира находилась в руках далеко не незначительного человека, а октябрьские ракеты кого угодно побудили бы серьезно задуматься.
Он не был поджигателем войны, как некоторые из критиков описывали его после смерти. Как человек, попавший в трудное положение, он произнес множество не очень разумных воинственных речей и чепухи в самой плохой старой традиции. Он был изначально неспособен действовать, кроме как считая, что все лица, стоящие у власти, с подозрением относятся к тому, что они ясно видят и причины чего представляются несомненными (он испытал шок во второй раз, когда понял — а это случалось с ним регулярно, — что его представления очень оптимистичны. Он считал, что Советский Союз — агрессивная страна, которой следует энергично противостоять, и предприятие с ракетами убедило его в том, что он был прав: но он также считал, что если он как следует постарается, то советские лидеры однажды увидят происходящее в его истинном свете. Республиканцы были рады выразить ему свое недоверие: он вел переговоры и объявил в своей инаугурационной речи о том, что не будет проводить крестовых походов против «красной угрозы».
Все это помогало ему справляться с кризисом, но было необходимо большее. Ему недоставало умения судить и ловкости игрока в покер, а еще — холодной головы и благородного сердца, чтобы достичь желаемого. Все это наилучшим образом проявилось на пятый день кризиса, в субботу 20 октября, когда Эдлей Стивенсон начал настаивать на том, что Соединенным Штатам следует убрать свои ракеты из Турции и Италии, если Советский Союз сделает то же со своими ракетами на Кубе. Он также предложил оставить базу США на Кубе в бухте Гуантанамо. Стивенсону пришлось дорого заплатить за выдвинутые им предложения[215], но, помимо Гуантанамо, было и другое реальное, если не самое скрытое, основание, чтобы решить этот спор. Но 20 октября Кеннеди видел, что Соединенные Штаты не могут предоставить по меньшей мере двух союзников советской угрозе. Было еще не время раскрывать карты.
Но, тем не менее, наступило время действовать. С каждым днем приближался момент, когда ракеты были бы использованы. После долгой и жаркой дискуссии Экскомм отказался от предложения вторгнуться на Кубу, по крайней мере вначале. Бобби Кеннеди с жаром доказывал, что неожиданная атака дискредитирует Соединенные Штаты в глазах всего мира. Других — возможно, памятуя о Бей-оф-Пигз, отговорили, уверив в том, что вторжение повлечет большие жертвы со стороны США, а исход дела не столь определен: если американские солдаты начнут воевать с советскими, то что получится в итоге? Их обеспокоенность была бы больше, если бы они знали, что на остров высадились советские войска численностью 43 000 человек, а не 10 000, по оценке ЦРУ, и самым большим безрассудством со стороны советского правительства было то, что они действительно послали тактические и стратегические ядерные боеголовки на Кубу и, вероятнее всего, использовали бы их в случае атаки со стороны американцев[216]. Уже стало ясно, что разница между тактическими и стратегическими ядерными боеголовками была незначительной: использование первых быстро привело бы к эскалации и использованию последних.
Вопрос об этом был далеко не праздным. Если бы Советы применили тактические ракеты, чтобы предотвратить вторжение армии США, то Кеннеди, скорее всего, дал бы санкцию на ядерную контратаку — возможно, чтобы вызвать стратегические изменения, и мир подошел бы к краю гибели. То, что Хрущев должен был поступить таким образом, полностью противоречило принятой советской практике и до сих пор кажется невероятным; размышление над этим фактом сегодня помешает нам понять чувство огромного недоверия, с каким Кеннеди реагировал на первые новости о ракетах. Он никогда не представлял, что Хрущев мог быть столь безрассуден и лишен здравого смысла, что объясняло его собственную медлительность (и его советников) в восприятии приближающейся угрозы[217].
Экс-комм пришла к выводу, что только реальная возможность немедленного вторжения могла это остановить — Кеннеди предпочитал называть это «карантином», тем самым избежав определенных проблем с международным правом. Введенное жесткое эмбарго в отношении советских военных кораблей на Кубе доказывало, что правительство США действовало верно и, возможно, побудило русских убрать ракеты, что они смогли сделать с минимальной потерей авторитета. Если бы они твердо продолжали придерживаться своей позиции, то вторжение было бы предпринято. Кеннеди принял эту рекомендацию 20 октября, и немедленно началась политическая, дипломатическая, военная и морская подготовка. Столь большая активность не могла быть скрыта от репортеров тех немногих газет, которые поняли, что это означает, но их убедили хранить молчание, воззвав к их патриотизму. Все, что знал американский народ, — это то, что президент неожиданно отошел от дел, связанных с предвыборной кампанией (выборы в конгресс шли полным ходом) из-за простуды и что он обратится к народу по телевидению вечером в понедельник 22 октября. Шел седьмой день кризиса.
Это была самая важная речь в его жизни, хорошо исполненная. Язык был лишен литературных украшений: вопрос был для этого слишком серьезен. Как всегда, Соренсен набросал речь и затем пересмотрел в свете других предложений, но основным редактором был сам Кеннеди, внеся дюжину поправок, некоторые из них — довольно большие (для короткой речи) и существенные[218]. Окончательный вариант обладал прямотой, краткостью и касался сути дела, в речи говорилось о серьезной опасности, которая неожиданно возникла, о лжи со стороны Советов, о том, что намеревается делать администрация и как она надеется, что Советы все же передумают. Единственной фальшивой нотой было обращение к «захваченному кубинскому народу», который ввели в заблуждение. В основном обращение было адресовано к народу Соединенных Штатов: «Дорога, которую мы сейчас выбрали, полна опасности, как и другие, но она соответствует нашему характеру, смелости нации и нашим намерениям по всему миру. Цена свободы всегда была высока — но американцы всегда ее платили. Дорога, которую нам никогда не надо избирать, — это подчинение»[219]. Речь сплотила американцев; возможно, это не было неожиданностью, учитывая, как сильно Кеннеди акцентировал внимание на нужных понятиях — «свобода», «подчинение», «мир»; его искренность — «правительство чувствует себя обязанным рассказать вам об этом кризисе во всех деталях»[220] — также произвела впечатление; он также воззвал к жертвенности и самодисциплине. Вера граждан в свою страну и ее институты, включая президентство, все еще была сильна: двадцать один год войны и «холодная война» научили их, чего можно ожидать и как себя вести в подобных экстренных ситуациях. Короче говоря, они успешно вышли из кризиса. Они испытывали некоторое беспокойство, а иногда даже были в панике, но большинство приняло президентский выбор и решило привести русских в замешательство. Возможно, они не могли полностью осознать, насколько опасна была ситуация, но, несомненно, ими руководил патриотизм: Кеннеди предупредил их об опасности, и средства на оборону резко возросли, став самыми большими за все время его президентства. К этому кризису готовились. Но здесь примешивался и другой фактор. Той осенью журналисты и политики возбуждали агитацию по кубинскому вопросу по всей стране, волна чувств народа, отчасти выразившаяся в письмах, посланных в газеты, была сильна, как ни по одному международному вопросу. Ракетный кризис сработал как предохранительный клапан для потока эмоций: Кеннеди наконец действовал. В каком-то смысле это было платой за его беспокойство о Кастро.
Реакция из-за рубежа была более смешанной. Гарольд Макмиллан сразу же высказался: «Сегодня американцы могут понять, как мы здесь, в Англии, жили в течение последних нескольких лет»[221]. Британское общественное мнение разделилось (односторонняя агитация достигла своего апогея) и, соединенное с естественным беспокойством, в результате придало скептицизма по отношению к заявлениям американцев. Но британское правительство твердо стояло на своих позициях; более ясно высказалось французское правительство, хотя антиамериканские настроения сильно давали о себе знать: так же поступила и Западная Германия, искусная дипломатия США сплотила Организацию американских штатов, чтобы придать легитимность карантину; Эдлей Стивенсон успешно изобличил Советский Союз перед ООН. Возможно, все это не имело большого значения. Все ложилось под ответственность советского правительства: и по меньшей мере неделю это оставалось нерешенным. В Вашингтоне нервы были натянуты сильно.
Казалось, в Москве они были напряжены еще сильнее. Хрущев, виртуоз ложных ультиматумов, обезумел, увидев, к чему идет дело. Игрок зашел в своем блефе слишком далеко, и теперь его призвали к ответу. Он не осмелился поднимать ставки (это важно, если вспомнить, что в продолжение всего кризиса Соединенные Штаты никогда не грозили использовать ядерное оружие), но вряд ли бы выдержал унижение от пережитого поражения. Казалось, он был искренне изумлен — и в равной мере рассержен и озадачен — действиями Кеннеди. Несомненно, он убедился, наряду с другими ошибками, в том, насколько неправильно было уверовать в свою пропаганду. Но, терзаясь, он не мог избежать выбора, к которому его побуждали Соединенные Штаты. Покуда был велик риск войны и вторжения США на Кубу, что он стремился предотвратить в первую очередь, карантин следовало продолжить; все советские корабли, несущие ядерное оружие, должны были вернуться домой, и в среду 24 октября (на девятый день кризиса) был дан сигнал начать. «Мы предпочли действовать око за око, — сказал Дин Раск, — в то время как другие предпочли закрыть на это глаза»[222].
Чем дальше — тем больше. Но основной задачей было убрать с Кубы уже размещенные ракеты, и это бы сделало поражение Советского Союза еще более ощутимым. И на это было отпущено очень мало времени. Правительство США решило, что они будут убраны до того, как их приведут в рабочее состояние. Работа в местах расположения ракет шла лихорадочно, как отметил Кеннеди в своем заявлении в пятницу 26 октября: «Эта деятельность со всей очевидностью направлена на достижение полной боевой готовности со всей возможной быстротой»[223]. Это следовало остановить, в противном случае Соединенным Штатам пришлось бы послать туда свои войска: самое позднее, в понедельник 29 октября, как порекомендовал объединенный комитет начальников штабов[224]. Затягивание таило в себе и другую опасность — опасность выхода ситуации из-под контроля высшего командования другой стороны. Кеннеди отдал приказ посадить все У-2 кроме тех, которые наблюдали за Кубой, но в субботу один из самолетов, базировавшихся на Аляске, не только взлетел, но и вторгся в советское воздушное пространство над Сибирью. «Всегда найдется какой-нибудь сукин сын, который не понимает слов», — сказал Кеннеди[225]; Советы тоже не приняли этот полет за начало атаки, и в тот же день другой У-2 был сбит над Кубой ракетой типа «земля-воздух»; местное советское командование действовало по своему усмотрению (с сердечного одобрения Фиделя Кастро) в случае, если бы американцы предприняли неожиданную атаку (Москва была разгневана)[226]. Было ясно, что если Кеннеди и Хрущев сохранят контроль над кризисом, то все сразу же закончится.
К счастью, теперь стало ясно, на каких условиях это могло закончиться. Ракеты пришлось бы убрать; в свою очередь, Соединенные Штаты согласились бы не вторгаться на Кубу. Они не считали, что именно так все и будет, поэтому уступка была незначительна, но применение ими военной силы, понятно, насторожило Советы; публичный отказ Кеннеди от любого подобного проекта значительно укреплял международные связи. Из сверхсекретных переговоров между Бобби Кеннеди и советским послом также стало ясно, что ракеты «Юпитер» в Турции, стоящие возле советских границ, к чему Хрущев столь часто апеллировал, будут убраны, так как их сравнение с ракетами на Кубе было весьма прозрачным. Администрация Кеннеди была более чем готова пойти на эту уступку, опасаясь, что в противном случае Хрущев предпримет еще какие-нибудь действия против Западного Берлина; кроме того, ракеты были технически устаревшими и должны были быть убраны тем более, чтобы это не побуждало Турцию долго оставлять их в качестве основного оружия. Чувствительность турок следовало по возможности уважать (хотя президент был готов обойти ее своим вниманием, если бы мог, несмотря на то, какой бы вред это ни нанесло доверию Европы к Америке)[227]. К счастью, русские приняли само предложение и необходимость соблюдать секретность. Кеннеди опубликовал свои официальные тезисы 27 октября; Хрущев услышал их по радио на следующий день. Кеннеди сделал публичное заявление, и кризис неожиданно закончился. Ракеты были убраны в течение следующих нескольких недель.
«Он оказался чертовски хорошим игроком в покер, должен сказать», — прокомментировал Линдон Джонсон[228]. Когда Экс-комм собрался 28 октября, чтобы подтвердить поражение русских, все встали, когда в комнату вошел президент: он завоевал свое место в истории[229]. Но не все так думали. 29 октября обрадованный президент счел, что следует задобрить тех начальников штабов, чьи воинствующие советы он столь непреклонно отвергал. Он пригласил их в кабинет, и начальник военно-морского штаба сказал: «Они нас сделали!», а начштаба военно-воздушных сил известный генерал Кертис Ле Мэй опустился на стул и сказал: «Это самое большое поражение в нашей истории, мистер президент… Нам следует сегодня начать вторжение!» Неудивительно, что на следующий день Кеннеди говорил Артуру Шлезингеру, что начштабов были рассержены, и двумя неделями позже заметил Бену Брэдли, своему другу-журналисту, что «первый совет, который я дам своему преемнику, — это наблюдать за генералами и избегать того, чтобы они думали, что их мнения по военным вопросам чего-то стоят только потому, что они являются военными людьми»[230]. Но это было единственным пятном на светлом полотне достижений и надежд. Он позволил себе наконец улыбнуться республиканцам, которые, как только миновала опасность, опять начали атаковать (некоторые даже полагали, что он инициировал этот кризис, чтобы в ноябре выиграть выборы). По крайней мере, он перехватил инициативу у Советского Союза и направил развитие международных отношений по пути, который считал необходимым.
Трудности переговоров с русскими сильно напоминали о себе; терпение, изобретательность и решительность все еще оставались основными качествами, когда приходилось иметь дело со столь упрямым и непредсказуемым правительством; но теперь успех был возможен, в отличие от прежнего положения дел. Обе стороны получили некоторые существенные представления о мире, в котором они жили, и друг о друге. Они поняли, что не следует играть с ядерным оружием, но что самое важное — это не загонять своего оппонента в угол; поняли, что ни одна из сторон не желала войны, что не следует недооценивать желаний и намерений друг друга. Это объясняло все, что говорил Кеннеди с тех пор, как вошел в Белый дом. Он снова резюмировал это в своей речи в Американском университете в Вашингтоне 25 июля 1963 года, где видно, какую мораль он извлек из ракетного кризиса, в котором участвовали как американцы, так и русские: «Прежде всего, защищая наши собственные интересы, мы говорили, что ядерные державы должны предотвратить конфронтацию, которая побудила противника к выбору между позорным отступлением и ядерной войной. Принять этот путь в ядерный век означало бы банкротство нашей политики — либо всеобщее пожелание смерти всему миру. Чтобы этого не произошло, американские ракеты не являются провоцирующими, они находятся под тщательным контролем, предназначены для защиты и способны выбирать цель. Наши военные силы призваны охранять мир и воспитаны в самоограничении. Нашим дипломатам даны указания избегать вызова необязательного беспокойства и враждебных высказываний»[231]. И снова он настаивает на важности избегания неверных расчетов, предлагая установить телефонную «горячую линию» между Москвой и Вашингтоном, чтобы «обойти с обеих сторон опасные отсрочки, недопонимание и неверное истолкование других действий, которое могут произойти в период кризиса»[232]. (И которые, как он мог бы добавить, являлись наиболее тревожными аспектами ракетного кризиса). Кроме того, он утверждал: «Давайте не будем слепы к нашим различиям, но также давайте направим внимание не наши повседневные интересы и средства, с помощью которых эти различия могут быть разрешены. И если мы не можем стереть их сейчас, то по крайней мере сумеем сделать мир безопасным в его разнообразии. Потому что в конечном счете мы все живем на этой планете, мы все дышим одним и тем же воздухом. Мы все нежно оберегаем будущее наших детей, а все мы смертны»[233].
Это можно назвать тезисами Кеннеди, и его объективный здравый смысл наконец нашел отклик и отзывчивую аудиторию в Москве. Если верить его мемуарам, Хрущев был убежден — как тогда, так и после отставки — что «карибский кризис явился триумфом советской внешней политики»[234]. Было очевидно, что Кастро выжил, и ракеты «Юпитер» убрали из Турции. Но даже Хрущев должен был признать, что тех же результатов можно было достичь гораздо менее опасным путем; голым фактом было то, что Советский Союз, идя на конфронтацию с решительными Соединенными Штатами, за неделю потерпел поражение, в то время как до этого шумно угрожал. Эпоха оживления советского авантюризма подошла к концу: следовало выработать новую политику. Поэтому тезисы Кеннеди были приняты и стали основой американо-советских отношений (хотя другая сторона не очень придирчиво их рассмотрела) до конца «холодной войны». Они вводили во вторую фазу конфликта и объясняли, почему больше не произошло другого кризиса, подобного берлинскому, или другого разрыва в русско-американском диалоге до вторжения в Афганистан в 1979 году и почему, к худу или к добру, Соединенные Штаты не выдвинули серьезного протеста против интервенции русских в Чехословакии в 1968 году, как и Советский Союз не сделал большего по вопросу о войне против Вьетнама. Сделали ли сверхдержавы мир более безопасным в своем разнообразии — более чем сомнительно, но по крайней мере мировая война была предотвращена. Была от этого и другая польза. Со дня инаугурации Кеннеди надеялся добиться подписания договора о запрещении ядерных испытаний, который СССР упорно отвергал по той причине, что Соединенным Штатам требуется провести инспекцию слишком многих военных объектов. Это возражение оставалось, но теперь был открыт путь для договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, что способствовало бы оздоровлению Земли и объявило о начале новых взаимоотношений между Россией и Америкой. 25 июля 1963 года этот договор был подписан в Москве. Это было время больших надежд, которое бы не наступило, не обладай Кеннеди авторитетом, завоеванным им благодаря умелому управлению ракетным кризисом.
Кеннеди хотел, чтобы этот договор стал предтечей следующих шагов, и действительно, в последующем был подписан договор о нераспространении ядерного оружия, и позже — первый договор об ограничении стратегических вооружений. Они оба укладывались в традицию. Но основное различие оставалось. Например, советские маршалы сделали очень простые выводы из ракетного кризиса: СССР никогда не должен быть превзойден в вооружении своим противником. Поэтому они ускорили гонку вооружений; с обеих Сторон количество ядерного оружия неимоверно возросло (этого уже было достаточно, чтобы обеспокоить Кеннеди); в этом отношении, и ни в каком другом, Советский Союз отчасти превзошел своего соперника. Две супердержавы смотрели друг на друга в течение более двадцати лет сквозь решетку ракет. В этом не было никакого экономического смысла, это серьезно увеличило риск для всего человечества, и оно являлось постоянным барьером на пути к взаимопониманию между Востоком и Западом. В этом отношении нельзя было сказать, что ракетный кризис закончился благополучно. До тех пор, пока в 80-х годах Советский Союз не взорвался изнутри, невозможно было договариваться о реальном прекращении ядерной конкуренции; и само падение коммунистического режима сделало возможной эту развязку, но в то же время и создало риск возникновения хаоса, который бы помешал реализовать эти планы. Все это предполагало, что Кеннеди не извлечет много из своей попытки ослабить напряженность между двумя государствами, даже если Хрущев стремился продвинуться на пути к достижению мира и сотрудничества. Это заставляло думать, что исключительно дипломатический подход к проблеме ракет, как предлагал Эдлей Стивенсон, был бы более предпочтителен в долгосрочном плане. Что касается краткосрочных, то у Кеннеди был небольшой выбор, чтобы действовать как-то иначе: но затем — и это мы видели тоже — он отчасти сам спровоцировал кризис.
Ракетный кризис не помог ему также решить проблемы, которых было достаточно много и у Западного альянса. Генерал Де Голль, президент Франции, оказал Кеннеди решительную поддержку, однако он видел, что если президент Соединенных Штатов и председатель советского правительства приведут мир к краю гибели и удостоят своих партнеров не более чем вежливым извинениям[235], то стране — например, такой, как голлистская Франция — придется положиться на свою судьбу и вновь обдумать их альянс; и так как путь выхода из НАТО для Франции будет открыт, то французская независимая возможность наложения запретов, как и вето Франции на вступление Британии в Европейское сообщество — все это будет сметено политикой США. Напротив, похожий кризис с Британией в начале зимы 1962 года, последовавший сразу же после ракетного кризиса, когда Соединенные Штаты необдуманно лишили Британию ее основной опоры в виде так называемой независимой ядерной сдержанности, запретив производство ракет «Скайболт», не был прямым результатом кубинских событий; с другой стороны, получив от правительства Макмиллана поддержку в пользу администрации Кеннеди — не в октябрьские дни, а во время Бей-оф-Пигз, впрочем, как и в других случаях, — американцы вряд ли сказали бы «нет», если бы Макмиллана попросили бы дать пусковую установку, расположенную на субмарине, вместо уже обещанных «Скайболтов». Как объяснил Дин Раск: «Нам нужен кто-нибудь, чтобы помогать нам общаться с миром»[236]. Но немедленным последствием этого было дальнейшее отчуждение Де Голля; впоследствии это означало неверное понимание британскими политиками надлежащего места своей страны в мире; вероятно, для президента Соединенных Штатов это имело небольшое значение.
Для него было важно, что ракетный кризис ничего не принес для установления более рациональных отношений с Кубой. Кастро был разгневан тем, как русские себя повели, заставив его принять ракеты как акт коммунистической солидарности, затем провели все решения, даже не проконсультировавшись с ним, а затем предоставили их янки, которым Кастро готов был более чем не повиноваться. (Он говорил, что Куба скорее умрет, чем сдастся, и если он действительно намеревался использовать тактическое ядерное вооружение, которое имелось в его распоряжении, то, несомненно, исходом было бы уничтожение Кубы в вооруженном конфликте). Оставаться спутником Советов означало попасть в невыгодное положение, предпочтительнее выглядело достижение согласия с Соединенными Штатами. Случай представился, когда после напряженных дипломатических усилий со стороны американцев Кастро согласился выдать заключенных, участвовавших в операции Бей-оф-Пигз, в обмен на медикаменты на сумму в 500 000 долларов. Заключенные вернулись к Рождеству в свои семьи, и Кеннеди мог с удовлетворением отметить, что теперь он выполнил свое обязательство по отношению к кубинским беженцам. Он подтвердил это, появившись со своей женой на больших гонках, устроенных для них в Майями 29 декабря 1962 года, когда ему было передано знамя бригады эмигрантов, и он произнес следующее: «Этот флаг будет отдан этой бригаде в свободной Гаване. С помощью «Альянза пара эль прогресо» мы поддерживаем Кубу и все страны этого полушария в их праве на свободные выборы и то, чтобы они испытали все права, предоставленные человечеству, и уверен, что на Кубе — и в правительстве, и в армии, и в милиции — многие сохранили веру в свободу, кто видит опасность гибели свободы на своем острове»[237]. Давний романтизм все еще давал о себе знать; его выражение в данном случае было очень неуместным и плохо повлияло на развитие дел в другом отношении.
Как часть соглашения между Кеннеди и Хрущевым Соединенные Штаты обещали снять свою блокаду, как только ООН удостоверится, что все ракеты убраны с острова, но Кастро отказался от проведения инспекции ООН, поэтому блокада оставалась; это нежелание со стороны коммунистов выполнять свою часть сделки освободило Кеннеди от его обещания не прибегать к вторжению. Ничему не научившись в этом отношении у ракетного кризиса, он обрадовался возможности возобновить угрозу применения военной силы. Хотя Совет национальной безопасности положил конец операции «Мангуста» вскоре после окончания ракетного кризиса, попытки саботировать кубинскую экономику продолжались — с энергичного одобрения генерального прокурора. Дело ухудшало то, что ЦРУ продолжало вынашивать грязные планы убийства Фиделя Кастро и не прекратило это делать и в ноябре 1963 года — возможно, без ведома Кеннеди.
В подобных обстоятельствах общеизвестная готовность Кеннеди (выработанная в осторожных контактах с достойными доверия посредниками) к переговорам с Кастро мало что давала, и так как его действия в равной степени вызывали отказ Кастро (нарушение политической жизни во всей Латинской Америке, высылка всех советских военных с Кубы и окончание его эксперимента с социализмом), трудно было поверить, что переговоры, даже если бы они были проведены, к чему-либо привели: со всех сторон было бы лучше, если бы тратилось поменьше слов[238]. Возможно, Кеннеди изменил бы свою политику, если бы его избрали на второй срок; возможно, его твердую позицию можно было объяснись исключительно необходимостью подвести Флориду к выборам 1964 года (он хорошо знал этот штат); может, он устыдился, когда понял, что спустя тридцать лет после того, как он безуспешно пытался взяться за дело, блокада США все еще существовала, и едва ли было что-либо труднее этого; в то же время, вопреки или благодаря американской агрессии, власть Кастро укрепилась еще больше. Обещанные Кеннеди бедствия кубинскому народу почти ничего не достигли. Отвергнутые кубинские эмигранты спустя какое-то время вернули свой флаг.
Если бы Кеннеди считал, что кубинская политика была, возможно, самым большим его поражением, то он никогда бы о ней не упомянул. Скорее, он понимал, сколь огромен выигрыш, который ему принесли ракетный кризис и летом 1963 года — договор о запрещении ядерных испытаний в глазах американского общественного мнения. Народ Соединенных Штатов не был в целом столь воинственен, как лидеры правых, например, Бэрри Голдуотер, на что он всегда претендовал. В стране никогда не существовало серьезного движения за ядерное разоружение, но все понимали, что могло за собой повлечь изменения в ядерной безопасности, и были рады этой передышке, которую, как они считали, сохранил для них президент (который потратил предыдущие два года на то, чтобы их напугать). В сентябре 1963 года Кеннеди всерьез задумался о своей следующей избирательной кампании и предпринял несколько «неполитических» поездок, чтобы опробовать почву и по возможности укрепить поддержку. Первая поездка была на Запад, где в 1960 году его позиции не были особенно хороши; он считал, что несколько речей о сохранении существующего порядка могут принести некоторую пользу. Но вскоре он понял, что договор был гораздо более выгодной картой. Старый изоляционистский пацифизм, который однажды был провозглашен одним из основных принципов политики региона, мог уже не иметь былого влияния, но тем не менее все еще оставаться широко принятым, настоятельным и здравым стремлением к миру и безопасности. К его удивлению, речь, превозносившая договор, имела огромный успех в Солт-Лейк-Сити — в том же месте, где в 1960 году он почувствовал наибольшую необходимость бить в барабаны «холодной войны». Он вернулся в Вашингтон, убежденный, что нашел пункт, который поможет ему выиграть, особенно учитывая то, что республиканцы были столь неблагоразумны, что выдвинули в кандидаты Голдуотера, одного из небольшой группы сенаторов, который голосовал против ратификации договора о запрещении ядерных испытаний 24 сентября. Он все еще был способен зажечь дух патриотизма, если было необходимо: речи, которые он произнес в ноябре в Техасе, и те, с которыми он собирался выступить, были полны пыла, направленного против русских. Но Техас был другим сомнительным штатом, как и Флорида. В целом можно сказать, что в течение 1963 года смысл его президентства полностью изменился, и это относится к внешней политике в той же мере, как и к другим аспектам его деятельности, и поиски мира сменили кампании за свободу в качестве определяющего интереса администрации Кеннеди. Это была новая фаза; насколько последовательно она будет принята, как долго продлится и с каким успехом — этого мы никогда не узнаем.
Глава 6
РЕВОЛЮЦИЯ
Оглядываясь назад, в 1961 год, когда Кеннеди вступил в должность, мы видим, что страна была готова к глубоким и быстрым изменениям, которые сравнимы лишь с отменой рабства. Непопулярная система расовой несправедливости потерпела крах, и единственным выбором, оставшимся на долю американцев и американских политиков, было ускорить ее падение, либо тщетно ей сопротивляться, либо равнодушно стоять в стороне. За все надо было платить. Именно поэтому, чтобы завоевать постоянное доверие мыслящих людей и укрепить принципы, администрации Кеннеди и Джонсона решили помочь переменам по возможности скорее, оставаясь осмотрительными и принимая во внимание все детали. Ни Кеннеди, ни Джонсон не намеревались жертвовать будущим успехом во имя восхищения в настоящий момент по поводу собственной праведности. Не забывали и о том, что у президента Соединенных Штатов есть и другие обязанности помимо спасения расовой справедливости, которая вызывала у их более радикальных сторонников нетерпение; но в конце концов к их суждению прислушались, и все сооружение сегрегации и белого превосходства рухнуло. Это был один из блестящих моментов в американской истории, и роль Кеннеди, который подтолкнул к этому, является одним из ярчайших подтверждений его репутации.
Этот вопрос не стоял столь остро до того, как Кеннеди стал президентом. Его открыто демонстрируемое мнение по расовому вопросу было частью взглядов его партии, но его истинная важность была для него не столь очевидной. Часто посещая Вашингтон до 1947 года и впоследствии став его постоянным жителем, регулярно совершая поездки во Флориду, объездив всю страну, будучи кандидатом, он вынес для себя убеждение, что система белого превосходства неверна, жестока, смешна и невыносима. Но он не знал о жизни негров (как затем предпочли называть этих людей) кроме того, что они могут быть слугами или политическими деятелями. Он поддерживал их сторону, но также считал необходимым работать с белыми лидерами Юга, уважая их мнения и интересы (это отношение объясняет, почему он был столь расположен к демократам-южанам в 1960 году). Он не отождествлял себя с афроамериканцами (число черных избирателей в Массачусетсе было мало). Он был способен на неожиданные всплески щедрости и лидерства, например, когда позвонил Коретте Кинг во время кампании 1960 года, но он не смотрел на Соединенные Штаты с точки зрения афроамериканцев, с которой, кстати, он и не очень хорошо был знаком, его брат Бобби позже сказал об этом времени: «Я не потерял много сна из-за черных, я не думал о них много, я не знал обо всей несправедливости»[239], и Джек мог сказать о себе то же самое. Мир Кеннеди был удобен, состоял из северян и белых. Расовый вопрос не был настоятелен для Джека. Он считал, что большинство насущных проблем, с которыми он столкнулся в 1961 году, связаны с внешней политикой. Он думал, что сегрегация приобретает большой смысл для президентов потому, что для Соединенных Штатов становится невозможным играть роль знамени демократии, в то время как на трети их территории преобладает система ужасающей несправедливости. Он полагал, что его вклад во внешнюю политику определит исход выборов 1954 года и что его переизбрание окажется невозможным, если он отдалится от белого Юга. Но он также не хотел, чтобы события направляли его действия. Президент должен быть хозяином положения.
Но Соединенные Штаты уже стояли на пороге революции. Это слово с легкостью используют историки, как и остальные, и если оно что-нибудь обозначает, то в нашем случае подходит как нельзя более. История негров продолжительна, сложна и далека от окончания, но лучше всего может быть понята через свое развитие, прошедшее четыре фазы. Первая фаза — это насильственный вывоз рабочей силы из Африки, постепенно превратившийся в пресловутую работорговлю в Атлантике, что, в свою очередь, сформировало общество рабов, которое набрало силу, стало прочным и одновременно подверглось наибольшему угнетению в конце XVIII века. Затем последовал период лихорадочной экспансии, во время которого, тем не менее, начали развиваться силы, разрушающие рабство; гражданская война явилась кульминацией и закономерным окончанием этой фазы. На третьей фазе повторилось то же самое: утвердилась новая система расового угнетения (не только на Юге, в своем наихудшем варианте), которая спустя почти век (включавший в себя президентство Кеннеди) была готова рассыпаться в прах. После периода Второй реконструкции черные американцы, которые в XIX веке помогали уничтожать рабство, могли сказать, что в XX веке они добились гражданства и политического равенства. Началась четвертая фаза, но было весьма очевидно, что работа по завоеванию существенного социального и экономического равенства будет завершена только в XXI веке; имея с 1973 года[240] постепенный экономический рост, необходимые усилия могли стать слишком большими и затянувшимися, как и в предыдущие периоды. И все же не следовало отчаиваться, так как в XIX и XX столетиях необходимая энергия наконец была приобретена, и она придала социальным преобразованиям удивительную скорость, что и можно назвать революцией.
Медленно появлялась возможность свергнуть старый порядок на Юге, по крайней мере немного, начиная со второго периода пребывания Эйзенхауэра у власти. Препятствия были огромны. Здание структуры белого превосходства было пугающе большим; за двумя незначительными исключениями (Истес Кефаувер[241], Альберт Гор-ст., Линдон Джонсон и Клод Пеппер были теми немногими, кто это понимал и глубоко разделял эту мысль), существовало опасное меньшинство воинствующих расистов, готовых убивать, стрелять, калечить и жечь, чтобы поддержать систему; белое большинство, сравнительно пассивное, тем не менее было готово поддержать единой командой цели и проигнорировать методы этого меньшинства; легальная система — местная, государственная или чаще федеральная — оставалась частью сегрегационистской структуры; экономическая власть находилась непосредственно в руках белых; культура Юга молчаливо соглашалась пребывать в статус-кво, который включал в себя вечный страх, смирение и лишения для всех черных американцев, даже если они составляли большинство местного населения или если достигли какой-то степени экономической независимости[242]. Черные жили под постоянной угрозой, им также был закрыт доступ к получению образования, работы и жилья — всех основных завоеваний, предоставляемых американцам. Что касается остального, то не все в Соединенных Штатах было так плохо, но оставалось достаточно много глубоких расовых предрассудков, которые не допускали какого-либо прогресса по отношению к афроамериканцам; именно на Севере движение за гражданские права потерпело в конце концов поражение. Но прежде оно победило на Юге.
Эта победа стала возможна прежде всего благодаря тому, что черные американцы наконец захотели управлять своей судьбой. Этого не могли понять даже многие белые либералы, особенно южане. Они поддерживали гражданские права и выступали за устранение белого превосходства (платформа Демократической партии была заявлена, самое большее, с 1948 года), но считали, что контролируют ход событий, что от них зависит, когда следует предпринять действия. Они ожидали, что черные примут приоритеты белых. В 1960 году все эти предположения устарели, действительно эффективное воздействие на изменение оказали сами черные, и черным лидерам — например, из Национальной ассоциации содействия цветному населению (НАСЦН), — пришлось откликнуться на это воздействие. Одной из черт величия Мартина Лютера Кинга, характеризующей его, была следующая: он отправился в тюрьму потому, что его активисты сказали, что ожидают от него этого поступка. Коротко говоря, ближайшее будущее Соединенных Штатов находилось в руках бедных и униженных. Это был реальный факт, который президенту Кеннеди пришлось осознать и принять во внимание. Как и генеральному прокурору. Это был нелегкий процесс, но он, наконец, закончился и привел к самому большому достижению — постоянному, достойному и недвусмысленному.
Джек Кеннеди поддерживал права черных как нечто само собой разумеющееся, и на своем пути к президентству он предпринял усилия, чтобы убедить Роя Уилкинса из НАСЦН и других лидеров черных, что он говорит дело по этому вопросу[243]. Но в 1960–1961 годах он стал более одержан, как его описывают историки. Это было верно лишь отчасти, так как он знал, что не сможет выиграть ни на кандидатских, ни на президентских выборах, пока не станет приемлемо относиться к белому Югу. Он не считал, что только радикальные действия (которые он называл экстремизмом) могут уничтожить сегрегацию; введенный традицией в заблуждение, чего не исправило его гарвардское образование, он считал, что в основе этого затруднения лежит не расизм южан, а их гордость. Он полагал, что Первая реконструкция потерпела поражение потому, что проводилась в жизнь федеральными чиновниками, которые нанесли ущерб принятием неверных законов, имея дело с коррумпированными законодателями и необразованными черными лидерами на Юге, которые в противном случае вели бы себя здраво после разгрома в гражданской войне. Он остро и постоянно критиковал президента Эйзенхауэра за то, что тот послал войска в Литтл-Рок во время кризиса 1957 года: ему никогда не следовало допускать развитие событий до этого. Кеннеди в качестве президента общался с Югом гораздо тактичнее. Наконец, как и любой другой президент, он рассматривал гражданские права как одну из проблем, с которыми он имел дело; ей следовало ждать своей очереди, когда ей уделят внимание и займутся ею. Как он замечал, если его экономическая программа не пройдет через конгресс, то черные трудящиеся пострадают от этого не меньше, чем белые. «Если мы подведем Спаркмена, Хилла и других умеренных южан к многочисленным требованиям по гражданским правам, которые больше нельзя игнорировать, — обращался он к южанам, — что произойдет с черными, если их оставят с минимальной зарплатой, жильем и всем остальным?»[244]. Он не предвидел, что даже по вопросам, не касающимся гражданских прав, он не мог достичь большего сотрудничества с демократами-южанами, как бы деликатен он ни был.
Это были обычные политические воззрения и расчеты, но политика гражданских прав не являлась обычной (даже если когда-либо казалась таковой). Ход событий имел свою ломку и стратегию развития. В 1961 году до подчиненной позиции была сведена легальная стратегия НАСЦН, которая с успехом добилась того, что в суде сегрегация была признана неконституционной. Автобусный бойкот в Монтгомери в 1955–1956 годах показал, что произойдет позже, в конце 60-х годов, и придал исключительную значимость лидеру бойкотирующих — Мартину Лютеру Кингу[245]. Кинг был священником-баптистом и последователем Ганди и по этой причине исповедовал философию ненасилия: он полагал, что только так могло слабое черное меньшинство победить сильное и жестокое белое большинство на Юге. Движение черных должно было опираться на библию и конституцию и привлечь сознание белых в свою сторону. Только для приверженцев имело значение происхождение этой философии, но в ее пользу говорил и другой довод — психологический: остальные должны были видеть, что все это оказывает свое действие. Автобусы в Монггомери были собраны во имя Кинга и ненасилия, все больше и больше черных — особенно молодежи — требовали права своему народу на беспрепятственный проезд, возможность обедать в ресторанах, жить в гостиницах, учиться и развлекаться так, как и другие американцы. Эта активность вела прямо и неуклонно к сильным столкновениям с властями белого большинства в самой ужасной форме; это поддерживало интерес к вопросу в умах всего американского народа; это служило движущей силой для черных и не в последнюю очередь побудило федеральное правительство перейти на сторону униженных. Активисты оказались изобретательны по части тактических идей. У них была инициатива, которую они прекрасно использовали.
Что это означало для администрации Кеннеди, прежде всего стало понятно в начале лета 1961 года, когда начались демонстрации за свободу. Это было логичным следствием отсутствия какого-либо движения в предыдущие годы. Небольшие группы преданной делу черной и белой молодежи, юношей и девушек садились в автобусы дальнего следования, отстаивая свои конституционные права ехать вместе по всему Югу от Балтимора до Нового Орлеана. Чем дальше, тем хуже их принимали, особенно после того, как они въехали в Алабаму. В Эннистоне один из автобусов, в котором они следовали, был сожжен разгневанной белой мафией. В Бирмингеме, где печально известный шеф полиции «бык» Коннор постоянно держал своих офицеров на улицах (позже он заявлял, что дал им разрешение остаться дома по причине празднования Дня Матери), другая мафиозная группировка жестоко атаковала ехавших и еще кого-то, следовавшего той же дорогой. В Монтгомери Джона Шигенталера, одного из главных помощников генерального прокурора, ударили по голове куском трубы, когда он пытался защитить молодую женщину, и он упал без сознания под машину. («Вы делали то, что считали правильным», — сказал позже его босс)[246]. На следующий вечер мафия осадила ехавших и их друзей (среди которых был Мартин Лютер Кинг) в церкви, где они нашли убежище: только приезд национальной гвардии предотвратил резню. Затем протестующие направились в Миссисипи.
У президента и генерального прокурора не было выбора: им пришлось охранять борцов за права, но им не очень нравилась эта необходимость. Когда Джек впервые о них услышал, он готовился к поездке в Париж и Вену, и хотя новости с Юга ослабили его позицию в беседе с Де Голлем и Хрущевым, («скажите им это отменить», — так он обратился к своему советнику по гражданским правам Харрису Уоффорду, который терпеливо ответил: «Я не думаю, что сейчас их может кто-нибудь остановить»)[247]. Бобби был более обеспокоен ущербом, который это дело могло нанести репутации его брата на белом Юге[248]. Но они не могли стоять в стороне и позволить убить борцов за свободу. Бобби более или менее постоянно звонил по телефону губернатору Алабамы Паттерсону, в конце концов убедив его послать национальную гвардию. Даже президент был в это вовлечен, хотя это и не принесло большой пользы: по одному пункту губернатор — который без колебаний поддержал Кеннеди в 1960 году — отказался что-либо предпринимать. Братья начали понимать, что связи между друзьями-демократами и политиками переставали работать, когда дело касалось расового вопроса; но даже растущее подозрение, что на Юге вряд ли существует нейтральная территория, не убедила Кеннеди целиком перейти на сторону борцов за свободу: они считали, что в конгрессе им очень необходимы южане. В итоге Бобби провел переговоры с сенатором Истлэндом из Миссисипи: борцов будут сопровождать с охраной в поездке по Алабаме, и насилия со стороны мафии больше не будет, но как только они окажутся в штате Миссисипи, их арестуют местные власти и посадят в тюрьму за нарушение законов штата; таким образом, более или менее счастливо, они избегнут попадания в заголовки газет. Так они и сделали; и хотя генеральный прокурор хотел найти путь, чтобы вызволить их из тюрьмы, большинство из них настояло на том, чтобы остаться там, чтобы дать показания в качестве свидетелей (когда они, наконец, были освобождены, то их встретили на Севере как героев). И все же, вопреки принятым соглашениям, это дело побудило Бобби к действию. Подхватив предложение, выдвинутое ранее Мартином Лютером Кингом, он оказал беспрецедентное давление на торговую комиссию, в руках которой находилось правосудие, и осенью она запретила сегрегацию на всех автобусных маршрутах[249]. Вскоре была введена десегрегация на линиях железных дорог и воздушного сообщения[250]. В конце концов победа осталась за борцами.
История демонстраций за свободу служит обобщением всего рассказа о встрече администрации Кеннеди с гражданскими правами. В деталях и в целом Кеннеди вынуждены были действовать быстрее и дальше, чем они ожидали. Это не значит, что Джек намеревался остаться в борьбе пассивным. Он не собирался рисковать, вызвав конфликт с южанами в конгрессе тем, что представил билль о гражданских правах, который в 1861 или 1962 году провалился, но в то же время он не собирался оставить тех, кто его поддерживал, среди черного населения, один на один с их проблемами: в итоге они обеспечили его небольшой победный перевес на выборах, федеральное законодательство могло быть разрушено в один момент, но исполнительная власть обладала огромной силой, десегрегация правительства тоже была долгим процессом[251]: Кеннеди был в ужасе, когда исследование показало, что очень и очень немногие черные занимали какие-либо ответственные посты в правительстве США, если вообще их занимали. В день инаугурации его острый глаз отметил, что в расчете береговой охраны, который проходил перед ним на параде, не было лиц афроамериканцев; он приказал немедленно предпринять действия, чтобы исправить ситуацию, и потребовал отчета от каждого чиновника кабинета, как обстоят дела в его департаменте. Результаты были обескураживающими: Честер Боулз из сенатского департамента доложил, что в службе внешней политики из 3647 человек только 15 — афроамериканцы; из отчета Бобби Кеннеди следовало, что в департаменте юстиции из 995 прокуроров Вашингтона черных всего 10 человек; из 13 649 сотрудников ФБР — 48 (которые в основном работали в качестве водителей машин). Далее стало известно, что из всех работников федерального правительства афроамериканцев — 12,6 %, из которых только двое занимали высокий пост в гражданской службе, а подавляющее большинство работало в качестве подручных[252]. Это требовало немедленного внимания Кеннеди; в 1963 году он назначил больше черных на посты в федеральное правительство, чем все президенты до него, его двумя самыми крупными назначениями стали Роберт С. Уивер на должность главы финансового агентства строительства жилья, и Таргуд Маршалл, самый опытный адвокат НАСЦН, во второй окружной апелляционный суд в Нью-Йорке. Кеннеди надеялся поднять жилищное агентство до департамента градостроительства, которое бы имело место в кабинете, но так как было хорошо известно, что Уивер будет секретарем (и таким образом — первым членом кабинета в истории США), то сегрегационисты в конгрессе блокировали все предложение целиком. Он оказался для них недостаточно хорош.
Очень часто одно подменялось другим. Сенатский судебный комитет также мог успешно заблокировать назначение Таргула Маршалла (во всяком случае, отнял бы на это время), если бы Кеннеди не согласился назначить Гарольда Кокса федеральным судьей в Миссисипи: Кокс был другом сенатора Истлэнда по колледжу, который, в свою очередь, являлся председателем комитета. Как заметил Артур Шлезингер, «Кокс был слишком большой платой»[253]. Он являлся ярым сегрегационистом, который делал все, чтобы воздвигнуть обструкцию на пути гражданских прав в Миссисипи. И это был не единственный случай. Другие назначения на Юге в судебной системе в 1961 году также ничего хорошего не принесли и лишь подвергли обоих Кеннеди критике со стороны республиканцев. Они сделали вывод, что в будущем станут осторожнее — и так и поступили[254]. Это было еще одним доказательством того, что попытки работать с консерваторами-южанами в конгрессе того не стоят.
У генерального прокурора была своя собственная стратегия, как перехитрить обе стороны — и расистов, и борцов за гражданские права, департаменту юстиции была предоставлена свобода действий. Бобби подобрал хорошую команду в отдел по гражданским правам, который начал повсюду подавать иски, чтобы придать действенность законам о гражданских правах 1957-го, 1860-го и других годов, чтобы ускорить десегрегацию везде, где возможно. Структура белого превосходства оставалась в итоге фактом, за который голосовали белые южане, но южане черные — из-за запуганности, коррупции, апатии и отчаяния — не голосовали. Поэтому Бобби побуждал движение за гражданские права регистрировать черных избирателей как свою главную обязанность. Фонды в большом количестве должны были быть доступны для регистрирующихся и обучения тех, кто этим занимался. Департамент юстиции рассчитывал, что такая кампания отведет нападки расистов. Таким образом, за несколько лет на Юге могла быть создана значительная избирательная сила среди черных; Бобби знал, что, как только это будет сделано, белым южанам-политикам не останется другого выхода, кроме как дать согласие — или потерять власть.
Это было рациональной стратегией, далекой от авантюризма, на взгляд Кеннеди, которую довольно долго молено было держать в тени: участие администрации в регистрационной кампании можно было скрыть, что не представляло трудности для конгресса, как, и не было необходимости в маршах, демонстрациях и бунтах. Все было проведено спокойно. К несчастью, в схеме имелись недостатки. Как вскоре быстро выяснилось, в удаленных уголках Юга стали активно противодействовать регистрации избирателей, как и другим проявлениям защиты прав черных. Убийство троих молодых работников регистрационной службы летом 1964 года (одного черного и двух белых) произошло вскоре после смерти Джека Кеннеди, но всплеск подобных мрачных событий был предсказуем и в итоге обернулся необходимостью создания особого закона об избирательном праве (он вступил в силу в 1965 году). Таким образом, стратегия Кеннеди, даже полностью принятая движением за гражданские права, не могла долго оставаться вне внимания конгресса. Как бы президент Кеннеди ни хотел это обойти, однажды ему пришлось бы выйти с основательным законодательным решением по этому вопросу. Как бы то ни было, у движения не вызывало вопросов само принятие стратегии Кеннеди. Игра называлась «гражданские права». Важность регистрации избирателей была осознана, и организации черных были рады принять деньги, которыми Кеннеди давили на них; в частности, молодые активисты студенческого организационного комитета ненасильственных действий начали с энтузиазмом работать в большинстве отдаленных уголков Юга и очень жаловались, если департамент юстиции из-за недостатка людей не мог их защитить, как обещал[255]; но по мере развития логика движения неизбежно меняла приоритеты, как доказали демонстрации в защиту свободы.
Но в конце 1961 года приоритеты Кеннеди оставались теми же. Он продолжал то, что считал нужным сделать по гражданским правам, но вопрос был более сложен, чем предполагалось; теперь следовало приложить усилие, чтобы удержать его на расстоянии. Харриса Уоффорда постепенно отстранили от принятия решений, и в итоге заставили присоединиться к «Корпусу мира»[256]. Только законодательная инициатива администрации являлась бесспорным биллем для конституционной поправки, запрещающей избирательные налоги на федеральных выборах; она была принята конгрессом в августе 1962 года и ратифицирована Штатами в январе 1964 года; но, как указывает Шлезингер, она оказала свое действие только на выборах в пяти штатах, а на выборы в масштабе страны не повлияла совсем[257]. Ничто не вмешивалось во второй раз в большую борьбу до лета 1962 года, когда Олбани, штат Джорджия, оказался в центре внимания большой десегрегационной кампании.
Олбани не принес успеха интеграционистам, хотя практиковавшаяся там тактика хорошо сработала следующей весной в Бирмингеме. Бобби Кеннеди наконец это использовал в попытке показать белому Югу, что он применяет закон беспристрастно по отношению к расам, что возмущало черных лидеров. Но эпизод дошел до сведения президента, который не мог себе позволить все время отмалчиваться по вопросу о гражданских правах, что заставило его заметить на пресс-конференции: «Я не могу объяснить, почему бы городскому совету Олбани не сесть с гражданами этого города, среди которых есть черные, и попытаться защитить для них мирным путем их права. Правительству Соединенных Штатов пришлось в Женеве сесть с Советским Союзом (это было намеком, чтобы обезоружить спорщиков). Я не могу понять, почему правительство. Олбани… не может сделать того же для американских граждан»[258]. Возможно, это было самым сильным утверждением, которое он сделал, по, крайней мере, в качестве президента. Шесть недель спустя он показал, что сделал еще один шаг — на следующей пресс-конференции, — возвращаясь к событиям, когда во время регистрационной кампании в Миссисипи сжигались церкви черных: «Я не знаю более жестокого и возмутительного действия, которое произошло в стране за многие месяцы и годы, чем сожжение церкви — двух церквей — из-за усилий, предпринимаемых черными, чтобы зарегистрироваться в качестве избирателей… Я благодарю тех, кто старался регистрировать каждого гражданина. Они имеют право на защиту правительства Соединенных Штатов, государства, местных общин, и мы должны сделать все, что можем, чтобы ее обеспечить, и если это потребует дополнительных законов и сверхусилий, мы должны это сделать»[259]. Он вряд ли мог ожидать меньше (в действительности он сказал гораздо больше), представив картину происходящего и дав понять, насколько крепко взялся департамент юстиции за регистрационную кампанию, но самым важным сейчас было то, что в первую очередь президент одновременно упомянул возможность начала изменения законодательства и возможность использования силы. Дорога была открыта, и Кеннеди учился по ней идти.
Следующий урок (который принес пользу многим, помимо Кеннеди) завершился в сентябре 1962 года, когда Джеймс Мередит, черный гражданин, воодушевленный выступлениями Кеннеди, подал заявление на обучение в университет Миссисипи. Последовавшее за этим стало, возможно, самой решительной битвой в борьбе за гражданские права, поворотным пунктом, после которого изменились все условия.
Личная позиция Мередита была лишь небольшой деталью во всей конфронтации. Он настаивал на правах, которые нельзя было легально отрицать; это стало возможно благодаря его упрямому, почти замкнутому характеру, который поддерживал его в периоды враждебности и физической опасности, что вполне могло бы сломать гораздо более слабого человека. Но с его упрямым геройством случай мог обернуться серьезными препятствиями, и это произошло, когда Отрин Люси (что не было ошибкой в ее случае) исключили из университета Алабамы в 1956 году.
Позиция федерального правительства была двойственной. Исполнительная власть была обязана по конституции защитить права Мередита, и на то была далеко нацеленная историческая причина, чтобы поступить таким образом: чем скорее Юг приготовится к трудностям и примет десегрегацию, тем лучше будет для всех. Чтобы чего-то достичь, надо было действовать быстро. Но администрацию Кеннеди также интересовала политика вопроса. Пиррова победа в Миссисипи, которая стремительно открыла двери университета перед Мередитом, но расстроила программу администрации в конгрессе и привела к проигрышу демократов на выборах 1962-го и 1964 годов, в некотором отношении была хуже поражения. Как в деле о демонстрациях за свободу, Кеннеди надеялись прийти к разумному соглашению с местными политиками и избежать применения войск. Этот поиск разумного стоял в самом центре политического стиля Джека Кеннеди, его девизом скорее могло бы стать «давайте обсудим вместе», чем для Линдона Джонсона его идея обсуждения, немногим отличающаяся от запугивания. Но теперь в Миссисипи дали волю чувствам, и большую часть отдаленных уголков Юга уже нельзя было пронять здравым призывом. Ку-Клус-Клану снова развязали руки, и запахло кровью.
Тридцать лет спустя, возможно, легче понять гневное недоумение президента Кеннеди, чем в его время. Казалось, он встал против компании сумасшедших[260]. Название книги того времени «Далекий Юг никогда не скажет» точно отражает позицию, но позиция была бессмысленна. Структура власти сегрегационистского Юга поддерживалась со дня ее учреждения с помощью насилия и крючкотворства, обе подпорки теперь рушились под давлением высшей власти в лице федеральных судов, федеральной исполнительной власти и даже конгресса. Афроамериканцы, хотя все еще оставались в стороне, теперь были способны как никогда ранее эффективно заявлять о своих правах как американских граждан, и их нельзя было остановить. Если прилив отдавал один ярд, то захватывал три. Здание всего современного мира изменялось, чтобы накопить силу неевропейских народов (как вскоре поняли Соединенные Штаты в Индокитае); движение за гражданские права было частным проявлением гораздо более широких сдвигов. Наконец, весь Юг наполнился переменами, становясь более городским, индустриальным, современным: его лидеры бизнеса не могли допустить существования, как и основная часть белого населения более не поддерживала в действительности, системы несправедливости в сельских районах, которая стояла на пути прогресса и процветания. Короче говоря, сегрегированный Юг представлял собой карточный домик, который начал рассыпаться. Кеннеди ясно это видел и был очень озадачен и огорчен отказом лидеров Юга заглянуть в лицо фактам.
Он выступил против представителей той хорошо известной демагогии, которая приумножила оживленность, абсурдность, коррупцию и жестокость политиков-южан, начиная с конца периода Первой реконструкции. Такие люди, как Вардамэн, Бильбо и братья Лонг умели играть на любви и ненависти, надеждах и страхах, безразличии, предрассудках и амбициях своих избирателей более, чем взывать к их уму, лучшим чувствам и здравому смыслу. Демагогия, чтобы быть честным, была распространена не только на Юге, она существовала и на Севере, хотя и в менее крайних формах, даже в Бостоне. Но демагогия на Юге была опасна потому, что действовала в закрытом обществе[261]. Отчасти из-за того, что умеренные южане так не хотели брать на себя бремя лидерства и выступить за реформы на сцене, с тех пор, как Верховным Судом было принято решение по делу Брауна, доминировали те, кто верил — или притворялся, что верил — и, по меньшей мере, провозглашал, что причина сегрегации все еще не устранена, и это стойкое сопротивление заставит новое поколение упрямых янки отказаться от затеи, как их предшественников 80 лет назад. На выборах дважды победили расисты; Джордж Уоллес из Алабамы так объяснял свою тактику на губернаторских выборах в 1962 году: «Я начал говорить о школах, скоростных дорогах, налогах и тюрьмах — и я не мог побудить их слушать. Затем я заговорил о черных — и они впились в меня глазами»[262]. Политики и избиратели будто старались перещеголять друг друга в сумасшедших фантазиях, замешенных на легендах о прошлом Юга, расовой ненависти, страхе грядущих событий, которые сметут старые пути в забвение, обиды янки, возмущение чувств и действия мафии. Джеймс Мередит вступил в этот вихрь, что потребовало привлечь к делу более умного человека, чем губернатор Росс Барнет из Миссисипи, чтобы удержать контроль и уменьшить последствия.
Но Барнет даже не попытался это сделать. Он продолжал молча сопротивляться. Кеннеди хотели сотрудничать с ним и дальше. Если бы он позволил Мередиту поступить в университет и окончить его, то же самое пришлось бы позволить и другим черным студентам и кризис мирно бы завершился. По каким причинам Барнет согласился бы допустить Мередита в университет? Ни по каким, ответил губернатор: «Я не могу согласиться принять этого юношу в учебное заведение. Я никогда не соглашусь это сделать. Лучше я проведу остаток своей жизни в тюрьме, чем так поступлю».
РОБЕРТ КЕННЕДИ: Штат Миссисипи должен выполнять закон, так как он является частью государства.
БАРНЕТ: Мы были частью государства, но я не уверен, так ли это сейчас.
РОБЕРТ КЕННЕДИ: Вы хотите выйти из Союза?[263].
Барнет прослыл легендой в конфедеративной армии и пользовался в своем штате большой популярностью. Это доказывало, что торговаться с ним было бесполезно — возможно, к счастью: большие дела нельзя делать тайно, хотя Кеннеди уже сдвинули их с мертвой точки, но о деталях невозможно было договориться, а тем временем злобные утверждения губернатора вызвали бурю гнева и ненависти, которую он не мог ни сдержать, ни проконтролировать. Он появился на футбольном матче в университете Миссисипи (местная команда называлась «Повстанцами университета Миссисипи») и провозгласил под рев и одобрительные крики: «Я люблю Миссисипи! Я люблю ее народ! Я люблю ее обычаи!» (шум аплодисментов)[264]. Огромная толпа студентов чувствовала, что она поняла, в чем состоит ее долг. 30 сентября 1962 года Мередит был препровожден на территорию университета и триста федеральных чиновников названивали в здание администрации, отчасти чтобы ввести в заблуждение (Мередита поселили в одном из студенческих общежитий), отчасти — чтобы создать рекламу федеральным властям. Решив, что все хорошо, в десять часов вечера президент выступил по телевидению, убеждая население Миссисипи, особенно студентов университета, принять закон, который надлежит выполнять: «Честь вашего университета и штата висит на волоске… Позвольте нам сохранить закон и мир, и затем залечить внутренние раны, чтобы мы могли повернуться лицом к проблемам, которые нас окружают… объединимся, встанем как единый народ в знак стремления к человеческой свободе»[265]. Он все еще надеялся, что белых жителей Миссисипи можно побудить к сотрудничеству, и поэтому он ничего не сказал о справедливости случая Мередита, только то, что закон следует проводить в жизнь и исполнять («Американцы могут не соглашаться с законом, но не могут ему не повиноваться»)[266], и польстил их гордости и тщеславию, с восхищением упомянув о белых героях штата, таких, как, например, Л. К. Ламар[267]. Когда двумя часами позже он подписал распоряжение об отзыве национальной гвардии, как поступил Эйзенхауэр в Литтл-Роке, он сказал, что делает это за столом Улисса С. Гранта, но что о распоряжении не должна знать пресса: он не хотел, чтобы неоконфедеративная паранойя разгорелась вновь[268].
Все эти смягчающие усилия были бесполезны. Немногие из студентов Миссисипи слышали или обратили внимание на его призыв. Еще до того, как он начал говорить, хотя он этого не знал, чиновники поспешили защитить себя слезоточивым газом (им было строжайше запрещено использовать пистолеты: они скрывались за внушительными заграждениями из камней, кирпича) и другими метательной снарядами, исчезли полицейские со скоростных магистралей: губернатор Барнет позже сказал, что им было приказано остаться и поддерживать порядок, но он так часто лгал во время кризиса, что ему трудно было поверить; как бы то ни было, полицейских было немного, и они не имели оружия. У некоторых бунтовщиков было оружие (тридцать лет спустя кажется удивительным, что их было сравнительно немного), с помощью которого они ранили 26 чиновников и убили журналиста и прохожего. Регулярные войска, наконец посланные Бобби Кеннеди, появились с досадным опозданием (еще один минус Пентагону в глазах генерального прокурора и его брата); все это продолжалось до зари. Президент не спал всю ночь: «Я никогда так интересно не проводил время после Бей-оф-Пигз», — отметил он[269]. Генеральный прокурор жестоко себя обвинил за то, что не послал войска по соседству, которые находились в повышенной боевой готовности. Но когда с рассветом войска появились, главное было достигнуто: Джеймс Мередит был зарегистрированным студентом университета Миссисипи — пал еще один бастион сегрегации.
Дело университета приобрело гораздо большую значимость. Это заставило каждого задуматься снова. Сенатор Истлэнл, публично нападая на чиновников за то, что они навлекли проблемы на свои головы собственным «любительством», и по обыкновению рассуждая о «судебной тирании», в частной беседе сказал Бобби, что Барнет вел себя нелепо[270]. Барнет решил, что его политическая карьера окончена, и когда его бывший заместитель Пол Джонсон стал губернатором, он быстро продемонстрировал, что отказался от вызывающей риторики, к которой часто прибегал Барнет в течение всего кризиса. Что гораздо более важно, власти в Алабаме сделали надлежащие выводы. Алабамский университет теперь остался последним университетом в стране, который не осуществил расовую интеграцию, и приближалась его очередь; следовало больше не допустить повторения фиаско, имевшего место в Миссисипи — это было плохо как для университета, так и для дела. «Многие из нас знали, что будущее Юга предопределено и что смешно продолжать пустословное открытое неповиновение», — сказал один конгрессмен[271].
У обоих Кеннеди был собственный расчет. Это дело вряд ли было рекламой их умения управлять кризисом: они были чрезвычайно рады, что никто из их чиновников не был убит и Мередита не линчевали. С точки зрения политики университет Миссисипи являлся тем, чего Кеннеди стремился избежать больше всего, как повторения Литтл-Рока, с войсками, посланными в южный город (они там оставались, пока Мередит не окончил университет летом 1963 года), и мощно вскипающим негодованием Юга относительно того, что он расценил как еще одно неправомерное вторжение янки. Но шума было больше, чем результата: интеграция высшего образования на Юге шла вперед, но черепашьим шагом и чисто символически.
Мартин Лютер Кинг и другие черные лидеры ощущали, что президент упускает время, не используя этот случай для того, чтобы воззвать к справедливости: все, о чем он говорил, сводилось к тому, насколько важно слушаться закона. Кинг чувствовал, что гражданские права «больше не господствуют в сознании нации»[272]. Президенту следовало забыть об эпизоде с Меридитом и о потенциально опасных политических последствиях для него самого, его программы и его партии, обращаясь к этому как можно реже.
Он поддерживал такое положение дел в течение нескольких месяцев. Он позволил пройти столетию провозглашения освобождения (1 января 1963 года) без президентского одобрения и сделал все для того, чтобы информация о большом приеме черных лидеров в Белом доме по случаю дня рождения Линкольна не попала в белую прессу[273]. (Мартин Лютер Кинг, А. Филип Рэндольф и Кларенс Митчелл не бойкотировали это событие). Он был занят другими президентскими делами, особенно кубинским ракетным кризисом и выборами в конгресс. Невозможно восхищаться столь неблагородным поведением, но это — одна из черт, которых время от времени требуют от демократических политиков их менее благородные избиратели. Даже когда он подписывал Закон об избирательном праве в 1965 году, Линдон Джонсон точно предсказал, что демократы не будут существовать для Юга еще в течение тридцати лет; его предшественника, возможно, не следовало обвинять за попытку избежать судьбы. Правильно или нет, он не должен был отказываться от усилий, которые оставались на его долю.
И все же в его позиции и расчетах произошел фундаментальный сдвиг. Он начал видеть Юг в его истинном свете. Так, после шума, поднятого вокруг случая Меридита, «он особенно хотел знать, правда ли, что все, чему его учили и чему он верил относительно зол реконструкции, действительно было правдой»[274]. Уже в феврале 1962 года он встретил Дэвида Дональда из Гарварда, одного из самых авторитетных историков периода гражданской войны, и начал понимать, что его собственные знания этого периода устарели по меньшей мере на двадцать пять лет. Сразу после событий вокруг университета Миссисипи он принялся читать работы К. Ванна Вудварда, включая, несомненно, «Необыкновенную карьеру Джима Кроу», основополагающую книгу по вопросу о движении за гражданские права[275]. Летом 1963 года, когда лист противозаконных действий на Юге пополнился новыми убийствами, он был готов поверить Артуру Шлезингеру, который сказал: «Я не понимаю Юг»; признать свою некомпетентность — это начало мудрости: «Я начинаю верить, что Тедиес Стивенс был прав. Меня всегда учили смотреть на него как на человека ошибочных взглядов. Но когда начал разбираться во всем этом, то удивился, как иначе можно было к этому отнестись»[276]. К тому времени он стал понимать, что безнадежно, даже аморально, пытаться дальше поддерживать компромисс с лидерами сегрегационистов, и что вместо этого он должен был подхватить знамя старых радикалов и укрепить Вторую реконструкцию. Это имело смысл даже политически: если он не мог выиграть на Юге, то ему удавалось сплотить Север.
Внешние силы продолжали вести его по пути, которым он должен был следовать. Он был популярен среди простых черных, но лидеры хотя и легко поддавались его обаянию, все более становились скептичны к его действиям. Он считал, что недостаточно хорошо выполняет свои обязанности, особенно когда республиканцы принимались это обсуждать. 28 февраля 1963 года, две недели спустя после приема по случаю дня рождения Линкольна, он направил в конгресс специальное послание по гражданским правам, в котором хвалился достижениями последних двух лет в этой области и призывал законодательные органы совместно с исполнительной властью по окончании редакции провести новый закон об избирательном праве и ускорить рассмотрение исков по этому закону; он попросил фонды помочь продолжающейся десегрегации общественных школ. Это был первый билль о гражданских правах, когда-либо предложенный, и тот факт, что Кеннеди вообще выдвинул предложения, показывает, как далеко он продвинулся со дня инаугурации. Но для лидеров движения по гражданским правам этого было недостаточно. Рэндольф начал планировать большой марш в Вашингтоне, чтобы оказать давление на конгресс, и если необходимо, то также и на Белый дом; Кинг последними штрихами заканчивал план основной кампании в Бирмингеме, штат Алабама; который он называл «самым сегрегированным городом в США»[277].
Бирмингемская кампания была самым героическим моментом в революции гражданских прав, целью было игнорирование законов господства белых и побуждение города к принятию десегрегации посредством сидячих забастовок, экономических бойкотов и массовых демонстраций; магазины были опустошены, а тюрьмы — заполнены; давление постоянно росло, заставляя городскую элиту уступить. Пройдя долгий и трудный старт, преодолев огромные препятствия, план наконец заработал. Мартин Лютер Кинг был посажен в тюрьму, где создал свой шедевр «Письмо из Бирмингемской тюрьмы», в котором обосновывал свою стратегию и тактику. Один очень опасный образчик подобной тактики — крестовый поход против детей — оказался достаточно действенным: тюрьмы были переполнены, вокруг них собирались толпы, и «бык» Коннор дал выход своему гневу, послав вооруженных полицейских: одних — с пожарными шлангами, других — с палками на цепях и злобных полицейских собак против женщин и детей. Вся Америка видела, что происходило: телевидение стало новым мощным средством, сделав всех участниками событий. Президент сказал, что зрелище его угнетает, и подтвердил то, что сказал ранее: «Я не прошу о терпении. Я прекрасно могу понять, почему черные Бирмингема хотят, чтобы их попросили быть терпеливыми»[278]. Послание Мартина Лютера Кинга наконец задело его за живое. Но что дальше? В Бирмингеме наконец было достигнуто соглашение между обеими сторонами — благодаря стараниям ведомства Берка Маршалла, помощника главного прокурора штата, начальника отдела по гражданским правам, но в других местах Юг содрогался: до конца лета было арестовано 14 000 демонстрантов[279]. Как считал Бобби Кеннеди, федеральному правительству было невозможно защитить всех: это нельзя было сделать, так как для этого не существовало ни легальных, ни физических путей и способов. Следовало обрубить самые корни. 1 июня, на встрече со своими ближайшими советниками, Президент Кеннеди объявил, что он пошлет в конгресс основной билль по гражданским правам. То, что казалось немыслимым и недостижимым два года назад, теперь стало предметом усилий. И единственно возможным выходом.
Президенту это не нравилось. На встрече 1 июня он был очень раздражен[280], так как знал, что принимал решение, которое уже само по себе могло разрушить его президентство. Даже после его предложений, посланных в Капитолий, он сказал генеральному прокурору (который один из всего внутреннего окружения поддерживал этот поступок): «Вы думаете, мы поступаем правильно?.. Посмотрите, в какие неприятности нас это вовлекает»[281]. Он немного шутил: в своей обычной манере, Кеннеди прибег к несерьезности, чтобы справиться с эмоциональным напряжением в кризисе. Как ему пришлось убедиться, он был прав. По предложению Линдона Джонсона администрация лоббировала каждого члена конгресса до того, как билль был официально представлен; президент ждал политически благоприятного момента, чтобы объявить о своей новой позиции. И такой случай представился с помощью Джорджа Уоллеса.
Два черных студента, Джеймс Гуд и Вивиан Мэлоун, подали вступительные заявления в таскалусский филиал Алабамского университета, и это учебное заведение, откладывая как можно дальше окончательное решение, в конце концов их приняло: здесь знали, что не следовало повторять пример Миссисипского университета, игнорируя закон. Они очень надеялись, что повторения беспорядков, подобно инциденту в случае с Отрин Люси, или — что хуже — с университетом Миссисипи, не будет; но события нельзя было проконтролировать. Уоллес второй раз поклялся противостоять и игнорировать федеральные власти, если они попытаются зарегистрировать Гуда и Мэлоуна, как Мередита: «Если придет постановление суда, то я поставлю себя, вашего губернатора, таким образом, чтобы приказ федерального суда был направлен против вашего губернатора. Я не должен придерживаться подобных незаконных приказов федерального суда, даже если мне придется встать в школьных дверях, если будет необходимо»[282]. Вопреки огромному давлению со стороны федерального правительства и многих рассудительных алабамских бизнесменов, Уоллес твердо держался своего слова, и когда подошел день регистрации студентов, Кеннеди опять мобилизовал национальную гвардию; на сей раз он должен был быть уверен, что бездействие, как в случае с университетом Миссисипи, не повторится. В этом деле гарантом того, что в Таскалусе на будет трудностей, у Кеннеди имелся союзник — сам губернатор Уоллес. Он прекрасно знал, что Алабама не может успешно противостоять федеральному правительству, и что если бы там произошел бунт, то его политические амбиции (которые были огромны) стали бы недостижимы: он оказался бы в забвении, как и Росс Барнет. Он решил разыграть представление: он встанет в школьных дверях (или, по меньшей мере, в дверях здания университетской администрации) и будет яростно протестовать, после чего отойдет в сторону с трогательным видом жертвы тирании янки. Сердца простых жителей Алабамы будут на его стороне, его репутация горячего защитника будет подтверждена, и, как только студенты зарегистрируются, вопрос интеграции наконец будет поставлен на обсуждение. Таким образом Уоллес постарался сделать так, чтобы не вмешался ку-клус-клан и студенты университета вели себя надлежаще. Кеннеди создал союз национальной гвардии в Алабаме, и представление началось. Николас Катценбах, заместитель Бобби Кеннеди, появился со студентами на территории университета; Уоллес встал в дверях, выкрикивая вызывающие лозунги, и затем уступил дорогу; Джеймс Гуд и Вивиан Мэлоун были зарегистрированы. Кеннеди стало легче, он был удовлетворен, и вечером того же дня импульсивно решил выступить по телевидению с обращением, объявив о своем решении выдвинуть подробный билль о гражданских правах. Он наконец победил и управлял событиями, не только реагируя на них, и он решил использовать победу.
Речь была одной из самых важных и эффективных, которые Кеннеди когда-либо произносил, и в то же время одной из наименее лакированных. Его решение выступить оказалось сюрпризом для Теда Соренсена, и у него не оставалось времени, чтобы подготовить нечто большее, чем набросок. За несколько минут до выступления Кеннеди и его советники поколдовали над текстом, и затем он появился перед камерой. Это было неважно. Теперь он был столь опытен и уверен в себе как оратор, что был способен сымпровизировать все обращение, скомпилировав его из отрывков. Оно не звучало столь впечатляюще, как другие его речи, но убежденность Кеннеди, что пришло время действовать, чтобы исправить ошибки прошлого, взяла верх и набирала силу по мере того, как он работал над задачей, которая становилась все настоятельнее и неотложнее. Соренсер указывал, что в речи было мало из того, о чем Кеннеди говорил раньше (кроме не теряющего важности упоминания о всеобъемлющем билле о гражданских правах), но никогда ранее он не высказывался с такой убежденностью и столь развернуто перед огромной аудиторией — американским народом[283]. «Прежде всего мы столкнулись с моральным вопросом. Он стар, как манускрипт, и ясен, как американская конституция… Это единая страна. Она стала единой благодаря нам и всем людям, которые сюда пришли, имея равные шансы на развитие своих талантов. Мы не можем сказать 10 процентам населения, что у них не будет этого права, что их дети не получат шанса развивать таланты, которые у них есть; единственный путь, с помощью которого они получат свои права, — это выйти на улицы и участвовать в демонстрациях. Я считаю, мы должны им и себе обеспечить жизнь в лучшей стране, чем эта»[284]. Речь имела огромный успех, количество писем в Белый дом возросло в четыре раза. Одно из них пришло от Мартина Лютера Кинга: «Это было одним из самых красноречивых, глубоких и определенных воззваний в защиту справедливости и свободы всех людей, когда-либо сделанных президентом. Вы горячо говорили о моральном вопросе, который был частью борьбы за интеграцию»[285]. Это действительно было так. Джон Ф. Кеннеди был вовлечен в эту борьбу надолго.
События были далеки от завершения, и тот же вечер, когда Кеннеди произносил свою речь, в Миссисипи был убит Медгар Иверс. В течение лета по США прокатилось несколько волн демонстраций; повсюду накалялись чувства. В сентябре в начале учебного года почти в каждом штате школы были мирно интегрированы; исключением оставалась Алабама, где губернатор Уоллес вновь прибег к своим мелким хитростям. Он послал в четыре города войска штата (в том числе в Бирмингем), чтобы задержать открытие учебного года. Но, благодаря предписанию суда, он отозвал войска, заменив их на национальных гвардейцев; Кеннеди федерализовал гвардию и приказал гвардейцам оставить школы. Уоллес еще раз попытался играть на публику, но не достиг ничего, кроме популярности среди крайних консерваторов в Алабаме и на остальном Юге; но он возбуждал страсти, которые следовало охлаждать: 15 сентября в Бирмингеме в церкви для черных взорвалась бомба, убив четырех маленьких девочек. Возник бунт, в результате которого были застрелены еще двое афроамериканцев: один — пытаясь бежать, а другой — тринадцатилетний мальчик — в результате беспорядочной стрельбы, поднятой двумя скаутами, возвращавшимися с собрания сегрегационистов. Впоследствии они не могли объяснить свои действия: они просто повиновались импульсу опробовать свои новые пистолеты на мальчике, едущем на велосипеде[286].
Было ясно, что Америка неверными шагами идет к ужасной пропасти; но центр действия теперь переместился в Вашингтон. Целью администрации Кеннеди и организаций по гражданским правам был конгресс. Суды и исполнительная власть сделали или делали все от них зависящее; это был поворотный момент в законодательстве. И билль, который Кеннеди отослал 20 июня, был написан так, чтобы не вызвать сопротивления: смелый шаг, который, тем не менее, с осторожностью и консерватизмом (не имеет значения, по отношению к республиканцам или демократам) мог без особых жертв поддержать принципы или навлечь на себя гнев его избирателей. Билль включал в себя февральские предложения (по которым, как сухо заметил президент в своем специальном послании, ни один парламент еще не имел счастливой возможности проголосовать)[287]; он также добавил предложения, объявляющие вне закона расовую дискриминацию в общественных местах (в гостиницах, ресторанах, кафе, театрах, кинотеатрах и так далее); сильно упрочившаяся власть генерального прокурора способствовала рассмотрению исков, касающихся десегрегации; была запрещена расовая дискриминация в программах, получающих помощь на федеральном уровне, и учреждена Комиссия по предоставлению равных прав в получении работы, контролирующая правительственные контракты. Как впоследствии обернулось, Закон о гражданских правах, принятый год спустя, был значительно строже в отношении мер, предпринятых против дискриминации в области трудоустройства[288]; он был слабее, не предусмотрев никаких шагов против расового неравенства в школах или колледжах, как того хотел Кеннеди; но в целом закон повторял билль, отстаивая мнение человека, который предложил его первым.
Но если президент предлагал, то законодательные власти утверждали. Пришло время настоящей проверки умения Кеннеди управлять конгрессом, и иногда казалось, что он полностью неспособен с ним справиться. С июня до конца октября все внимание было обращено на судебный комитет, на чье рассмотрение администрация отослала билль. Возможно, предстояло выдержать еще одну битву с комитетом по урегулированию: Кеннеди опять пришлось понять (вслед за Эмануэлем Селлером, председателем комитета, предоставляющим запутанным вопросам решаться самим по себе), что увенчанные славой ветераны конгресса, со всей их властью и опытом, часто были неспособны выполнить свои оптимистичные обещания. Даже Лэрри О’Брайен соглашался, что он слишком надеялся на них. И все же в итоге основная цель была достигнута.
Кеннеди знал, что у очень строгого билля не было шанса ни в Палате Представителей, ни в Сенате. Ошибка Селлера была в том, что он позволил своему подкомитету поправить билль администрации, пока он не стал слишком радикальным для исполнения; ситуацию могли спасти только в комитете, и только с помощью республиканского руководства — Уильяма М. Мак-Каллока и Чарли Халлека, лидера меньшинства. Они запросили цену за свою помощь: они настояли не только на том, чтобы стать полноправными участниками в написании билля, но и получить полномочия от общества на эти действия. Это было небольшой ценой, и Кеннеди с радостью согласился, одновременно обрушив все возможное давление на своих неуправляемых демократов. В результате 29 октября исправленный билль был выпущен комитетом, и первый барьер в конгрессе был преодолен. Кеннеди это чрезвычайно радовало: новый билль был строже, чем тот, который он подписывал, но лишь настолько, чтобы избежать опасности. Он немедленно сделал публичное заявление: «Этот билль — всесторонний и исчерпывающий… С самого начала принятие эффективного билля по гражданским правам потребовало того, чтобы частные и политические различия были отставлены в сторону перед надвигающимся национальным кризисом. Эта деятельность была осуществлена под руководством спикера Палаты Представителей Джона Мак-Кормака, лидера меньшинства палаты Чарльза Халлека, председателя комитета Эмануэля Селлера и главы меньшинства Уильяма Мак-Каллока»[289]. Следующую битву следовало выдержать, забирая билль из комитета по урегулированию, но с руководством республиканцев, поддерживающих то, что теперь являлось определенно двухпартийным биллем. Кеннеди мог обоснованно надеяться преодолеть и этот барьер, у него также имелось обещание Дерксена о поддержке республиканцами в Сенате на заключительном голосовании, и таким образом устранялось одно из лучших вариантов оружия южан — обструкция.
Вряд ли что можно к этому добавить. Никому не известно, что бы произошло, если бы Кеннеди не был убит. Сегодня ясно, что многое следовало сделать иначе, но стоит заметить, что даже когда у власти находился Линдон Джонсон с его удивительными способностями, билль о гражданских правах стал законом не раньше лета 1964 года. Приз, который получил президент Джонсон (отчасти это было вызвано памятью о его предшественнике), мог не завоевать президент Кеннеди. С другой стороны, могло быть и иначе. Он и его команда в самом начале допустили несколько серьезных промахов, стараясь провести билль через судебный комитет, но по мере того, как они это делали, начали разбираться в вопросе и в итоге достигли успеха. Нет определенной причины полагать, что эти очень умные, способные люди, в чьих руках была сосредоточена власть и влияние президентства, не могли решить этот вопрос как следует на последующих стадиях. Либералы в конгрессе так не считали, но их политические суждения мало что содержали по сути, их неподатливость являлась одним из главных препятствий иа пути Кеннеди.
По крайней мере, никто не может отрицать, что Кеннеди начал процесс, который столь триумфально привел к подписанию Закона о гражданских правах в 1964 году и Законам об избирательном праве в 1964 году. Поэтому лучше всего его будет запомнить во время большого марша в Вашингтоне 28 августа 1963 года. Это событие первоначально планировал А. Филип Рэндольф — как мы видели, для того, чтобы оказать давление на президента. В августе в этом больше не было необходимости; целью этой огромной демонстрации лоббирования являлся конгресс, успешным результатом чего стало объединение различных избирателей движения за гражданские права в единое действие (в то лето существовала реальная опасность, что движение рассеется и потеряет свою силу из-за некоординированного и, возможно, насильственного буйства на улицах, тем самым отдалившись от основных белых союзников, которые были выведены на сцену благодаря жестокости «быка» Коннора). Кеннеди сначала марш беспокоил, он боялся, что это принесет какой-нибудь вред; но вдруг ему стало ясно, что марш все равно состоится, независимо от того, насколько он будет в это вовлечен и возьмет на себя руководство этим действием. Когда в Вашингтоне появилось более 200 000 демонстрантов, то им разрешили делать все, кроме как бить в барабаны и разбрасывать листовки. Федеральное правительство обеспечило наибольшую доступность получения медицинской и санитарной помощи, холодных напитков и других возможностей, а город принял демонстрантов мирно и после речей около мемориала Линкольна, кульминацией которых стало знаменитое выступление Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», лидеров в Белом ломе принял улыбающийся президент. Настроение было хорошим, и Кеннеди, по своему обыкновению, использовал случай для дела. Марш оказался прекрасным случаем для лоббирования — но лоббирования чего? Уилкинс, Рэндольф и Уолтер Рейтер хотели, чтобы президент возглавил кампанию и оказал давление, чтобы билль стал еще строже. Кеннеди (который, как и его брат Бобби, хотел, чтобы существовал билль, а не вопрос об этом)[290] провел их по всем коридорам Палаты Представителей и Сената, предоставив Лэрри О’Брайену объяснить им, как голосует каждый член конгресса. Это будет довольно трудно и безнадежно — если не вернуться опять к двухпартийному биллю, другими словами, уступить позициям республиканцев. Ни одна сторона не поколебала другую, но они дружески побеседовали и лучше поняли точку зрения друг друга. Это было одно из событий того процесса, который шаг за шагом вел президента к лагерю радикалов.
Если Кеннеди и лидеры движения за гражданские права могли счесть, что им будет трудно друг с другом сработаться, как это обычно бывает у практических политиков и идеалистов, то сомнений в огромной популярности президента среди черных не оставалось. Они считали, что он сделал для них больше, чем любой другой президент со времен Линкольна, и ожидали от него еще большего. И его убийство оказалось для них ужасным шоком. Исследование показало: половина из них беспокоилась, что событие отразится на их работе, жизни и карьере; 81 % опрошенных черных детей чувствовали, что они потеряли «кого-то очень близкого и дорогого». Коретта Кинг (в 1969 году) будет вспоминать, что ничто не тронуло ее сильнее, чем смерть Кеннеди, даже первая попытка убийства Мартина Лютера Кинга. Белые активисты сильнее ощущали, что белое общество их предало, и опасались (несправедливо, как это вскоре обернулось другой стороной), что Линдон Джонсон не будет способствовать продвижению законодательства по гражданским правам. Фред Шаттлсворт, выступая в Нью-Йорке на четвертый день после убийства, отдал Кеннеди должное: «Преданность свободе и мечте черного руководства и страстное стремление угнетенных масс в этой стране были соединены со смелостью суждений Кеннеди, пониманием требований времени и его, желанием сделать конституцию США значимой для всех граждан страны»[291].
Искренность и справедливость этих слов заставила Тейлора Бранча заметить, что было что-то «исходящее извне» в вовлеченности Кеннеди в кампанию по гражданским правам, которое казалось скорее злонамеренным. Верно, существовала большая разница между личностью, взглядами и приоритетами Кеннеди и черного руководства, но в этом не было ничьей ошибки, и обе стороны старались преодолеть эту разницу, так как они знали, что нужны друг другу. Тот факт, что ни Роя Уилкинса, ни Мартина Лютера Кинга не пригласили на похороны, вряд ли был инициативой Кеннеди, и Кинг, хотя и глубоко задетый, стоял на вашингтонском тротуаре с десятками тысяч других американцев, чтобы увидеть печальный кортеж. Он знал, что, вопреки всем трениям, он и его народ обязаны этому человеку.
Кеннеди вошел в Белый дом в тот момент, когда вопрос о расовом угнетении уже не мог быть далее отложен. Ему нужно было действовать, и он это делал эффективно и (в основном) без принуждения.
Его последователь получил хорошее наследство, что требовало только убежденности, энергии и желания реализовать. Не было причины считать, что любой другой человек, которого бы избрали президентом в 1960 году, мог это сделать и сделал бы лучше, чем он.
Глава 7
ВЬЕТНАМ
Если революция гражданских прав оставила более глубокий след в американском обществе и, возможно, в мировой истории, чем любое другое событие времен Кеннеди, то внимание потомков привлек другой большой кризис 60-х годов — война США во Вьетнаме, которая нанесла рану национальному самосознанию, как ничто другое после Большой депрессии или даже, возможно, гражданской войны. Роль Кеннеди во втором кризисе также была важна, но она стала менее центральной, чем во время революции гражданских прав, и гораздо более спорной. Появилось что-то вроде согласия если не среди профессиональных историков и обычных людей, то среди тех, кого можно назвать классами, придерживающимися своего собственного мнения, и Кеннеди предъявляли столько обвинений в большой национальной трагедии, как никому другому, даже Линдону Джонсону или Ричарду Никсону, но существовало также весомое мнение меньшинства, что он мог и спас бы Америку от ее судьбы, если бы остался жив. Ни одна работа о Джоне Ф. Кеннеди не может считаться законченной без попыток разобраться в том, насколько правдивы эти противоречивые суждения.
Мы должны начать с того, что вьетнамский вопрос действительно существовал, он обсуждался как во времена Кеннеди, так и впоследствии, и с тех пор государственными деятелями, генералами и журналистами было сделано множество выводов.
Индокитай был той частью Юго-Восточной Азии, лежащей между Таиландом, Малайей и Китаем, которую в XIX веке колонизировала Франция. Она состояла из трех государств — Лаоса, Кампучии и Вьетнама, расположенных в низовьях великой реки Меконг. Французская империя потерпела там поражение от японцев в результате их наступления в 1941–1942 гг. и не смогла вновь утвердиться по окончании второй мировой войны, несмотря на огромные усилия старой империалистической державы. Вьетнамцы одержали решающую победу при Дьенбьенпху в 1954 году, после чего Франция сдалась. В 60-х годах французская политика уже не прибегала к военным средствам в Юго-Восточной Азии.
Итак, история этого вопроса достаточно обычна. В 1945 году пришел конец господству всех больших империй, имевших колонии за рубежом, принадлежали ли они Франции, Японии, Британии, Дании, Португалии или — совсем небольшие — Испании; все они прошли через этот процесс, длившийся около тридцати лет, когда надо было возвращать земли их коренному народу. И сразу после победы над Японией Соединенные Штаты предоставили независимость Филиппинам. Империалистические державы постарались уйти не самым худшим образом, хотя не все из них были достаточно мудры, чтобы мирно выйти из игры. Особенно французы не хотели расставаться со своими владениями, участвуя не в одной, а в двух колониальных войнах — в Алжире и Индокитае. Они потеряли обе колонии, так как французское общественное мнение бурно запротестовало против длинного списка понесенных потерь в борьбе, которая представлялась непонятной, ненужной и проигрышной. Наблюдателям следовало счесть оба эпизода поучительными (и некоторые считали). Но на крутом повороте истории они были всего лишь одними из многих.
Деколонизация в Индокитае имела одну черту, которая ее отдаляла, к сожалению, многих заинтересованных в этом, и оказывала определенное влияние на будущее. Антиимпериалистическое националистическое движение во Вьетнаме направлялось вьетнамскими коммунистами. В азиатском контексте это было неудивительно: в то же время коммунисты были у власти в Китае. По иронии, силовой фактор был вопросом престижа для Парижа. Лидер коммунистов Хо Ши Мин хорошо знал Францию. Он был одним из членов Французской коммунистической партии, являвшейся единственной партией во Франции, которая даже теоретически провозглашала деколонизацию. Он был также преданным поклонником американской антиимпериалистической традиции и направил свое бунтарство против Парижа, прибегнув к цитатам из Декларации Независимости. Во время войны он работал с американскими секретными агентами против японцев и впоследствии постоянно стремился к взаимопониманию с Вашингтоном. Ничто из этого не уменьшало тревогу правительства США по поводу того, что Хо Ши Мин продвигался вперед. Франция заявляла о необходимости помощи в ее воине с вьетнамским национализмом. В 1947 году госдепартамент убеждал посла США в Париже, что «Хо Ши Мин прямо связан с коммунистами, и должно стать очевидным, что мы не заинтересованы в том, чтобы колониальные империалистические администрации были вытеснены философией и политическими организациями, созданными и контролируемыми Кремлем»[292]. Кроме того, Франция казалась столь оскорбленной, что ее следовало поддержать в Индокитае, чтобы она могла противостоять Советскому Союзу в Европе. Затем в 1949 голу Китай был захвачен Мао Цзе Дуном и коммунистами. Единый коммунистический заговор, членом которого был Хо Ши Мин, казалось, начался задолго до этого. Вторжение в Южную Корею в 1950 году коммунистической Северной Кореи, действующей по указу Сталина, казалось убедительным доказательством тезиса, объяснявшего непонятную рекомендацию Дина Ачесона президенту Трумэну, что в ответ на вторжение должно быть, в частности, существенное увеличение помощи французам в Индокитае[293]. Францию теперь рассматривали как защиту южного рубежа против общего продвижения «Китайско-Советского блока» в Азии, так что она заслуживала того, чтобы ее поддержали. Не следовало ставить традиционный американский антиколониализм у нее на пути. Впоследствии Соединенные Штаты оплатили около 80 % военных усилий, предпринятых Францией[294].
Решение помочь французам в Индокитае не обошлось без возражений со стороны госдепартамента. Один из чиновников Дина Ачесона, Джон Оули, предупреждал, что «эта ситуация растет, как ком снега». Ачесон это проигнорировал. Американские ресурсы в Индокитае были незначительны: «Хотя французы жаловались, что наша помощь недостаточна, но поглотить ее способно и гораздо большее предприятие, чем Индокитай»[295]. Госдепартамент и объединенный комитет начальников штабов пришли к одинаковому решению не посылать вооруженные силы США в этот район боевых действий, но Соединенным Штатам теперь следовало поддержать дискредитированный империализм. Несмотря на все перемены, которые произошли в последующие шестнадцать лет, это не повлияло на их решение: Хо Ши Мину следовало противостоять. Поворотный элемент в отношениях Соединенных Штатов с Вьетнамом произошел приблизительно в 1950 году.
Вскоре предостережение Оули получило свое подтверждение. Оно вызвало глубокое противостояние держав, хотя на рациональном уровне все уже изменилось. Когда в 1953 году республиканцы сменили демократов, новый госсекретарь Джон Фостер Даллес утверждал, что целью американской политики в Индокитае является сдерживание коммунистического Китая: «Существует риск того, что, как и в Корее, красный Китай может послать свою армию в Индокитай»[296]. В 1954 году президент Эйзенхауэр обратился к известной «теории домино», когда на пресс-конференции его попросили объяснить «стратегическую важность Индокитая для свободного мира». «Перед вами — ряд стоящих фишек домино, вы трогаете первую из них, и то, что происходит с последней, — это то, что очень скоро произойдет в реальности… тогда нас ожидает, как возможное последствие событий, потеря Индокитая, Бирмы, Таиланда, всего полуострова, затем Индонезии, и вот вам придется говорить о регионах, в которых вы теряете не только материалы и ресурсы, но и многие миллионы людей… реальные последствия для свободного мира невозможно подсчитать»[297]. Другим аргументом, оказавшим впечатление на тех, кто не принимал «теорию домино», был американский престиж, «жизненно важный национальный интерес», который был поставлен на карту. В 1966 году Артур М. Шлезингер-мл. писал: «Наш интерес в Южном Вьетнаме в какой-то мере был создан искусственно, но от этого он не стал менее реальным. Наш стремительный уход сейчас отзовется зловещим эхом по всей Азии»[298]. Другими словами, мы здесь, потому что мы здесь, и американский престиж и американская справедливость требуют того, чтобы мы остались.
В свете всего, что произошло после, кажется почти невероятным, что интеллектуальное обоснование американского долга столь хрупко. Робер Макнамара сражается с этой проблемой на протяжении своих мемуаров (надо сказать, довольно бесцельно)[299]. Причиной, возможно, является устойчивое доминирование так называемой парадигмы «холодной войны»[300]. Изоляционистско-пацифистская парадигма юности Кеннеди была низвергнута, некоторые члены конгресса верили в нее и дальше, и одним из ведущих американских государственных деятелей 50-х и 60-х годов, на чьих взглядах она оставила свой след — только след, — был Эйзенхауэр, который в остальных отношениях стоял на позициях «холодной войны». Парадигма «холодной войны» была развернутым изложением интернационалистского тезиса, что поколение Перл-Харбора боролось за то, чтобы американский народ его принял. Основной предпосылкой было то, что мир и процветание Соединенных Штатов зависели от активного принятия на себя международной ответственности, вплоть до решения начать войну, если необходимо; наименее важная предпосылка состояла в том, что после 1945 года единственным серьезным вызовом этой ответственности был международный коммунистический заговор, побуждаемый властью русских и определенно направляемый Москвой, который активизировался на всех континентах. Явным следствием этого рассуждения было то, что Соединенные Штаты должны противостоять коммунистам где бы то ни было; менее очевидным и, скорее, неосознанным, но сильным выводом было то, что все важные мировые события могли и должны быть объяснены в определениях «холодной войны». Как в 70-х годах сказал Генри Киссинджер, история вращается вокруг оси Восток-Запад, но никогда — Север-Юг.
Эта парадигма хорошо работала, когда Сталин был жив, и еще некоторое время после. Это ограждало государственных деятелей от того, чтобы заново обдумать природу международной системы в каждом кризисе, и являлось очень точной путеводной звездой в области интерпретации и предсказания событий. Она начала разрушаться, когда Китай и Советский Союз поссорились; и сильное нежелание многих официальных лиц Вашингтона (особенно в ЦРУ) принять реальность этой размолвки — они считали, что дело затеяно лишь для того, чтобы ввести Запад в заблуждение — очень ясно иллюстрирует, насколько тесны становились тиски парадигмы «холодной войны».
От этих тисков было невозможно избавиться, пока не была готова новая парадигма, но она уже была близко. Для большей части политически мыслящих людей центральной темой периода после 1945 года была не «холодная война», а то, что очень вольно можно назвать революционизмом третьего мира[301]. За границами игр Запада и крепостей советской империи происходило движение других народов — всех остальных людей. Националисты бросали вызов империалистам, деревня — городу, племена восставали против государств, ислам начал свою войну против западных ценностей, крестьяне воевали против торговой элиты (при этом будучи сами глубоко скомпрометированными вовлечением в старую империалистическую систему)[302]. Приближались события более масштабного порядка, события, которые парадигма «холодной войны» не могла точно интерпретировать и которые в недалеком будущем ни коммунизм, ни капитализм не могли проконтролировать. В этом новом мире власть и ответственность Соединенных Штатов не уменьшались, но под вопросом оказывалась их мудрость. Выяснилось, что США этого катастрофически недостает, и Вьетнам был тем местом, где это проявилось со всей очевидностью.
И все же Вьетнаму предстояло стать самым ранним и простым уроком, в то время как парадигма «холодной войны» постепенно уходила в прошлое. Как нация вьетнамцы были сильно разобщены, раздроблены оставившим свой след колониализмом, племенными, религиозными, политическими, социальными и экономическими различиями. Вряд ли было сюрпризом то, что после ухода французов вспыхнула гражданская война: ситуация имела сильное сходство с крахом, который постиг Югославию в 1990 году. Следовало понять очевидность того, что все эти бедствия имели мало общего с внешним вмешательством. Так, вьетнамцы были крайне националистичными и на протяжении всей своей истории стойко сопротивлялись иностранному господству. Мысль о том, что коммунистический Вьетнам станет марионеткой Китая (или любой другом страны), была ошибочна: Хо Ши Мин и его последователи были националистами еще до того, как стали коммунистами, и очень не доверяли своему северному соседу, который был известен давними империалистическими планами относительно Вьетнама[303]. Китай и Вьетнам начали сражаться друг с другом сразу после окончания Вьетнамской войны. Объединенный, сильный коммунистический Вьетнам под руководством Хо мог создать большие трудности для свои соседей; у Вьетнама были собственные экспансионистские традиции, но само по себе это не угрожало американским стратегическим интересам. И не могло угрожать впоследствии. Но «теория домино» утверждала, что такая угроза не только существует, но и создает большую опасность для Соединенных Штатов.
Было соблазнительно приписать это упорство в заблуждении исключительно внутренней политике, и не было сомнений, что страх правых республиканцев, который заставил твердить о «потере Китая» после победы Мао Цзе Дуна в 1949 году, был главным фактором в расчетах всех президентов, от Трумэна до Никсона, которые имели дело с вьетнамским вопросом. Но это было не единственной и тем более достаточной причиной (даже в их собственных глазах) принятых этими людьми решений. Например, Эйзенхауэр имел почти полную свободу действий в политике, в решениях по Юго-Восточной Азии и был близок к левым до такой степени, что ему пришлось встретиться с серьезной оппозицией. (В 1954 году Джон Ф. Кеннеди был самым заметным критиком в Сенате). Дело было в том, что действия людей, принимающих решения, направлялись парадигмой «хо-лодной войны», которая была неприменима к ситуации в Индокитае, и еще больше преумножала опасные иллюзии.
Так что в 1954–1955 годах, как только французы ушли из Индокитая, правительство США столкнулось с большой дилеммой, которую отчасти само поставило перед собой: как удержать распространение коммунизма на юг? Это следовало из трех принципов политики. Первый утверждал, что не должно быть предпринято ни одной прямой военной интервенции со стороны Соединенных Штатов (еще были свежи воспоминания о Корейской войне, понесенных потерях и непопулярности). Из всех президентов только Линдон Джонсон отступал от этого принципа; Ричард Никсон проводил политику «вьетнамизации» как возвращение к норме. Во-вторых, у Соединенных Штатов не было никакого желания заменять французский колониализм своим[304], — подобное мероприятие не только противоречило их традициям, но выглядело донельзя анахроничным; как заметил Хо Ши Мин, «белый человек в Азии перестает быть таковым»[305]. Третий принцип утверждал, что никакое соглашение с Хо Ши Мином не является возможным, так как он считался не истинным националистом, а орудием Кремля. И изо всех трех принципов следовало, что Соединенным Штатам был необходим «настоящий» националист, который бы мог создать эффективное антикоммунистическое правительство и действовать как надежные союзник — недоброжелатели назовут это марионеткой — Вашингтона. По схожим причинам французы в свое время посадили на трон императора Бао Дай. Администрация Эйзенхауэра сделала фатальный выбор в пользу Нго Дин Диема. Дием был непокладист и негибок. Член семьи высокого китайского чиновника, в националистических кругах он имел репутацию скромного человека за свой отказ сотрудничать с французами. К несчастью, это означало, что он в течение лет отказывался работать также и с кем бы то ни было. Он возник на политическом небосклоне как премьер-министр Вьетнама в последние дни французского режима, когда его власть простиралась не дальше Сайгона. Британский обозреватель назвал его наихудшим премьер-министром, которого и он когда-либо видел[306], и генерал США Дж. Лоутон Коллинз говорил в отчете Совету национальной безопасности: «По моему глубокому убеждению, в личности этого человека не хватает таких качеств, как умение быть лидером и способность возглавить правительство, которое должно иметь единство цели и действенности, что есть у Хо Ши Мина». Но за первый год пребывания Диема у власти его прогресс относительно того, как он укреплял и распространял свою власть, а именно — с помощью «взяток, убеждения и, наконец, силы», побудил американцев энергично его поддержать. «Президент Дием — самая большая надежда Южного Вьетнама», — сказал Хьюберт Хамфри в 1955 году. И это продолжало оставаться общей точкой зрения в Вашингтоне до 1961 года[307].
Но американцам никогда не удавалось найти способы для реального сотрудничества с Нго Дин Диемом, они никогда не понимали его по-настоящему. Пытаясь ему что-либо втолковать, они меняли тон от презрительного до отчаянного; это заставило азиатского историка представить его понятным Западу. Даже сквозь искаженную призму американской журналистики и историографии можно разглядеть какую-то точку зрения (в чем очень помогают бумаги Пентагона). Глава одной из самых влиятельных вьетнамских семей (Нго были императорами Аммана в XI веке) имел политические взгляды, на которые немного повлияло католическое христианство, в которое были обращены Нго. Он был националистом в том смысле, что противостоял французскому могущественному влиянию и был обречен сопротивляться любой попытке утверждения китайской гегемонии; казалось, на него также немного оказала влияние идея нации, как и сходная мысль о современной демократии (в противном случае едва ли он мог принять и усилить патриотизм своей страны). Действительно, он совсем не был современен. Казалось, он полагал, что нашел нечто похожее на традиционный китайский «мандат небес» на правление. Хотя он и пожил в Соединенных Штатах, у него почти не было представления о том, как должно функционировать современное государство: он имел небольшой опыт и прожил в отставке с 1933 по 1954 год. Он полагался исключительно на свою семью, которая помогла бы ему править, и особенно на братьев (в этом есть некоторое сходство с Кеннеди, но Нго были более многочисленны и менее приспособлены к своему времени). Он постоянно негодовал на США за то, что они оказывали на него давление, побуждая к реформированию: он считал, что американцы наивны, и никогда в ответ на их настойчивость не предпринимал ничего, кроме жеста уступчивости. Но в действительности он сам был наивен. Он не понимал, что революционность третьего мира была направлена против старого режима в той же мере, как и против империалистов; или, скорее, он хорошо понимал, что традиционные пути могли преобладать над вызовом нового, хотя им не удавалось этого сделать где-либо еще со времен боксерского восстания в Китае в 1900–1901 годах.
К тому же у него была очень трудная задача. На конференции в Женеве в 1954 году, положившей конец первой индокитайской войне, было подписано постановление о линии перемирия вдоль 17-й параллели: коммунисты оставались на севере, их оппоненты — на юге. Затем последовали большие изменения относительно населения, и Вьетнам был поделен, как и Корея. Ожидалось, что общенациональные выборы в 1956 году снова объединят страну, но этого не случилось: это не было нужно ни одной из сторон, по крайней мере, если они были честны друг с другом, Хо Ши Мин приступил к созданию типичного сталинского государства на севере, и полагали (по крайней мере, американцы), что Нго Дин Дием возродит нацию из расстроенного состояния экономики и рассеянного по всей земле населения на Юге. С высоты сегодняшнего дня это предприятие представляется слишком тщетным. Южный Вьетнам всегда был скорее лагерем для беженцев, чем государством; но со способностью к самообману, которым отмечена деятельность американцев от начала до конца, официальные лица США вскоре убедили себя в том, что это так и есть. В конце концов, так им сказал Дием.
Но некоторый прогресс был возможен. Вьетнам сильно пострадал как во второй мировой войне, так и в войне против французов, и в Ханое, и в Сайгоне восстановление могло продлиться на годы, и до 1960 года Вьет Мин начал все решительнее вмешиваться в дела Юга. Но Дием не был заинтересован в реальном восстановлении, так как это требовало больших социальных реформ. Он сохранял старые землевладение и систему налогов, хотя их и ненавидели крестьяне, которые составляли большинство населения Южного Вьетнама. Они решили, что Дием — это не кто иной, как новый Бао Дай, типичный представитель класса старых хозяев, который сотрудничал с французами и принял их религию. Со своей стороны, Дием, вероятно, помнил, что сотня его предшественников-католиков была убита буддистами в XIX веке. Он все чаще обращался к своей семье и тем, кто разделял ту же религию, за поддержкой, подтверждая таким образом подозрения крестьян (население Вьетнама в подавляющем большинстве исповедовало буддизм). Одновременно нарастало движение сопротивления, которое американцы стали называть вьеткон-говским (вьетнамские коммунисты). Дием послал свою армию подавить восстание и переселить крестьян из своих деревень в так называемые «стратегические поселения», чтобы обезопасить себя от партизанских атак или влияния. Это только усилило негодование крестьян и таким образом помогло коммунистам. В 1960 Хо Ши Мин начал направлять оружие и агентов на юг, чтобы помочь восставшим. Вскоре у Дие-ма появился другой повод для беспокойства, заключавшийся в недовольстве армии. В ноябре 1960 года он едва не был свергнут в результате заговора генералов, и ему удалось уцелеть, возможно, только благодаря американской поддержке.
Это было плохое положение дел, которое Кеннеди унаследовал от Эйзенхауэра, и стало очевидным, что налицо все признаки надвигающегося падения Южного Вьетнама. Структура была неустойчива изначально, и рациональность американцев не могла ничего сделать для ее поддержи, кроме как предос-тавить ей самой обретать прочность. К тому же американцы могли действовать иррационально, но никто наверняка не знал, будет ли Джек Кеннеди держать пари. Однажды на встрече с Советом национальной безопасности, где обсуждался вопрос, касающийся Юго-Восточной Азии, председатель объединенного комитета начальников штабов обещал победу, «если нам дадут право использовать ядерное оружие». Кеннеди закончил встречу, оставив это без комментариев, но впоследствии заметил: «Он пообещал нам победу, так как он не считал, что в дальнейшем ситуация будет обостряться… Им нужна сила американских войск. Они говорят, что им это необходимо для обретения уверенности и поддержания морального духа. Но может повториться ситуация, которая была в Берлине. Войска войдут в страну, оркестры будут играть туш, люди — приветствовать, а через четыре дня все будет забыто. Затем нам скажут, что нужно прислать дополнительные войска. Это как алкоголь. После первого приема эффект снижается, и вам нужно выпить еще»[308]. Он был категорически против того, чтобы использовать ядерное оружие или посылать войска США не только в Юго-Восточную Азию, но и куда бы то ни было, где идут военные действия. Как показали кризисные ситуации на Кубе и в Берлине, он всегда предпочитал переговоры — его недруги могли бы сказать, что это его слабое место. По этому вопросу он не собирался отступать от политики Эйзенхауэра[309].
Он был отлично подготовлен, чтобы принять к делу вьетнамский вопрос. В 1951 году он посетил Сайгон, и era не ввели в заблуждение требования французского колониализма или аргументы в его поддержку.
В 1554 году в Сенате он энергично выступил против призыва Джона Фостера Даллеса к «объединенному действию» в Индокитае (другими словами, чтобы Америка помогла Франции вместе с другими союзниками, которых удалось бы привлечь к этому): «выделить деньги, средства, людей для джунглей Индокитая, не ожидая победы хотя бы в отдаленной перспективе, было бы опасным, тщетным и саморазрушительным». Конечно, вся дискуссия об «объединенном действии» предполагает неизбежность подобной победы; но такие предположения очень похожи на самонадеянные предсказания, которые убаюкивали американский народ в течение нескольких лет и которые, если бы они продолжались, создали бы неверную основу для решения о расширении участия Америки.
Более того, без представления независимости объединенным государствам (Индокитая) другим народам Азии стало бы ясно, что идет колониальная война, и «объединенное действие», о котором было сказано, что оно совершенно необходимо для победы в этом регионе, является не чем иным, как односторонней акцией со стороны нашего государства»[310]. Слова предсказания! Он высказался еще резче два года спустя, 2 июля, в своей речи о французской войне в Алжире. В манере, навевающей воспоминания о его книге «Почему Англия спала», он безжалостно проанализировал французскую политику в Алжире и предрекал ее поражение; и, отвечая своим критикам несколькими днями позже, он открыто сказал, что будет означать для Франции отказ принять неизбежность алжирской независимости: «Не окажется ли Франция с ослабленной экономикой, истребленной армией и несколькими сменами нестабильных правительств только для того, чтобы понять — как она слишком поздно поняла в Индокитае, Тунисе и Марокко, — что желание человека быть свободным и независимым является сегодня самой большой в мире силой?»[311]. Все это показывает, что Кеннеди был способен противостоять вьетнамской проблеме; к несчастью, другие его утверждения показали, что он недостаточно понял природу революции третьего мира. Он не видел, что она бросает вызов не только старым империалистическим державам, но и экономическому порядку, классовому строю, из которых она выросла; «свобода», о которой заявляли страны третьего мира, была не совсем тем, что имеют обычно в виду американцы, которые любят громкие слова. И, к несчастью, Кеннеди среди тех, кого ввел в заблуждение Нго Дин Дием. В 1954 году он публично указал, что ожидает, если Вьетнамом будет управлять Хо Ши Мин, и его не особенно беспокоит эта перспектива; но в 1955 году он пришел к выводу, что Дием построил «чудо» в Южном Вьетнаме, которое начало «освобождать и использовать скрытую силу национализма, чтобы создать независимый, антикоммунистический Вьетнам»[312], и что он «определенно встретился с основными политическими и экономическими кризисами, которые до сих пор продолжали терзать Вьетнам»[313]. Он все еще верил в Диема, когда тот стал президентом; он полагал, что трудности, которые ощутимо вставали между Сайгоном и Вашингтоном, были ошибкой администрации Эйзенхауэра, которая не относилась к Диему с достаточной симпатией.
Почти сразу же ему пришлось вникать в реалии дня. Как мы уже видели[314], Эйзенхауэр, по окончании срока своего президентства, сделал все возможное в его силах, чтобы убедить Кеннеди, что должны быть предприняты самые энергичные меры, чтобы защитить Лаос от коммунистического империализма: «[он] говорил с большим чувством, что Лаос являлся ключом ко всей территории Южной Азии… Он утверждал, что нельзя позволить коммунистам ее захватить… Президент Эйзенхауэр настаивал на том, что определяющим действием должна быть защита Лаоса»[315]. Кеннеди вскоре отказался от применения «теории домино» и обратился к дипломатическим усилиям — это было не очень много, народ Лаоса продолжал страдать, по большей части из-за продолжающейся войны во Вьетнаме, но безопасность Соединенных Штатов и прочность «свободного мира», казалось, не подверглись влиянию позорного отступления от незащищенной позиции. В прошлом выводы такого урока нашли бы, очевидно, свое применение; в то время он был незаметен, да и Вьетнам, в противоположность Лаосу, имел длинную береговую линию. Все это было доступно американской власти.
Падения и взлеты вьетнамской политики были едва зафиксированы администрацией Кеннеди во время ее первых тридцати месяцев пребывания у власти. «Деньги, средства и люди» (американские военные советники) щедро выделялись Южному Вьетнаму; высокопоставленные визитеры часто посещали Сайгон, начиная с вице-президента Джонсона в мае 1961 года; затем в Вашингтоне, Сайгоне и на Гаваях были проведены конференции; в результате предпринятых усилий все согласились, что дела идут хорошо и будут еще лучше, как и было доложено президенту. Кеннеди, у которого имелось множество других более важных дел, согласился продолжить политику Эйзенхауэра, подкрепленную кстати увеличившимся потоком средств, энергией «Нового рубежа» и большим изначальным желанием сотрудничать с Нго Дин Диемом. Когда он публично ссылался на Вьетнам (что было не очень часто), то это всегда происходило в терминах парадигмы «холодной войны» и «теории домино»: например, на пресс-конференции 11 апреля 1962 года, когда журналист поднял вопрос о том, что американских солдат убивают в Южном Вьетнаме, он ответил: «Меня чрезвычайно заботят те американские солдаты, которые ставят себя в рискованные обстоятельства. Мы пытаемся помочь Вьетнаму поддержать его независимость и не попасть под власть коммунистов. Правительство заявило, что им нужна наша помощь, чтобы это сделать… это представляет собой очень опасную операцию, как первая и вторая мировые войны, Корейская война, где погибли многие тысячи и сотни тысяч американцев. Как и эти четыре сержанта в длинном списке. Но мы не можем перестать действовать во Вьетнаме»[316]. Другими словами, он придерживался трех принципов, хотя они быстро становились несовместимыми друг с другом и с реальностью. Официально все шло хорошо, президент и все его люди, объединенный комитет начальников штабов и их подчиненные принимали и разделяли эту линию. Но при просмотре документов, которые в большом количестве циркулировали между госдепартаментом, Пентагоном и посольством США в Сайгоне, они представлялись полными подспудной обеспокоенности, сомнений и тревог, их подтекстом прорывалась реальность. Парадигма не работала надлежащим образом. Но поражение и разгром еще представлялись невероятными; упоминать о возможности этого казалось презренной ересью, как считал Дж. К. Гелбрэйт.
Он посетил Сайгон в ноябре 1961 года, и неблагоприятно отзывался Кеннеди о Диеме: «Я благоразумно приспособился к восточному правительству и политике, но я не был достаточно подготовлен, чтобы иметь дело с Диемом… Политической реальностью является полный застой, который происходит скорее из огромной необходимости защитить себя от удара, чем страну от вьетконговцев. Мне вполне ясно, что отсутствие разумного начала, централизация контроля в армии, двойственность позиции губернаторов провинций, армейских генералов и политических администраторов, угодливая некомпетентность последних — все это происходит от его страха быть свергнутым»[317]. Он считал важным, что если Дием покинет Сайгон даже на день, то всем членам его кабинета понадобится его проводить и пригласить опять, «так как это принесет меньше вреда, чем кажется»[318]. Так считал Гелбрэйт, рассматривая ход событий в Южном Вьетнаме, когда во время визита в Вашингтон следующей весной (после того как он сопровождал в качестве посла Жаклин Кеннеди в поездке по Индии, которая была очень удачна, и вследствие чего был в хороших отношениях с президентом) он составлял меморандум с Авереллом Гарриманом, разойдясь с ним во мнениях по Южному Вьетнаму, предупредив, особенно подчеркивая, что «мы имеем растущую военную мощь. Это может постепенно расшириться до чего-то огромного, с трудом поддающегося решению о военном вмешательстве», и вновь подтвердил свои сомнения относительно Диема[319]. Этот меморандум был передан Пентагону для дополнений и встретил твердый отпор со стороны генерала Лемницера: «Эти предположения побуждают Соединенные Штаты начать переговоры с коммунистами, чтобы освободиться от хорошо известного обязательства противостоять коммунистам в Юго-Восточной Азии… Объединенный комитет начальников штабов был осведомлен о недостатках настоящего правительства во Вьетнаме. Однако президентская политика поддержки режима Диема и одновременное оказание давления на реформы в настоящий момент представляется единственной практической альтернативой»[320]. Лемницер заметил, что политические предложения Гелбрэйта были не столь убедительны, как его критика, но к критике он не обращался вообще. Дела шли как обычно и в следующем году, и далее. Дием не провел ни одной реформы. Все, что он хотел от Вашингтона, — это постоянной поддержки, денежных и военных средств (даже войск, если необходимо), о чем он их просил, и для себя — свободу действий. Единственное, что оставалось непонятным, это его упорное сопротивление, равнозначное самоубийству.
Дием не мог позволить своей армии серьезно бороться с вьетконговцами, опасаясь, что большое число жертв лишит поддержки общества и множество побед может побудить генералов, почувствовавших вкус успеха, свергнуть его. Он отказывался тщательно пересмотреть структуру своего командования из страха потерять контроль, по той же причине он не хотел слышать о попытках расширить свое политическое влияние. Когда к нему приходили визитеры, особенно американские, с ненужными новостями или советом, он уводил разговор в сторону с помощью простой уловки непрекращающейся беседы (по меньшей мере по одному случаю, который мог разбираться до шести часа). Его окружение убедилось, что с ним не стоит говорить ни о чем кроме того, что ему хочется слышать, так как вполне может быть, что он не поймет, как на самом деле плохо идут дела: какую территорию уже завоевали коммунисты, насколько неэффективно и непопулярно правительство и нелояльно настроены офицеры[321]. Единственный человек, которому он втайне доверял, был его брат Нго Дин Нху, чьей основной работой являлось руководство секретной полицией. Наблюдатели не могли понять, был ли Нху сумасшедшим или просто имел плохой характер; они были уверены, что он принимает опий, впадая в параноическое буйство или фантазию мании величия. Как бы то ни было на самом деле, он имел губительное влияние на Диема. В довершение всего у него была прекрасная, но жестокая жена, «леди-дракон» (как окрестили ее американские журналисты), чью ужасающую откровенность можно было использовать, чтобы охладить американское общественное мнение. В мае 1963 года правительство Южного Вьетнама состояло в основном из приближенных Диема и головорезов Нху. Генералы решили, что война не может быть выиграна, если не свергнуть Диема, или, возможно, потому, что им не нравилось быть отстраненными от власти и выгод, и начали планировать государственный переворот, для чего, как они полагали, им была необходима американская поддержка или, по меньшей мере, нейтралитет. Ничто не грозило, по крайней мере, в ближайшее время, кроме взрыва ненависти и насилия между правительством и буддистской церковью. Солдатам было приказано стрелять в толпу, отмечавшую 8 мая День рождения Будды Гаутамы; девять человек было убито и еще больше ранено. Дием отказался принять на себя ответственность или даже осознать происшедшее: он сказал, что к панике привел взрыв вьетконговской гранаты. Но факты не могли быть скрыты, и вскоре стали известны всем. Руководимые монахами, буддисты начали проводить демонстрации в каждом южном городе и встретили гораздо более определенное сопротивление со стороны правительственных войск. 11 июня, протестуя против религиозного преследования, на перекрестке в Сайгоне сжег себя монах Тхик Куанг Дук. Показанные на первых страницах американских газет и американским телевидением, эти инциденты вызывали чувство отвращения к Соединенным Штатам, усиливаемое мадам Нху, которая сказала, что захлопала в ладоши, когда услышала новости о первом случае самоубийства, и отдала целый ящик спичек для следующего «барбекю». Напрасно представители США в Сайгоне прибегали к поощрениям и наказаниям, чтобы побудить Диема примириться с буддистами. Сходным образом посол в отставке Фриц Нолтинг олицетворял собой политику «утонуть или плыть вместе с Диемом» и получил гарантии от Диема лично, но как только через несколько дней Нолтинг покинул Сайгон, Дием отдал приказ штурмовать все пагоды свои особым войскам (обученным в США). В результате — еще убитые и раненые; монахи заключены в тюрьму, а когда студенты университета, а вслед за ними учащиеся старших классов вышли на демонстрацию, было произведено множество арестов. В августе сжег себя еще один монах.
Администрация Кеннеди поняла, что находится в сложной ситуации, как и с Бей-оф-Пигз, но в большей степени. Ее излюбленная политика еще раз продемонстрировала миру свой полный провал. Президент вновь потерял контроль над событиями. Администрация снова была расколота, но на сей раз более глубоко и непоправимо. И во время, оставленное ему, Кеннеди не мог восстановить этот контроль. Но надо быть к нему справедливым — у него было достаточно много других важных дел, назвать хотя бы два из них: Договор о запрещении ядерных испытаний и революция за гражданские права. Его инстинкты, опыт, знание истории начали подталкивать его к разрыву отношений с Диемом задолго до буддистского конфликта. Его нельзя винить за осторожность поведения: не зная, что будет убит, он считал, что у него есть время, и ситуация была политически и в буквальном смысле взрывчатой[322]. Если его целью теперь становилось политическое, а не военное решение вьетнамского вопроса (что было вероятно), то мы можем смело утверждать, что он достиг прогресса. Его посетил Роберт Макнамара, у которого были те же сомнения, и вместе они наметили начало вывода войск США: в Южном Вьетнаме находилось более шестнадцати тысяч человек, и семьдесят было убито. Кеннеди и Макнамара для начала решили тысячу из них возвратить домой, и Макнамара хотел, чтобы президент выступил с этим приказом к Рождеству[323]. Возможно, останься Кеннеди в живых, он бы успешно завершил это дело и в 1964 году мог повторить, как и тремя годами раньше сказал Авереллу Гарриману о Лаосе: «Военное решение невозможно. Я хочу уладить это политически»[324]. И он смог бы преодолеть множество трудностей.
Впечатление, оставленное тем, как его администрация решала вьетнамский вопрос с мая по ноябрь 1963 года, представлялось очень запутанным. Не было и следа выдвижения острых аргументов и последовательной командной работы, как во время ракетного кризиса. И это неудивительно. Углублявшийся буддистский кризис показал, что правительство Диема, относительно которого две администрации США надеялись, что оно создаст справедливое и антикоммунистическое государство в Южном Вьетнаме, оказалось успешным только в объединении всего населения против себя. Его следующие одна за другой ошибки сильно помогли появлению мощного и эффективного коммунистического движения; и не было заметно другой убедительной альтернативы режиму. Если бы не американское военное участие, было реальным создание коммунистического государства в Южном Вьетнаме. Это открытие было достаточно неприятно (чего уже не отрицал даже Пентагон), но далее возникли другие трудности. Послушная приказам Максвелла Тейлора американская миссия в Сайгоне была с 1961 года настроена довольно решительно. Это означало, что она закрывала глаза на мрачные, но точные отчеты своих людей в районе боевых действий (из которых больше всего памятен Джон Пол Ваан)[325], и вместо этого прислушивалась к неизменно благополучным отчетам командиров Южного Вьетнама. В них говорилось, памятуя о том, что хотели бы услышать американцы старого поколения, что деревни взяты, вьетконговцы убиты, сражения выиграны, и так — сколько угодно, и в свою очередь генерал Харкинс, глава военной миссии, сказал Макнамаре, что война будет выиграна за один год. Летом 1963 года Кеннеди понял, что ему не следует верить ни одному отчету, который он получал от военных. Война уже начала разъедать армию США. Судьба уберегла его от открытия в дальнейшем, что, несмотря на модные разговоры о мерах, какие следует предпринять против бунтарей, никто из его генералов, даже Максвелл Тейлор, в действительности не знал, как бороться с вьетконговцами. Они надеялись на отдельные сражения и соответственно старались тренировать южных вьетнамцев; на остальных они планировали обрушить огонь и бомбы, чтобы противопоставить все эти действия партизанам. Они грезили о ядерном оружии и начали осторожно работать, чтобы распределить американские наземные войска по всему театру военных действии. Пугающий провал армии и военно-воздушных сил США был уже предопределен задолго до смерти Кеннеди, хотя никто об этом не подозревал.
По крайней мере, было ясно, что армия была разделена: люди на полях сражений во Вьетнаме были категорически несогласны с оценкой своих начальников. В Вашингтоне госдепартамент был расколот между последователями осторожного Раска, приверженца «холодной войны», и «крокодила» Аверелла Гарримана, который давно разочаровался в династии Нго и теперь свирепо нападал на несогласных с ним коллег. Доклады ЦРУ противоречили донесениям разведывательного управления министерства обороны США, созданного усилиями Макнамары. Вице-президент все еще оставался лоялен Диему. Конгресс застыл в ожидании. Белый дом был в смятении. Он все еще придерживался мифа, что война необходима и будет выиграна; это было видно по выступлениям президента; если бы новости о реальном положении дел и разброде в администрации стали известны, это создало бы большие трудности. Но правда все же просачивалась. Дэвид Халберстам из «Нью-Йорк тайме» наводнил свою газету самыми мрачными репортажами о ситуации в дельте Меконга (где жило много южновьетнамцев), как и о приближающейся гражданской войне в Сайгоне.
На этом этапе вьетнамская проблема представлялась Вашингтону — Белому дому, госдепартаменту и Пентагону — проблемой, связанной с Нго Дин Диемом: война не могла быть выиграна, если бы он продолжал прежний курс — если он вообще еще сохранял власть. Очень немногие видели, что реальная проблема заключалась в самом американском присутствии в Южном Вьетнаме. Среди этих немногих был и сенатор Майк Мэнсфилд, лидер демократов в Сенате, который по просьбе Кеннеди в 1962 голу посетил Южный Вьетнам и впоследствии написал: «Это их страна, и их будущее поставлено на карту, а не наше. За игнорирование этой реальности мы не только заплатим огромную цену, выражающуюся в средствах и жизнях американцев, но можем также оказаться в незавидной позиции во Вьетнаме, в которой прежде уже побывали французы». Кеннеди не нравился этот анализ, но, как он сказал Кеннету О’Доннелу, «я рассердился на Майка за несогласие с нашей политикой столь окончательно, и я зол на себя, потому что я, кажется, начинаю с ним соглашаться»[326]. Но это не было выходом летом 1963 года. Кеннеди направил в Сайгон нового посла, Генри Кэбота Лоджа-мл., которого он победил на выборах 1952 года в Сенат от Массачусетса, который был кандидатом в вице-президенты Ричарда Никсона в 1960 году. Лодж потерял всякую веру в Диема и был готов поддержать переворот против него; однажды он посетил президентский дворец и продолжил политику Нолтинга, отстранив генерала Харкинса от любой информации о его делах с Вашингтоном (что Харкинса очень разгневало): он считал Харкинса марионеткой Диема. Кеннеди отправил в Сайгон несколько особых посланников, чтобы они посмотрели на ситуацию. Одну из таких миссий составили Джозеф А. Менденхолл из госдепартамента и генерал военно-морских сил Виктор Крулак: они прислали столь противоречивые доклады (Менденхолл предсказывал поражение, Крулак — победу), что президент спросил: «Вы оба были в одной и той же стране или я ошибаюсь?»[327]. Снова туда были посланы Максвелл Тейлор и Роберт Макнамара, скорее, к неудовольствию Лоджа. Кеннеди в своем послании постарался смягчить его: «Я прекрасно понимаю проблему, которую вы видите в приезде Макнамары и Тейлора. В то же время мне действительно необходим их визит, и я верю, что мы сможем выработать средства с учетом ваших интересов»[328]. По крайней мере, он понял, что трудного выбора больше не избежать, но он его все еще не сделал.
Его трудности (и его советников) были полностью высвечены в деле с телеграммой Хилсмана. Несколько южновьетнамских генералов довели до сведения американцев информацию о возможности переворота, и 24 августа 1963 года госдепартамент послал Лоджу телеграмму с предписанием, составленную Роджером Хилсманом и Авереллом Гарриманом. Ключевое предложение гласило: «Если, несмотря на все ваши усилия, Дием проявит упрямство и откажется, тогда нам следует допустить возможность, что ему не удастся удержаться у власти»[329]. Таким образом, генералам дали зеленый свет. К несчастью, это было в выходные дни («Никогда не занимайтесь делами по выходным», — сказал впоследствии Мак-Джордж Банди)[330] и младшие члены администрации разъехались. (Кеннеди находился в Хьянниспорте). Благодаря не только этому, но и путанице между Хилсманом и репортером. Суть этого очень конфиденциального послания стала известна газетам[331]. Все, кто передавал сообщения по телефону — Кеннеди, Раск, Макнамара, Тейлор — были разгневаны этой утечкой, нанесшей ущерб, а ни слова не было произнесено, когда в понедельник 26 августа собрался Совет национальной безопасности. У Кеннеди была причина для недовольства, но он не позволил своим советникам использовать утечку информации, чтобы по зрелом размышлении обдумать политику. Он обошел вокруг стола, спрашивая всех по одному: «Не хотите ли вы, мистер Раск, изменить кое-что? Нет. А вы, мистер Макнамара, не хотите ли изменить средство связи? Нет. А вы, генерал Тейлор..?»[332]. Политика осталась прежней, но после этого заседания Кеннеди мрачно заметил: «Мое правительство разваливается»[333]. В администрации споры продолжались весь сентябрь, удивляя южновьетнамских генералов своей нерешительностью и отступлением, но споры вокруг этого были напрасны. К несчастью, Бобби Кеннеди отходил от вопросов внешней политики по мере того, как работа в департаменте юстиции становилась все более напряженной; возможно, он начал забывать о главном, чему его научило дело Бей-оф-Пигз, а именно — о том, что тыл президента должен быть защищен, и только он может это сделать. Если бы Джек остался жив, Бобби обязательно поддержал бы его по мере того, как вьетнамский вопрос становился все более настоятельным. Ею таланты находились в самом расцвете. На сентябрьском заседании Совета национальной безопасности он правильно ставил вопросы: «Насколько он понял, мы были там, чтобы помочь людям сопротивляться установлению коммунистического режима. Первый вопрос заключается в том, можно ли ему успешно противостоять при любом правительстве. Если нельзя, то следует полностью уйти из Вьетнама, а не ждать… На основной вопрос — можно ли сопротивляться установлению коммунистического строя с любым правительством — не было дано ответа, и у него не было уверенности, что кто-то обладает достаточной информацией, чтобы на него ответить»[334]. Но подобный здравый смысл не оказал большого влияния на президента, кроме, может быть, глубоко скрытых его мыслей.
Он должен был довести до сознания советников необходимость своей политики, и к концу года около ста из них действительно ее осознали[335]. Кроме того, он, как и другие, ждал решения вопроса о Диеме. Он еще не был готов поставить проблему перед американским народом, но неожиданно обнаружил неопределенность своих собственных противоречивых утверждений. 2 сентября в интервью Уолтеру Кронкайту он заметил, коснувшись вьетнамского вопроса: «Я не думаю, что до тех пор, пока правительство не предпримет большее усилие, чтобы получить поддержку народа, мы сможем выиграть войну за пределами нашей страны. В конце концов, это их война. Они будут теми, кто ее проиграет или выиграет. Мы можем им помочь, можем обеспечить снаряжением, послать туда наших людей в качестве советников, но именно они — народ Вьетнама — должны будут победить коммунистов»[336]. С другой стороны, в другом телевизионном интервью (с Четом Хантли), когда спросили, есть ли у него причины сомневаться в «теории домино», он ответил: «Надеюсь, что нет. Надеюсь. Я думаю, что скоро начнется борьба. Китай столь огромен, его влияние заметно далеко за его пределами, так что если Южный Вьетнам уйдет, то это только даст ему превосходное географическое преимущество для партизанского нападения в Малайе, а также создаст впечатление, что волной будущего на Юго-Востоке Азии был Китай и коммунисты. Так что я надеюсь»[337]. Друзья, враги и историки удивлялись этому противоречию, спрашивая, что в действительности имел в виду Кеннеди. К несчастью, он имел в виду и то, и другое. В этом была вся трудность.
Тем временем события в Сайгоне развивались своим чередом. Южновьетнамские генералы вновь начали разрабатывать свой план действий и на этот раз получили одобрение правительства США: «Точно так же, как мы не хотим побудить к перевороту, как и оставить впечатление, что Соединенные Штаты противодействуют смене правительства»[338], Лодж и Харкинс продолжали спорить по поводу правильности курса политики США, и вашингтонские послания с советами и запросами оставались неэффективными. 1 ноября начался переворот, который завершился на следующий день капитуляцией и убийством Диема и Нху.
Кеннеди был на заседании Совета национальной безопасности, когда узнал новости; от шока он побелел и ринулся из комнаты. Он принял необходимость переворота, но не хотел, чтобы братья Нго были убиты. И все же он не смог это объяснить Сайгону. Возможно, ему не удалось бы спасти братьев, но он не прилагал к этому достаточно усилий. Он считал, что поступил нечестно по отношению к Диему, который все же был союзником Соединенных Штатов. Его конец был мрачным предупреждением всем — во Вьетнаме и других странах, — кто оказывал доверие Соединенным Штатам.
Тремя неделями позже Кеннеди сам был убит. Основные решения по Юго-Восточной Азии предпринял его последователь, человек совершенно других взглядов.
«То, что могло бы быть» — неподходящие темы для историков. Достаточно трудно оценить реальную репутацию Кеннеди во вьетнамском вопросе без того, чтобы не добавить еще целый ворох спекуляций относительно того, что бы он сделал, если бы остался жив. Но, оглядывая его деятельность в этом вопросе, трудно не заметить упущенную возможность. Суть южновьетнамской проблемы уже была видна для тех, кто имел глаза, когда Кеннеди вступил в Белый дом: например, связи посла Дурброва с Нго Дин Диемом были очень плохи, как и при после Лодже, и вооруженные силы Южного Вьетнама были боеспособны не более, чем в 1963 году. Теоретически новая администрация Кеннеди умыла бы свои руки от сайгонской политики и пришла бы к согласию с Северным Вьетнамом, как она это сделала с коммунистами в Лаосе. В 1962 году Ханой начал искать пути для достижения такого соглашения, но эти усилия были с презрением отвергнуты. (Несомненно, коммунисты надули бы американцев, как это было в Лаосе, но даже это было бы лучше для всех, чем то, что случилось).
На практике было бы невозможно для администрации Кеннеди, избранной со столь небольшим перевесом и уязвимой на международной политической арене, попытаться достичь подобного соглашения в 1961 или в 1962 году, до ракетного кризиса. И так как политика Эйзенхауэра быть откровенным с Диемом потерпела неудачу, то попытка быть к нему добрым выглядела разумно, что означало предоставить ему все, что он хочет. Но к концу 1962 года эта политика тоже провалилась, и Кеннеди оказался в гораздо более трудном положении, чтобы предпринять какие-либо радикальные изменения. Это стало окончательно ясно, когда он понял, что его надежды на Диема не оправдались и что он идет к разрыву отношений с Вьетнамом, но идет медленно, так как видел, что его военным и гражданским советникам так же трудно оставить Диема и решение вьетнамской проблемы самой себе. Кеннеди все еще не был готов публично объявить о проведении новой политической линии, сказать народу откровенно, когда его настигла смерть. Таким образом, если подводить итог его деятельности по вьетнамскому вопросу, можно добавить, что со времен администрации Эйзенхауэра никаких реальных изменений не произошло, хотя время не стояло на месте.
Не забывая о его смерти, следует сказать, что за время, отпущенное Кеннеди, он вряд ли мог сделать больше в случае с Сайгоном. Не следует также считать, что если бы он не был убит, то продолжал бы придерживаться политики отказа послать войска в Южный Вьетнам. Часто считают, что Линдон Джонсон сам с не очень большим желанием или не так быстро следовал этим путем — до марта 1965 года, шестнадцать месяцев спустя после того, как он стал президентом, морские пехотинцы высадились в Дананге. Мощные силы вели Соединенные Штаты к фатальному исходу. Все, что можно сказать, — это то, что Кеннеди в гораздо большей степени, чем Джонсон, не желал этого принять, хотя оно вполне могло показаться более быстрой, трудной и успешной альтернативой.
Тем не менее — это следует признать наиболее убедительной причиной его беспокойства — Южный Вьетнам перевернул его жизнь и все привычные представления, что напоминало путешествие в незнакомые воды. Такая перемена могла произойти только благодаря отказу от парадигмы «холодной воины» и обретению нового взгляда на мир. Был, видимо, смысл спросить американцев: «Вы хотите, чтобы ваши сыновья погибли в Сайгоне?», но Кеннеди не мог бы задать такой вопрос. Он скорее бы сделал так, как в выступлении 26 сентября 1963 года перед жителями Грэйт Фоллз, штат Монтана, до вопроса о Договоре о запрещении ядерных испытаний, заверив их, что «происходящее в Европе, Латинской Америке, Африке или Азии прямо влияет на безопасность людей, которые живут в вашем городе. Я не приношу извинений за усилия, которые мы предпринимаем, чтобы помочь другим странам поддержать свою свободу, так как я знаю достаточно хорошо, что каждый раз страна, независимо от того, как далеко она находится от наших границ, переходя через «железный занавес», тем самым подвергает опасности защиту Соединенных Штатов… Поэтому, когда вы спрашиваете, почему мы в Лаосе, Вьетнаме или Конго или почему поддерживаем «Альянс за прогресс» в Латинской Америке, мы делаем это потому, что считаем, что наша свобода связана с их свободой… Поэтому мы так поступаем. Мы не должны уставать»[339]. Изменение курса могло повлечь за собой потоки слов, начиная с инаугурационного обращения. И что он мог сказать вместо этого? Что уход из Южного Вьетнама не окажет воздействия на безопасность Соединенных Штатов или повлияет не так сильно, если сражаться в этой не имеющей успеха войне? Что большая революция, охватившая мир, или влияние и контроль русских обойдут американцев и Соединенным Штатам следует верить, что в конце концов их пример демократического мира, свобода и процветание окажут большее воздействие, чем любые военные попытки направить людей на тот путь, которым они должны идти? Что Америка всемогуща?[340] С таким посланием было бы трудно обратиться к избирателям.
Так что у Кеннеди была достаточно веская причина для осторожности, беспокойства и нежелания это делать, но воспоминания о волнениях предыдущего президента по этому вопросу были еще более ярки. Если бы Авраам Линкольн умер в первые семнадцать месяцев своего президентства, то сейчас бы о нем вспоминали как о невыразительной фигуре, чьи выборы вызвали гражданскую войну в Америке. Понадобилось более года бедствий, выпавших на долю Соединенных Штатов, чтобы он понял, что рабство должно уйти, и целью войны стала его отмена, и прошли еще месяцы, прежде чем он подписал манифест об освобождении рабов. Джон Ф. Кеннеди продвигался осмотрительно и успешно, и он сделал это так, как мог.
Глава 8
ГИБЕЛЬ КЕННЕДИ
И ПРЕЗИДЕНТСТВО
22 ноября 1963 года во время визита в Даллас президент Кеннеди был убит двумя выстрелами Ли Харви Освальдом. Это убийство заставило содрогнуться весь мир и оставило граждан США вглядываться в черную пустоту бессмысленности. С тех пор некоторые из них попытались понять, что же произошло.
С типичной небрежной проницательностью Кеннеди утром в день своей смерти сделал два замечания, которые могли указать на то, что случится впоследствии. В своей спальне в Форт-Ворте он просматривал утренние далласские газеты, полные горячих протестов против его политики и угроз о расправе, после чего беззаботно бросил, обратившись к жене: «Мы сегодня отправляемся в сумасшедшую страну»[341]. Он был фаталистом относительно возможности убийства. Он получил множество предостережений о настроениях в Далласе, но отмел их прочь. Крытый верх президентской машины не был поднят: он хотел, чтобы люди видели его и особенно миссис Кеннеди. Несколькими днями раньше он решил обойтись без пары секретных агентов, которые бы стояли на подножках по бокам машины: это заставило бы его почувствовать себя окруженным толпой. Что касается риска появления снайпера, то он сказал, что любому, кто хотел бы его убить, достаточно только забраться на крышу, следовательно, предосторожности были бы бесполезны: казалось, он знал, что умрет молодым, и верил, как солдат, что пуля минует его, пока не придет время, и тогда ее невозможно будет избежать. Если бы можно было взять у него интервью с того света, то он бы ответил, что в некотором смысле заслужил свою смерть (это было бы для него характерно). Но граждане Америки не могли разделить эту точку зрения и согласиться с хладнокровным убийством.
Ли Харви Освальд был жителем этой «сумасшедшей страны». Ему было 24 года, и он временно работал на техасском складе школьной литературы в Далласе; никудышная жизнь и недостатки характера затягивали его все глубже и глубже в фантазии мании величия, когда Кеннеди приехал в Даллас и проезжал прямо перед окнами склада. Состояние его рассудка прекрасно описал Джеральд Познер: «Отказавшись от попыток найти счастье в России или США, отвергнутый кубинцами, плохо приспособленный к жизни в Америке, разочарованный своим браком и преследуемый, как он считал, ФБР, он отчаялся вырваться из этого замкнутого круга. Он достаточно долго выносил унижение от своих друзей-моряков, русских и кубинских бюрократов, работодателей, что возбуждало в нем гнев… как и отказ В. Т. Ли и других коммунистических лидеров признать его усилия и его имя. Ли Освальд всегда считал себя умнее и лучше других людей, и его сердило, если остальные не желали признавать тот статус, которого, как он считал, заслуживал. Теперь у него появился шанс, который, он знал, бывает только раз в жизни»[342]. Суть этого отчета стала очевидна с момента ареста Освальда, час спустя после смерти Кеннеди, но, как и сама смерть, объяснение было неприемлемо из-за своей простоты для американского народа.
Первая попытка заполнить пустоту или примирить людей с действительностью была предпринята с помощью ритуала. Линдон Джонсон принял присягу президента на аэродроме военно-воздушных сил в Далласе, рядом с ним находилась и Жаклин Кеннеди; фотографии, на которых запечатлены суровая торжественность Джонсона, страдание и ошеломленность миссис Кеннеди, кровь на крае ее платья, быстро облетели весь мир, как знак непрерывности и единства в трагедии. Гроб с телом президента был со всеми почестями доставлен в Вашингтон; сначала его установили в Восточной комнате Белого дома и затем — под огромным куполом Капитолия; сотни тысяч людей, скорбя, шли один за другим, чтобы попрощаться с ним. На следующий день в соборе Святого Матвея прошла заупокойная месса, после чего процессия направилась на Арлингтонское кладбище. Английский поэт хорошо передал настроение, которое царило тогда:
При ярком свете посеревшего солнца
Пышно, с почестями и в горести
Коронуют мертвую голову.
Дрогнуло сердце даже у твердых духом,
Но твое сердце, Америка,
Уже не бьется спокойно, уверенно и сильно,
Пораженное в машине триумфа.
Печальные почести на проводах Цезаря
Отдает военная музыка и строгий ритуал:
Он был храбрым и в день своей смерти!
Гремит ружейный салют.
Эхо разносится далеко
Над арлингтонским надгробием.
(Дж. С. Фрейзер)
С точки зрения психологии пышное благородство похорон было существенно; оно не могло до конца выразить горе страны, хоть и могло помочь народу восстановить душевное равновесие, но некоторые вопросы, на которые не были получены ответы, тем не менее оставались. Как с горечью сказал Кеннет О’Доннелл вечером 22 ноября: «Почему это случилось? Какую пользу это принесло? Всю свою жизнь я верил, что все, что происходит, — к лучшему, как бы ужасно оно ни было. Но что хорошее может произойти из этого?»[343]. В тот день была поколеблена не только его вера.
Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Франклин Рузвельт помогали утверждать прочную традицию президентского руководства XX века, которой следовали их преемники. Сам Кеннеди нашел, использовал и насладился президентством именно по этой причине: он искал самоосуществления для себя и для американского народа с помощью смелого руководства. Линдон Джонсон тоже был наследником этой традиции и хотел стать президентом по той же причине; теперь в качестве президента у него появился шанс показать, что он может сделать, но он понимал также, что сейчас более всего необходимо обретение уверенности и спокойствия, чего он намеревался достичь, полностью воплотив программу Кеннеди как можно быстрее.
Похожий импульс возник после назначения комиссии, которую возглавил главный судья Соединенных Штатов, Эрл Уоррен, чтобы установить правду об убийстве. Эта комиссия не была необходима, но так как Ли Освальд был убит, находясь под арестом полиции, через два дня после смерти Кеннеди, это обстоятельство также повлияло на ее создание (как и его жертва, Освальд был доставлен в Парклендский госпиталь, где было дано заключение о его смерти). Это жуткое последствие убийства было не совсем непредвиденным: Дэниел Патрик Мойнигэн, впоследствии младший член персонала Белого дома, напрасно старался вызвать обеспокоенность у своего начальства, указывая на риск подобного события и на известную некомпетентность далласской полиции; кроме того, во время ареста Освальда была предпринята попытка его линчевать. Теперь стало известно, что Джек Руби, убийца Освальда, был руководим праведным негодованием, которое на Юге вполне естественно связывалось с оружием. Но не следовало ожидать от американского народа, особенно тех, кто просто обезумел от горя, что он без вопросов примет просто объяснение случившегося, или будет ждать, пока суд над Руби не установит правду или ее часть. У официального Вашингтона было мало сомнении в том, что Освальд действовал в одиночку по своим причинам (хотя Бобби Кеннеди, озадаченный, спросил главу ЦРУ, не он ли убил Джека)[344]. Надо было, чтобы американский народ думал именно так. Поэтому президентская комиссия показалась превосходной идеей и с успехом выполнила эту задачу, что не очень помогло понять, кто и как убил Кеннеди. Президент Джонсон настаивал на этой версии до выборов 1964 года; так же он поступал и в сентябре, эти выводы в основном были с почтением приняты. Заседания конгресса 1963–1964 гг. были завершены. Джонсон быстро принял всю программу Кеннеди, включая билль о гражданских правах, что было провозглашено самой лучшей памятью об ушедшем лидере. Казалось, что институты и национальное самоуважение Соединенных Штатов благополучно выдержали шторм.
Но надеяться было рано. Убийство Кеннеди стало слишком большим шоком, американцы в своем большинстве (включая рьяных журналистов и историков) считали невозможным, чтобы столь громкое событие могло иметь такие тривиальные причины, как отвратительная фигура Ли Освальда и отсутствие секретных агентов, прикрывающих тыл президентского лимузина. Но это было не лучшее время. Основными чертами администрации Кеннеди постепенно становились активность в стране и за рубежом и ослабление напряжения в отношениях с Советским Союзом — но не с коммунистическим миром в целом. Линдон Джонсон добросовестно продолжил эту политику, но это обернулось против него. Закон о гражданских правах 1964 года он подкрепил Законом об избирательном праве 1965 года, тем самым завершив работу ненасильственного движения за гражданские права, но вскоре стало ясно, что этих значительных достижений недостаточно и что огромные социальные и экономические проблемы, непрочно, но неразрывно связанные с расовым вопросом, все еще оставались. Середина 60-х годов была отмечена жаркими летними сезонами, когда бунтовщики из городских гетто сжигали и выбрасывали то, что их окружало, в псевдореволюционной ярости, в то время как белые южане были разгневаны утратой своего контроля. Большая демократическая коалиция Севера и Юга, города и деревни, рабочего класса и либералов среднего класса, черных и иудеев, начала разрушаться. И в поисках международной стабильности Соединенные Штаты все глубже увязали во вьетнамской войне. Администрация Джонсона была вынуждена перейти к обороне, и в тот ужасный 1968 год — год, когда были убиты Мартин Лютер Кинг и Роберт Кеннеди, год наибольших беспорядков, когда были разграблены чикагский Вестсайд и некоторые районы Вашингтона, год наступления Северного Вьетнама и жестокого разгрома президентской демократической конвенции — всему этому пришел конец. Линдон Джонсон не стал выдвигать свою кандидатуру на переизбрание, а Ричард Никсон победил Хьюберта Хамфри — благодаря отступничеству многих демократов в сторону кандидата от третьей партии Джорджа Уоллеса. В период правления администрации Никсона (1969–1974) дела шли все хуже, достигнув своей кульминации во время уотергейтского скандала.
Поэтому неудивительно, что те, кто пережил горькое крушение иллюзий тех лет, когда правительство США слишком часто уличали в несправедливости, крючкотворстве и коррупции, начали искать не только официального объяснения убийства Кеннеди, но приемлемый отчет администрации Кеннеди. Линдон Джонсон, как представляется, систематически обманывал американский народ, Никсон лгал без тени стыда. Если таково было состояние демократического правительства в 1974 году, то почему следовало верить, что одиннадцать лет назад оно было лучше и что Джон Кеннеди превосходил своих преемников?
Американский республиканизм был обманом, которым манипулировали политики, генералы, крупные бизнесмены, организованная преступность и такие низменные институты, как ФБР и ЦРУ, в собственных целях. В таком настроении ревизионисты приступили к работе.
Теоретики убийства привлекали к себе самое пристальное внимание. Вера в заговоры различного рода всегда была сильна в Соединенных Штатах, которая являлась привлекательной как для того, чтобы понять реальность, так и чтобы этого избежать. Рвение первых американских революционеров питала вера в заговор между британцами и их марионетками в Новой Англии; другая вера в заговоры — рабов и аболиционистский — широко поддерживалась во время гражданской воины: большое влияние на политику XX века оказала также вера в «красную угрозу». Ни один из этих голословных сюжетов ныне не признан историками: как мифы они являются одними из многих черт прошлого, которые требуют своей интерпретации и объяснения. Так же было и с далласским заговором, но, вопреки всей трудности для объяснения, он имеет долгую предысторию.
Отчет комиссии Уоррена предлагает критикам простую цель. Парадоксально, но если бы Освальд дожил до суда над ним, тем меньше стало бы известно об этом случае, но приговор о виновности все же было бы трудно опротестовать: даже после первого суда над О. Дж. Симпсоном трудно представить, какие слова адвоката в защиту можно было найти, чтобы выдержать допрос в суде, или сам Освальд предоставил бы убедительное доказательство своей невиновности. Но комиссию интересовал не только вопрос о том, виновен или нет Освальд. Также следовало поработать историкам, чтобы дать насколько возможно полный отчет определенного события; их заключение было менее важным, чем их аргументы и умение обращаться с доказательствами; к несчастью, но неизбежно (как ожидали некоторые профессиональные историки) эта работа была полна неоконченных версий, нелогичности, пробелов и противоречий как в представленных свидетельских показаниях, так и в анализе участников комиссии. К здравому смыслу это не имело отношения: вина Освальда была доказана более чем достаточно, неоконченность версий не могла повлиять на эту основную точку зрения. Но спорщиков одолевал скептицизм по поводу того, что здесь не может быть безобидных ошибок. Кажущиеся или реальные слабые места отчета комиссии Уоррена проявились, во-первых, в очевидной некомпетентности, и позже — в доказательстве существования заговора. В обоих случаях следовало отвергнуть отчет (хотя критики продолжали упорно полагаться на опубликованные исследования), питавший многочисленные дикие фантазии. Как утверждалось, Кеннеди был убит мафией, или Кастро, или кубинцами, которые были настроены против Кастро, или ЦРУ, или ФБР, или Пентагоном. Предубежденность этих гипотез становится ясной, если мы заметим, что никого, кроме, возможно, ЦРУ, серьезно не занимала идея о том, что Освальд, в прошлом перебежчик из Советского Союза, явный марксист, имеющий русскую жену, мог быть орудием КГБ.
Некоторое время, проведенное Освальдом в России, лишило его иллюзий относительно советской системы, тем не менее он называл себя марксистом до последних дней (или до того, как началось полицейские дознание). Он счел, что ему невозможно поступить в сильно сократившееся войско крайне левых американцев, несомненно, по той причине, что оно едва ли существовало в Новом Орлеане или Далласе — двух городах, где он жил после своего возвращения из России; кроме того, он был плохо образован, тщеславен и не особенно умен. А черта насилия, присущая его личности, привела его к тому, что он стал убийцей. Он пытался убить бывшего генерала правой ориентации Эдвина Уолкера до того, как выбрал целью Кеннеди. На первый взгляд, оба преступления выглядят противоречащими друг другу, так как Кеннеди был либеральным президентом (который уволил Уолкера из армии) и сознательно старался преумножить наследие Франклина Рузвельта и Гарри Трумэна, и, возможно, в 1963 году его влекло к левым быстрее и решительнее, чем он ожидал. Но, с точки зрения Освальда, в этом не было противоречия. Каковы бы ни были его реальнее мотивы, он мог себе сказать, что убить Уолкера или Кеннеди — значит нанести удар по капитализму; возможно, он не осознавал, что в следующей за Кеннеди машине был Линдон Джонсон, или он понял это позже.
Для многих левых было невозможным принять такое объяснение случившегося. Даллас был знаменит своими капиталистами, которые добивались успеха, и самыми невероятными предубеждениями правого толка в Соединенных Штатах. Не могло быть совпадения в том, что либеральный президент, защитник гражданских прав и сторонник ослабления напряжения с Россией, был убит во время визита в этом определенном городе. Это было первым общим предположением; это стояло и за отказом Жаклин Кеннеди сменить одежду с пятнами крови: «Пусть они видят, что сделали»[345]. Затем настало время разоблачения Освальда, целью которого было подтвердить всю ту клевету, которую в течение поколений распространяли левые и правые. Леваки были убийцами, нигилистами, сумасшедшими фанатиками, опасными неамериканцами. По крайней мере, таким был Освальд. Поколение, которое вышло из тени маккартизма и которому до сих пор уделял внимание Дж. Эдгар Гувер, подвергло сомнению прочность параноических иллюзий своих врагов; они были уверены, отвергая это, несмотря на доказательства, но некоторые ушли так далеко, что исказили, придумали или дали другую интерпретацию свидетельствам, чтобы уменьшить роль Освальда в истории с убийством, а если это невозможно, то, по крайней мере, изобразить его как обыкновенного простака.
Как только начались споры вокруг отчета комиссий Уоррена (возможно, с публикацией в 1966 году работ Марка Лэйна «К приговору суда» и Эдварда Джея Эпштейна «Дознание»), за дело взялись маньяки, сентиментальные люди, оппортунисты, сумасшедшие, мистификаторы, преступники, шарлатаны и уфологи. Их усилия были так прилежны, что неудивительно, что через некоторое время американцы уже не верили, что Освальд действовал один, хотя не было согласия в том, кто ему помогал. Есть надежда, что эта иллюзия умрет, как только возобладают такая убедительная информация и высшая логика, как в книге Джеральда Познера «Дело закрыто». Тем временем студенты-американцы могли отметить факт, что теоретики, придерживавшиеся версии заговоров, делились на два лагеря: в одном находились те, кто надеялся, что, когда все станет известно, справедливость наконец восторжествует и их вера в свою страну будет восстановлена; в другом были те, чьей целью с самого начала являлось разрушение этой веры, искренность критики придала им внушительность, что безуспешно пыталось сделать американское правительство в 60-х и 70-х годах. Но так как за убийством Кеннеди действительно не стояло никакого сценария (если не считать того, что мы признали Освальда единственным участником заговора), то усилия теоретиков годились только на то, чтобы озадачивать и искажать общественное понимание, каковы бы ни были намерения. Они скорее ослабляли американскую демократию, чем реформировали ее; как убедительно заметил Познер, они также «прощали человека с руками в крови и издевались над президентом, которого он убил»[346]. Они отвлекали внимание от реального смысла убийства, смысла столь ужасного, что многие американцы в спорах вели себя так, как будто не хотели этого знать, в то время как другие, такие, как Уильям Манчестер[347], отказывались вообще видеть в этом какой-либо смысл. Смысл сводился к факту, что Соединенные Штаты являются страной, где Ли Освальд пожелал убить Джона Ф. Кеннеди и смог это сделать.
Соединенные Штаты — большая страна, но в то же время и деревня. Как бы ни различались ее жители, они все оставались соседями, их жизни постоянно соприкасались. Среди немногих друзей Освальда в Далласе был человек, Джордж де Мореншильдт, которой также являлся и другом родителей Жаклин Кеннеди. Освальд и Джек Кеннеди были связаны не только посредством такого рода совпадением и пулями. Их жизнь молено рассматривать как негатив и позитив одной и той же картинки.
Взгляни сюда, на эту картину и на ту,
обратное изображение двух братьев…
Джон Фицджеральд Кеннеди казался воплощением американской мечты. Молод, красив, богат, умен, атлетичен и сексуален, смешлив, доволен и великодушен — он взошел на президентский престол как принц. Благодаря своему обаянию, смелости и общительности этот католик, наследник Ирландии, политической машины и темных дел бизнеса, защищал свой народ, свою веру, партию, традиции и институты своей страны. Он был самой большой надеждой, которую Америка дала миру[348]. Он был слишком хорош, чтобы быть правдой; Кеннеди был далек от совершенства, и всплывшие факты о его слабостях горько разочаровали критиков, писавших после его смерти; но легенда была достаточно правдива, чтобы объяснить, почему мир испытывал к нему любовь и возлагал на него большие ожидания.
И никакого будущего не было у Ли Харви Освальда. Если бы в американской системе было достаточно проявлений патриотизма, то все события его жизни оказались бы невозможны; в действительности они подтверждали правоту замечания президента Кеннеди, сделанного им во время инаугурационной речи: «Если свободное общество не может помочь многим из тех, кто беден, то оно не будет в состоянии защитить тех немногих, кто богат».
Родители Освальда не выдерживали требований, которые предъявляла к ним жизнь. Отец исчез, когда тот был еще ребенком. Мать два раза неудачно выходила замуж, считая, что трудно удержаться на какой-нибудь работе больше нескольких месяцев, и была не в состоянии воспитать своих сыновей надлежащим образом. Ли никогда не задерживался надолго ни в одной школе, особенно из-за трудностей в общении, его служба в морском корпусе не научила его ничему, кроме умения стрелять; после своего отъезда из Советского Союза он быстро ополчился против него, в Америке он удерживался на работе не дольше своей матери. Это не снимает с него ответственности за его действия и не перекладывает на общество — весьма враждебное; с начала до конца он представляется гнусным человеком, который не заслуживал удачи тех, кто пытался помочь ему и его жене. Но дело в том, что Соединенные Штаты не могли бы спасти его. В определенном отношении он был настоящим американцем, который всегда ищет идеальное общество, «Изумрудный город». Он искал убежища в морском корпусе, в России и Далласе, в последние месяцы жизни он безуспешно пытался податься на Кубу, которая, возглавляемая Фиделем Кастро, представляла еще одно иллюзорное воплощение его надежды. Но ничего не удалось. Это объясняет его тягу к марксизму. Во всем этом проявилось если не реальное, то мысленное бегство от мира, который не принимал его таким, какой он есть, и не оставлял надежды. В эру «холодной войны» для него было естественным обратиться к коммунизму, громко и открыто отрицавшему все, чего придерживалась Америка; это было для него столь же легко, как и для юного Адольфа Гитлера обратиться к антисемитизму в габсбургской Вене. Но мере того, как на него оказывали давление сексуальные, общественные и экономические неудачи, он все дальше и дальше углублялся в мир фантазий, где он представлялся себе очень значительным (многозначительный американизм!) и где были возможны возмездие и триумф. Перемены дали ему возможность реализовать эти фантазии: он начал искать случая появиться героем на месте для дачи свидетельских показаний, почти как убийцы царя Александра». Но это не делало Ли Освальда ниспровергателем американской мечты: это было его существованием.
Возможно, это служит объяснением его убийства. Джек Руби, почти трогательная фигура в данной истории, потерпел почти такой же крах, как и Ли Освальд. Он слишком хотел стать известным. Он хотел быть богатым, знаменитым и приглашенным в круги сильных мира сего — или, во всяком случае, в круги известных. Но в 1963 году он был не более чем владельцем двух ночных клубов в Далласе, долги которых почти сокрушили его, новость об убийстве Кеннеди была воспринята как ужасный удар. Как и Освальд, он спасался бегством в мечтах о том, какой должна быть его страна — местом равных возможностей и успеха. Кеннеди был олицетворением этого. Он также символизировал собой убежище для всех преследуемых, особенно евреев. Руби со всей ясностью осознавал уязвимость этого народа и был рад тому множеству евреев, которых Кеннеди назначил в свою администрацию (хотя в информированности Руби приходится сомневаться, особенно если учесть, что он, как оказалось, не знает, кто такой Эрл Уоррен). Выстрел Освальда оборвал его мечту в то время, когда он переживал финансовый крах. Он начал часто появляться в далласском отделении полиции, где содержался Освальд после ареста, и в конце концов уже более не мог выносить самодовольной усмешки убийцы. Его не следовало допускать близко к Освальду, но департамент полиции Техаса оказался компетентен в защите убийцы не более, чем в защите его жертвы. В традициях лучших времен Руби проявил взрывной характер. «Ты убил моего президента, предатель!» — выкрикнул он и выстрелил. Он был убежден, что действует от имени Америки, и ожидал, что его будут встречать как героя. Он действительно не понимал, что потратит несколько лет, которые ему остались, в жалком состоянии, в тюрьме, убежденный, что в подвалах тюрьмы подвергаются избиению евреи. Он умер от рака в Парклендском госпитале 1967 году.
Нельзя отрицать, что подобные грязные, печальные события отразилась не только на жизни Джека Кеннеди, но и на всех его стремлениях и желаниях, на всем, над чем он работал и чего хотел, о чем мечтал. Он верил в огромный созидательный потенциал политического лидерства и верил в себя как лидера[349]. Нельзя отрицать, что он прилагал все усилия для воплощения своей веры. Здравомыслящий, осторожный, весьма практичный политик, всегда раздражавший своих последователей тем, что не шел так быстро и далеко, как им этого хотелось, тем не менее, он все время старался побудить своих граждан более смело овладевать возможностями, предоставляемыми американской свободой; и он всегда был открыт для новых идей и предложений. Если и были противоречия в его личности, то среди них существовало одно, которое не могло быть решено, так как оно определяет его характер и отчасти объясняет восхищение его современников; оно особенно проявлялось через его острый ум и юмор, этих бесценных помощников в разрешении человеческих трудностей. Через официальное ли красноречие и законодательные предложения, улыбаясь или помахивая рукой из проезжающего лимузина, он завоевывал симпатии сограждан и утверждал президентство в глазах его коллег и соперников. Невозможно сказать, выглядела бы в 1961 году администрация Джонсона или Никсона так же, но было совершенно ясно, что ни один человек, которому удалось позже попасть в Белый дом, не смог поколебать чары Кеннеди. Они старались быть собой, как и Кеннеди: все принималось во внимание в невозможной попытке объяснить неудачу этих усилий. Но Джонсон, продвигая и расширяя программу Кеннеди, пока она не стала его собственной и впервые столь огромной со времен первого срока правления Франклина Рузвельта, проявил себя как очень творческий политик; в равной мере и законодательные успехи первых лет пребывания Никсона у власти не должны быть заслонены двумя катастрофами — Вьетнама и Уотергейта. Репутация этих двух преемников Джека Кеннеди до определенной степени служит подтверждением его взгляда на президентство.
Но они не преодолели (и не могли преодолеть) одну из самых больших трудностей. Кеннеди был президентом в период, когда для Америки ничто не представлялось невозможным, когда казалось вероятным долететь до Луны в прямом и переносном смысле, а обязанностью президента и его жены — сделать Белый дом местом для празднования великих достижений в науке и искусстве и руководить высшим обществом в его роскошных развлечения. Наилучшим выражением духа Америки и президентства было приглашение к Кеннеди нобелевских лауреатов западного полушария на обед, когда он заметил: «Я считаю, что это самое выдающееся собрание талантов, человеческого знания, которое когда-либо собиралось в Белом доме, исключая времена, когда Томас Джефферсон обедал один»[350]. Но что следовало делать Америке с Ли Освальдом, безгласным, плохо образованным неудачником, с его особым пристрастием к Карлу Марксу и русскому языку, склонностью бить свою жену, когда она сидела без работы, в то время как у него самого было мало шансов ее получить?
Строгие законы, касающиеся оружия, несомненно, в итоге снизили опасное число убийств в Америке, хотя такие люди, как Освальд, если хотели, всегда могли вооружиться. Секретная служба и ФБР с 1963 года научились защищать президента, хотя Джеральду Форду и Рональду Рейгану едва удалось избежать покушения, что показывает, сколь многое еще будет оставаться вне контроля полиции; но это необязательное замечание. Не имеет значения и то, относились ли Освальд и Руби к низшему классу: они таковыми не были. Но печальные истории их жизни ведут нас к правде, о которой повествовали великие писатели — например, Г. Дж. Уэллс в «Машине времени», Урсула Ле Гуин в «Уходящих из Омелы» — это прославление западной цивилизации покоится на человеческом отчаянии, которое может смягчить лишь простая человеческая доброта (хотя Освальд это тоже отвергал) и на что вряд ли способно политическое действие. Освальд очень легко отчаялся в Америке, а Руби очень настойчиво цеплялся за свои фантазии, но никакая мыслимая политика не могла их спасти, или миллионы таких, как они, от обступавших обстоятельств. Представления о Кеннеди у них были сильно ограничены, со дна ямы он казался им жестоким обманом.
Ни один практичный политик, и менее всего лишенный иллюзий Джек Кеннеди, не надеялся создать совершенное общество. Все следовало делать на ходу, положение можно было спасти от худшего, и могли быть сделаны лишь некоторые реальные улучшения. Такова действительность. Но демократические политики все время удерживались от раздачи больших обещаний. Побуждение раздавать пустые обещания, необоснованная уверенность, что сегодняшняя политическая панацея раскроет секрет немедленного и вечного счастья, соблазн поверить во всемогущество политики — этим переболели все, как русские, британцы и китайцы, так и американцы. В результате насущные проблемы неизбежно отвергались, игнорировались или в лучшем случае преуменьшались. И Кеннеди с его приверженцами не избежал этой ловушки.
70-е годы были более кризисными, чем 60-е, из-за нефтяного краха, скачущей инфляции, поражения во Вьетнаме и уотергейтского скандала. Основы американской политики, установившиеся после Большой депрессии, были поколеблены, и реакция политиков была явно неадекватной. Джеральд Форд, консерватор старой школы, придерживаясь своего кредо, наложил вето на билль, выделяющий средства, справа и слева, и проиграл выборы 1976 года. Джимми Картер, чья благопристойность иногда достигала святости, верно определил, что американское общество заболевает, но ложно предположил, что этому может помочь практика христианства: его взаимоотношения с конгрессом складывалась не так успешно, как у его предшественника, а его внешняя политика потерпела полный провал. Его чутко-тревожная интеллигентность не была тем, чего хотел народ, и в 1980 году его заменили на Рональда Рейгана, который во многих отношениях блестяще продолжил традицию Кеннеди. Снова Голливуд пришел в Вашинггон, снова началась большие траты и блестящие приемы (хотя самому Рейгану нравилось уходить с них рано), снова декларируемая приверженность к бережливости правительства сочеталась с быстрым ростом дефицита средств, снова Соединенные Штаты стремились к миру, готовясь к войне. Проблема была в излишнем перебарщивании: чувство меры, никогда особенно серьезно не присутствовавшее во времени Кеннеди, теперь было окончательно позабыто; федеральные финансы находились в расстроенном состоянии, из которого они было выбрались, и неравенство между богатыми и бедными, о чем сожалел Кеннеди, но которое его не затрагивало, теперь одобрительно поощрялось и праздновалось. Рейган хотел, чтобы Соединенные Штаты вновь обрели благополучие (желанием Кеннеди было побудить Соединенные Штаты двигаться), и его методом стало реагировать улыбкой на каждую проблему. Это была пугающая карикатура на стиль Кеннеди; он подвигал общество к коррупции, в то время как Кеннеди старался облагородить его, но, как и любая хорошая карикатура, содержала частицу правды. Алчность и беспечность времен Рейгана, казалось, говорила: «Какая разница? Ешь, пей и веселись, а бедными вы всегда успеете стать». Руководство Кеннеди (как и все политическое руководство), согласно его взглядам, никогда не должно было дойти до уровня блестящего шоу: реальность была и есть тем миром, который вмещает в себя борьбу с ее поражениями и удачами и в котором есть место и беднякам возле Сити-холла.
Пессимист может счесть эти строки правдивыми, но Соединенные Штаты были созданы не пессимистами. Рейган был оптимистом. Джордж Буш совершенно неверно рассчитал цену за переизбрание, которое открыло путь человеку, подавшему себя как полного надежд, активного, простого парня и объявившего себя наследником Кеннеди. Билл Клинтон тоже хотел, чтобы Америка снова двигалась в направлении школьной клятвы о преданности, которая обещает «свободу и справедливость для всех». Он пришел к власти, когда требовалось решать многие проблемы, с которыми столкнулся Кеннеди, имея очень ограниченные ресурсы: многое было растрачено с 1963 года и не поддавалось восстановлению. Популистский южный стиль Клинтона во время предвыборной кампании сильно отличался от гарвардской элегантности Кеннеди, но пришелся и ко времени, и к Клинтону как человеку; смешение высоких надежд и низкой политики было вполне в духе традиций. К несчастью, на посту президента Клинтон показал себя гораздо менее умелым пилотом, чем Кеннеди, и конгресс был менее надежным партнером в работе с правительством, чем в 1961–1963 годах. До сих пор неясно, истощился ли динамизм президентства и американской демократии.
Что в свое время демонстрировал Кеннеди? Что он изменил? В сфере американской внешней политики и международных отношений, должно быть, не очень много. И это не столь плохо. К чести Кеннеди надо сказать, что проблемами, которые он унаследовал, он занимался до самой смерти. Он сделал несколько ошибок и не нанес сколько-нибудь серьезного вреда — похвала, которую можно выразить не всякому президенту Соединенных Штатов. Он был удачлив — в том, что Бей-оф-Пигз не привел к чему-то худшему, что ракетный кризис успешно разрешился, возможно, в том, что ему не пришлось увидеть вьетнамскую проблему во всей ее полноте. И во всех областях американской дипломатической активности он проявил себя таким же исполнительным, умным, трудолюбивым, здравомыслящим, быстро схватывающим суть дела. Американские сила и престиж не пострадали и в дни его смерти — возможно, по сравнению с годами Эйзенхауэра, они даже были выше. Корпус мира и Договор о запрещении ядерных испытании оставались ценными достижениями независимо от времени. В период, отведенный ему, он вряд ли мог сделать больше; вероятно, в 60-е годы это было и невозможно. И снова параллель с Рональдом Рейганом оказывается поучительной. Оба президента начали драматичное наращивание вооружений и оба проявили решительность, противостоя тому, что они наблюдали в советском авантюризме; оба, по мере того как Москва усваивала их уроки, стремились построить прочный мир и побудить людей к этому. Но в 1963 году Хрущев сам оказался в более сложном положении, чем Горбачев в 1988-м, и ни он, ни его окружение не хотели примириться с поражением и разгромом. «Холодная война» не окончилась бы в 60-х годах, даже если бы Кеннеди остался жив.
Что касается внутренней политики, то короткая жизнь и неожиданный конец администрации Кеннеди заслужили более сложную оценку, чем его дипломатия. В том смысле, что его администрация сохранялась до 1969 года: хотя в Белом доме произошла быстрая смена персонала, большинство людей, которые работали в правительстве США, были выбраны Кеннеди или Линдоном Джонсоном либо близко с ним работали. Бобби Кеннеди оставил кабинет в сентябре 1964 года, и Роберт Макнамара, разочаровавшись во вьетнамской войне, покинул корабль (или его попросили покинуть) в 1967 году; в противном случае назначенные Кеннеди люди все равно истощили бы свой потенциал, и это можно было бы объяснить личными обстоятельствами — то, что с Линдоном Джонсоном очень трудно работать. В этом не было существенного изменения позиции или направления. Но этот факт только подчеркивает необходимость различать личный вклад Джона Ф. Кеннеди и решения, принятые мелсду 1961-м и 1963 годами — отличие, которое тем труднее увидеть, потому что президентство, как и правительство США, гораздо больше, чем президент. Многие билли, которые Кеннеди подписал в закон, только отчасти были результатом его труда.
Его вклад очевиден в области общественного финансирования и экономической политики. Здесь он сделал больше, чем просто показал спектакль. Возможно, за исключением Вудро Вильсона, ни один президент XX века не может сравниться с Кеннеди в его интеллектуальном и практическом понимании этой стороны управления, в этом отношении он был очень похож на своего отца Джо Кеннеди. Он видел разумные достоинства советов, которые ему давали профессионалы, такие, как Геллер и Гелбрэйт, он видел необходимость выбора между ними, когда их рекомендации разнились (не для него была беззаботная вера Франклина Рузвельта в то, что всех подобных противоречий можно избежать), у него было достаточно самоуважения, чтобы выбрать, и более чем достаточно политического чутья, чтобы предвидеть, какое влияние окажут его решения. В экономической политике он был кейнсианцем, но в финансовых вопросах — прижимистым консерватором, и это, будучи слабостью гораздо менее, чем полагали его более академически мыслящие советники, являлось именно тем, что было нужно Америке. Снижение налогов оказалось экономическим стимулом, который помогал поддерживать быстрый подъем в годы Джонсона, но бережливость Кеннеди, которая держала расход финансов общества под контролем, обещала снизить инфляцию и тем самым оградить подъем от окончательного сползания в банкротство. Для Соединенных Штатов было большой неудачей, что ни Джонсон, ни Никсон, ни (прежде всего) Рейган не следовали в этом вопросе столь же настойчиво, как Кеннеди[351]. Он рассматривал силу доллара, баланс торговли и платежный баланс как серьезные вещи и строил свою политику соответственно. Отдавая дань другим мнениям, было бы излишним обсуждать, могла ли его политика предотвратить кризис 70-х годов (к тому времени при любых обстоятельствах его срок президентства уже подошел бы к концу), но не нуждается в доказательстве то, что в его время она работала, и работала, как и должно было быть, гораздо лучше, чем политика Эйзенхауэра. Что касается внешней политики, то те, кто знает, как плохо могут идти дела, согласятся, что он кое-что сделал и в этой области, и его достижения, надо сказать, не столь малы. Процветание при Кеннеди было подлинным, и вклад в него со стороны Кеннеди был значителен.
Нет необходимости повторять довод 6-ой главы, касающейся Кеннеди и гражданских прав, но, возможно, стоит перенести внимание на то, что похвала и вина немного шире этого замечания. Соединенные Штаты дошли до момента решения, результатом которого стали содержательные законы о гражданских правах и избирательном праве. Никсон имел похвальное намерение относительно голосования расистов на Юге, но даже он, если бы его выбрали в 1960 году, был бы вынужден принять Закон о гражданских правах, в противном случае он рисковал проиграть выборы 1984 года. Линдон Джонсон провел закон через конгресс, и в 1965 году — также Закон об избирательном праве. Действия Кеннеди поучительны прежде всего в том смысле, что они могут рассказать, как он улаживал отношения между Вашингтоном, движением гражданских прав, правительствами южных штатов и пещерами, которые в этом участвовали. Затем наступило время кризиса, которое явилось безжалостной проверкой для народа и его институтов и показало им, чего они стоили. Было бы трудно утверждать, что братья Кеннеди преодолели испытание с честью.
Реформа обеспечения психически больных была единственным, почти исключительным достижением Кеннеди: этого бы не произошло, если бы на выборах 1960 года был избран кто-то другой (даже если бы сенатор Кеннеди выдвинул такое предложение, как сенатор Кефаувер свое о медицинских препаратах, это, в конце концов, вероятно, попало бы в свод законов). Это был такого рода вопрос, который Кеннеди особенно нравился, ему хотелось быть хорошо информированным о существенных предложениях, касающихся улучшения и реформ, давать им ход с соответствующим красноречием и успешно проводить их через конгресс. Его отношение напоминало позицию просвещенных монархов XVIII века, и если бы он жил в спокойные времена, то, без сомнения, вспомнил бы, как гуманный и практичный государственный деятель, лишенный иллюзий, что Небесное царство находится сразу же за поворотом, но с твердой верой в способность демократического руководства непрерывно продолжал бы улучшать мир. Как бы то ни было, он жил от кризиса до кризиса, и уже только это личное стремление характеризует его достаточно, что прежде всего проявилось в его речах.
Он не был утопистом. Когда во время берлинского кризиса стало необходимо расширить законопроект и продлить срочную службу, кто-то сказал Кеннеди, что это несправедливо. «Жизнь несправедлива» — ответил он, подчеркнув ту истину, которой его научили успехи и неудачи. По этой причине он не был напуган тем, что он знал о темных глубинах, которое взрастили его убийцу. Он придерживался своей религии, но не настолько, чтобы отрицать первородный грех. Америка и американские институты никогда не будут совершенны, но могут быть улучшены, и лучше всего это можно сделать посредством демократической политики. Кеннеди, казалось, находился под большим впечатлением от президентства и изобретательности человеческого ума и получал удовольствие от обоих. Несомненно, он наслаждался своим политическим успехом, благодаря нормальным чувствам амбиции, гордости и тщеславия; было бы удивительно, если бы было наоборот, и его открытая радость из-за обладания властью гораздо предпочтительнее, чем мучения Иисуса в президенте Эйзенхауэре, который никогда бы не позволил этому честолюбию довести его до Белого дома, или отчаянные колебания президента Джонсона между гротескным самовозвеличиванием и столь же гротескным самоуничижением. Но, хотя он восхищался психологией, какое это имело отношение к тому, что президент делает с собой и своей властью, будучи на этом посту? Он может, если хочет, потратить время на сон, как президент Кулидж, который является более подходящим примером для подражания, чем президент Рейган.
Для своей роли Кеннеди выбрал пример обоих Рузвельтов. Их делом было вдохновить людей, и, как сказал Теодор Рузвельт, Белый дом был для этого прекрасной трибуной. Время Кеннеди было недолгим, поэтому он имел мало завершенных дел, но его слова были сильны, и пули Освальда доказали, что его президентство запомнится прежде всего его красноречием и воздействием этого красноречия.
Над ним всегда подтрунивали, называя его человеком слов, человеком, чьи прекрасные речи ни к чему не вели и кто, как бы то ни было, не писал их. Правота или неправота этих наблюдений не нуждается в обсуждении, в равной мере и то и другое близко к правде. Действительно, Кеннеди, возможно, не мог сам составить все речи и обращения: он был очень занят, как и все современные президенты. Но он активно участвовал в создании важнейших из них, и тем активнее, чем скорее росли его опыт и уверенность в себе. И написание речей — не самая важная роль президента. Ораторское искусство состоит в том, чтобы написать или сымпровизировать сценарий и использовать его, чтобы донести свои чувства и свое видение до аудитории. Мартин Лютер Кинг был превосходным образцом этого искусства в 60-е годы, но Кеннеди нельзя поставить ниже его (он ценил его и уважал как своего наставника). Он медленно рос как публичный оратор, но его речь в Берлине показывает, что к лету 1963 года у него оставалось мало белых пятен: «Многие люди в мире не понимают или говорят, что не понимают, каков предмет большого спора между свободным миром и коммунистическим. Пусть они приезжают в Берлин! Там есть несколько людей, которые скажут, что коммунизм — это веяние будущего. Пусть они приезжают в Берлин! Есть в Европе и других местах также те, кто говорит, что они будут сотрудничать с коммунистами. Пусть они приезжают в Берлин! Есть и те немногие, которые скажут, что коммунизм — это система зла, но она позволяет нам двигаться по пути экономического прогресса. Пусть они приезжают в Берлин!»[352]. В этом есть свой парадокс: этот по сути своей невозмутимый человек не доверял возбужденным эмоциям и почти боялся бурного восхищения толпы: ему не нравилось, когда ему говорили, что со времен Гитлера еще никто не имел такого успеха, как он. Эта и другие речи в тот роковой год принесли ему признание самого блестящего оратора со времен президентства Франклина Рузвельта. Это было силой, которую он вкладывал в свои речи, и которые были больше, чем просто словами, которые завоевали для него постоянное место в истории и, возможно, в литературе.
Успех его ораторского мастерства — это исторический факт, нуждающийся в анализе и объяснении, который близко соприкасается с жизнью Кеннеди (как все согласятся) и может пролить свет на функцию ораторства современного президента (тема, будто специально предназначенная для мистера Гэри Уиллза). Возможно, правда в том, что слова Кеннеди были поступками, как у всех великих ораторов. Вначале как кандидат в президенты и затем — как президент он мог послать войска и командовать ими. Прочитанные сегодня, его речи во время кампании производят странное впечатление: они кажутся нереальными и несущественными, производят знакомое представление о профессиональном политике, ветеране кампании, демонстрирующем устаревшее взгляды на небольших собраниях своих приверженцев в холодных и со сквозняками помещениях, где ритуальная деятельность существует почти бесцельно. Но это обманчивое впечатление. Миллионам американцев нужны были лидерство, цель, совет, воодушевление. Огромный народ нуждался в возвеличивании своей силы и славы, которая также была полна опасностей, трудностей и вероятности свернуть в сторону. Все политики того выдающегося времени, от Эйзенхауэра до Хамфри, от Никсона и Рокфеллера до Стивенсона и Линдона Джонсона, чувствовали его давление и старались ему соответствовать; Кеннеди удалось это прекрасно. И удалось благодаря индивидуальному сочетанию юности, очарования и искренности; но он преуспел также благодаря тому, что он и его команда систематически занимались речами, книгами и журналистикой, используя идеи, предложения и не пренебрегая шутками. Так Кеннеди пришел к президентству, к худу или к добру, как выразитель своего поколения: «Факел перешел к новому поколению американцев — к тем, кто родился в этом веке, кого закалила война, кто почувствовал горечь и жесткость обретенного мира, кто гордится своим наследием прошлого и кто не желает быть свидетелем или позволить воспрепятствовать тем человеческим правам, которым всегда был предан народ и которым мы преданы сегодня у себя в стране и во всем мире»[353]. Если бы он ничего, кроме этого, не сделал, то по меньшей мере он сплотил американский мир вокруг чего-то действительно разумного, прочного и благородного. В самом деле он сделал гораздо больше. Он убедил своих друзей и последователей (даже некоторых своих оппонентов и критиков), что его повестка дня практична и необходима. Именно это важно для потомков. Сомнения и ошибки человека в Овальном кабинете не имели значения — доверительный тон хозяина подмостков или телевидение запустило политический процесс. Возможно, если бы Кеннеди остался жив, он сам собрал бы урожай; как бы то ни было, Линдон Джонсон, благодаря своим особым способностям (в которые включали его неповторимое красноречие), был тем, кто это сделал, но семена которого посеял Кеннеди своими речами, который обдуманно и целенаправленно готовился стать пророком своей эпохи. И тем самым он проиллюстрировал одну из постоянных возможностей, открытую президентам Соединенных Штатов.
Он не был и не мог быть последователен в своих обращениях и стиле. Неизбежно речи Кеннеди, произнесенные на Юге, звучали в более националистическом духе, чем те, с которыми он выступал в Новой Англии (в этом смысле полезно сравнить две его речи, которые он не прочел, одна из которых адресована консервативным бизнесменам в Далласе, а другая — восторженным демократам в Остине). Но так как все его речи печатались в газетах и передавалась в телевизионных репортажах в масштабе страны, он не мог себе позволить очень радикально углубиться в хитросплетения обычной демагогии и, в любом случае, не хотел этого делать. Его целью было побудить американский народ думать, вдохновить их на благородную попытку. Снова и снова он и его помощники, готовившие речи, прилагали к этому старание, и наиболее известным является его инаугурационное обращение, но, возможно, в долгосрочном плане более значительны его выступления на актовом дне в Йельском или Американском университетах (он проявил свои лучшие качества на территории студенческого городка), касающиеся новых возможностей в ослаблении напряженности[354]. Другие речи были эффективны, так как президент в них проявился как человек с твердой волей, умный, компетентный, управляющий событиями или дающий им интерпретацию, заслуживающую доверия; хорошей иллюстрацией того и другого является его радио- и телевизионная речь о Договоре по запрещению ядерных испытаний[355]. Его ораторская деятельность повысила самоуважение американцев, снизила их беспокойство и подняла их дух и стремление к новому. Кеннеди мог быть чрезвычайно оживлен, а в серьезных случаях предпочесть сдержанную, спокойную, даже холодно-официальную манеру. В другой раз он излучал свет, и люди наслаждались этим.
Именно так и поэтому они распахнули перед Кеннеди свои сердца. Именно поэтому он до сих пор внушает им вдохновение, а ветеран-журналист Уолтер Липман сказал в день четвертой годовщины убийства, что ему нравится миф о Кеннеди, так как «я думаю, что в нем есть часть правды, которая представляет собой самую большую ценность. Он показал убедительный пример того, что началось новое время и что люди могут стать хозяевами своей судьбы»17. Кеннеди не было дано время, чтобы сделать больше, но в этом отношении он оставил свой след в истории президентства. Рональд Рейган помог Америке обрести чувство комфорта, но только Кеннеди во второй половине XX века восстановил их веру в себя и в правительство. Это редкое достижение, и тем более необходимое в своей редкости. Каковы бы ни были их заслуги и другая деятельность, большинство его преемников запомнятся благодаря их ужасным провалам. Кеннеди будут помнить как президента, давшего надежду; он был убит солдатом армии отчаяния, но гораздо важнее, что до этого у него было время продемонстрировать возможность существования такого руководства и лидера, каким был он.
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
1917, 29 мая Родился в Бруклине, штат Массачусетс
1931–1935 Посещал школу Чоут
1936–1940 Студент Гарвардского колледжа
1938–1940 Джозеф П. Кеннеди служит послом в Британии
1939 Работает одним из секретарей своего отца в посольстве
1940 июль Опубликование книги «Почему Англия спала»
1941, 25 сентября Зачислен в военно-морские силы США
1943, 2–8 августа Инцидент с лодкой ПТ-109
1944, 12 августа Смерть Джозефа П. Кеннеди-мл.
1945, 1 марта Демобилизация из флота по причине нетрудоспособности, полученной во время срочной службы
апрель-май В качестве журналиста освещает открытие ООН в Сан-Франциско для газеты «Чикаго Геральд-Америкэн»
1946, ноябрь Избран в конгресс от 11-го округа Массачусетса (Северный Бостон) 69 голосами против 26 000[356]
1952 Избран младшим сенатором от Массачусетса, победив Генри Кэбота Лоджа-мл. 1 460 000 голосами против 1 390 000
1953, 12 сентября Женится на Жаклин Ли Бувье (1929–1994)
1956, январь Опубликование книги «Портреты сильных духом»; получение Пулицеровской премии
август На национальном съезде Демократической партии не прошел в качестве кандидата в вице-президенты
1957, 27 ноября Рождение Каролин Бувье-Кеннеди
1958 Переизбран в Сенат 875 000 голосами против 307 000
1960, июль Выдвинут от Демократической партии кандидатом на пост президента
8 ноябрь Избран президентом, победив Ричарда Никсона 34 226 731 голосами против 34 108 157
25 ноября Рождение Джона Фицджеральда Кеннеди-мл.
1961 20 января Вступление в должность президента; произносит инаугурационную речь
1 марта Основание Корпуса мира
14–19 апреля Операция Бей-оф-Пигз
4 мая Начало движения за свободу
25 мая Предлагает послать человека на Луну до 1970 года
30 мая-6 июня Посещает Европу: встречается с Де Голлем в Париже, с Хрущевым — в Вене, с Макмилланом — в Лондоне
6 июня Радио- и телевыступления о своей встрече с Хрущевым
25 июля Телевизионный доклад о берлинском кризисе
7 августа Подписывает Акт о создании в Кейп-Коде национального приморского парка
11 августа Выходит НСАМ-65, побуждая США поддержать значительное увеличение армии Южного Вьетнама
15 августа В полночь коммунисты начинают постройку Берлинской стены
24 августа Выступление Кеннеди по берлинскому вопросу
30 августа СССР возобновляет ядерные испытания в атмосфере
25 сентября Излагает программу о разоружении в речи к ООН
17 октября Хрущев отказывается от своих берлинских обещаний
30 октября СССР проводят испытания атомной бомбы в 50 мегатонн
2 ноября Кеннеди объявляет о том, что США готовы возобновить ядерные испытания
9 ноября Говорит Тэду Залку, что на него «сильно давят», побуждая его санкционировать убийство Фиделя Кастро
13 ноября Концерт Пабло Казала в Белом доме
15 ноября На встрече с Советом национальной безопасности решает не посылать войска во Вьетнам
14 декабря Учреждает президентскую комиссию по правам женщин
18 декабря С Джозефом П. Кеннеди случился удар
1962 1 марта Объявляет по телевидению о возобновлении ядерных испытаний США
22 марта Порывает с Джудит Кембелл после ленча с Дж. Эдгаром Гувером в Белом доме
6 апреля Рад соглашению по заработной плате в сталелитейной промышленности
10–13 апреля Кризис в сталелитейной промышленности
28 мая «Черный понедельник»: падение фондового рынка
7 июня Пресс-конференция: объявление политики снижения налогов
11 июня Получает почетную степень в Йеле; выступает в Йельском университете по вопросу об экономической мифологии
23 июля Подписание в Женеве протокола о нейтралитете Лаоса
25 сентября-1 октября Случай Джеймса Мередита
15–28 октября Ракетный кризис
6 ноября Выборы в конгресс
20 ноября Выходит постановление о недискриминационной внутренней политике
18–19 декабря Встречается с Макмилланом на Багамах, чтобы разрешить воздушный кризис, связанный с ракетами «Скайболт»
29 декабря Инспектирует кубинскую бригаду в Майами
1963, 24 января Выступление по вопросу о налогах
29 января Специальное послание по вопросу об образовании, включая билль 1963 года об образовании
28 февраля Предлагает свой первый билль о гражданских правах
3 апреля Мартин Лютер Кинг участвует в марше в Бирмингеме
12 апреля Кинга заключают в тюрьму г. Бирмингема
10 июня Почетная степень Американского университета: речь в защиту мира
11 июня Первые буддийские монахи приносят себя в жертву в Южном Вьетнаме
Джорж Уоллес «стоит на пути», но Аламбамский университет успешно интегрирован
Кеннеди выступает по телевидению по вопросу о гражданских правах: обещает строгий билль о гражданских правах. Убийство Медгара Иверса.
19 июня Отправляет билль о гражданских правах в конгресс.
Похороны Иверса; принимает его семью в Белом доме
23 июня-4 июля Посещает Европу: Германию, Ирландию, Италию
26 июня Выступает в Берлине
25 июля Договор о запрещении ядерных испытаний, подписанный в Москве
26 июля Телевизионное выступление по случаю заключения договора
7–9 августа Рождение и смерть Патрика Бувье Кеннеди
21 августа Санкционирование нападения на пагоды в Южном Вьетнаме, отданное Нго Дин Нху
28 августа Марш в Вашингтоне; принимает лидеров движения за гражданские права в Белом доме
15 сентября Четыре маленькие девочки убиты во время бомбежки в Бирмингеме, штат Алабама. Кеннеди публично обвиняет Джорджа Уоллеса в этом убийстве
19 сентября В Белом доме открывается конференция по проблеме умственной отсталости
24 сентября Сенат ратифицирует Договор о запрещении ядерных испытаний; Кеннеди уезжает из Вашингтона в поездку на запад страны
25 сентября Палата Представителей пропускает постановление о снижении налогов
29 октября Комитет судебной палаты возвращает на доработку билль о гражданских правах
1 ноября Братья Нго убиты в Сайгоне
16–18 ноября Поездка во Флориду
21 ноября Полет из Вашингтона в Техас
22 ноября Убит в Далласе Ли Харви Освальдом
25 ноября Похоронен на Арлинггонском кладбище
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
ОЧЕРК
Первичные материалы в большом количестве теперь широко доступны для тех, кто изучает период Кеннеди и его правления. Имеются три его книги: «Почему Англия спала» (переиздана в Лондоне в 1962 г.), «Портреты сильных духом» (Нью-Йорк, 1956 г.) и «Нация иммигрантов» (Нью-Йорк, впервые опубликовано в 1958 г., переиздано в 1964 г.). В конгрессе Кеннеди всегда проявлял активность в вопросе об иммиграционной политике и, будучи президентом, выдвинул предложения, которые стали основой Закона об иммиграции 1965 г., преобразовавшего законодательство США. Согласно Роберту Ф. Кеннеди, он работал над пересмотром своей небольшой книги до самой смерти. Не вызывает сомнений, что она была о Соренсене. Я считаю бесценными три тома Кеннеди «Правительственных документов президента Соединенных Штатов» (Вашингтон, округ Колумбия, 1961–1963 гг.); также представляет большую ценность собрание речей президента «Стратегия мира» (Нью-Йорк, 1960). Ход предвыборной компании 1960 года можно проследить по книгам «Речи сенатора Джона Ф. Кеннеди: президентская предвыборная кампания 1960 г.» (Вашингтон, округ Колумбия, 1961) и «Встречи сенатора Джона Ф. Кеннеди и вице-президента Ричарда М. Никсона» (Вашингтон, округ Колумбия, 1961 г.). «Пусть слово звучит»: речи, выступления и письменные документы Джона Ф. Кеннеди с 1947 по 1963 год», изданная Теодором С. Соренсеном (Нью-Йорк, 1988), выражает скорее почтительность, чем демонстрирует эрудицию, но не без определенной пользы.
«Правительственные документы» включают в себя записи всех пресс-конференций президента Кеннеди, которые также были опубликованы отдельно в книге Гарольда У. Чейза и Аллена Г. Лермана «Кеннеди и пресса» (Нью-Йорк, 1965) со вступлением, написанным Пьером Сэлинджером. Поучительно и забавно сравнить стиль и манеру выражения Кеннеди во время его разговора с репортерами (в котором он выглядел великолепно) и его официальных выступлений и обращений к конгрессу. С этим контрастирует книга Эдвара Б. Клафлина «Джон Ф. Кеннеди хочет знать: заметки из президентского офиса, 1961–1963 гг.» (Нью-Йорк, 1991), также со вступлением Пьера Сэлинджера. Студенты найдут множество ценных документов в отчетах Пентагона: «История постановлений министерства обороны США по Вьетнаму» (издание сенатора Гравела, Бостон, 1971). Отчет комиссии Уоррена «Отчет председателя комиссии об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди» (Вашингтон, округ Колумбия, 1964), со всей своей неадекватностью, является единственно возможной точкой отсчета для изучения смерти Кеннеди и значения этого.
Существует множество мемуаров тех, кто сотрудничал с Кеннеди. К ним относится книга Эдвина О. Гутмана и Джеффри Шульмана «Роберт Кеннеди в своих высказываниях» (Нью-Йорк и Лондон, 1988). В ней собраны подробные интервью Бобби Кеннеди в осуществление проекта объединения всех его устных выступлений, который был предпринят Мемориальной библиотекой Кеннеди. Из них можно извлечь много полезного, и ранняя датировка множества интервью (1964) означает, что у Бобби не было времени или, возможно, политического мотива подкорректировать свои мемуары. То же можно сказать и о его воспоминаниях о ракетном кризисе «Тринадцать дней» (Лондон, 1968), которые не были закончены из-за его убийства в 1968 году, когда он выдвинул свою кандидатуру в президенты; они не содержат много существенного.
Очень ценна книга Бенджамина С. Брэдли «беседы с Кеннеди» (Лондон, 1976), которая в основном представляет собой дневник его дружеского общения с Кеннеди, когда он был уже в Белом доме. Ее не может заменить автобиография Брэдли «Хорошая жизнь» (Нью-Йорк, 1995), хотя она и небезынтересна. Книга Джона Кеннета Гелбрэйта «Дневник посла: личные впечатления о годах Кеннеди» (Бостон, 1969) представляет собой сочетание дневника и мемуаров, где непосредственность дневникового стиля — в чем большая ценность этой книги — в целом преобладает над неторопливостью воспоминаний. Ни один источник нельзя сравнить с этими двумя книгами, хотя я надеюсь, что когда-нибудь будет опубликован дневник Артура Шлезингера-мл. о днях в Белом доме, который он вел по предложению Кеннеди.
Кроме Бобби, никто из семьи Кеннеди не опубликовал своих мемуаров, но, кажется, это не преминули сделать многие члены его администрации. Честь первооткрывателей принадлежит прежде всего Артуру М. Шлизингеру-мл., с его книгой «Сто дней» (Бостон, 1965) и Теодору С. Соренсену, «Кеннеди» (Нью-Йорк, 1965). Шлизенгер был близок к кругу Белого дома, хотя и не входил в него, и его романтическая преданность президенту, его жене и брату, несомненно, повлияла на восприятие и представления, но эту ограниченность, на мой взгляд, с избытком компенсируют его живой ум, прекрасные писательские способности и выдающийся профессионализм историка. Он великолепно использовал предоставившиеся ему возможности. Эти достоинства еще сильнее проявились в его книге о жизни Бобби «Роберт Кеннеди и его время» (Лондон, 1978). Обе книги незаменимы, но английских читателей следует предупредить, что издание книги «Сто дней» в твердой обложке неумно и без необходимости сокращено издателем и на него не следует полагаться. Соренсен был близок к президенту как никто другой, и его рассказ о сотрудничестве с Кеннеди, который вырос до повествования об администрации, очень существенен, но часто кажется отчетом о кампании, не допускающим критики в адрес Кеннеди, и содержит случайные утверждения, которые не могут быть приняты; более того, по сравнению со Шлезингером, у Соренсена очевиден недостаток эрудиции. Но суть в том, что после тридцати лет эти несколько отдающие лестью портреты с успехом дополняют друг друга и достаточно сходны: по большинству важных вопросов они говорили правду и представляли ее точно.
Никто из тех, кто ищет коррективы к этим розовым изображениям Кеннеди, не найдет этого в мемуарах других членов его администрации. Я многое отдал бы за взвешенные и подробные мнения Линдона Джонсона, но они не были зафиксированы на бумаге и, возможно, никогда не были сформулированы: на отношение Джонсона к Кеннеди столь часто влияли его амбиции и сомнения, он столь вольно манипулировал фактами, что невозможно выделить даже самое искреннее в его суждениях. Остальные коллеги Кеннеди были преданы ему и его памяти и писали о нем и его президентстве как о самых прекрасных годах своей жизни. Даже Харрис Уоффорд в своей книге «Кеннеди и Кинги» (Нью-Йорк, 1980) очень объективен и здравомыслящ и является одним из тех, кто оставил президентское окружение по принципиальным соображениям, тем не менее до конца оставаясь его приверженцем, к большой чести Кеннеди. «Окончательных побед не бывает» (Нью-Йорк, 1974) Лоуренса О’Брайена — занимательная книга профессионала, сохранившего самоуважение, несмотря на все стрессы времен Кеннеди, Джонсона и Уотергейта. Книги Пьера Сэллинджера «С Кеннеди» (Лондон, 1956), секретаря президента Эвелин Линкольн «Мои двенадцать лет с Джоном Ф. Кеннеди «(Нью-Йорк, 1965), близкого друга Кеннеди и заместителя министра военно-морских сил Пола Б. Фэя-мл. «Наслаждение от его общества» (Нью-Йорк, 1966), Кеннета О’Доннела и Девида Ф. Пауэрса «Джонни, мы плохо тебя знали»(Бостон, 1972) содержат толику лести, хотя и не были написаны под непосредственным наблюдением семьи Кеннеди. В этих книгах много ценных деталей, но к ним следует относиться с осторожностью. То же надо сказать и о совсем другой работе — «Моя история» Джудит Кембэлл Экснер (Нью-Йорк, 1977), в которой одна из бывших подруг Кеннеди делится своими секретами. Книга почти до нелепости недостоверна, а временами ненамеренно смешна, но она знакомит с деталями жизни Белого дома, которые миссис Линкольн не сочла возможным упомянуть; будучи осторожно просеяны, они могут дать часть правды. Гораздо большее историческое значение имеют книги Дина Ачесона «Как я это видел» (Нью-Йорк, 1990), в которой бывший госсекретарь некоторым образом восстанавливает свою репутацию, и Роберта С. Макнамары «Оглядываясь в прошлое» (Нью-Йорк, 1995), где бывший министр обороны добавляет еше больший ущерб к уже имеющемуся (но замечательно дополняет тему ракетного кризиса). Книга Роджера Хилсмана «Побуждая народ» (Гарден Сити, штат Нью-Йорк, 1967) хотя и очень поучительна, но, возможно, слишком служит сама себе.
Нельзя сказать, что у Кеннеди было много биографов. Наилучшим полным отчетом является двухтомная работа Герберта С. Пармета «Джек» и «Джон Ф. Кеннеди» (Нью-Йорк, 1980 и 1983), причем первый том превосходен, а второй вызывает разочарование: возможно, иногда мистер Пармет слишком близко воспринимает затронутые события. Но даже первый том затмевает книга «Бесшабашная юность» Найджела Гамильтона (Нью-Йорк, 1992) — блестящий и убедительный рассказ о детстве и юности Кеннеди. К несчастью, мистер Гамильтон несправедливо отнесся к Джозефу и Розе Кеннеди, но с симпатией. Последующие тома его планирующейся биографии уже должны выйти. «Президент Кеннеди» Ричарда Ривза (Нью-Йорк, 1993) — замечательная хроника годов, проведенных Кеннеди в Белом доме; ее не следует смешивать с книгой Томаса С. Ривза «Вопрос характера: жизнь Джона Ф. Кеннеди» (Лондон, 1991), враждебно настроенной, которая, как мне кажется, фатально страдает от недостатка чувства меры.
Что касается отдельных случаев карьеры Кеннеди, то «Беззаботная юность» служит лучшей иллюстрацией к инциденту с лодкой ПТ-109, о котором можно прочесть в превосходной книге Роберта Дж. Донована «ПТ-109» (Нью-Йорк, 1989). Значительные сведения о ранних годах политической карьеры Кеннеди дает «Джон Кеннеди: политический портрет» Джеймса МакГрегора Бернса (Нью-Йорк, 1960); это относится не столько к содержащейся информации — иногда автору будто падает на глаза пелена тумана, что, например, касается «Портретов сильных духом», — сколько к острому политическому взгляду Бернса и прекрасному стилю. «Как становятся президентом» Теодора X. Уайта (Нью-Йорк, 1961) необходимо прочесть для понимания предвыборной кампании 1960 года, хотя с позиции сегодняшнего дня ясно — ее основное значение в том, что она отслеживает начало формирования мифа о Кеннеди (как и мифа о президентских выборах, но это уже другая история). Ракетный кризис и то, что ему предшествовало, были изучены столь исчерпывающе, как никакой другой аспект жизни Кеннеди, лучшим и наиболее доступным пониманию примером чего является «Кеннеди против Хрущева: годы кризиса 1960–1963» Майкла Р. Бечлосса (Лондон, 1991). Кроме вопроса, касающегося политики Кеннеди в области гражданских прав, исследователи несколько пренебрегли темой его деятельности по решению внутренних проблем; исключение, делающее ему честь — книга «Обещания, которые сдержали: «Новый рубеж» Джона Ф. Кеннеди» Ирвинга Бернштейна (Нью-Йорк, 1991). Мой двоюродный брат Джерард Т. Райс написал замечательную работу о Корпусе мира «Смелый эксперимент» (Нотр-Дейм, штат Иллинойс, 1985). «Финансовая революция в Америке» Герберта Штейна (Чикаго, 1969) — прекрасное начало, хотя ее центральный тезис с годами обретает некоторую странность. Достойна внимания прекрасная книга Джима Ф. Хита «Кеннеди и общество бизнеса» (Чикаго, 1969).
По вопросу о гражданских правах основной книгой можно считать «Отделяя воды: Мартин Лютер Кинг и движение за гражданские права 1954–1963 гг.» Тейлора Бранча (Лондон, 1988). Трудно выбрать еще какие-то названия из огромного количества литературы на эту тему. Следует прочесть «Джон Ф. Кеннеди и вторая реконструкция» (Нью-Йорк, 1977). Чтобы почувствовать дух времени, необходимо обратиться к некоторым сочинениям Кинга, особенно к «Письму из Бирмингемской тюрьмы». Этот документ, как и многие другие, можно найти в книге «Взгляд на награду: читающий о гражданских правах «(Лондон, 1991). Книга Джеймса Силвера «Миссисипи: закрытое общество» (Лондон, 1964) содержит рассказ очевидца о случае Мередита, и не только это. Очень многое проясняет «Школьная дверь: последний оплот сегрегации в Алабамском университете» И. Калпеппера Кларка (Нью-Йорк, 1993).
О Кеннеди и Вьетнаме, кроме уже упомянутых работ, существенными являются «Самые лучшие и выдающиеся» Дэвида Халберстама (Нью-Йорк,1972) и «Ложь яркого солнца» Нейла Шихана (Лондон, 1989).
С 1963 года не утихали голоса, что Нго Дин Дием и его режим надо было спасти мудрой американской политикой; но тот, кто просмотрит в этой связи документы Пентагона, книги Халберстама и Шихана, убедится, что только самая упрямая слепота не позволит счесть эту точку зрения абсурдной и что в любом случае Вашингтон был неспособен формировать мудрую политику. Книга Джона М. Ньюмена «Джон Ф. Кеннеди и Вьетнам: обман, интрига и борьба за власть» (Нью-Йорк, 1992) убедительно защищает политику Кеннеди, но, я считаю, слишком изобретательно, чтобы убедить до конца.
Чтобы обсуждать убийство Кеннеди, надо снова войти в «сумасшедшую» страну. Сомнительно, чтобы какие-либо обстоятельства побудили американское общество легко согласиться с теорией убийцы-одиночки, хотя первоначальный шок уже миновал; но обстоятельства были нелепы даже независимо от факта убийства. Убийство Ли Освальда было достаточно мрачно, но события последующих годов, казалось, поставили целью поколебать веру американцев в свое правительство и его заявления. Скептицизм и параноидальный стиль постепенно росли и проникали все глубже, пока большинство не решило, что выводы комиссии Уоррена не более чем попытка все тщательно скрыть. Я помню, как мной овладевало убеждение в возможности существования некоторого подобия заговора, по мере того как разные слабые моменты отчета начинали бросаться в глаза. Но ни один критик и скептик не осознавал, что, хотя комиссии Уоррена и не удалось неопровержимо объяснить, как именно Освальд убил президента, она преуспела в том, чтобы убедить, что именно он был убийцей: попытки изобразить его простаком или то, что он имел двойника (если бы договоры о дешевом обмане существовали в реальном мире), никогда не могли опровергнуть этот центральный пункт. В 90-годах определенный технический прогресс сделал возможным отказаться от всех других теорий как основывающихся на неверном прочтении улик и свидетельств либо на их отсутствии; и книга Джеральда Познера «Дело закрыто»(Нью-Йорк, 1994), системное исследование Освальда и Руби, проясняет все остальные моменты; ее следует прочесть всем заинтересованным студентам. Пресловутый фильм Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди» являет собой пример того, с чего не следует начинать — исключительно неприятный пример исторической фальсификации и, вероятно, наиболее далеко уводящий от правды в течение нескольких лет.
Книга Уильяма Манчестера «Смерть президента» (Нью-Йорк, 1967) — наилучший и искренний рассказ об убийстве в Далласе и последовавших за этим событиях.
Наконец, со всем, что касается президентства Кеннеди, студенты лучше всего могут познакомиться, обратившись к книгам Джеймса Н. Джильо «Президентство Джона ф. Кеннеди» (Лоуренс, штат Канзас, 1991) и Ричарда Нойштадта «Президентская власть и современные президенты» (Нью-Йорк, 1990).
Все аспекты жизни, деятельности и (особенно) смерти Джона Кеннеди вызывали и продолжают вызывать споры. И все же по прошествии более тридцати лет после его смерти историки могут более объективно, отстранившись от политических страстей, развеять Миф о Кеннеди и реально представить лидера нации.
Написанный X. Броганом портрет Кеннеди — это не полномасштабная политическая биография и в еще меньшей степени интимная зарисовка. Для того чтобы понять пели и деяния президента в Белом Доме, начало его карьеры, окружение, оказавшее значительное влияние на все дальнейшее, X. Броган концентрирует внимание на основных темах: внешняя политика Джона Кеннеди, его борьба за гражданские права, экономическая политика, реформы и, конечно, смерть.
Автору замечательно удалось представить Джона Кеннеди как президента и человека, а не как приукрашенный персонаж из легенды. От этого достижения президента становятся только более внушительными и впечатляющими.