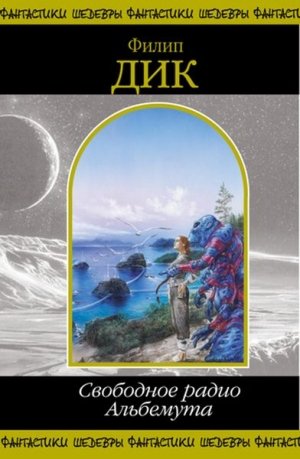
Пролог
В апреле 1932 года на пристани в Окленде, что в штате Калифорния, маленький мальчик со своими мамой и папой ждал парома на Сан-Франциско. Мальчик, которому было почти четыре года, заметил стоявшего неподалеку с жестяной кружкой слепого нищего, старого и седого, с седой бородой. Тогда он попросил у папы десятицентовую монетку и отнес ее нищему. Тот на удивление крепким, прочувствованным голосом поблагодарил мальчика и в свою очередь дал ему клочок бумаги, который мальчик показал отцу.
– Тут говорится о Боге, – сказал отец.
Маленький мальчик не знал, что нищий был собственно не нищим, а сверхъестественным существом, посетившим Землю для наблюдения за людьми. Прошли годы, мальчик вырос и превратился в мужчину. В 1974 году этот мужчина попал в ужасную ситуацию: ему грозили позор, тюремное заключение и даже, возможно, смерть. Именно тогда сверхъестественное существо вернулось на Землю, наделило мужчину частью своего духа и избавило его от всех неприятностей. А мужчина так и не понял, почему сверхъестественное существо пришло ему на выручку. Он давно уже забыл слепого нищего и монетку в десять центов, которую ему дал.
Я хочу поговорить сейчас именно об этом.
Часть первая
Фил
Глава 1
Мой друг Николас Брейди, который в здравом уме и доброй памяти помог спасти мир, родился в Чикаго в 1928 году, затем переехал в Калифорнию и большую часть жизни провел в Беркли. Ему запомнились столбы в форме лошадиных голов перед старыми домами в холмистой части города, трамвайчики, что подходили почти к самой пристани, и особенно туман. Позже, в сороковых, туман уже не скрывал Беркли по ночам.
Беркли времен трамвайчиков был тихим и спокойным местом, жизнь бурлила только в университете с его буйными студгородками и славной футбольной командой. В детстве Николас Брейди ходил несколько раз с отцом на игры, однако сути футбола так и не понял, даже не мог толком исполнить командную песню. Зато кампус, с его деревьями, тихими рощами и Клубничным ручьем, Николасу понравился; особенно понравилась водосточная труба, по которой тек ручей. Лучше этой водосточной трубы в кампусе вообще ничего не было; летом, когда ручей мелел, Николас любил в ней поползать. Однажды кто-то его подозвал и спросил, не учится ли он в колледже. Тогда ему было одиннадцать.
Как-то раз я спросил Николаса, почему он решил провести свою жизнь в Беркли, к сороковым годам превратившемся в шумный перенаселенный город, который студенты брали с боем, словно ряды товаров в магазинах были баррикадами.
– Черт побери, Фил, – ответил Николас, – Беркли мой дом!
Люди, которых Беркли притягивал, могли этому поверить, проведя в городе хотя бы неделю. По их мнению, иного достойного места не существовало. Особенно это проявилось, когда на Телеграфной авеню как грибы начали расти маленькие кафе и развернулось движение за свободу слова.
Хотя Николас жил в Беркли постоянно, в университете он учился всего два месяца, что отличало его от всех остальных – остальные учились вечно. По сути, население Беркли состояло из профессиональных студентов.
Университетским врагом Николаса была Служба подготовки офицеров резерва – в то время довольно сильная организация.
Маленьким ребенком Николас ходил в прогрессивный детский сад; его определила туда мать, которая в тридцатые была дружна с коммунистами. Позднее он стал квакером и вместе с матерью сидел, как принято у квакеров, на Встречах Друзей в ожидании Святого Духа. Еще позднее Николас все это забыл – по крайней мере пока не попал в университет, где ему вручили офицерскую форму и винтовку М-1. Его подсознание восстало, обремененное уроками прошлого. Он испортил винтовку; приходил на занятия по строевой подготовке одетым не по форме; завалил сдачу нормативов. Его предупредили: неудовлетворительные отметки в СПОРе влекут за собой автоматическое исключение из университета. На что Николас ответил: «Что будет, то будет».
Тем не менее, не дав исключить себя, он ушел сам. Ему исполнилось девятнадцать, с академической карьерой было покончено, а ведь он хотел стать палеонтологом. Обучение в Стэнфорде – другом крупном университете на берегу Калифорнийского залива – стоило чересчур дорого для Николаса. Его мать занимала мелкую должность в Департаменте лесного хозяйства; откуда у нее такие деньги? Николасу грозила необходимость идти на работу.
Университет он ненавидел всей душой и решил не отдавать военную форму. Он мечтал как-нибудь явиться на занятие по строевой подготовке с метлой и заявить, что это винтовка М-1. Тем не менее он и не думал открывать огонь из М-1 по своим офицерам-преподавателям – у винтовки был сточен боек. В те дни Николас еще не терял связи с реальностью.
Дело с возвращением офицерской формы решилось само собой: университетская администрация открыла его ящик в раздевалке и форму забрала, включая обе рубашки. Так Николаса формально отрезали от мира военных; возражения морального характера, а также всякие мысли о смелых акциях протеста выветрились из его головы, и он, подобно прочим студентам Калифорнийского университета, стал бродить по улицам Беркли – руки в задних карманах джинсов «Ливайс», на лице грусть, в сердце сомнения, в бумажнике только монетки. Николас до сих пор жил с матерью, которая от этого уже очень устала. У него не было знаний, не было специальности, не было навыков; была только тлеющая в душе злость. Вышагивая по улицам, Николас напевал строевую песню испанской Интернациональной бригады – коммунистической бригады, состоявшей в основном из немцев:
Особенно ему нравилась строчка «Sein Herz voll Hass geladen», что означало «С сердцем, полным ненависти». Он пел ее снова и снова, спускаясь до Шаттука, а затем поднимаясь по Телеграфной. Никто не обращал на него внимания, потому что для Беркли того времени это было обычное явление. Порой до десяти студентов в ряд, все в джинсах, вышагивали по улицам, распевая левацкие песни и сталкивая людей с дороги.
Ему помахала рукой женщина, стоявшая за прилавком магазинчика «Университетская музыка», что на углу Телеграфной и Ченнинг, – Николас частенько там просматривал пластинки. Он зашел внутрь.
– Ты не в форме, – сказала женщина.
– Я бросил этот фашистский университет, – ответил Николас, что в какой-то степени было правдой.
Пат извинилась – надо было обслужить покупателя, – а Николас взял сюиту из «Жар-птицы», отнес диск в кабинку для прослушивания и поставил ту сторону, где гигантское яйцо раскалывается. Это соответствовало его настроению, хотя он не знал, что именно вылупится из яйца. На обложке пластинки художник изобразил просто яйцо – и еще какого-то типа с копьем, явно вознамерившегося яйцо разбить.
Позже в кабинку для прослушивания зашла Пат, и они поговорили о сложившейся ситуации.
– Может, Герб возьмет тебя на работу, – предположила Пат. – Ты знаешь наш товар и хорошо разбираешься в классической музыке.
– Да я знаю, где у вас лежит каждая пластинка! – воскликнул Николас, загоревшись этой идеей.
– Тебе придется носить костюм и галстук.
– У меня они есть, – ответил Николас.
Так в девятнадцать лет он принял, пожалуй, самое серьезное решение в своей жизни, потому что оно будто заморозило его навеки, превратило в яйцо, из которого никогда ничего не вылупится. По крайней мере скорлупа оставалась целой двадцать пять лет – чудовищно долгое время для того, кто, по сути, никогда ничем не занимался, а только играл в парках Беркли, посещал там же публичные школы и проводил субботние дни в кинотеатре на Солано-авеню, где показывали выпуск новостей, научно-популярный журнал и два мультика до основного фильма – и все за одиннадцать центов.
Работа в магазине на Телеграфной сделала Николаса неотъемлемой частью пейзажа Беркли и отрезала все возможности для роста или познания иной жизни, иного, большего мира. Николас вырос в Беркли и в Беркли остался, научившись, как продавать пластинки, а позднее и заказывать их, как заинтересовывать клиентов новыми исполнителями, под каким предлогом не принимать обратно дефектный товар, как менять туалетную бумагу в умывальной за кабинкой для прослушивания номер три… Все это превратилось в его мир: Бинг Кросби, Фрэнк Синатра и Элла Ма Морс, «Оклахома!», а позднее «На юге тихоокеанского побережья», «Открой дверь, Ричард» и «Если бы я знала, что ты придешь, я бы испекла пирог». Николас стоял за прилавком, когда «Коламбия» начала выпускать долгоиграющие пластинки. Он открывал коробки с товаром от дистрибьюторов, когда появился Марио Ланца, и проводил инвентаризацию, когда Марио Ланца умер. Он лично продал пять тысяч пластинок Яна Пирса «Синяя птица счастья», всей душой ненавидя каждый экземпляр. Он был на месте, когда «Кэпитол Рекордс» открыли свою серию классической музыки и когда ее свернули. Он был рад, что занялся розничной торговлей пластинок, потому что любил классическую музыку и любил сами пластинки, любил продавать их клиентам, которых знал лично, и покупать для собственной коллекции со скидкой; и в то же время ненавидел себя за это решение, потому что в первый же день работы, когда ему велели подмести пол, Николас понял, что всю свою жизнь будет наполовину уборщиком, наполовину посыльным – родилось то же самое двойственное чувство, которое он испытывал по отношению к университету и к своему отцу.
Двойственное чувство он испытывал и к Гербу Джекмэну, хозяину магазина, женатому на ирландке Пат. Пат была очень хорошенькой и много младше Герба; долгие-долгие годы Николас сходил по ней с ума, пока они все не стали старше и начали вместе выпивать в одном кабачке в Эль-Черрито, где играл Лу Уоттерс со своим диксилендом.
Я впервые встретил Николаса в 1951 году, когда оркестр Лу Уоттерса превратился в оркестр Турка Мерфи и подписал контракт с «Коламбия Рекордс». Во время перерыва на обед Николас частенько захаживал в книжный магазин, где я работал, и просматривал Пруста, Джойса и Кафку – книги, которые продавали студенты, когда курс литературы – и их интерес к ней – заканчивался. Отрезанный от университета, Николас Брейди покупал подержанные книги, которые ему не пришлось изучать на занятиях. Он неплохо знал английскую литературу, и вскоре мы начали общаться, подружились и некоторое время даже снимали вместе квартиру на втором этаже бурого дома на улице Банкрофт, рядом с его и моим магазинами.
Я тогда как раз продал свой первый научно-фантастический рассказ Тони Бучеру, в журнал «Фэнтези и научная фантастика», за семьдесят пять долларов и подумывал бросить работу продавца и все время посвятить сочинительству. Впоследствии я так и поступил и стал профессиональным писателем.
Глава 2
Первое паранормальное явление произошло с Николасом Брейди в доме по улице Сан-Франциско, который он и Рэйчел, поженившись, купили за 3750 долларов в 1953 году. Дом был очень старый – одно из первых, чудом сохранившихся строений в Беркли, лишь тридцати футов шириной, в болотистой местности, без гаража и отопления; единственным источником тепла служила плита на кухне. Месячная плата составляла всего 27.50, именно поэтому они жили там так долго.
Я частенько спрашивал Николаса, почему он не займется ремонтом – крыша текла, и зимой, во время проливных дождей, им с Рэйчел приходилось повсюду расставлять пустые жестянки из-под кофе, чтобы собирать воду. Желтая краска фасада давно облупилась.
– Тогда пропадает весь смысл иметь такое дешевое жилье, – неизменно отвечал Николас.
Он все еще тратил большую часть своих денег на пластинки. Рэйчел посещала университет: слушала курс политических наук. Я редко встречал ее дома, когда заскакивал к ним в гости. Как-то раз Николас признался мне, что Рэйчел сильно увлеклась одним студентом, возглавлявшим молодежную группу социалистической рабочей партии. Она напоминала других знакомых мне девиц из Беркли: джинсы, очки, длинные темные волосы, властный громкий голос, постоянные разговоры о политике… Это было, разумеется, во времена маккартизма; Беркли раздирали политические страсти.
По средам и воскресеньям Николас не работал. В среду он сидел дома один, в воскресенье они с Рэйчел сидели дома вместе.
Как-то в среду, когда Николас слушал Восьмую симфонию Бетховена, к нему домой явились два агента ФБР. (Это еще не паранормальное явление.)
– Миссис Брейди дома? – спросили они.
Оценив посетителей по деловым костюмам и раздувшимся портфелям, Николас принял их за коммивояжеров.
– Что вам от нее надо? – с нескрываемой неприязнью потребовал он, решив, что сейчас ему постараются продать какой-нибудь хлам.
Агенты обменялись многозначительными взглядами и показали Николасу свои документы. Николаса охватили ярость и страх одновременно. Неровным, срывающимся голосом он начал рассказывать двум агентам ФБР анекдот, вычитанный в «Нью-Йоркере», про двух агентов ФБР, которые, проводя проверку одного человека, узнали от его соседа, что тот часто слушает симфоническую музыку; тогда агенты подозрительно спросили, на каком языке симфонии.
Двум агентам, стоявшим на пороге дома Николаса, скомканная и искаженная версия шутки вовсе не показалась смешной.
– Эти ребята не из нашего отдела, – сказал один из них.
– Может, поговорите со мной? – предложил Николас, пытаясь защитить жену.
Снова агенты ФБР обменялись многозначительными взглядами, затем кивнули и вошли в дом. Николас в состоянии, граничащем с паникой, сел напротив них, стараясь унять дрожь.
– Как вам известно, – начал агент – тот, у которого двойной подбородок был больше, – по долгу службы мы призваны защищать свободы американских граждан. Мы не занимаемся расследованием деятельности таких законных партий, как Демократическая или Республиканская, которые чисты в глазах американского закона.
Затем агент начал говорить о социалистической рабочей партии, которая, как он объяснил Николасу, на самом деле не легальная политическая партия, а коммунистическая организация, стремящаяся к кровавой революции в ущерб американским свободам.
Николас все это уже слышал. Однако, разумеется, хранил молчание.
– Ваша жена, – подхватил второй агент, – в состоянии оказать нам помощь: как член молодежного отдела СРП, она могла бы сообщать, кто посещает эти собрания и о чем там идет речь.
Оба агента внимательно смотрели на Николаса.
– Я должен обсудить это с Рэйчел, когда она вернется, – сказал Николас.
– А вы сами принадлежите к каким-нибудь политическим движениям? – поинтересовался агент с большим двойным подбородком.
Он держал перед собой блокнот и ручку. Один из портфелей агенты поставили между собой и Николасом, и тот, глядя на выпирающий из портфеля предмет, понял, что их разговор записывается.
– Нет, – чистосердечно ответил Николас. На его поведение могла бросить тень лишь странная любовь к зарубежному вокалу и периодическое прослушивание Тианы Лемниц, Эрны Бергер и Герхарда Хаша.
– А хотели бы?
– Гм-м, – сказал Николас.
– Вы, наверное, слышали о международной рабочей партии. Не думали посетить их собрание? Они встречаются через квартал отсюда, на другой стороне авеню Сан-Пабло. Нам бы пригодился свой человек в их организации. Не интересует?
– Мы могли бы вам доплачивать, – добавил его коллега.
Николас моргнул, сглотнул, а потом впервые в жизни разразился речью.
Позднее, когда агенты удалились, Рэйчел пришла домой и с раздраженным видом вытащила учебники.
– Представь, кто к нам сегодня приходил, – сказал Николас. И сообщил, кто именно.
– Ублюдки! – вскричала Рэйчел. – Ублюдки!
А через двое суток Николасу было видение.
Они с Рэйчел спали. Николас лежал на постели слева, ближе к двери. Растревоженный визитом агентов ФБР, спал он плохо, ворочался, его мучили какие-то смутные неприятные сны. Уже перед самым рассветом, когда комнату заполнили первые обманчивые лучи зари, он неудачно повернулся, прищемил нерв и, очнувшись от боли, открыл глаза.
Возле постели безмолвно стояла некая фигура, пристально глядя вниз, на него. Некоторое время фигура и Николас изучали друг друга; Николас охнул от изумления и сел. Тут же проснулась и закричала Рэйчел.
– Ich bin’s! – успокаивающе обратился к жене Николас (в школе он учил немецкий), желая сказать, что фигура – это он сам, хотя в возбуждении и не заметил, что говорит на иностранном языке, на том, которому учила его миссис Альтекка в старших классах.
Рэйчел, разумеется, не поняла. Николас начал поглаживать ее, однако продолжал повторять немецкую фразу. Рэйчел была растерянна и напуганна, не прекращала кричать. Фигура тем временем исчезла.
Позднее, проснувшись окончательно, Рэйчел не могла понять, видела ли она фигуру или просто отреагировала на поведение мужа.
– Это был я сам, – твердил Николас, – я сам стоял возле постели и смотрел на себя. Я узнал себя.
– Что эта фигура здесь делала? – спросила Рэйчел.
– Оберегала меня, – заявил Николас.
Он знал это наверняка – видел выражение ее лица. Никаких оснований для страха не было. У него сложилось впечатление, что фигура, то есть он сам, явилась из будущего – возможно, из некой очень отдаленной точки времени, – чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Впечатление было ярким и сильным, Николас не мог от него избавиться.
Отправившись в гостиную, он взял немецкий словарик и нашел использованную идиому. Конечно, все оказалось правильно. Она буквально означала: «Я – есть».
Они с Рэйчел прямо в пижамах сидели в гостиной и пили растворимый кофе.
– Хотела бы я не сомневаться, что видела ее, – повторяла Рэйчел. – Что-то же напугало меня. Ты слышал, как я кричала? Я и не думала, что могу так кричать. В жизни никогда так не кричала. Наверное, и соседям было слышно. Только бы полицию не вызвали. Я наверняка их разбудила. Который час? Уже светает.
– Со мной ничего подобного не происходило, – бормотал Николас. – Я просто обалдел: открыть глаза и увидеть себя… Настоящее потрясение. Интересно, с кем-нибудь такое случалось? Боже мой.
– Соседи так близко, – твердила Рэйчел. – Надеюсь, я не разбудила их.
На следующий день Николас пришел ко мне и обо всем рассказал, желая узнать мое мнение. Но рассказал обиняками: сначала заявил, что это идея для научно-фантастического рассказа – чтобы я не решил, что он спятил.
– Думаю, как писатель-фантаст ты в состоянии объяснить подобное явление. Что это – путешествие во времени? Параллельная вселенная? Существуют ли вообще путешествия во времени?
Я сказал ему, что это был он сам из параллельной вселенной. Он узнал себя – вот доказательство. Себя из будущего узнать нельзя, время сильно меняет внешний вид, черты лица. Никто не в состоянии узнать самого себя из будущего. Когда-то я написал об этом рассказ. Речь там шла про то, как к главному герою, собиравшемуся совершить какую-то глупость, явился с предупреждением он сам из будущего, а герой, не узнав себя в посетителе, убил его. Рассказ я еще никому не показывал, однако не сомневался, что его напечатают. Мой агент, Скотт Мередит, продал все, что я до сих пор написал.
– Пригодится тебе идея? – спросил Николас.
– Нет, чересчур заурядная.
– Заурядная!.. – Он расстроился. – Той ночью она вовсе не показалась мне заурядной. Думаю, пришелец хотел что-то сказать, сообщить телепатическим путем, но я проснулся и прервал передачу.
Я объяснил ему, что при встрече с самим собой из параллельной вселенной – или из будущего, если уж на то пошло – телепатия вряд ли понадобится. Не логично, ведь при такой встрече не будет языкового барьера. Телепатию используют при контакте разных рас; например при встрече землянина с обитателем иной звездной системы.
– А-а, – задумчиво протянул Николас.
– Явление было милосердным? – поинтересовался я.
– Ну конечно! Это же был я, а я милосерден. Знаешь, Фил, в некотором смысле вся моя жизнь ушла впустую. Что я делаю – в мои-то годы? Работаю заурядным продавцом в магазине пластинок? Посмотри на себя: ты профессиональный писатель. Ну почему, черт побери, я не способен на что-нибудь серьезное? На что-нибудь, исполненное смысла? Я мелкий служащий, нижайший из низших! А Рэйчел в один прекрасный день станет профессором. Не надо было мне бросать университет!
– Ты пожертвовал своей академической карьерой в благородных целях, ради борьбы с войной, – сказал я.
– Я сломал винтовку. Никакой цели не было. Просто на занятии по разборке оружия я потерял курок. Вот и все.
Я объяснил ему роль подсознания и указал, что он достоин всяческого уважения за мудрость и высокие этические идеалы своего подсознания.
– Не очень-то я в это верю, – ответил Николас. – Я теперь вообще ни во что не верю – с тех пор как ко мне пришли агенты ФБР. Они хотели, чтобы я шпионил за собственной женой! Думаю, именно этого они на самом деле добиваются – чтобы люди шпионили друг за другом, как в «1984», и таким образом распалось все общество. Что такое моя жизнь по сравнению, например, с твоей? По сравнению с чьей угодно?.. Знаешь, Фил, уеду я на Аляску. Я тут на днях толковал с одним типом из транспортной компании, так у них трижды в год туда идет яхта. Я уеду. Думаю, именно это хотел сказать мне мой двойник из будущего или из параллельной вселенной – что жизнь проходит мимо и надо ее решительно менять. Наверное, он как раз собирался сообщить мне, что именно надо делать, а я проснулся и все испортил. Хотя на самом деле его испугала Рэйчел – своим криком. Если бы не она, я бы сейчас знал, как организовать жизнь и обеспечить нужное будущее, а так я не понимаю даже, что происходит. Практически я бью баклуши. Какие у меня надежды? Что меня ждет впереди? Ничего, кроме сорока огромных ящиков с хламом фирмы «Виктор», на который клюнул даже Герб – из-за десятипроцентной скидки!.. – Николас погрузился в мрачное молчание.
– Как выглядели агенты ФБР? – спросил я, никогда в жизни с ними не сталкивавшийся. В Беркли все до одного боялись подобного визита, включая меня. Такие были времена.
– У них толстые багровые шеи и двойные подбородки. И маленькие глазки, словно два уголька засунули в тесто. Они не сводят с тебя взгляда. У них несильный, но ощутимый южный акцент. Они сказали, что вернутся поговорить с нами обоими. Наверное, и с тобой захотят поговорить. Рассказы у тебя левацкие?
– А ты их не читал?
– Я не читаю научную фантастику, – ответил Николас. – Я читаю только серьезных авторов, таких как Пруст, Джойс и Кафка. Когда фантастика сможет сказать мне что-нибудь серьезное, я буду читать и ее.
Потом он завел речь о достоинствах «Поминок по Финнегану», особенно заключительной части, которую он сравнивал с заключительной частью «Улисса». Николас был убежден, что никто, кроме него, не читал и не понимал Джойса.
– Научная фантастика – литература будущего, – сказал я ему в образовавшейся паузе. – Через несколько десятилетий полетят на Луну.
– О нет! – воскликнул Николас. – На Луну никогда не полетят. Ты живешь в вымышленном мире, Фил.
– Это тебе сообщил твой двойник из будущего? Или из параллельной вселенной?
Мне-то казалось, что именно Николас живет в вымышленном мире – продавец в магазине пластинок, который с головой ушел в литературу, весьма удаленную от реальности. Он так начитался Джеймса Джойса, что Дублин был ему ближе, чем Беркли. Но даже и мне Беркли казался не совсем реальным, а скорее, подобно Николасу, затерянным в мире фантазий. В Беркли жили политической мечтой, совершенно чуждой политической мечте остальной Америки; мечтой, подлежащей уничтожению – реакция все росла, ширилась и набирала силу. Такой человек, как Николас Брейди, никогда бы не уехал на Аляску – он был продуктом Беркли и мог жить лишь в гуще радикальной студенческой тусовки. Что он знал об остальной Америке? Я-то поездил по стране, был и в Канзасе, и в Юте, и в Кентукки и прекрасно видел: радикалы Беркли изолированы, они сами по себе. Да, они способны на некоторое время смутить покой американских граждан своими взглядами, но в конечном итоге почтенная консервативная Америка одержит победу. А когда падет Беркли, падет и Николас Брейди.
Конечно, все это было давно – еще до убийства президента Кеннеди, до Ферриса Фримонта и Нового Американского Пути. До того, как тьма захлестнула нас полностью.
Глава 3
Небезразличный к политике, Николас рано обратил внимание на расцветающую карьеру младшего сенатора от Калифорнии Ферриса Ф. Фримонта, выходца из округа Орандж – области южной и настолько реакционной, что нам в Беркли она казалась местом рождения самых страшных кошмаров. Округ Орандж, который никто в Беркли никогда не видел, представлялся вымыслом на другом конце света, полным антагонистом; и если Беркли находился в плену иллюзий, вдали от реальности, то именно округ Орандж вытеснил нас туда. В одной вселенной эти два места существовать не могли. Как будто Феррис Фримонт встал посреди песков округа Орандж, вообразил на северной оконечности штата ирреальное царство Беркли, содрогнулся и сказал себе что-то вроде: «Этому не бывать!»
Издатель из Оушнсайда, он получил место в сенате благодаря тому, что сумел опозорить своего соперника, Маргарет Буржер Грейсон, как лесбиянку. Вообще-то Маргарет Буржер Грейсон была сенатором довольно заурядным, но к поражению ее привели не политические просчеты, а обвинения Фримонта. Сперва он использовал свою газету в Оушнсайде, а затем, финансируемый из неизвестных источников, обклеил всю южную часть штата плакатами, затрагивающими личную жизнь соперника:
КАЛИФОРНИИ НУЖЕН НОРМАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ
НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ, ЧТО ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ ГРЕЙСОН ЧЕРЕСЧУР МУЖЕСТВЕННА?
Миссис Грейсон пыталась бороться, однако в суд не подала. После поражения она залегла на дно – или, как шутили республиканцы, на самое дно гомосексуальных баров Сан-Диего. Миссис Грейсон, само собой, была либералом. В пору маккартизма общественность не делала особенных различий между коммунизмом и гомосексуализмом, так что победа Фримонту была обеспечена, как только он развернул свою грязную кампанию.
Сам Фримонт был тогда неотесанным деревенщиной: щекастый и угрюмый, густые кустистые брови, густо напомаженные черные волосы, неизменный костюм в полоску, яркий галстук и двухцветные туфли; говорят, на костяшках пальцев у него росли волосы. Он носил стетсоновскую шляпу и обожал фотографироваться на стрельбище – страшно увлекался оружием. Миссис Грейсон только раз удалось удачно ответить на нападки Фримонта: мол, нормальный он или нет, а вкусы у него определенно ниже нормы. Но это было уже после подсчета голосов. Политическая карьера миссис Грейсон закончилась, началась карьера Ферриса Ф. Фримонта. Он немедленно вылетел в Вашингтон – подыскать дом для себя, жены Кэнди и двух толстых сыновей, Амоса и Дона.
Видели бы вы, как реагировали в Беркли!.. Радикальное студенческое сообщество плохо относилось к избирательной кампании, построенной на подобных принципах, и плохо отнеслось к немедленной поездке Фримонта в Вашингтон. Они скорее поднялись против победителя, чем встали на защиту миссис Грейсон. Республиканцы не зря говорили, что в Беркли полно гомиков и еще больше розовых, то есть либералов. Беркли был розовой столицей мира.
В этой столице вовсе не удивились, когда сенатора Фримонта ввели в состав комитета по антиамериканской деятельности. Не удивились, когда сенатор уличил нескольких видных либералов в симпатиях к коммунизму. Но страшно удивились, когда сенатор Фримонт повел кампанию против Арампрова.
Никто в Беркли, включая членов коммунистической партии, никогда не слышал об Арампрове. Что такое Арампров?.. Сенатор Фримонт заявил в своей речи, что некий член компартии, агент Политбюро, передал ему документ, в котором руководство Коммунистической партии США высказывало свои взгляды на Арампров. Из документа следовало, что КП США по сути своей всего лишь пушечное мясо, фасад настоящего врага, истинного рассадника измены и предательства – Арампрова. В Арампров нельзя было вступить, он не функционировал как обычная организация. Но именно Арампров постепенно, тайком завладевал Соединенными Штатами.
Казалось бы, в розовой столице должны были бы об этом слышать.
В то время я общался с некой девушкой, членом компартии. Она всегда была со странностями, а после того как вступила в партию, стала просто невозможной. Никогда не носившая платьев, она заявила мне, что половой акт есть эксплуатация женщины, а однажды, недовольная моим поведением, в ресторанчике Ларри Блейка на Телеграфной авеню бросила окурок мне в кофе.
Мои друзья были троцкистами. Я познакомил ее с двумя из них в одном общественном месте, умолчав об их политических взглядах; в Беркли всегда так поступали. На следующий день у Ларри Блейка Лиз подошла к моему столику, демонстративно со мной не разговаривая; полагаю, ей сделали выговор товарищи по партии.
Так или иначе, однажды я спросил ее полушутя, является ли она членом Арампрова.
– Чушь собачья, – ответила моя знакомая. – Фашистская провокация. Никакого Арампрова не существует. Я бы знала.
– А если бы существовал, вступила бы?
– Ну, смотря, чем там занимаются.
– Свергают правительство Америки.
– А ты не считаешь, что монополистический капитализм со свойственным ему подавлением рабочего класса и финансированием войн через марионеточные режимы заслуживает того, чтобы его свергли?
– Значит, вступила бы, – сказал я.
Но даже Лиз не могла вступить в Арампров, если Арампрова не существовало в природе. Я больше никогда не видел ее после того, как она бросила мне окурок в ресторанчике Ларри Блейка; партия запретила ей иметь со мной дело, а Лиз была очень дисциплинированна. Все же я не думаю, что она сумела выдвинуться в рядах партии – слишком уж покорно принимала распоряжения, да и вечно их путала. Интересно, что с ней стало? Вряд ли ее интересовало, что стало со мной; после того как партия объявила меня нежелательной персоной, для Лиз я перестал существовать.
Однажды за ужином с Николасом и Рэйчел в разговоре всплыла тема Арампрова. Социалистическая рабочая партия вынесла резолюцию, осуждающую и сенатора Фримонта и Арампров: одного как руку американского империализма, другого – как руку воинствующей Москвы.
– Ну, вы там в СРП настоящие оппортунисты, – прокомментировал Николас.
Рэйчел одарила его снисходительной улыбкой ученой девицы.
– Ты еще встречаешься с тем парнем? – спросил Николас, имея в виду функционера СРП, которым увлекалась Рэйчел.
– А ты еще сохнешь по жене босса? – парировала она.
– Ну… – пробормотал Николас, вертя на столе чашку с кофе.
– Фримонт сделал великолепный ход, – вмешался я. – Денонсировал организацию, которая никогда не существовала, которую сам же выдумал!.. И заявил, что она пронизывает всю Америку. Никто не в состоянии ее уничтожить. Никто не в состоянии от нее спастись. Никто не знает, где нанесет она удар.
– В Беркли, – сказал Николас.
– В Канзасе, в Солт-Лейк-Сити… где угодно. Фримонт может организовывать антиарампровские отряды, правоуклонистские молодежные группы, которые будут сражаться со всеми проявлениями врага, обмундированные и вооруженные отряды воинствующих юнцов. Да эта идея его в Белый дом приведет!..
Я шутил. Но, как мы все знаем, я оказался прав. После убийства Джона Кеннеди, после убийства его брата, после убийства почти всех видных политических деятелей США на это понадобилось всего несколько лет.
Глава 4
Все эти убийства, совершенные якобы психами-одиночками, имели общую цель: избрание Ферриса Ф. Фримонта. Иначе ему ничего не светило. Он не мог победить в честном соперничестве. Несмотря на агрессивные лозунги и поведение, Фримонт был пустышкой. Наверное, когда-то один из его помощников указал ему: «Если ты хочешь попасть в Белый дом, Феррис, тебе придется убить всех конкурентов». Фримонт принял совет к исполнению, начал действовать с 1963 года и успешно строил свою карьеру при администрации Линдона Джонсона. Когда Линдон Джонсон ушел в отставку, путь был свободен. Человеку, который не мог состязаться, состязаться и не пришлось.
Нет смысла сейчас рассуждать об этике Ферриса Фримонта. Время уже вынесло свой приговор, приговор всего мира – кроме Советского Союза, который до сих пор относится к нему весьма уважительно. Не исключено, что Фримонт напрямую работал под диктовку СССР и получал оттуда финансовую помощь. Так или иначе, его поддерживали Советы, его поддерживали правые, и в конце концов, в отсутствие других кандидатов, его поддерживали почти все. Он стал президентом на волне народного энтузиазма. А за кого еще было голосовать?
Можно задаться вопросом: почему столь разные группы, как американская интеллектуальная элита и советские стратеги поддерживали одного и того же человека? Я не политолог, но Николас однажды заметил: «И те и другие тяготеют к коррумпированным лидерам – чтобы легче было ими управлять. Советы и яйцеголовые любят марионеток. И всегда будут любить, потому что по своей сущности обожают приставлять пистолет к виску».
Никто не приставлял пистолет к виску Ферриса Фримонта. Он сам был пистолетом – нацеленным на нас. На тех людей, которые его избрали.
Николас тоже никак не был политологом. Он понятия не имел, как сформировались силы, стоящие за Феррисом Фримонтом; он понятия не имел, что такие силы вообще существуют. Подобно большинству из нас, он просто ошеломленно наблюдал, как ведущих политических деятелей одного за другим убивали, как быстро шел к власти Фримонт. Происходящее казалось абсурдным.
Есть такая крылатая латинская фраза, раскрывающая пружины любой интриги: «Кому выгодно?» Когда были убиты Джон Кеннеди, и Бобби Кеннеди, и доктор Кинг, нам следовало спросить себя: «Кому выгодно?» Это было невыгодно всем американцам, кроме одного второсортного человечка, который мог теперь попасть в Белый дом и там остаться. У которого в противном случае не было бы никаких шансов на успех.
С другой стороны, наше блуждание в потемках простительно. В конце концов, в Америке никогда ничего подобного не происходило. В отличие от других стран. В России прекрасно знают, как все это делается; знают и в Англии – взять, к примеру, Горбатого Дика, как называет Шекспир Ричарда III.
Впрочем, я не собираюсь рассказывать о том, как Феррис Фримонт пришел к власти. Я хочу рассказать о его упадке. Фактическая сторона дела известна, но вряд ли кто-либо догадывается о потайных механизмах его поражения. Я собираюсь рассказать о Николасе Брейди и друзьях Ника.
Хотя я оставил работу в книжном магазине, чтобы посвятить все время литературному труду, я частенько с удовольствием заглядывал в «Университетскую музыку», чтобы послушать новые пластинки и перекинуться парой слов с Николасом. К 1953 году Брейди практически стал управляющим – решал вопросы с поставщиками, оформлял все документы. Владелец, Герб Джекмэн, открыл магазин в Кенсингтоне и занимался только им – ближе к дому. Пэт все еще работала в Беркли, вместе с Николасом.
Я и не догадывался, что у Герба было плохо с сердцем. В 1951-м он перенес инфаркт, и врач посоветовал ему отойти от дел. Джекмэну едва исполнилось сорок семь, и он не мог выйти на пенсию; вместо этого он купил крохотный магазинчик в Кенсингтоне – покупатели туда заходили разве что по субботам.
Иногда по субботним вечерам Герб и его приятели собирались в подсобке магазина «Университетская музыка» поиграть в покер. Порой к ним присоединялся и я. В этом кругу все знали о состоянии здоровья Герба. Его приятели в основном были мелкими коммерсантами из близлежащего района и имели общие интересы. Общими были и проблемы – например, распространение торговли наркотиками на Телеграфную улицу. Все понимали, что нас ждет. Николас впоследствии говорил, что Герба доконала увиденная сценка – уличные торговцы открыто толкают травку прохожим.
А еще я играл в покер с Тони Бучером и его друзьями, тоже писателями-фантастами. Николас в покер не играл – интеллектуалы не увлекаются картами, а Николас был типичным интеллектуалом, для которого существуют только книги, пластинки и маленькие кафе. Когда им с Рэйчел хотелось размяться, они отправлялись прямо в Сан-Франциско, в кафешки Норт-Бича, однако предварительно всегда заходили в Чайнатаун и обедали в одном и том же – по их утверждению, самом старом – китайском ресторанчике на Вашингтонской. Там был один официант-коротышка по имени Уолтер, который, по слухам, кормил бесплатно бездомных студентов – тех, кто в свое время из битников превратятся в хиппи. Николас никогда не был битником или хиппи, но, несмотря на свою интеллектуальность, смахивал на них джинсами, кедами, короткой бородой и всклокоченными волосами.
Для самого Николаса тяжелейшей проблемой было отсутствие перспектив. Он боялся, что ему всю жизнь придется провести за прилавком магазина пластинок. Это чувство усиливалось по мере того, как Рэйчел подходила к получению степени. Николасу казалось, что она поглядывает на него сверху вниз. Ему казалось, что в Беркли, университетском городе, вообще подавляющее большинство смотрит на него сверху вниз. Это был трудный период для Николаса.
Именно тогда с ним произошло другое паранормальное явление. Он рассказал мне о случившемся на следующий день.
Дело касалось Мехико. Николас никогда не был в Мехико и мало что о нем знал. Поэтому его так поразили красочность и детальность видения: каждый автомобиль, каждое здание, каждый человек на тротуаре или в ресторане были четко очерчены. Перед ним предстал большой современный город, только уличные шумы были несколько приглушены, словно отодвинуты на второй план, на уровень бормотания – ни одного внятного слова. Никто с Николасом не разговаривал; в видении вообще не было конкретных действующих лиц – только машины, рекламные щиты, магазины, рестораны… Так продолжалось часами, в неестественно ярких цветах, словно все было нарисовано акриловыми красками.
Странным было и время, когда произошло видение – днем. Часа в два пополудни (в выходной) Николас вдруг почувствовал сонливость и прилег на диван в гостиной. И началось… Потом он засек время: сон длился восемь часов. Восемь часов осмотра Мехико – и совершенно бесплатно!
– Со мной словно пытался вступить в связь иной разум. Описывал мне непрожитую жизнь, – позднее признался Николас, – жизнь, которую мог бы прожить я, то, что я мог бы испытать.
С этим спорить было нельзя. Его серое существование в Беркли просто требовало подобной отдушины.
– Может, тебе следует переехать в Южную Калифорнию? – предположил я.
– Нет, это был Мехико – столица иностранного государства.
– Ты никогда не думал перебраться в Лос-Анджелес?
– Со мной общался гигантский, мощнейший разум! Через необозримые пучины космоса! С другой звезды!
– Зачем это ему понадобилось?
– Очевидно, он почувствовал мою нужду. Я думаю, он стремится направить мою жизнь к некой великой цели, для меня самого пока еще невообразимой. Я… – Николас смутился и понизил голос. – У меня есть для него имя: Всеобъемлющая Активная Логическая Интеллектуальная Система А. «А» – потому что их может быть много. То, что пыталось вступить со мной в контакт, в полной мере обладает всеми этими характеристиками: огромное, активное, разумное и представляет из себя однородную систему.
– Ты все это понял, увидев Мехико?
– Я почувствовал это, познал интуитивно. Порой я не сплю по ночам, пытаюсь вступить с ним в связь… Должно быть, это результат моих многолетних призывов.
Я обдумал употребленное им слово «призыв» и понял, что мой друг имел в виду молитву. Он молился, хотя слово «молитва» не произнес бы ни за что на свете.
Позже выяснилось, что у него были и другие контакты с так называемым ВАЛИСом: один и тот же часто повторяющийся сон, в котором к глазам Николаса подносили тяжелые фолианты, чем-то напоминающие первые издания Библии. Он неизменно пытался прочесть, что там написано, однако безуспешно; к утру все забывалось. Хотя не исключено, что подсознательно он впитал очень много. Из слов Николаса складывалось впечатление, что во сне с ним проводили ускоренный курс обучения. Чему – ни он, ни я сказать не могли.
Глава 5
Так продолжалось довольно долго. Год спустя Николас по-прежнему видел во сне страницы текста. К тому времени выяснилась одна любопытная деталь – периодически просыпаясь и засыпая, он установил, что текст появляется между тремя и четырьмя часами утра.
– Это должно что-то означать, – сказал я.
Единственные слова, которые Николас прочитал и запомнил, были напрямую связаны с ним самим, хотя он не сомневался, что его имя в тексте упоминается часто.
Слова были такими:
ПРОДАВЦУ ПЛАСТИНОК В БЕРКЛИ ПРЕДСТОИТ МНОГО ТРУДНОСТЕЙ, НО В КОНЦЕ КОНЦОВ НЕПРЕМЕННО…
И все, больше он не помнил. В том сне, представьте, кто держал книгу? Я! Стоял, держа ее раскрытой на нужной странице, и предлагал ему прочитать.
– А ты уверен, что с тобой общался не Бог?
Это была непопулярная тема в Беркли; в Беркли вообще не принято было говорить о Боге. Я сказал это специально, чтобы подразнить Николаса. Он сам признался, что огромные древние книги напоминают ему Библию; сам провел эту связь. Тем не менее он предпочитал иную теорию: будто с ним вошел в контакт внеземной разум – и продолжал рассказывать мне о всех событиях. Если бы Николас думал, что ему является Господь Бог, он, безусловно, прекратил бы разговоры со мной и обратился к священнику.
Так или иначе, с тех пор как во сне он увидел меня, я не имел права оставаться в стороне. И все же именно потому, что я был писателем-фантастом, я не мог серьезно относиться к теории Николаса. Подобный образ мышления был мне чужд. Мне так часто приходилось сочинять про жизнь в иных звездных мирах, что я не верил даже в летающие тарелки. Для меня все это были выдумки, фантастика. Из всех людей, кого только мог выбрать Николас, чтобы излить душу, я, очевидно, был самым плохим исповедником.
Лично я считал, что Николас обратился к миру фантазий, чтобы хоть как-то скрасить свое унылое существование. Без общения с ВАЛИСом его жизнь погрузилась бы в непроглядный мрак. Продавец пластинок среди интеллектуалов… нет, он не мог этого вынести. Классический пример подсознательного ухода от реальности.
Несколько лет я придерживался этой теории. Пока в конце шестидесятых не увидел собственными глазами, как ВАЛИС спас жизнь сыну Николаса и Рэйчел – вылечил малыша от врожденного дефекта. Но это было позже.
Выяснилось, что Николас, не желая показаться сумасшедшим, с самого начала рассказывал мне далеко не все. Он отдавал себе отчет в том, что не должен был бы испытывать того, что испытывал, и уж тем более не должен об этом распространяться. И выбрал меня, потому что я писал научную фантастику и, следовательно, по его мнению, более восприимчив к идеям контакта с внеземным разумом.
Рэйчел, его жена, заняла самую жесткую и обидную позицию. Николас, едва он только при ней начинал обсуждать ВАЛИС, подвергался неописуемым насмешкам и оскорблениям. Можно было подумать, что он стал одним из Свидетелей Иеговы – еще один объект безграничного презрения со стороны высокообразованной женушки. Свидетель Иеговы или член Союза молодых республиканцев – безразлично, пасть ниже уже невозможно; главное, принадлежность к людям, которые никак не относятся к категории Человек Разумный. В сущности, Рэйчел была невиновата, разве что, по моему глубокому убеждению, ей следовало избегать излишней жестокости, а просто отправить Николаса в психиатрическую лечебницу на какую-нибудь групповую терапию.
Я по-прежнему считал, что ему лучше уехать в Южную Калифорнию – хотя бы для того, чтобы вырваться из Беркли. И Николас в конце концов поехал – но только на экскурсию в Диснейленд. Все же, согласитесь, тоже путешествие, как-никак перемена мест. Понадобилось привести в порядок машину, сменить покрышки. Он и Рэйчел уложили спальные мешки, палатку и походную плиту в багажник «плимута» и выехали, намереваясь, чтобы экономить деньги, ночевать на пляжах.
По официальной версии это был отпуск. В действительности же (признался Николас мне, своему лучшему другу) у него была и иная, тайная цель, о которой он не сказал даже хозяину магазина Гербу Джекмэну – посетить в Бербанке фирму «Новая музыка». Не исключалось, что после бесед с их руководством Николас перейдет туда работать. Таков был план представителя фирмы на Западном побережье Карла Дондеро, который Николасу симпатизировал и тоже хотел вытащить его из Беркли.
К сожалению, Карл Дондеро не учел некоторых крайне неприятных фактов: что Лос-Анджелес как магнитом притягивает всех чокнутых и чудиков; что все религиозные, паранормальные и оккультные течения здесь зарождались или сюда стекались; что Николас Брейди, если бы он переехал в Лос-Анджелес, оказался бы в окружении подобных людей и его состояние скорее ухудшилось бы. Чего можно было ожидать от Николаса в этом сумасшедшем городе? Очевидно, его и без того слабая связь с реальностью вскоре совсем растаяла бы.
Однако сам Николас никуда переезжать не собирался – слишком сроднился с Беркли. Он лишь с нетерпением ждал ужина с руководством отдела исполнителей и репертуара фирмы «Новая музыка»: они будут подпаивать и уговаривать его, а он гордо скажет им «нет» и вернется в Беркли – получив заманчивое предложение и отвергнув его. Таким образом продавец пластинок в магазине на Телеграфной авеню наконец сам определит свою судьбу.
Но когда Николас все-таки попал в округ Орандж и Диснейленд и покатался по окрестностям на своем стареньком «плимуте», он обнаружил кое-что для себя неожиданное, то, что я предполагал в качестве шутки. А именно – все это сильно напоминало пейзаж из его сна: мексиканские здания, мексиканские кафе и маленькие деревянные дома, полные мексиканцев. Я оказался прав. Увиденное сильно повлияло на планы Николаса относительно работы в «Новой музыке».
Они с Рэйчел вернулись в Беркли; однако теперь, обнаружив, что точная копия мира его сна существует в реальности, Николас был неудержим.
– Я прав, – сказал он мне дома. – Это не сон. ВАЛИС показал мне, где я должен жить. Там ждет меня судьба, ни с чем не сравнимая. Она ведет к звездам.
– А ВАЛИС тебе сообщил, в чем именно заключается твоя судьба?
– Нет. – Николас покачал головой. – Все станет ясно, когда придет пора. Это как у шпионов: знаешь только то, что тебе необходимо. Если увидеть всю картину, можно сойти с ума.
– Значит, ты бросишь работу и переедешь в округ Орандж только потому, что тебе приснился сон?
– Дома, люди, даже дорожные знаки – все совпадает до мельчайших деталей. ВАЛИС указал мне место!
– Прежде спроси его зачем. Ты имеешь право знать, во что впутываешься.
– Я ему доверяю.
– А вдруг он – воплощение зла?
– Зла? – Николас изумленно посмотрел мне в глаза. – Да ВАЛИС – средоточие добра во Вселенной!
– Я бы не стал так уж слепо верить, – произнес я, – если бы дело касалось меня и моей жизни. Подумай, Ник! Ты бросаешь дом, работу, друзей – и все из-за сна… видения! Может, ты просто ясновидец?
Я написал несколько рассказов и роман «Мир, который создал Джонс» о предсказателе, где ясновидение рассматривал как дар весьма сомнительной полезности. В рассказах, а особенно в романе, мой герой оказывался в замкнутом круге: он был вынужден, как сейчас Николас, в точности следовать увиденной прежде картине; герой пал жертвой детерминизма, вместо того чтобы обрести свободу действий. Предвидение приводило не к возможности сделать свободный и правильный выбор, а к некому мрачному фатализму, наподобие того, что демонстрировал сейчас Николас: он должен переехать в округ Орандж, потому что год назад видел его во сне. С точки зрения логики – полная ахинея.
Я готов был согласиться с тем, что Николас действительно видел во сне точную копию городка, который он затем узрел воочию, но считал это проявлением личных паранормальных способностей Николаса и никак не посланием от внеземного существа. Того требовал элементарный здравый смысл. Да и принцип Оккама подтверждал мою версию – простейшую. Зачем приплетать некий всесильный Разум?
Николас, однако, придерживался совсем иной точки зрения.
– Дело не в том, чья теория более «экономична»; дело в том, чья верна! Ну посуди: я не могу находиться в общении сам с собой – откуда мне знать ожидающую меня судьбу? Только надчеловеческий, высший разум способен знать такое.
– Выходит, твоя судьба ждет в Диснейленде? Будешь жить под качелями, ходить в общественный туалет, питаться кокой и гамбургерами, которые там продают… Что еще нужно человеку?
Слушавшая все это Рэйчел кинула на меня яростный взгляд.
– Я делаю то же самое, что и ты – посмеиваюсь над ним, – пожал я плечами. – Ты не хочешь уехать из Беркли?
– Я никогда не буду жить в округе Орандж! – прошипела Рэйчел.
– Вот видишь, – сказал я Николасу.
– Мы, наверное, разойдемся, – ответил Николас. – Она останется в университете, а я смогу искать свою судьбу.
Дело принимало серьезный оборот. Развод, базирующийся на сновидении. Мужчина оставляет жену, потому что видел во сне иностранный город… оказавшийся в десяти милях от Диснейленда, возле апельсиновых плантаций… Дико, абсурдно. И все же Николас не шутил. А ведь они были женаты много лет.
Развязка наступила три года спустя, когда Рэйчел обнаружила, что забеременела – спирали в те дни не отличались надежностью. Так завершилась ее университетская карьера. После рождения маленького Джонни было уже все равно, где жить. Рэйчел раздалась и обрюзгла, перестала следить за собой, забыла науку и целыми днями смотрела телевизор.
В середине шестидесятых они переехали в округ Орандж. А через несколько лет Феррис Ф. Фримонт стал президентом Соединенных Штатов.
Глава 6
Как относиться к другу, чьей жизнью управляют со звезд?
Я редко видел Николаса с тех пор, как они с Рэйчел переехали, но во время встреч – иногда приезжали они, иногда я прилетал погостить в Диснейленд – Николас посвящал меня во все детали своих с ВАЛИСом планов. Теперь они общались часто. Так что с этой точки зрения переезд стоил того.
Да и работа в «Новой музыке» оказалась гораздо лучше, чем работа продавца пластинок в магазине. Торговать пластинками в розницу – это тупик, и Николас всегда это понимал, в то время как область звукозаписи открывала широкое поле деятельности. Вошел в силу рок, и хотя «Новая музыка» специализировалась на народном творчестве, влияние рока сказывалось. По словам Николаса, они едва не подписали контракт с «Питером, Полом и Мэри» и безоговорочно отвергли «Кингстон-трио». Николас работал в отделе исполнителей и репертуара и сам прослушивал новых певцов, инструментальщиков и группы. Он не мог лично подписывать контракты; зато имел право давать претендентам от ворот поворот и с удовольствием им пользовался – большой карьерный рост с тех пор, как он менял туалетную бумагу за кабиной номер три!..
Наконец абсолютный слух, глубокое знание вокала, приобретенное частыми прослушиваниями уникальных записей в «Университетской музыке», и природное чутье стали приносить Николасу деньги. Карл Дондеро не ошибся: помогая Николасу, он помог и «Новой музыке».
– Значит, теперь у тебя классная работа, – произнес я, устроившись в гостиной их квартиры в Пласенсии.
– Вот, скоро еду в Хантингтон-Бич прослушивать Дядюшку Дэйва Хаггинса и его «Электрических барабанщиков», – сказал Николас. – Думаю, мы заключим с ними контракт. В сущности, они играют фолк-рок. Чуть-чуть смахивает на отдельные вещи «Благодарных мертвецов».
Мы слушали пластинку «Джефферсон эйрплэйн» – довольно неожиданно для меня после любимой Николасом в Беркли классической музыки. Грейс Слик исполняла «Белого кролика».
– Клевая чувиха! – заметил Николас.
– Да, певица что надо, – согласился я. Я совсем недавно заинтересовался роком, и особенно мне понравилась группа «Джефферсон эйрплэйн». – Жаль, что она вам не подходит.
– О, я теперь клевых чувих вижу знаешь сколько? Многие начинающие исполнители «кантри» – девушки. Обычно совершенные бездари, наслушаются и копируют кого-нибудь, ничего оригинального.
– Итак, ты стал вершителем судеб, – заметил я.
Николас молчал, вертя в руке бокал с вином.
– И каково тебе? Приятно?
– Знаешь… – Николас замялся. – Хуже всего – смотреть на их лица, когда говоришь «нет». Это… – Он взмахнул рукой. – У них такие надежды! Надежда гонит их со всех концов земли в Голливуд… Вот сегодня была одна девушка – добиралась от Канзаса на попутках с пятнадцатидолларовой учебной гитарой. Берет от силы пять аккордов, поет по нотной тетрадке. Мы обычно не прослушиваем, если они уже где-то не играют. Нельзя же прослушивать всех подряд, – закончил Николас грустно.
– Что новенького сообщает ВАЛИС? – спросил я, надеясь, что теперь, обогащенный опытом более насыщенной жизни, Николас не слышит больше голоса и не читает во сне книги.
На лицо друга легло странное выражение. За все время появления этой темы он, казалось, впервые не желал ее обсуждать.
– Я… – Николас сделал мне знак рукой и вышел из гостиной в спальню. – Рэйчел ввела правило, – сказал он, прикрыв за мной дверь. – При ней и не заикаться об этом… Послушай, я кое-кого обнаружил. Качество связи с ним – или с ней, или с ними – зависит от ветра. Когда поднимается ветер – а здесь он дует из пустыни на восток и на север, – слышно гораздо лучше. Я делал записи. Гляди. – Николас выдвинул ящик туалетной тумбочки, там лежало около сотни машинописных листов бумаги; в углу комнаты, на маленьком столике, стояла портативная пишущая машинка. – Я многого тебе не рассказывал о своих контактах с ними. Именно с ними. Похоже, они могут сливаться и образовывать единое тело или разум, как некая плазматическая форма жизни. Полагаю, они где-то в стратосфере.
– Боже, – пробормотал я.
– Им кажется, – убежденно продолжал Николас, – что мы живем в отравленном океане. Я часто вижу сны как бы с их точки зрения: они смотрят вниз – я смотрю вниз – на какой-то стоячий водоем.
– Смог? – предположил я.
– Они его ненавидят. И ни за что туда не спустятся. Ты писатель-фантаст, скажи, возможно ли, что в атмосфере существуют неизвестные нам высокоразвитые формы жизни, которые горячо интересуются нашей жизнью и в состоянии помогать нам, когда считают необходимым? Ведь за долгие века должны были бы накопиться какие-то факты… Скорее – такова одна из моих теорий – они недавно вошли в нашу атмосферу, прибыли с другой планеты или из параллельной вселенной. Не исключено, что они прибыли и из будущего – с тем чтобы помочь нам. Они очень хотят помочь нам. А знают они абсолютно все. И могут перемещаться повсюду без ограничений; у них нет материальных тел – просто сгустки энергии, вроде электромагнитных полей. Вероятно, они иногда сливаются, образуют единую информационную систему, потом расходятся. Разумеется, это лишь мои предположения. Точно мне ничего не известно.
– Почему их слышишь только ты? – спросил я.
– У меня нет логичной теории на этот счет.
– А объяснить они тебе не могут?
– На самом деле я многого не понимаю из того, что они мне говорят, – признался Николас. – Просто чувствую их присутствие. К примеру, они хотели, чтобы я переехал в округ Орандж, тут ошибки не было. Думаю, здесь ближе к пустыне и, когда дует нужный ветер, надежнее связь… Я накупил кучу книг, чтобы изучить феномен: Британскую энциклопедию…
– Но если они существуют, кто-то еще неминуемо…
– Согласен, – кивнул Николас. – Почему именно я? Почему бы им не обратиться к президенту Соединенных Штатов?
– К Феррису Ф. Фримонту?
Николас рассмеялся.
– Понимаю, что ты хочешь сказать. Но на свете столько выдающихся людей! Однажды… Послушай. – Он лихорадочно стал перебирать листы с записями. – Как-то мне показали двигатель с двумя осями, вращающимися в противоположных направлениях. И объяснили принцип действия. Я видел этот проклятый мотор, держал в руках – такой круглый, тяжелый, выкрашенный в красный цвет. Без центробежного вращающего момента, потому что оси крутятся в разные стороны, но с помощью некоего привода образуется единая движущая сила. Какой источник энергии, точно не знаю – может, электричество. Они хотели, чтобы я все это записал, когда проснусь – показали мне остро заточенный карандаш и блокнот. И сказали – никогда в жизни не забуду! – сказали: «Принцип действия известен в твое время». Ты понимаешь, что это значит?! – Николас страшно разволновался, покраснел, слова лились из него потоком. – Они из будущего!
– Не обязательно, – возразил я. – С таким же успехом это может значить, что им просто известно наше будущее.
Николас замер, ошеломленно глядя на меня, беззвучно открывая и закрывая рот.
– Видишь ли, – продолжал я, – существам высшего порядка доступно…
– Это все на самом деле, – тихо произнес Николас.
– Ты о чем?
– Это не выдумка, не рассказ. Фиксируя свои впечатления, я исписал многие страницы: что видел, что слышал, что знаю. Ты знаешь, что я знаю? Все это куда-то движется, вот только куда – пока понять не могу. Они не хотят, чтобы я понял. Собственно, мне сообщают очень мало; такое впечатление, что они умышленно раскрывают как можно меньше. Так что отвали-ка ты со своими научно-фантастическими байками подобру-поздорову. Ясно, Фил?
Наступила тишина. Мы молча смотрели друг на друга.
– А что же мне говорить? – наконец спросил я.
– Просто отнесись к этому серьезно, так, как оно есть: очень серьезное, может быть, очень мрачное дело. Хотел бы я знать… Я чувствую, что они предельно откровенны, идет какая-то смертельная игра, вне нашего понимания. С целью… – Николас замолчал. – Боже, все это чертовски действует на нервы. Если б я с кем-нибудь мог поделиться!..
– Ты выглядишь более зрелым, словно возмужавшим, – заметил я.
Он пожал плечами.
– Уехал из Беркли.
– Теперь ты чувствуешь настоящую ответственность…
– Я и раньше чувствовал ответственность. Нет, просто я начал понимать, что это не шутка.
– Твоя работа…
– При чем тут работа? Не шутка то, что мне сообщают. Хотя, проснувшись, я ничего не помню, все это запоминается где-то в глубине мозга. Попадает в подсознание и там хранится. – Николас поднял глаза и пристально на меня посмотрел. – Знаешь, Фил, я думаю, меня программируют. Рано или поздно по какому-то сигналу или при условленных обстоятельствах программа начнет работать. А я и догадываться ни о чем не буду.
– Даже когда попадешь в условленные обстоятельства?
– Я читал об этом. Все покажется мне совершенно естественным. Каковы бы ни были мои поступки и слова, я буду думать, что веду себя так по собственной воле. Будто постгипнотическое внушение: сам себе объяснишь самые странные, самые гибельные…
Он замолчал, и на этот раз надолго.
– Ты изменился, – повторил я. – Не просто возмужал, а как-то еще…
– Меня изменил переезд. Переезд и та исследовательская работа, которую я веду. Наконец-то у меня появились на нее средства. Герб Джекмэн платил мне жалкие гроши.
– Дело не только в исследовательской работе, – возразил я. – В Беркли полно людей, занимающихся исследовательской работой. У тебя появились новые друзья? Ты с кем-то общаешься?
– В основном с сотрудниками фирмы, – ответил Николас. – С профессионалами музыкального бизнеса.
– Рассказывал им о ВАЛИСе?
– Нет.
– А к психиатру не обращался?
– О черт, Фил, – устало произнес Николас. – Мы оба с тобой знаем, что психиатр тут ни при чем. Когда-то я еще мог об этом подумать – давным-давно, за шестьсот миль отсюда, в сумасшедшем городе. В округе Орандж глупостей не любят; здесь живут здравомыслящие и стабильные люди. Все чокнутые остались к северу, в районе Лос-Анджелеса. Я перемахнул лишние шестьдесят пять миль. Да нет, черт побери, меня специально послали сюда, подальше от всяких параноиков – чтобы я мог размышлять, обрести понимание. Или уверенность. Если я и приобрел что-то, то, наверное, уверенность.
– Пожалуй.
– Там, в Беркли, – тихо продолжал Николас, словно обращаясь сам к себе, – все это казалось… игрой. Лежишь себе тихо ночью и контактируешь с иным разумом… Мы все дети в Беркли, в Беркли не взрослеют. Наверное, поэтому его так ненавидит Феррис Фримонт.
– Перебравшись сюда, ты о нем не забываешь? – спросил я.
– Нет. Перебравшись сюда, я о Феррисе Фримонте не забываю, – загадочно ответил Николас.
Благодаря воображаемому голосу, Николас наконец стал цельным человеком. Останься он в Беркли, он бы жил и умер частичкой человека, так и не познав полноты. Что это за воображаемый голос, спрашивал я себя. Предположим, Колумб услышал воображаемый голос, велевший ему плыть на запад. Колумб поверил – и открыл Новый Свет, изменив ход человеческой истории… В таком случае нам пришлось бы очень трудно, определяя термин «воображаемый», ибо этот голос опосредованным образом затронул всех. Что создает более мощную реальность: «воображаемый» голос, советующий Колумбу плыть на запад, или «реальный» голос, подсказывающий, что затея безнадежна?
Если бы не являющийся по ночам ВАЛИС – манящий, настойчивый, зовущий к счастливому будущему, – Николас посетил бы Диснейленд и вернулся в Беркли. Я это знал, и знал это Николас. Как истолкуют побудительный мотив окружающие – не имеет значения. Важно, что самостоятельно, без посторонней помощи Николас остался бы навечно гнить в своей дыре. Что-то вторглось в его жизнь и уничтожило оковы дурной кармы. Что-то разбило стальные цепи.
Именно так, подумал я, человек перерождается: совершив поступок, который он никогда не мог бы совершить – в случае Николаса, абсолютно немыслимый акт переезда из Беркли в Северную Калифорнию. Все его приятели остались на месте; я остался на месте. Невероятно! Вот он, выросший в Беркли, сидит передо мной в своей современной квартире в Пласенсии (в Беркли нет современных квартир) в цветастой калифорнийской рубашке и слаксах! Он уже вписался в местную жизнь. Эпоха джинсов осталась позади.
Глава 7
Воображаемое присутствие ВАЛИСа – которого Николас выдумал, стремясь заполнить пустоту, – заставило моего друга переродиться. Даже приди он к психиатру, ничего бы не изменилось. Психиатр обратил бы внимание на источник голоса, а не на его мотивы или результаты воздействия. Да что говорить, тот психиатр наверняка до сих пор живет в Беркли. Никакие неосязаемые контакты, никакие призрачные голоса, обещающие счастливую жизнь, его не тревожат. Блажен сон глупца!
– Хорошо, Ник, – промолвил я, – ты победил.
– Что? – Он растерянно взглянул на меня. – А, понимаю. Да, похоже. Фил, как я мог так долго торчать в Беркли? Почему понадобился голос – чужой голос, не мой, – чтобы вести меня по жизни?
– М-мм… – пробормотал я.
– Самое невероятное не то, что я услышал голос ВАЛИСа, послушался его и переехал сюда, а то, что без него, или без них, я никогда и не подумал бы о подобном шаге! Знаешь, Фил, мысль покинуть Беркли, бросить работу у Герба Джекмэна мне даже в голову не приходила!
– Да, это невероятно, – согласился я.
Он был прав. Вот вам Homo обыкновенный: крутится себе по орбите, как мертвый камень вокруг мертвого солнца, без цели и без смысла, глухой, слепой и холодный. Нечто безжизненное, навеки отрезанное от новых мыслей.
– Кто бы они ни были, – продолжал Николас, – я должен доверять им. У меня нет иного выбора. Я все равно сделаю все, что они захотят.
– Думаю, ты поймешь, когда включится программа, – сказал я. Если – отрезвляющая мысль – он вообще запрограммирован.
– Думаешь, пойму? Я буду слишком занят.
Это меня напугало: вот он молнией приходит в движение, будто взрывается, и ничто не в силах его остановить.
– Они… – начал было Николас.
– Пожалуйста, не называй их «они», – попросил я. – Это действует мне на нервы. Было бы гораздо лучше, если бы ты говорил «он».
– Я говорю «они», – объяснил Николас, – потому что видел их несколько. Женщину, мужчину. По меньшей мере двух.
– Как они выглядели?
Николас помолчал.
– Ты понимаешь, разумеется, что это было во сне. Там все искажено. Наше сознание возводит барьеры.
– Для самозащиты, – кивнул я.
– У них по три глаза: два обычных, а третий не со зрачком, а с линзой. Прямо посреди лба. Этот третий глаз видит все. Его можно включать и выключать, и когда он выключен, то совершенно пропадает. Становится невидим. Тогда, – Николас судорожно вздохнул, – они ничем от нас не отличаются. Ничем.
– Боже милосердный…
– Да, – мужественно произнес Николас.
– Они способны говорить?
– Они были немы. И глухи. В таких сферических камерах, вроде батискафа, оплетенных проводами – всякое там электронное оборудование, чтобы они могли общаться с нами, чтобы их мысли превращались в слова, которые мы слышим и понимаем, и чтобы они могли понимать нас. Это им дается с трудом, с большим напряжением.
– Не уверен, что я хочу знать.
– Черт побери, да ты же об этом все время пишешь! Я наконец прочитал кое-какие твои…
– Я пишу фантастику. Вымысел.
– У них увеличенные черепные коробки, – сказал Николас.
– Что? – переспросил я. Я не поспевал за ним. Все это было для меня чересчур.
– А как иначе поместился бы третий глаз? Массивный удлиненный череп – как у египетского фараона Эхнатона. И у двух его дочерей. А у его жены череп был самый обычный.
Я распахнул дверь и вернулся в гостиную, где сидела Рэйчел.
– Он свихнулся, – пробормотала она, не отрываясь от книги.
– Точно, – сказал я. – Совсем спятил. Вот только не хотел бы я здесь оказаться, когда сработает его программа.
Рэйчел, промолчав, перевернула страницу.
Выйдя вслед за мной из спальни, Николас приблизился к нам, протягивая в руке клочок бумаги.
– Вот этот знак они показывали мне несколько раз – две пересекающиеся дуги. Гляди. Немного похоже на знак рыбы у ранних христиан. Интересно, что если одна дуга…
Откуда-то из загадочного изображения в лицо Николаса ударил багровый луч света. Он закрыл глаза, скривился от неожиданности и боли, выронил листок бумаги и быстро приложил руку ко лбу.
– У меня вдруг страшно разболелась голова…
– Вы видели этот странный луч света? – воскликнул я.
Рэйчел отложила книгу и встала.
Николас отвел руку, открыл глаза и поморгал.
– Я ослеп, – хрипло произнес он.
Наступила тишина. Все мы стояли молча, не шевелясь.
– Нет, никакого луча я не видел, – наконец проговорил Николас. – А теперь вижу розовые пятна… Кое-что становится понятным.
К нему подошла Рэйчел, мягко взяла его за плечо.
– Ты лучше присядь.
Странным, почти механическим голосом Николас нараспев произнес:
– Рэйчел, у Джонни есть врожденный дефект.
– Доктор сказал, что он совершенно…
– У него паховая ущемленная грыжа в мошоночном мешочке. Требуется срочное хирургическое вмешательство. Немедленно позвони доктору Эвенстону. Скажи, что ты везешь Джонни в приемный покой больницы святого Иуды в Фуллертоне. Вели ему ждать там.
– Прямо сейчас, ночью? – ошеломленно пролепетала Рэйчел.
– Джонни грозит смерть. – И, закрыв глаза, Николас повторил свое сообщение, слово в слово, с той же интонацией.
Глядя на него, я испытывал странное чувство: как будто, несмотря на то что его глаза закрыты, Николас видит произносимые слова, читает их словно по шпаргалке.
Я поехал вместе с ними в больницу. Машину вела Рэйчел; Николас из-за продолжающихся перебоев со зрением сидел рядом, держа на руках малыша.
Их лечащий врач, доктор Эванстон, явно раздраженный, ждал в приемном покое. Сперва он заявил, что несколько раз внимательнейшим образом осматривал Джонни на предмет возможной грыжи и ничего не обнаружил; потом взял ребенка и куда-то с ним исчез. Шло время. Когда наконец доктор Эванстон вернулся, он неохотно признал, что при обследовании ребенка действительно обнаружена паховая грыжа и в связи с возможностью ущемления требуется срочная операция.
На обратном пути в Пласенсию я спросил:
– Кто эти люди, эти голоса?
– Друзья, – коротко ответил Николас.
– Они явно пекутся о твоем благополучии. И благополучии твоего ребенка. Причем обладают большой силой!
– Они не исцелили Джонни, а просто передали мне информацию, – сказал Николас. – Если…
– Именно исцелили, – подчеркнул я и развил свой тезис. Доставить ребенка к врачу и обратить его внимание на врожденный дефект – что это, как не исцеление? Зачем прибегать к сверхъестественным силам, когда под рукой обычные средства? Я припомнил, что сказал Будда, увидев, как некий предполагаемый святой идет по воде: «За грош я мог бы переправиться на пароме». Даже для Будды практичнее было бы пересечь реку нормальным способом.
Николас не понял моей мысли; он, казалось, до сих пор не пришел в себя: все потирал лоб и глаза, а Рэйчел вела машину.
– Информация была передана разом, так сказать одним залпом, в компьютерной науке это называется аналоговый метод, в отличие от цифрового, – промолвил он.
– Ты уверен, что они друзья? – резко спросила Рэйчел.
– Любой, кто спасет жизнь моего мальчика, мне друг, – ответил Николас.
– Если они способны передать столь исчерпывающую и точную информацию прямо тебе в голову одной вспышкой света, – заметил я, – то тем более могли дать тебе знать, кто они такие, откуда и чего хотят. А раз ты сомневаешься, значит, эти сведения умышленно утаивают.
– Если бы я знал, – ответил Николас, – я мог бы рассказать. Они не желают…
– А почему? – перебил я.
– Это противоречит их целям, – произнес Николас, подумав. – Они выступают против… – Его голос затих.
– Оказывается, ты многого мне не говорил, – сказал я.
– Все записано там, на страницах книги. – Николас помолчал, затем продолжил: – Им приходится действовать очень осторожно. Иначе все провалится. – Он не стал пояснять. Очевидно, и не знал-то больше ничего. То, чем он располагал, состояло скорее всего из догадок, появившихся за долгие месяцы размышлений.
Во мне давно уже назрела целая речь. Теперь я дал себе волю:
– Существует вероятность – правда, надо отметить, очень небольшая, – что ты имеешь дело с явлениями религиозного характера, непосредственно общаешься со Святым Духом, проявлением самого Господа Бога. Мы все из Беркли, там выросли и невольно ограничены мирскими взглядами университетского городка; мы не расположены к теологическому восприятию мира. Но исцеление, насколько мне известно, типичное чудо Святого Духа… Слышал какие-нибудь незнакомые языки? – спросил я Николаса. – У себя в голове?
Он замялся и наконец кивнул.
– В снах.
– Глассолалия?
– Древнегреческий. Проснувшись, я как-то записал несколько слов – в таком виде, как запомнил. У Рэйчел был годичный курс древнегреческого; мы проверили по словарю и убедились. В книге Деяний Апостолов, в Библии, другие народы понимали слова апостолов – в Пентекосте, когда на них впервые снизошел Дух. Глассолалия – не бессмысленная белиберда, а незнакомые иностранные языки. Святой Дух вкладывает их тебе в голову, чтобы ты мог нести слово Божье по всему миру. Я сам думал, что это белиберда, пока не занялся исследованиями.
– Ты читал Библию? – спросил я. – Ну, в своих исследованиях?
– Новый Завет и Книги Пророков.
– Ник никогда не знал греческого, он был уверен, что это ненастоящие слова, – вставила Рэйчел.
Жесткие язвительные нотки исчезли из ее голоса; беспокойство, страх за Джонни сделали свое дело.
– Когда Ник осторожно поведал о снах на греческом некоторым знакомым, интересующимся оккультным, они заявили: «Предыдущая жизнь. Ты – перевоплощение древнего грека». Но, по-моему, это не так.
– А что же это, по-твоему? – спросил я.
– Не знаю. Именно греческие слова заставили меня впервые серьезно отнестись к этой истории. А сегодня вот диагностирование Джонни. К тому же я сама видела коснувшийся его розово-багряный луч света… Честно, Фил, просто ума не приложу. Похоже, Ник воспринимает некие проявления могущественных сверхъестественных существ – смутные, искаженные образы, совершенно недостаточно для того, чтобы можно было строить версии. Похоже, они из глубокого прошлого. На это указывает язык двухтысячелетней давности.
Внезапно хриплым голосом заговорил Николас:
– Во мне кто-то пробуждается – спустя две тысячи лет или около того. Еще не пробудился, нет, но его время близится. Ему обещали это… давно, когда он был живым, как мы.
– Это человек? – поинтересовался я.
– Да, безусловно. – Николас кивнул. – Вернее, был человеком. Программа, которую в меня заложили, – пробудить его. Эта личность для них очень важна. Я не знаю почему. Я не знаю, кто он такой. Я не знаю, что он будет делать. – Николас замолчал, а потом произнес тихо, будто обращаясь к самому себе: – Я не знаю, что случится со мной, когда это произойдет. Может, у них вообще нет на меня планов.
– Не кажется ли тебе, что ты гадаешь на кофейной гуще? – спросил я. – У тебя ведь нет достоверных данных?
– Нет, – признал Николас.
– Давно у тебя появилось это предположение?
– Не знаю. Я их записываю.
– В порядке убывания вероятности?
– В том порядке, в каком они ко мне приходили.
– И каждое, – подхватил я, – в то время казалось тебе правильным.
– Одно из них наверняка правильное, – произнес Николас. – В конце концов я пойму. Я обязан понять.
– Ты и в могилу можешь сойти в полном неведении, – сказала Рэйчел.
– Рано или поздно я пойму, – упрямо пробормотал Николас.
Или нет, подумал я; возможно, Рэйчел права. Николас будет вечно бродить в потемках, кипа записей разбухнет от новых теорий, каждая – все более мрачная, смелая, дерзкая. А потом личность, которая сейчас ворочается внутри моего друга, войдет в силу, возьмет все в свои руки и закончит записи за него. Николас сколько угодно может писать: «Я думаю… полагаю, что… уверен… наверняка…» А потом древний человек пробудится к жизни и запишет последнюю строку: «Он был прав. Так и есть – это я».
– Во всей этой истории меня постоянно волновало одно, – сказала Рэйчел. – Как он поведет себя по отношению ко мне и Джонни, если его сумеют пробудить? По-моему, сегодняшние события показали, что он будет заботиться о Джонни.
– А возможностей у него больше, чем у меня, – добавил Николас.
– И ты не станешь сопротивляться? – возмутился я. – Будешь пассивно ждать, пока он тебя одолеет?
– Я жду этого с нетерпением, – сказал Николас.
– У вас тут поблизости сдается квартира? – спросил я Рэйчел. В конце концов, почему бы писателю не пожить там, где ему вздумается? Разве он привязан к одному месту?
– Думаешь, твое присутствие ему поможет? – чуть улыбнулась Рэйчел.
– Ну что-то вроде этого, – ответил я.
Глава 8
Они оба очевидно смирились с тем, что в Николаса вторглось нечто; в их поведении сквозила покорность. Мне же все происходящее казалось неестественным, кошмарным, чем-то таким, от чего надо отбиваться любыми доступными способами. Поглощение человеческой личности этим… ну, в общем, тем, что поглощало – чудовищно!
При условии, что теории Николаса верны; на самом-то деле он скорее всего заблуждается. И все равно, я хотел быть рядом. Многие годы Николас был моим лучшим другом и все еще оставался им, хотя нас разделяли шесть сотен миль. Кроме того, мне тоже стала нравиться Пласенсия.
– Красивый жест, – сказала Рэйчел. – Не покинуть друга в трудное время…
– Это больше, чем жест, – возразил я.
– Пока ты еще окончательно не переехал, хочу вам обоим кое-что рассказать. Я сама только вчера узнала, совершенно случайно. Еду я по какой-то маленькой улочке, просто так еду, наобум – хочу, чтобы Джонни успокоился и заснул – и вдруг вижу зеленый дощатый домик с мемориальной доской: «Здесь родился Феррис Ф. Фримонт». Представляете?!
– Ну сейчас его здесь нет, – резонно указал Николас. – Он в Вашингтоне, в трех тысячах миль отсюда.
– Но каков гротеск! – воскликнула Рэйчел. – Жить в городе, где родился тиран! Родился в таком же, как он сам, жалком маленьком домике отвратительного цвета… Я из машины, конечно, не вылезла, не хотела и близко подходить, но видно было, что дом открыт и там ходят люди. Вроде как в музее: вот его учебники, а вот постелька, где он спал…
Николас повернулся и посмотрел на жену странным внимательным взглядом.
– И никто вам об этом не говорил? – спросил я.
– Похоже, здесь об этом говорить не хотят, – ответила Рэйчел. – Я имею в виду местных жителей. Похоже, они предпочли бы держать это в тайне. Думаю, Фримонт платит из собственного кармана, чтобы из его дома сделали музей.
– Знаешь, а я бы туда сходил, – промолвил я.
– Фримонт, – с задумчивым видом произнес Николас. – Величайший лжец в истории мира. Наверное, он родился совсем не там. Просто специалисты по общественным связям выбрали это место как наиболее подходящее его имиджу… Любопытно. Рэйчел, давай съездим прямо сейчас. Посмотрим.
Рэйчел сделала левый поворот, и некоторое время мы ехали по узким немощеным аллеям, с двух сторон засаженным деревьями.
– Улица называется Санта-Фе, – произнесла Рэйчел. – Помню, я заметила название и еще подумала: хорошо бы вытурить Фримонта из города прямо на паровозе! – Она подъехала к обочине и остановилась. – Вот, справа.
В полумраке смутно виднелись очертания домов. Воздух был теплым. Где-то громко работал телевизор, слышалась испанская музыка. Поблизости лаяла собака.
Мы с Николасом вылезли из машины и медленно побрели по улице; Рэйчел осталась за рулем, баюкая спящего ребенка.
– Ну глядеть тут особенно не на что, и ночью туда не попадешь, – заметил я.
– Я хотел посмотреть, то ли это место, что являлось мне в видениях, – сказал Николас.
Мы бесцельно шли по тротуару; из трещин в асфальте росла трава. Николас споткнулся, ушиб ногу и сдавленно выругался. На углу мой друг замедлил шаг, нагнулся и прочитал отпечатанное на асфальте слово – видимо, аккуратно вписанное, когда асфальт был горячим, при укладке.
АРАМПРОВ
– Это, должно быть, первоначальное название улицы, – сказал Николас. – Потом его изменили. Вот откуда Фримонт взял название своей тайной группы заговорщиков – из собственного детства. Сейчас он и не помнит-то ничего. Но когда-то здесь играл.
Нарисованная картина – шаловливо играющий Феррис Фримонт (вообще дико себе представить: Феррис Фримонт – беззаботный мальчуган!) – была слишком абсурдной. И все же… Рядом с этими самыми домами он катался на трехколесном велосипедике, по тем же выбоинам, где спотыкались мы с Николасом; и мать, наверное, предупреждала его, чтобы не лез под машины. Маленький мальчик играет себе на улице и как всякий ребенок фантазирует обо всем услышанном и увиденном: о проходящих мимо людях, о загадочном слове, впечатавшемся в асфальт под ногами… Недели и месяцы по-детски ломает себе голову, пытаясь понять его смысл, воображая страшные тайны… Чтобы потом, став взрослым, родить полнокровную, зрелую манию о чудовищной конспиративной организации, без постоянного членства и устоявшихся целей, но, безусловно, враждебной всему обществу. Враг! Заклятый враг, которого надо во что бы то ни стало разыскать и любой ценой безжалостно раздавить.
Интересно, что из всего этого родилось еще тогда, в детском сознании? Может, взрослый ничего и не придумывал, а просто облек мысли в слова?
– Скорее фамилия какого-нибудь подрядчика, – сказал я, – чем название улицы. Закончив работу, они часто пишут свои имена.
– А может, проходил инспектор и как раз здесь завершил проверку всех арамов, – предположил Николас. – Проверено, арамов нет!.. Что такое «арам»? Или надпись обозначает место, где положено проверять арамы? Суешь такой металлический штырь в маленькую дырочку в асфальте и снимаешь показания счетчика!
Он засмеялся.
– Мы идем по следам Ферриса, – заметил я.
– Но в более разумном направлении. Мы же не психи.
– Не исключено, что Феррис Фримонт знает много такого, чего не знаем мы. Может, став взрослым и заработав деньги, он нанял частных сыщиков. Реализовал детскую мечту: выяснил, что на самом деле означает загадочное слово «АРАМПРОВ» и зачем его на веки вечные впечатали в асфальт.
– Жаль, что Феррис просто-напросто у кого-нибудь не спросил.
– Может, и спросил. Может, и по сей день продолжает спрашивать. В том-то и дело: он до сих пор не успокоился. Его не удовлетворил ни один из ответов – например, «это название улицы» или «это фамилия подрядчика». Название предвещало гораздо большее.
– Мне оно ничего не предвещает, – сказал Николас. – Просто нелепое слово, много лет назад написанное на горячем асфальте. Пойдем отсюда.
Мы вернулись к машине, и Рэйчел отвезла нас домой.
Глава 9
Через несколько лет после того, как Ферриса Фримонта избрали президентом Соединенных Штатов, я переехал в Южную Калифорнию, чтобы быть рядом со своим другом Николасом Брейди. Писательские дела мои шли хорошо: в 1963 году я получил премию «Хьюго» за научно-фантастический роман «Человек в высоком замке». В романе описывался альтернативный мир, где Германия и Япония одержали победу во Второй мировой войне и поделили США между собой, оставив посредине буферную зону. Другие мои работы тоже были хорошо приняты и стали получать положительную прессу, особенно на безумный роман «Стигматы Палмера Элдрича», построенный на психоделических явлениях. Так впервые стали говорить, что я сам регулярно принимаю наркотики. Эта пресловутая известность в немалой степени способствовала популярности моих книг, но потом вышла мне боком.
Неприятности начались, когда Харлан Эллисон в сборнике «Опасные видения» заявил в предисловии к моему рассказу, что он «написан под влиянием ЛСД». Так из-за стремления Харлана к скандальной шумихе я приобрел репутацию законченного наркомана. Мне представилась возможность добавить параграф к послесловию, где я прямо заявил, что Харлан сказал неправду, но сделанного было не исправить. Мною и моими гостями стала интересоваться полиция. Положение усугубилось, когда весной 1969 года президентом избрали Фримонта и на Соединенные Штаты опустилась тьма.
В своей речи во время торжественного вступления в должность тиран коснулся вьетнамской войны, которую США вели уже ряд лет, и объявил ее войной на два фронта: один фронт в шести тысячах миль отсюда, а второй – дома. Он имел в виду, последовало позднее разъяснение, внутреннюю войну против Арампрова и всего того, что воплощает собой эта организация. Итак, мы ведем войну в двух регионах, и главное сражение, заявил Фримонт, происходит здесь, ибо именно здесь решается судьба Соединенных Штатов. Желтокожим никогда сюда не вторгнуться и нас не покорить; а Арампров, выросший и укрепившийся во время пребывания у власти двух последних президентов, на это способен. Теперь, когда в Белый дом вернулся республиканец, за Арампров наконец возьмутся, после чего победа во вьетнамской войне гарантирована. Нам не победить, объяснил Феррис Фримонт, пока дома действует Арампров, подрывая волю и жизнеспособность американского народа. Антивоенные настроения в Соединенных Штатах, по Фримонту, рождают именно Арампров и его усилия.
Едва приняв присягу, Феррис Фримонт объявил открытую войну всем проявлениям Арампрова. Операция по наведению в стране порядка называлась «Обследование»; медицинские ассоциации, навеваемые названием, по словам Ферриса, напрямую связаны с необходимостью укрепить моральное здоровье Америки. Президент обещал вылечить Америку, избавить ее от болезни, уничтожить «древо зла», как он именовал Арампров, «с корнем вырвав его семена» – метафора совершенно абсурдная, если вдуматься. А «семенами древа зла» были, разумеется, диссидентствующие пацифисты, в том числе и я. Уже состоя на учете в полиции из-за предполагаемой причастности к обороту наркотиков, я тем более вошел в конфликт с власть имущими благодаря своим антивоенным взглядам, выраженным как в публичных высказываниях и речах, так и в моих произведениях. Весь этот шум по поводу наркотиков делал меня уязвимым – вдвойне тяжелое положение для человека, желающего бороться за мир. Нельзя сказать, что спал я безмятежно.
Тем не менее основания для беспокойства были не только у меня. Вспоминая свои левацкие настроения в дни учебы в университете, Николас начал сомневаться в собственной безопасности – теперь, когда Феррис Ф. Фримонт пришел к власти и запустил операцию «Обследование». В конце концов, Николас занимал ответственный пост в процветающей фирме «Новая музыка», а задачей операции «Обследование» как раз и было выявление таких людей – Фримонт окрестил их «кротами». С этой целью правительство организовало и финансировало «Друзей американского народа» – агенты-информаторы проверяли любого, кто когда-либо подозревался в антиобщественных настроениях, вроде Николаса, или подозреваемых ныне, как я, или потенциально способных к таким настроениям в будущем – то есть всех. «Дановцы» носили белые повязки на рукаве с изображением звезды, помещенной в круг; вскоре они появились в каждом уголке Соединенных Штатов и воинственно вынюхивали все интимные детали морального состояния сотен тысяч граждан.
На равнинах Среднего Запада власти начали сооружать огромные фильтрационные пункты и лагеря для содержания тех, кого взяли «дановцы» и иные добровольческие органы правопорядка. «Эти сооружения, – заявил, выступая по национальному телевидению, президент Фримонт, – не будут использованы, пока не возникнет такая необходимость». Он имел в виду – пока антивоенные настроения не окрепнут. Намек был понятен каждому, кто возражал против войны во Вьетнаме: в один прекрасный день ты можешь оказаться в Небраске и будешь возделывать там общественные поля, засаженные репой. Весьма прозрачная угроза, и именно такой угрозой служило само существование пока не используемых лагерей.
С одним «дановцем» столкнулся и я, причем с «дановцем» тайным, без повязки. Он написал мне письмо, представившись сотрудником маленькой студенческой радиостанции близ Ирвина: мол, нельзя ли дать ему интервью, потому что ирвинские студенты интересуются моими книгами. Я ответил согласием, но едва он появился и задал три вопроса, как стало ясно: это стукач. Спросив для начала, не писал ли я тайком порнографические романы, парень громовым голосом стал требовать ответов: принимаю ли я наркотики? есть ли у меня внебрачные сыновья-негры, которые пишут научную фантастику? являюсь ли я Богом, а также главой коммунистической партии? и, разумеется, финансирует ли меня Арампров?
Неприятная получилась сцена. Пришлось просто вытолкать его за дверь, а он еще долго продолжал выкрикивать обвинения, пока я запирал замки. После этого случая я стал весьма разборчив в общении с прессой.
Однако куда больше вреда, чем тайный «дановец» в роли интервьюера со студенческой радиостанции, нанес мне взлом моего дома в конце 1972 года, когда при помощи взрывпакетов вскрыли мои ящики с архивами и все их содержимое разбросали. Вернувшись домой, я увидел дикий беспорядок. На полу стояла вода, деловая переписка и непринятые чеки исчезли; одежду перетрясли, окна с тыльной стороны дома были разбиты, а дверные замки взломаны.
Полицейские поверхностно все осмотрели – лишь бы отвязаться – и нагло заявили мне, что скорее всего я это сделал сам.
– Зачем?! – спросил я инспектора, их начальника.
– О-о, – ответил он, ухмыляясь, – чтобы отвести от себя подозрение, например.
Никого так и не арестовали, хотя на каком-то этапе полиция признавала, что им известно, кто это сделал и где находятся пропавшие вещи. Зато мне совершенно недвусмысленно дали понять: с одной стороны, похищенное не вернут, а с другой стороны, меня и не арестуют. Очевидно, они не нашли ничего такого, что можно было бы поставить мне в вину.
Это происшествие оставило глубокий след в моей жизни. Я осознал, как далеко зашло бесчинство властей и как быстро забылись при Фримонте наши конституционные права и свободы. О взломе и наглом грабеже я рассказывал всем, кому только мог, однако очень скоро понял, что большинство людей не желают ничего знать, даже либералы-антимилитаристы. Я видел лишь безразличие или страх, а некоторые, подобно полиции, намекали, что я сделал это сам, чтобы «отвести подозрения» – в чем, они не говорили.
Ближе всех к сердцу принял случившееся Николас. Однако он был уверен, что я пострадал из-за него. Ему казалось, что именно он послужил причиной налета.
– Они хотели установить, не собираешься ли ты писать обо мне. Ты ведь можешь выставить их на всеобщее обозрение, изобразив в каком-нибудь научно-фантастическом произведении. Миллионы людей прочитают твою книгу, и секрет выйдет наружу.
– Какой секрет?
– Ну то, что я являюсь представителем внеземного разума.
– Честно говоря, я думаю, что они интересовались мной – именно в мой дом они вломились, мои бумаги прочитали или украли.
– Хотели узнать, не сформировали ли мы организацию.
– Хотели узнать, с кем я общаюсь, – указал я. – А также к каким организациям я принадлежу и кому плачу взносы или оказываю иную финансовую поддержку. Вот почему они забрали все непринятые чеки, накопившиеся за многие годы. Вряд ли они догадываются о твоих снах и вообще о тебе.
– А ты обо мне пишешь? – спросил Николас.
– Нет.
– Главное, не называй мое имя. Мне надо думать о своей безопасности.
– Боже, – сердито воскликнул я, – да сейчас никто не может считать себя в безопасности, когда полным ходом идет операция «Обследование» и повсюду шныряют прыщавые «дановцы»! Мы все окажемся в небрасковских лагерях, и ты прекрасно это знаешь, черт возьми! Как ты надеешься остаться в стороне, Ник? Посмотри, годами я делал заметки для будущих книг, а их забрали. Да меня просто уничтожили! И теперь, стоит мне написать пару страниц, я боюсь, что, вернувшись из магазина домой, я их не найду. Нет никакой безопасности! Никакой и ни для кого!
– Думаешь, так и к другим вламываются? – спросил Николас.
– Наверняка.
– А в газетах ничего не пишут.
Я ответил ему долгим взглядом.
– Ну, наверное, о подобных фактах умалчивают, – наконец пробормотал Николас.
– Вот уж действительно. Я, к примеру, фигурирую в недельном списке краж по округу. «18 ноября поступило заявление от Филиппа К. Дика из Пласентии о краже у него радиоаппаратуры общей стоимостью шестьсот долларов». Никакого упоминания о перерытых архивах, уничтоженных записях, украденных чеках. Как будто самая обыкновенная наркота шарила по дому в поисках чего-нибудь на продажу. Никакого упоминания о том, что стена возле шкафчика с архивами почернела от взрыва. Никакого упоминания о груде мокрых тряпок и одеял, которыми обернули шкафчик, когда подрывали взрывпакет; там получается такая температура, что…
– Слушай, а ты немало обо всем этом знаешь, – заметил Николас.
– Интересовался, – коротко ответил я.
– Главное, чтобы были в безопасности мои четыреста страниц наблюдений, – сказал Николас. – Наверное, стоит отнести их в банк и положить там в сейф.
– Сны подрывного характера, – прокомментировал я.
– Это не сны.
– Полиция по разоблачению снов. Борется с распространением вредоносных снов.
– А ты уверен, что в твой дом вломилась полиция? – спросил Николас. – Может, это какая-нибудь группа частных лиц, злых на тебя из-за твоих пронаркоманских взглядов?
– У меня никогда не было никаких «пронаркоманских» взглядов, – раздраженно ответил я. – Я порой пишу о наркотиках и их употреблении, но это не значит, что я за наркоманов; все равно что назвать авторов детективов преступниками.
– В твоих книгах очень трудно разобраться. Их можно запросто неверно истолковать, особенно после того, что написал о тебе Харлан Эллисон. Твои книги такие… Ну, со сдвигом.
– Пожалуй, – кивнул я.
– Знаешь, Фил, ты пишешь самые странные книги во всех Соединенных Штатах, – продолжал Николас. – Книги о разных там сумасшедших и наркоманах, о выродках и чудилах всех мастей… впрочем, и мастей-то таких нет. Не мудрено, что власти в толк не возьмут, откуда ты берешь подобные персонажи. Я хочу сказать, твои главные герои, не найдя себе места в жизни, всегда за бортом общества…
– Et tu, Николас! – в ярости вскричал я.
– Извини, Фил… Послушай, а нельзя писать про нормальных людей, как делают другие авторы? Про нормальных людей с нормальными интересами, которые живут нормальной жизнью. А у тебя откроешь книгу – а там какой-нибудь неудачник на всеми презираемой низкооплачиваемой работе балуется наркотиками, подружка у него лежит в психлечебнице, но он все равно ее любит…
– Ладно! – не выдержал я. – Мне известно, что в мой дом вломились власти, потому что они вывезли моих соседей. С тыльной стороны двора живет негритянская семья, у них только детей человек десять, так что кто-нибудь постоянно на месте. А в ночь взлома их дом стоял совершенно пустой, я обратил внимание, и оставался пустым всю неделю. Ко мне забрались через задние окна и двери. Обычные взломщики не эвакуируют целый дом соседей. Это были власти.
– В покое тебя не оставят, Фил, – сказал Николас. – Может, они хотели посмотреть, о чем ты сейчас пишешь. А между прочим, о чем ты сейчас пишешь?