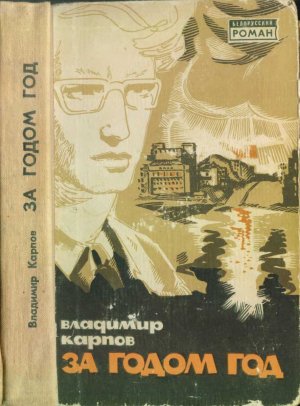
Верному другу и помощнице М. М. Карповой посвящаю
Книга первая
Далекие зарницы
ОСВОБОЖДЕННЫЙ город оживает сразу. Во всяком случае, так было в Минске.
Как только за разведкой и танками по главной его магистрали — Советской улице — двинулась пехота, жизнь в городе пробудилась мгновенно. Она появилась откуда-то из-под земли, из самых неожиданных тайников.
А там, где жизнь, — там заботы. И уже назавтра люди вспомнили, что среди руин у них есть огороженные обгорелыми кроватями грядки порыжевших от пыли капусты и бураков, кое-что припрятано в земле, кое-что осталось на пепелищах. А еще через день, глядь, и на обкуренных стенах искалеченных зданий кто-то написал уже призывы — слова веры и клятвы. На развалинах и ступеньках уцелевших крылечек появились новые, написанные мелом адреса и коротенькие письма — для тех, кого ожидали, кто должен был прийти, приехать, прилететь.
И, словно на эти призывы, на эти необычные письма, в город устремились люди. Со всех сторон хлынули они сюда, где был или должен быть приют, где найдется работа, а значит, и счастье.
Возвращались, кто сбежал от фашистских бесчинств в деревню и там работал кузнецом, портнихой, подпаском, кто прожил военную напасть в гражданских лесных лагерях, дубя партизанам овчины, ремонтируя оружие. Шли по одному и семьями. Тащили самодельные тележки с беженским скарбом или просто в узлах за плечами несли все, с чем надо было заново начинать жизнь. Иногда гнали козу, корову.
Чаще верхом, в самодельном седле, реже на телеге — еще с оружием — ехали партизаны. Едва передвигая ноги, то и дело отдыхая, в кюветах, брели человеческие тени — смертники Тростенца, узники, вывезенные фашистами в другие города на принудительные работы.
Но как только эти люди достигали городских окраин, они… куда-то девались. И не было уже партизан, беженцев, вчерашних заключенных — были минчане.
Затем стали прибывать поезда. Шумная толпа с сундучками, чемоданами заливала Привокзальную площадь, текла в улицы, на уцелевший виадук и… тоже, будто ее впитывала земля, куда-то девалась.
Кто, откуда и зачем ехал сюда? Приезжали к семьям, которые не успели в черный сорок первый год выехать на восток, к родным могилам, к пепелищам и руинам, где, казалось, легче будет заново строить свою жизнь. Ехали инженеры, учительницы, каменщики, писатели, ученые, токари, студенты. Ехали из Сибири, из Средней Азии, с Поволжья, вызванные наркоматами, главками. Самолетами спешили представители ведомств, чтобы взять на учет имущество, сохранившееся и принадлежавшее им до войны…
Всех принимал Минск. К измученным людям так или иначе возвращался постоянный хлеб, за ним — близкая вода, потом электричество. И человеку в заботах и хлопотах иной раз даже трудно было заметить все перемены. Пустили заводик, начался ремонт школ. На стенах коробок, у телеграфных столбов запестрели киноафиши. Вышли первые номера газет со знакомыми, дорогими названиями. В городских скверах появились заботливо-ворчливые сторожихи, и дорожки там сразу стали довоенными.
Да, освобожденный город оживает быстро.
Однако… затем наступают дни, месяцы и даже годы накопления сил. В права вступают закону мирной жизни. Начинают восстанавливаться прежние связи, завязываться новые — и это, пожалуй, самое трудное и мучительное.
Часть первая
Глава первая
Зимчук вошел в город вслед за передовыми армейскими частями. Бригада его прочесывала Руднянские леса, куда ринулись остатки разгромленной под Березиной немецкой дивизии, и с ним была всего лишь небольшая группа партизан-автоматчиков.
В центре время от времени гремели взрывы, вверх взлетала земля, клубился дым. Где-то возле вокзала и аэродрома вспыхивали короткие перестрелки. И все же не это теперь занимало мысли Зимчука, Присматриваясь к палисадникам и пустым дворам, к немым, с наглухо закрытыми ставнями окраинным домикам, он думал, где же люди. Тянуло зайти туда, увидеть кого-нибудь, расспросить, как пережили лихолетье. Думалось и еще об одном. Уже издали Зимчук увидел Дом правительства. Силуэт его возвышался над островерхими руинами и тупыми коробками без крыш. Значит, спасен! И каждый раз, когда Зимчук видел его, радовался и был благодарен подпольщикам…
Разместив автоматчиков в домике, оставленном каким-то немецким прислужником, Зимчук послал за Костусем Алешкой и, когда тот пришел, попросил провести себя к Прибыткову, которому было поручено предотвратить взрыв.
По мертвым, пустынным улицам они подались к трамвайному парку, возле которого жил Прибытков. И как ни был внутренне подготовлен Зимчук, запустение и развалины — они очень страшно выглядели в освобожденном городе — поразили его.
Центр лежал в руинах.
По обеим сторонам Круглой площади и вдоль Долгобродской улицы половела рожь. Она колыхалась и шумела, как в поле. Где-то совсем рядом пиликала свое «пить-полоть» перепелка. Над рожью склонялись, телеграфные столбы с порванными проводами… И ржаной разлив, и звенящее шуршание колосьев, и коротенькая, когда-то милая сердцу песня перепелки казались тут бессмысленными.
Зимчук и Алешка миновали площадь, свернули к трамвайному парку и остановились возле странного жилья.
От прежнего дома остался только подвальный этаж. Люди накрыли его чем могли — горбылями, обгоревшей жестью… Сверху насыпали земли. Сквозь этот потолок-крышу, уже поросшую полынью, вывели дымовые трубы — из кирпича, из водосточных труб. Окна в подвале до половины были забиты и тоже присыпаны землей.
— Тут, — сказал Алешка, показывая на это убогое прибежище.
Зимчук открыл дверь, над которой козырьком нависла фанера, и первым, почти ощупью, спустился по ступеням в подвал.
Сквозь единственное оконце в комнату проникал мутный свет. Посреди комнаты, у печки-«буржуйки», на табуретке сидела женщина и кормила ребенка, помешивая ложкой в консервной банке. Услышав скрип двери, женщина подняла голову и, прикрыв кофточкой грудь, с тревожным любопытством взглянула на вошедших. В темном углу на полу играли трое остриженных ножницами мальчишек в коротеньких штанишках из плащ-палатки, со шлейками, скрещенными на спине.
— Добрый день, — поздоровался Зимчук.
Женщина отняла от груди ребенка, положила его на кровать, где, укрытый тряпьем, лежал бородатый, взлохмаченный мужчина с опухшим лицом.
В комнате все было самодельное: печка-«буржуйка», табуретки, кровать, стол, полка, даже массивные, отлитые из олова тарелки и ложки на полке.
— Проходите, — узнав Алешку, разрешила женщина и повернулась к печке, будто дальнейшее ее не касалось.
Она была худая, измученная. Горе и усталость наложили следы не только на еще молодое бледное лицо и фигуру с острыми плечами, но и на жесткие, без блеска, волосы, которые уже почти невозможно было аккуратно причесать.
— Давно спит? — спросил Алешка, указывая на кровать.
— Где там давно. Ему, чтоб выспаться, теперь, чай, суток мало будет.
— Ничего, — успокоил Зимчук, — сейчас все повернется к лучшему.
— Ох, тяжело было… Как ждали мы ее, власть нашу…
Мальчики, перестав играть, настороженно уставились на Зимчука. Младший подошел к матери и стал рядом, то ли ища защиты у нее, то ли собираясь защищать ее сам. Мужчина же не шевельнулся — спал крепко, хотя и неспокойно. Он морщился, тяжело дышал, стонал, и странно было, почему не плачет, спокойно лежит на одной с ним подушке дитя. Женщина, видимо, тоже обратила на это внимание и взяла ребенка на руки. Покачала.
— Вы, тетка, разбудите Змитрока, — попросил Алешка и показал глазами на Зимчука. — Это Иван Матвеевич. Понимаете?
Женщина засуетилась и принялась тормошить мужа.
Мужчина потянулся и с трудом приоткрыл веки. Но, увидев Алешку с незнакомым человеком, приподнялся и, свесив ноги, сел, держась за край кровати.
— Ты уже как-нибудь сам, Костусь… — прохрипел он, глотая набегавшую слюну. — А мне, это самое, дай поспать. Ей-богу, не могу… Сходите, коли ласка, к Тимке, пусть тот расскажет…
Он опять упал на подушку и, не дождавшись, пока они выйдут, решительно закрыл глаза.
На стук за соседней дверью, на которую показал Алешка, долго не отвечали.
Зимчук собрался уже пойти, но дверь неожиданно скрипнула, и в темной щели блеснул удивленный детский глаз.
— Можно к вам? — спросил Зимчук, незаметно подавая знак Алешке, чтобы тот спрятался.
— У нас никого нет, дяденька. Тимка снова в город пошел, — ответили из-за двери.
— А мне Тимка и не нужен, мне ты нужна.
— Я?..
На пороге показалась девочка. Остроносенькая, с кольцами косичек вокруг ушей, она щурилась от солнца и, точно тот, на кого смотрела, стоял далеко, приложила руку ко лбу. Ее маленькая фигурка в чистом поношенном платье четко вырисовывалась в темном квадрате двери. Зимчука удивили опрятность и необыкновенная хилость девочки. Ручки и ножки ее были такие худые, а шея такая тоненькая, что казалось, едва держит голову и голова клонится набок.
В узкой, почти пустой комнатушке, наполовину меньшей, чем у соседей, стояли лишь топчан, стол и табуретка. Зато в нише окна зеленел вазон с геранью и висела раскрашенная клетка со щеглом, который порхал с перекладинки на перекладинку.
Девочка вытерла ветошкой табуретку и пригласила Зимчука сесть, поглядывая на желтую колодку его маузера.
— Тимкин щегол? — спросил Зимчук, как спрашивают у детей, желая потрафить им. Но, взглянув на по-взрослому озабоченное лицо девочки, сказал:
— Бедно живете… Сколько же твоему Тимке лет?
— Тринадцать.
— Мало.
— Не-ет, он уж большой.
— Не обижает?
— Что вы, дяденька! Тимка мне последнее отдает…
Поняв, что лучше про родителей не вспоминать, Зимчук привлек к себе девочку и погладил по худенькой спине.
Она не отстранилась, а доверчиво положила ему на колено руку.
— Вы, дяденька, наверно, нашего тату знали?
— Нет, не знал, детка.
— Тогда все равно не бросайте нас. Куда мы одни? При немцах нам хоть партизаны помогали. Тимка продуктовые карточки подделывал…
— Неужели подделывал?
— Точно.
— Теперь в детский дом пойдете, будете расти там, учиться…
Не заметив, как дрогнули глаза у девочки, Зимчук долго говорил с нею и ушел только после того, как Алешка дважды напомнил, что пора уже — ждут в другом месте.
— Завтра-послезавтра зайду, — пообещал он на прощание. — А Тимка пусть вечером непременно к Алешке забежит, я кое-что приготовлю для вас.
Вышел он на улицу неохотно. Ослепленный спетом, с минуту стоял возле странного жилья, где нашли себе приют люди и где неизвестно сколько им еще придется прожить! И Зимчук остро почувствовал потребность сделать для них что-то хорошее, и сделать это как можно скорее.
Ночью город бомбили. Небо полосовали прожекторы. Нащупывая самолеты, вверх тянулись пунктиры трассирующих пуль. Звездами вспыхивали разрывы зенитных снарядов. Совсем не там, где ожидалось по гулу самолетов, загорелись осветительные ракеты. Сквозь гул и грохот прорывался визг падающих бомб. Яркие вспышки полыхали от земли к небу, и взрывы сотрясали изувеченные кварталы.
В городе и без того было тревожно. Под вечер автомагистраль Минск — Москва перерезали недобитые немецкие части, и по ней могли проезжать только большие колонны — нападать на них немцы не решались.
О подвалах, в развалинах прятались невыловленные гитлеровцы. К тому же всего в нескольких километрах на восток были окружены 12-й, 27-й армейские и 39-й танковый корпуса противника. И если бы немцам удалось вырваться из окружения, они, безусловно, ринулись бы на город, через который проходили дороги на запад. Гарнизон, находившийся в распоряжении военного коменданта, был небольшой. Разбросанный по городу, он почти весь нёс охрану наиболее важных уцелевших объектов. Город в таких условиях легко мог стать местом новых ночных боев и погромов. Потому многие, даже из тех, кто вошел в город днем, на ночь выехали в пригородные леса.
Особенно часто разрывы вспыхивали вдоль железной дороги и около Дома правительства. Освещенный ракетами-фонарями, он сиял и лучился. И когда к небу взлетали желтые сполохи взрывов, это сияние вздрагивало.
Зимчук не сводил с него глаз. Из-за него он не пошел и в бомбоубежище, где, за исключением Вали Верас, укрылись все партизаны. Правда, не хотелось оставлять одну и Валю, которая наотрез отказалась, чтоб ее подменили на посту. Даже надулась, и теперь ходила у калитки, не хоронясь от осколков зенитных снарядов, которые — слышно было — ссекали ветки недалекой груши. Стоя в настежь раскрытых дверях дома, Зимчук следил за бомбежкой и волновался. «Тол из скважин, понятно, не вынесли, — с досадой думал он, — и если бомба упадет близко, по детонации взорвется и тол. Немцы, конечно, рассчитывают на это… А Валя? Девчонка! Почувствовала слабинку…»
За Домом правительства одна за другой полыхнули желтые зарницы — вероятно, бомбардировщик сразу сбросил все бомбы.
Зимчук выругался, отвалился от косяка и вышел на крыльцо.
Почти над головой висели две осветительные ракеты. От них тянулись хвосты багрового дыма. Ракеты еще покачивались, и из них будто выплескивался огонь. Отрываясь, на лету он приобретал форму капель и краснел, свет же от ракет-фонарей, наоборот, белел, становился пронзительным. С земли вверх ползли красные, синие, зеленые черточки трассирующих пуль. Они медленно, дугою поднимались к этим пылающим факелам и, достигая их, гасли.
Но вот одна из ракет словно закипела и метеором ринулась вниз. Разноцветные пули-черточки поползли к другой, которая упорно приближалась к Дому правительства. Однако, как только она нависла над самым зданием, возле нее вспыхнул разрыв. Один, другой, третий. Ракета распалась и огненным дождем пролилась на землю. И сразу все вокруг поглотила тьма.
— Кто идет? — послышался Валин голос.
Придерживая колодку маузера, Зимчук побежал к калитке, где виднелась фигура Вали.
Через улицу к дому спешил человек. По походке, стремительной и свободной, Зимчук узнал Алешку.
— Ты, Костусь? — удивленно окликнул он.
— А кто же! Я, Иван Матвеевич! — точно обрадовался за себя тот. — К вам.
Он подошел, тяжело и прерывисто дыша, видимо, долго и быстро до этого бежал.
— Ну и подлюги! Все равно амба, а гляди, что вытворяют! — И торопливо протянул руку Вале, потом Зимчуку.
— Что случилось? — забеспокоился последний.
— Руины бомбят, негодяи!
— Я спрашиваю, чего ты прибежал. Беда какая, что ли?
Алешка блеснул глазами и ухмыльнулся.
— Склад, Иван Матвеевич, беспризорный нашел, в театре оперы и балета. Надо хлопцев послать. Там уже, кто половчее, орудуют…
— Как, как? — переспросила Валя.
— Орудуют, говорю.
— Ну и что же?
— Прекратить надо…
Не уверенный, ответил ли Алешка, что думал, или выкрутился на ходу, Зимчук подал ему знак, чтоб тот следовал за ним, и шагнул к крыльцу. Став в открытой двери, приказал:
— Ну, рассказывай! Только не крути.
— А что рассказывать? Там, Иван Матвеевич, столько всего, что страшно. А пройдохи разные лезут, глумят. Может, даже переодетые полицаи. Еще сожгут. Там ведь и спирт есть.
— А ты откуда знаешь? — спросила Валя, которая, наверное, прислушивалась к их разговору.
— Хлопцы говорили, — покорно ответил Алешка. — Даже нечаянно могут поджечь…
Делить группу было опасно — ночь могла принести неожиданности. Вызвав партизан из бомбоубежища, Зимчук двинулся за Алешкой.
В небе загорелась новая ракета-фонарь, и на улице стало светло; возле руин, домов, деревьев легли черные, густые тени.
Растянувшись цепочкой, группа побежала, прижимаясь к этим теням.
Остановились только возле почти голых кустов акации, на пустыре, окружавшем театр. Решили в здание пока не входить, а занять входы. Зимчук быстро расставил часовых и с остальными бегом направился к главному подъезду.
Налет продолжался. То образуя огромные ножницы, то расходясь вверху веером, по небу метались голубые лучи. Над головой с металлическим завыванием гудели самолеты. Их было много, и сдавалось, что они кружат в замысловатом хороводе, вовсе не улетая.
Двери в главном подъезде оказались открытыми. За ними стояла густая тьма. Зимчук прислушался. Но взрывы бомб и разрывы зенитных снарядов отдавались и здании гулом, и ничего, кроме этого гула, нельзя было услышать. Включив фонарик, Зимчук осветил вестибюль. Свет вырвал из мрака грязный пол, ступеньки знакомой лестницы, разломанный ящик в углу, вспоротый мешок с сахаром, разбросанные банки консервов. За следующей, тоже раскрытой дверью, ведущей в фойе, испуганно метнулась фигура. Зимчук не окликнул ее и погасил фонарик.
— Дай, — попросил у Вали автомат Алешка и, весело ударяя кулаком по ладони второй руки, даже присел. — Вот, ха-ха, рванут через окна!
— Перестань, Костусь! — прикрикнул Зимчук. — Этим не шутят. Не напулялся еще?
— Почему нет. Но это же из пистолета, — прикинулся он, будто не понял, в чем его упрекают. — Чего вы боитесь? Я восьмеркой разок полосну по вестибюлю — и все. Зато как деру дадут!
В этот миг лучи кинулись в одном направлении.
И там, где они скрестились, заблестел маленький, будто игрушечный, самолет. Спасаясь, он затрепетал, намерился спикировать. Но не успел — молния пронзила его. Самолет окутался дымом и стремглав полетел вниз. Лучи последовали за ним. Самолет падал быстрее, и через мгновение они отстали от него. Однако теперь он был виден и так. Из бортов его вырывалось пламя, и он летел на огненных крыльях. Не имея уже сил выйти из этого пике, он с отчаянием, словно прячась, нырнул в руины, откуда тотчас же взлетел огонь.
И сразу в лучах прожекторов показался второй самолет. Зимчуку даже сдалось, что это прежний. Ослепленный, самолет как бы замер, не зная, что делать, а потом послушно полетел, куда повели его лучи. Вокруг замелькали разрывы. А он все летел, безвольный и обреченный, пока на месте его не вспыхнуло огненное рваное пятно…
Зимчук не был минчанином. Правда, он два года учился в Минске, приезжал сюда в командировки, но знал город до войны неважно и мог вспомнить всего лишь несколько улиц. Минск-город жил в его сознании как нечто хорошее, светлое, но такое, что имело лично к нему довольно далекое отношение.
Любовь пришла в годы войны.
Она связала с судьбой полоненного города судьбу, мысли и заботы Зимчука. Перед ним открылась душа города — более богатая, чем казалось раньше. И хотя в Минске за время войны Иван Матвеевич побывал лишь один раз, нелегально, встречался он с ним почти ежедневно. Приходили обессиленные беженцы, и Зимчук расселял их по деревням партизанской зоны, направлял в лесные гражданские лагеря. Прибывали связные, подпольщики, приносили горькие или радостные вести, оружие, медикаменты, шрифт. Из города шло пополнение, в город шли партизаны со спецзаданиями. Через землянку Зимчука, прежде чем попасть в Минск, проходили газеты, воззвания. И неизменно, принимал ли он кого из города или направлял туда, при этом как бы незримо присутствовал Минск — живой, страдающий. Непосредственно или заочно он познакомился с сотнями минчан, почувствовал себя в ответе за их судьбы. Из-за Минска он пережил самые опасные минуты в своей жизни. За Минск пролилась его кровь…
Но только теперь, в грохоте взрывов, в полыхании пожаров Зимчук вдруг почувствовал, что город, измученный, но упорный, входит в него как нечто бесконечно родное, тобою отвоеванное, тебе необходимое, на что ты имеешь право и без чего тебе трудно будет жить.
«Попрошу, чтобы оставили здесь», — подумал Зимчук и с чувством хозяина, которого касается все, сказал Алешке:
— Пойдем, Костусь, осмотрим здание внутри.
— За вами хоть в огонь, Иван Матвеевич! — охотно отозвался тот.
— И ты, — обратился Зимчук к высокому партизану в кожанке и лихо заломленной шапке, — тоже пойдешь.
Прежде чем сесть за докладную записку, Зимчук решил сходить к Дому правительства и осмотреть все на месте. К тому же его очень тянуло туда после вчерашней бомбежки. Но сообщили, что в город прибыл ЦК, и Зимчук попросил, чтобы этим занялась Валя, комсорг бригады.
Пошли втроем — Алешка, Валя и Змитрок Прибытков. Алешка шел как на праздник, часто забегал вперед, размахивал руками и в который уж раз рассказывал, как они в группе разрабатывали свой план.
— Даже растерялись сначала, ха-ха-ха! — стремясь перекричать окружающий шум и грохот, сыпал он. — Подрывали, подрывали — и вдруг на тебе… Раньше лафа была. Пробрался, подложил «маму» замедленного действия — и будь здоров, она сама знает, когда взорваться. А тут? Схему проводки надо знать? Ну, узнали. Потом что? Где перерезать? Когда? Перерезал раньше, чем положено, найдут — и амба. Опоздаешь — вместе со всеми десятью этажами к богу на небеса…
— Ладно, это самое… — прерывал его Прибытков, хмурясь и, казалось, нехотя шагая рядом. В фуражке, синей косоворотке, перетянутой ремешком, черных кордовых штанах, он напоминал мастерового. Лицо его, как и вчера, было восковым, застывшим.
— Подожди! — не обращал внимания Алешка. — Я про обстановку рассказываю. Они же в трех местах заложили. По две с гаком тонны в каждую скважину. И если бы ухнуло, можно представить картину!..
По улице тек бесконечный поток войск. В бронетранспортерах и грузовиках, замаскированных деревцами и ветками, ехали пропыленные пехотинцы. Их обгоняли легковые автомобили, мотоциклы, «катюши». Зачехленные рамы придавали «катюшам» удивительную легкость. Было такое ощущение, что эти чудные машины вот-вот оторвутся от земли и поплывут над нею. С лязгом и грохотом шли танки, оставляя после себя на мостовой рубчатые полосы и вывороченные на поворотах камни. В открытых люках стояли без шлемов танкисты, и их усталые будничные фигуры совсем не гармонировали с грозными машинами.
Алешка бросал горячие взгляды то на эту лавину, то на Валю, и его цыганское лицо с каждой минутой все больше оживлялось.
— Кругом охрана — мышь не прошьется. Как в железных сапогах, день и ночь топают. Но нас тоже не дурни делали! Ха-ха!.. Змитрок за трое суток пробрался туда. Но как знак ему подать, что пора резать? И если бы не взялся просигналить Тимка, не знаю, что и придумали бы.
Прибытков опять хотел что-то сказать, но только недовольно погладил бороду и стал смотреть на небо.
Над городом патрулировали две пары «ястребков». Они то низко, обдавая рокотом, проносились над самыми развалинами, то стремительно взмывали ввысь, становились точками и, развернувшись, плавно шли — по кругу. В их маневрах чувствовалась слаженность, и Прибытков стал следить за ними.
Его молчаливость не нравилась Вале. И она, чтобы вызвать Прибыткова на разговор, спросила:
— Страшно было?
— Диво что, — безучастно ответил Прибытков, не отрывая взгляда от истребителей. — Да и сигнал, это самое, можно было увидеть только стоя…
— У него, Валя, и теперь ноги распухшие, как колодки. Оттуда его уже Тимка вывел…
Усталости как не бывало, хотя спала Валя за эти сутки всего часа два. Ее полнила радость, и мир казался не таким, каким она знала его до сих пор. В чем не таким, она и сама не могла понять, но чувствовала — он иной. Вокруг посветлело, появились яркие краски, звуки, которых раньше не существовало. Валя смотрела на Алешку и видела в нем много такого, чего не замечала прежде. У этого смуглого, похожего на цыгана хлопца, который всегда словно решался на что-то неожиданное и опасное, были, оказывается, ясные голубые глаза и совсем детские руки. А люди, которые обгоняли их или шли навстречу? У всех, кого Валя успевала хоть немного рассмотреть, она обязательно находила что-нибудь хорошее. И потому игриво, чтобы подзадорить Алешку, сказала:
— Ты, Костусь, тише рассказывай. Видишь, на нас уже озираются.
— Ничего, — осклабился Алешка, уловив в ее словах скрытую радость для себя, — сегодня нам можно!
— Что, кричать?
— Хотя бы и кричать: «Вот так мы, спасибо нам!» Эх, Валя, Валя!
— Эх, Костусь, Костусь!
Они одновременно беспричинно рассмеялись: Алешка — басовито, Валя — звонко.
Вышли на площадь Ленина. Шум, грохот, лязг усилились. Слева догорали подожженные бомбежкой немецкие бараки, поставленные около года тому назад. За ними темнели коробки Университетского городка: полинявшие, будто замшелые, — печальная память сорок первого года — и закоптелые, еще горячие — сорок четвертого. А напротив них, камуфлированный, но все равно красивый и строгий, возвышался Дом правительства.
Над его центральной, самой высокой частью развевался красный флаг. В небе белели стайки облаков, флаг трепетал, и от этого создавалось впечатление, что здание куда-то плывет.
Валя сначала даже не заметила, что оно отгорожено от улицы высокой проволочной сеткой. Возле правого крыла его — дезкамера на колесах, дрова. Ветер гоняет по асфальту обрывки бумаг, вихрит пыль. От памятника Ленину остался лишь пьедестал.
Сдерживая волнение, Валя первой прошла в калитку.
Из подъезда левого крыла саперы выносили ящики и аккуратно складывали в штабель. Под их тяжестью саперы сгибались, и, когда подходили к штабелю, снимать ящики со спины им помогали другие солдаты.
— Трелюют! — весело сказал Алешка. — Нашу, Змитрок, славу трелюют!
— Эт… — сморщился Прибытков.
— Чего ты эткаешь? Ну, чего? Ты только подумай, что мы спасли!
— Думал, Костусь…
— Сейчас он тебя, Валя, поводит по своим катакомбам — тогда увидишь. С завязанными глазами может водить. Я его теперь бы комендантом или, начальником охраны назначил. Вот был бы комендант!.. Эй, дядя! — крикнул он часовому, стоящему с автоматом на груди у штабеля. — Охраняем?
Часовой повернулся и спокойно предупредил:
— Граждане, тут ходить запрещено.
— Ну, это, браток, смотря кому, — по-дружески усмехнулся Алешка.
— Ваш пропуск!
— Это можно. Вот он, — сделал широкий жест Алешка, — твои ящики с толом и десять этажей в придачу. Хватит, дядя?
— Ваш пропуск, гражданин! — сердито повторил часовой, обращаясь уже к одному Алешке.
— Я же тебе говорю, милый ты человек, вот он. Видишь?
Саперы, услышав пререкания, остановились, прислушиваясь.
Часовой выпрямился и положил руку на автомат.
— А ну-ка, исчезайте отсюда!
Алешка побледнел, взглянул на Валю, но не остановился. Лицо его сразу заострилось, тонкие ноздри затрепетали.
— Ты кого пугаешь? — огрызнулся он. — Если бы не мы, тебе, может, и охранять нечего было бы. Кому ты тут уставы показываешь?
— Стой!
Но Алешка словно не слышал его.
Часовой сделал шаг назад, поднял автомат и дал очередь вверх. В лязге и грохоте машин, двигавшихся по площади, она прозвучала еле слышно. Но на нее обратили внимание даже танкисты, стоявшие в открытых люках, и пехотинцы с бронетранспортеров.
— Костусь! Прибытков! — крикнула Валя, бросаясь за ними.
Алешка и Прибытков остановились.
— За кого он нас принимает?! — обиженно запротестовал Алешка, когда Валя и саперы подбежали к ним. — Что же это такое?
Он кусал ногти и исподлобья метал на всех гневные взгляды. Обида и злоба душили его, рвались наружу.
— Это порядок, дорогой товарищ, вот что такое, — сказал один из саперов.
— Ой ли? Так только с врагами поступают.
— Успокойся, — сказала Валя, уверенная, что Алешка теперь может послушаться лишь ее одну. — Я прошу тебя…
Для того чтобы попасть в здание, нужен был специальный пропуск от коменданта города. И Валя, взяв Алешку под руку, догадываясь — не будь ее, он не так бы показывал себя, — чуть ли не силой потащила его к калитке.
— Неладно, это самое, получилось, — согласился Прибытков и, когда вышли за проволочную изгородь, как о чем-то обычном, но таком, что имеет отношение к происшедшему, добавил: — А знаешь, Костусь, Тимка, это самое, сбежал.
— Как сбежал? — не поняла Валя.
— С квартиры. С Олечкой. Даже клетку со щеглом захватили.
— Ай-яй! — удивился Алешка. — А я думаю: почему он за продуктами не приходит? Махнул, значит, куда-то. — И в голосе его послышалось сочувствие, а возможно, и зависть.
Уже вечерело, а Зимчук все еще не возвращался. Чтобы время бежало быстрее, Валя осмотрела дом, вымыла полы. Затем разобрала и почистила пистолет, отутюжила гимнастерку.
Свой «ТТ» Валя боготворила, как мальчишка, а относилась к нему чисто по-девичьи. Когда-то она заменила деревянные щечки на рукоятке пластмассовыми. Вороненый, с синеватым отливом, «ТТ» всегда у нее поблескивал, как новенький. Правда, на задание пистолет приходилось носить за поясом. От пота одна его сторона посветлела, и это очень огорчало Валю. Но пот, разбирая его, может, в последний раз, она скорое радовалась, чем унывала: теперь можно будет ходить без пистолета. Пришивая чистый подворотничок к гимнастерке, думала, что надо обязательно достать платье. И ожидание хорошего полнило ее.
Увидев во дворе худого котенка, Валя нагрела воды, попросила у ребят махорки и, запарив ее, вымыла котенка, стараясь, чтобы в уши не попала вода. А потом долго смеялась, когда тот, еще более страшный, подошел и доверчиво потерся о ее ногу.
Хозяин дома, убегая, впопыхах не успел почти ничего с собой захватить. Кто он был? В доме остались мебель в чехлах, ковры, рояль, статуэтки. На стенах фотографии мужчины — одного и вместе с женщиной с большими глазами и маленьким ртом. Особенно много было фотографий этой женщины — в гриме, в разных нарядах и позах. «Артистка, — догадывалась Валя. — И он кто-то из таких же. Как они могли изменить? Люди искусства — и вдруг изменники?..» Но когда ей попался чемодан, полный флакончиков, баночек и коробочек с белым, розовым, кремовым, красным, коричневым содержимым, и она по запаху узнала, что это косметика, Валя опять рассмеялась: «Хорошо, что убежали!..»
Когда она принялась готовить ужин, в раскрытом окне кухни неожиданно показался Алешка.
— Ивана Матвеевича еще нету? — спросил он.
— А что?
— Да так…
— Заходи, — пригласила она, обрадованная.
Тот подскочил и легонько сел на подоконник.
— Гоп-ца!
— Ты, случайно, не знаешь, кто здесь жил?
— Подлюга один. Музыку для марша полицейских написал. Теперь, видно, уж где-нибудь в Кенингсберге, если не в самом Берлине. Тут они как раз конгрессик сварганили. Что-то оглашать собирались. Так что для них немцы особый эшелон подогнали. С конгрессика прямо в вагоны. Вот какой почет! Зато жена с чемоданами едва успела. — Ему не хотелось говорить об этом, и он презрительно сплюнул. — А ну их к дьяволу! И за войну надоели…
— Нет, все же интересно: почему они так делали?
— Рассчитывали, что лучше будет.
— Кому?
— Ай!.. Им, понятно.
— А разве изменнику может быть лучше?
— Это ты у них спроси, — оскалил белые как чеснок зубы Алешка и перекинул ноги через подоконник в кухню.
Он не сводил с Вали глаз и совсем не скрывал, что любуется ею. Наоборот, умышленно показывал, что ему нравится вот так смотреть на нее, и пусть она знает об этом.
Вале было и приятно и неловко. Мир сегодня словно заново открылся перед нею, обещая неизведанные радости. И одну из этих радостей, наверно, и нёс горячий взгляд Алешки. Но именно потому, что он мог ее принести, и было неловко.
Из-за плиты показался котенок. Подняв торчком хвост и поглядывая на Валю, он важно подошел к окну и вскочил на подоконник. Алешка поманил его и дунул в мордочку. Тот сложил уши, завертел головой, но с подоконника не спрыгнул и доверчиво потянулся к парню. Алешка улыбнулся и, прежде чем Валя успела произнести слово, щелкнул котенка в лоб.
— Костусь, что ты делаешь! — крикнула Валя.
— Ха-ха! — не смутился Алешка, сдвигая на затылок маленькую с пуговичкой кепку и спокойно слезая с подоконника на пол.
Она хотела на него рассердиться, но не могла. Алешка приближался к ней, улыбаясь и невинно тараща свои светло-голубые глаза. Вале даже показалось, что он вот-вот подойдет и положит ей на плечи руки. А она? Она вряд ли найдет в себе силы больше чем на шутку.
— Чего уставился? — торопливо проговорила, боясь, что будет уже поздно.
— А разве и посмотреть нельзя? — тряхнул кудрями Алешка. Но, переняв взгляд Вали, которая чем-то заинтересовалась во дворе, насупился. — Я, между прочим, по делу. Хочу попросить… Ты Ивану Матвеевичу о часовом не больно рассказывай.
— Это почему?
— И так криминалов как завязать. А, видно, страшная теперь штука ярлык… А впрочем, валяй. Все одно, что в войну сделано, перетянет. Да и вольный казак я сейчас. Мы с Иваном Матвеевичем и встречаться будем раз в году и то на ходу.
Он опять посветлел.
Не успел Алешка выйти за калитку, как на крыльце послышались размеренные шаги Зимчука. «Спрятался, герой, или огородами подался», — подумала Валя с сочувствием.
Зимчук вошел возбужденный. Сняв колодку с маузером, отдал ее Вале, расстегнул ворот гимнастерки и опустился на табуретку рядом с плитой.
— Все! — выдохнул он с облегчением. — Перед тобой, Валюша, минчанин. И не обычный, так сказать, а, кажется, заместитель мэра.
— Это хорошо, — сказала Валя, не переставая думать об Алешке.
Зимчук потер руку об руку и с силой хлопнул себя по коленям.
— Говоря между нами, я тоже думаю, что неплохо. Сразу хоть в оглобли. Слышишь, что творится на Советской?
Они прислушались. В предвечернем покое, опускавшемся землю, гул и грохот будто приблизились. Было похоже, что невдалеке, в кварталах двух-трех, катится могучая железная лавина. Катится, грохочет.
— Ну что ж, в добрый час, — пожелала Валя, что-то превозмогая в себе. — А с нами как?
— Бригада уже влилась в армию.
— А Урбанович, Кравец?
— И они тоже.
— А Зося Кривицкая?
— Зося вряд ли. У нее ведь нет медицинского образования. А нашим хлопцам послезавтра в военкомат. Тебе же — в цека комсомола.
— Надо позвать их, попрощаться!..
За стеной раздался дружный смех, кто-то заиграл на рояле.
— Ну, прощаться еще рано. А ты не плачешь ли?
— Нет. Почему?.. А вы, значит, в горсовет?
— Да. Хотя начинать придется со следствия. На днях в Тростенец едем. Там, говорят, земля черная, даже трава не растет… А как ваш поход?
— Не допустили нас.
— Ну и пусть… В цека уже все знают, как и что. Кондратенко велел представить материалы для награждения.
Валя смутилась и подумала, что сейчас покраснеет. И как только подумала, покраснела так, что вспотел лоб и на глазах выступили слезы. Она потупилась и еле слышно проговорила:
— Алешка там с часовым схватился…
— Слышал, — тоже не глядя на нее, сказал Зимчук. — И даже видел, как через забор перемахнул. Чего он приходил сюда?
— Говорил, ко мне…
Зимчук сердито встал и подошел к окну. Стоя спиной к Вале, сдержанно сказал:
— Я на твоем месте, Валюша, не шибко бы дружил с таким. Трудно будет и ему и с ним, колобродником. Скверно он может кончить. — И присел на подоконник, на котором недавно лихо красовался Алешка.
— Почему? — недоуменно спросила Валя.
— Кто знает, какие колена выкинет еще. И скомпрометировать может.
— В войну же не компрометировал.
— Не думай, ему еще отчитываться предстоит…
Валя и там, в лесу, чувствовала опеку Зимчука. Теперь его слова прозвучали, как ей сдалось, тоже по-отцовски, но это не умилило ее, как прежде, а, наоборот, вызвало досаду. Она махнула маузером, показывая этим, что его надо отнести к Зимчуку в кабинет, и, чтобы не расплакаться, вышла из кухни.
Глава вторая
Василий Петрович Юркевич приехал в Минск, когда еще дымились пожарища. По Советской улице с востока на запад двигались войска. Навстречу им тянулись колонны пленных немцев. Команды солдат закапывали воронки от бомб, расчищали от кирпичей и поваленных телеграфных столбов проезжие части улиц, ведущих к главной магистрали. По руинам, в подвалах комендантские патрули и население вылавливали немцев, которые не хотели или боялись сдаваться. На мостах, у складов стояли вооруженные часовые в штатском. Запыленные, усталые саперы с миноискателями и проворными собаками-ищейками ходили от одного уцелевшего здания к другому. И там, где они побывали, на стенах почти всегда появлялись надписи: «Внимание! Дом минирован. Карантин 30 суток».
Правительство и ЦК до сих пор находились в Гомеле. Уже третьего июля секретарь ЦК Кондратенко, который одновременно выполнял и обязанности председателя Совнаркома, пригласил к себе советский и партийный актив. Тут же, в присутствии собравшихся, позвонил по прямому проводу командующему Первым Белорусским фронтом, долго и взволнованно с ним разговаривал, а затем торжественно, как он любил и умел, объявил:
— Столица республики освобождена, товарищи! Дороги свободны. Прошу всех, кто как может, направляться в столицу и приступать к работе. Предупреждаю, не следует сворачивать с магистралей и ночевать в деревнях, расположенных недалеко от них. Опасно. Счастливой дороги, товарищи! До встречи в Минске!
Это было самое короткое заседание, известное присутствующим. Юркевич устроился в грузовичке, в котором ехали сотрудники Архитектурного управления и строительной группы Совнаркома. Бобруйский котел не был еще ликвидирован, и поехали по маршруту Гомель — Могилев — Орша — Минск. Старенький разбитый «газик» чихал и перегревался. Приходилось при всяком удобном случае останавливаться и заливать в радиатор воду. Угнетали и безлюдье на дороге, жара, пыль. Придорожные травы, кусты, деревья стали серыми, листья сморщились. Пыль уже успела слоем покрыть сожженные и подбитые танки, опрокинутые пушки, рамы автомашин со странными, без покрышек, железными колесами.
Лишь когда выехали на Московскую магистраль, попали в поток машин. И хотя жара, пыль не уменьшились, их на какое-то время перестали замечать.
Оживился даже Понтус — начальник управления, полный флегматичный мужчина, который почти все время ехал с закрытыми глазами и только иногда, вытирая платком пот с лица, бросал несколько незначительных слов. У Понтуса в Минске осталась семья — дочь, жена, и, сочувствуя ему, все старались не тревожить его. Разбуженный же грохотом и шумом, он удивленно поднял брови и принял более удобную позу.
— А мы ведь, ей-богу, скоро приедем! Хоть, честно говоря, иногда казалось, что вот-вот и упремся в немецкий контрольно-пропускной пункт. Да не в какой-нибудь, а со шлагбаумом, полосатой будкой и вытянутым в струнку фрицем.
— Таких контрольно-пропускных они уже от самого Сталинграда не имеют, — засмеялся добродушный инженер-строитель Кухта, который всю дорогу веселил товарищей былями и небылицами.
— В общем-то это правильно, — согласился Понтус.
Юркевич не понимал ни прежней сонливости Понтуса, ни его теперешнего оживления, но тоже сочувствовал ему. Будучи во власти нетерпеливого ожидания, он провожал глазами перелески, кустарники, непривычно узкие полоски картофеля, ржи, проплывавшие мимо, всматривался вперед, куда в пыльной мгле двигались танки, пушки, грузовики, а сам думал о городе. И эти мысли блуждали по его незагоревшему лицу с густыми не по возрасту бровями. Он готовил себя к худшему и все же надеялся, что таким, каким город представлялся по отдельным фотографиям, попадавшим за линию фронта, Минск не будет. Уцелел ли в последние дни Дом правительства? Здание ЦК? Академия наук? Как выглядят здания, спроектированные им?
Сначала, когда проезжали мимо окраинных глинобиток и деревянных домиков, мимо парка Челюскинцев — стройного, пронизанного солнцем бора, — ему казалось, что надежды его не обманули. Но как только подъехали к Дому печати, сердце болезненно сжалось. Дохнуло гарью — курилось закоптелое здание Академии наук, за ним поднимались клубы черного дыма…
Договорились, что поедут к Понтусу и, если все будет в порядке, пока остановятся у него.
Понтус пересел в кабину, и «газик» запетлял по кривым переулкам.
Навстречу стали попадаться партизаны — по одному и группами. Их можно было узнать по оружию, по красным ленточкам, нашитым на шапках. По загорелым лицам и какому-то охотничьему шику, одежде и манере держать себя. Брюки у большинства из них были заправлены в сапоги с напуском, пиджаки подпоясаны поверху. Гранаты-лимонки висели просто на ремнях, в кожаных мешочках. В почете были полевые сумки, планшетки, чубы, а у командного состава — окладистые, часто похожие на сияние, — бороды. Юркевич примечал это и раньше, еще в Гомеле, но теперь все воспринималось острее.
Партизаны были и во дворах уцелевших домиков. Кололи дрова, мылись по пояс. Сидя на крылечках, латали рубахи, чистили оружие.
На пустыре, возле коробки пожарного депо с каланчой, напоминавшей шахматную туру, разместился целый партизанский лагерь. Телеги стояли с поднятыми вверх оглоблями. Неподалеку паслись стреноженные лошади. Тут же горело огнище. На жерди, положенной на сошки, висели черные, будто полакированные, ведра. Бледный, едва видимый на солнце огонь лизал их. Широкоплечий повар важно помешивал в ведрах желтой лопаточкой.
«Запорожцы, — с грустным умилением подумал Юркевич. — Это тоже придется иметь в виду…»
На Сторожевской улице, напротив обшарпанного двухэтажного дома, «газик» неожиданно заурчал и с ходу повернул в ворота. Проехав несколько метров, он стрельнул и остановился в небольшом грязном дворе, застроенном сарайчиками и кладовками.
— Вот мы и дома, товарищи, — сообщил Понтус, вылезая из кабины и отряхивая пыль с костюма.
Он утратил обычную медлительность и торопливо бил рукой по брюкам и полам пиджака, забыв предложить остальным вылезти из кузова. Кто-то подал ему чемодан и аккуратно увязанную постель. Он взял их, поставил на землю, поправил галстук и неуверенно направился в ближайший подъезд.
Наконец одно из окон на втором этаже распахнулось, и тотчас же из него высунулись раскрасневшийся Понтус и худощавая, в пестром платье девушка. Ее мальчишечье лицо со вздернутым носиком и коротко подстриженной гривкой расплылось в улыбке.
— Порядок! — крикнул Понтус. — Слезайте, товарищи! Аллочка говорит, что на пивзаводе — а он под боком — можно набрать пива. Пусть кто-нибудь возьмет канистры и сходит. Там бочкам" берут. Соседки тоже назапасили. И их пригласим — сегодня все дозволено…
Оттого что Понтус, разговаривая, налегал на живот, лицо его напряглось, прядь каштановых волос, прикрывавшая лысину, сползла и повисла сбоку, но он снял и выглядел именинником.
Через мгновение — даже было удивительно, как она так быстро могла это сделать, — во дворе появилась Алла. Протягивая маленькую узкую руку, она стреляла в каждого взглядом и сразу, словно боясь, что ее поймают на чем-то непристойном, невинно опускала веки.
— Как хорошо, что прямо к нам, — щебетала она, подпрыгивая на цыпочках. — Просто мираж! У меня голова идет кругом от радости. Давайте, я помогу вам…
Предметом своих забот она почему-то избрала Василия Петровича и почти насильно отняла у него вещи. Ему сделалось неловко, но протестовать было бесполезно, и он пошел следом, украдкой разглядывая ее. Алла догадалась об этом — то ли почувствовала, то ли была уверена, что не смотреть на нее нельзя, — и, повернувшись, ответила озорным пристальным взглядом. Глаза у нее заискрились, поузели, но зрачки словно открылись, пуская в себя.
— Идемте, идемте! — подогнала она.
Все же Василий Петрович не выдержал. Чувствуя, что выпей еще и уже никуда не пойдешь, он незаметно поднялся из-за стола и вышел от Понтусов.
Было известно — одно из его зданий, жилой дом вагоноремонтного завода, сгорело на четвертый день войны. Возможно, уцелели остальные — средняя школа, с которой он начинал свою проектную работу, дом горсовета, где жил до войны, детский приемник, работа над которым принесла ему когда-то успех?
Выпитое пиво бодрило, и Василий Петрович шел, готовый встретить самое плохое. Но чем ближе подходил он к центру, чем больше развеивался неустойчивый пивной хмель, тем заметнее убывала решительность. И когда за площадью Свободы на него со всех сторон надвинулись развалины, рыжие, почему-то все островерхие, — он просто растерялся.
Чтобы приободриться, он попытался взглянуть на руины по-профессиональному, но не смог. Да и город, его родной город, стал казаться чужим, ненастоящим.
Ему встречались люди, оглядывались на него, но он их уже не замечал. Не заметил и как подошел к дому, в котором когда-то жил. Мысль, что это тот самый дом — от него осталась одна стена, — пришла как-то неожиданно: он узнал дом по ступенькам крыльца, белевшим из-под кучи битого кирпича. Ощущая липкую горечь на губах, перескакивая с груды на груду, он обошел развалины.
Почему-то на память пришла Алла, ее игра с ним, Понтус, который, как казалось, не замечал вольностей дочери, товарищи, охотно принявшие участие в пирушке, и он затужил еще сильнее.
Почти не слыша грохота, доносившегося с Советской улицы, томясь тоской, Василий Петрович тропинкою, меж руин, побрел к детскому приемнику.
"Неужто нет и его?.."
Вдоль извилистой стежки возвышались обмытые дождями и обожженные солнцем кирпичные стены. Кое-где они обвалились. Люди, чтоб сократить дорогу, протоптали по ним тропинку, и она стала похожа на причудливый проход среди руин еще не совсем раскопанного древнего городища.
Едва узнавая, Василий Петрович всё же отыскал место, где стоял детский приемник. Стены его были разобраны для дотов, и вместо здания теперь возвышался поросший бурьяном пригорок, из которого торчали покореженные железные балки. Пригорок тоже пересекала тропинка. От раздавленного кирпича, втоптанного в землю, она казалась поржавевшей, и Юркевич, обратив почему-то на это внимание, подумал, что зимою ржавчина, видно, проступает и сквозь снег…
Здесь Василий Петрович неожиданно встретился с Кухтой, который тоже, будто в поисках чего-то потерянного, блуждал меж руин. Недавно еще беззаботный, охотник пошутить со всеми и всегда, он подошел унылый и зашагал рядом;
— Придется начинать сначала, — сказал он, глядя себе под ноги.
— С какого начала? — вдруг разозлился на весь свет Юркевич. — Бросьте! Какое там начало, если это конец! Город мертв!..
Кухта вздохнул, хотел что-то ответить, но раздумал, И только по тому, как он старался, идя рядом, не толкнуть Василия Петровича плечом, было видно — он уважает и злость и боль его.
По произнося больше ни слова, они вернулись к дому Понтуса. Во дворе увидели, как их спутники, открыв борт "газика", спускали с кузова по доске пузатую бочку. Все при этом толкались, мешали друг другу, и каждый стремился обязательно приложить к бочке руку, Высунувшись, как и раньше, по пояс из окна, захмелевший Понтус подавал советы.
— К своим, конечно, творениям ходили? — заметив Юркевича, блаженно улыбнулся он. — А мы вот решили продолжить удовольствие… Ну и как там у вас?
Василий Петрович безнадежно махнул рукой.
— Значит, плохо… А моя лечебница, говорит Алла, стоит… Помните, на улице Володарского?.. Правда, тоже не дом, а коробка, но зато как штык, Придется закатывать рукава. Заходите!..
Проснулся Василий Петрович с головной болью. Удивляясь, что лежит на оттоманке, укрытый пледом, с трудом вспомнил, как вчера Алла укладывала его, а он, раскисший, жаловался, плакал и целовал ей руки.
Стало гадко и стыдно.
Однако узнав, что создана комиссия по учету трофейного имущества, он тут же как-то отмахнулся от этих терзаний и отдался новой заботе — пошел с комиссией по немецким учреждениям. Надо было обязательно использовать такую возможность: а вдруг наткнешься на свои проекты! "Хоть на проекты!.."
Члены комиссии переписывали столы, стулья, чернильные приборы, шкафы, пишущие машинки, а Василий Петрович рылся в делах.
Архитектурное управление в комиссии представлял Понтус. Но, когда выяснилось, что в Доме правительства находилось немецкое картографическое бюро, Понтус забыл все остальное и срочно занялся хозяйственными делами. И, несмотря на то, что Дом правительства охранялся и там был минный карантин, в здание, занятое Архитектурным управлением, стали привозить чертежные доски, свертки ватмана, стеллажи. Подобные примеры заразительны, и вскоре Василию Петровичу пришлось продолжать свои поиски одному.
"Где могла храниться документация? — ломал он голову. — Вывезти со немцы не успела: было не до того. Значит, она осталась где-то здесь. Но где?.. Где?.."
Со смутной надеждой он подался в городскую управу, которая, как ему сказали, находилась на углу Комсомольской и улицы Карла Маркса. По там вместо дома чернела закопченная коробка. Она еще курилась а, медленно остывая, трескалась. Точно не доверяя себе, Василий Петрович заглянул в оконный проем, потом, чтобы лучше видеть выгоревшее нутро здания, поднялся по уцелевшей теплой лестнице на площадку второго этажа. Нет, и здесь искать было бесполезно. Но тут, по каким-то самым неожиданным связям, ему вдруг пришла мысль, которая оставляла еще надежду.
Бегом, забыв о приличии, он вернулся в управление. Как раз туда на "газике" привезли мебель, и сотрудники таскали ее в помещение. Понтус, довольный, в ударе, ходил по комнатам и распоряжался. Управление разместилось в старом прикостельном здании на площади Свободы. От заплесневелых, с подтеками стен и темного сводчатого потолка, от горбатого, скрипучего пола пахло пылью и плесенью. Через небольшие окна с радужно-маслянистым отливом на стеклах цедился скупой свет. Да нежилые запахи, полумрак мало беспокоили Понтуса, и, прохаживаясь, как по палатам, он с удовольствием тыкал пальцем, показывая, куда что ставить.
— Привет! — второй раз за день поздоровался он, подмигивая Василию Петровичу. — Нашли что-нибудь?
— Нет, Илья Гаврилович. Хочу обратиться к кому-либо из местных. Здесь, по-моему, кое-кто оставался.
— Конечно. И архитекторы и архитекторши.
— Я кроме шуток.
В дверях показались геодезист и плановик. Они несли мягкое кожаное кресло.
— Это ко мне, — кинул им Понтус и, полуобняв Василия Петровича, похлопал его по груди и спине. — Ну, допустим, мы тоже местные, дорогой. Но я все-таки послал за одним. Помните Барушку? Он вам и домик пустующий поможет подыскать. Алла говорила, на Сторожевке можно найти, если не теряться…
Внесли мягкий, обтянутый дерматином диван, и Понтус, улыбнувшись, пошел показывать, где его поставить.
Василий Петрович направился было за ним, но, вспомнив вчерашнее, смутился и пошел посмотреть комнатку, которую отвели ему.
Здесь он и встретился с Барушкой.
Мебели в комнатке еще не было, и им, чтобы чувствовать себя удобнее, пришлось стать возле окна.
В синем, почти не ношенном костюме, с ярким, широко завязанным галстуком, со шляпою в руке, Барушка выглядел франтовато. На левом лацкане поблескивал "Знак Почета".
Он мало изменился. Как и прежде, лысая голова его была старательно побрита, подвижное монгольское лицо морщилось, быстрые карие глаза насмешливо косили. Казалось, он даже не постарел, только пожелтело лицо и появилась привычка вскидывать брови, словно Барушка прислушивался или чего-то не понимал.
— Наконец-то! — произнес он радостно.
— Извините, у меня к вам дело…
— Пожалуйста.
— Вы работали у них? — не желая называть позорного слова и чувствуя, как что-то настораживает его, спросил Василий Петрович.
— Яволь, как говорили немцы. В городской управе, при главном архитекторе.
— Так у них был и главный? — удивился Василий Петрович, догадываясь, что его настораживает Барушков орден, на который он старался не смотреть и все же время от времени поглядывал.
— Мы творческие работники, и я считал важным сохранить себя, — заметив это, вскинул Барушка брови. — А во вторых, думал, что так будет лучше. — Его скуластое лицо и высокий лоб, увеличенный лысиной, засветились. — Пс-с! Я, видите ли, такое отмочил… выдвинул идею строить город на новом месте! Догадываетесь? И ее приняли, хотя это было издевательством… Я рассчитывал, что бессмысленная идея вызовет возмущение и все мудрствования немцев обернутся против них самих же. И, по-моему, мне кое-что удалось.
Ничего подобного Василий Петрович еще не слышал, но этот разговор вызвал досаду: Барушка смахивал на комедианта.
— Меня интересует документация.
— Я припрятал генеральный план, который мы разрабатывали.
— А остальное?
— Скорее всего — капут. Все хранилась в городской управе и подвалах. Разве там…
Не находя о чем больше говорить, они вышли из управления.
Навстречу по пустынной площади с грохотом мчалась телега. Стоя в передке, парень с карабином за плечами по-деревенски крутил над головой концами вожжей и лихо гикал. Мохноногая лошаденка старалась изо всех сил и неслась галопом. На краю сквера стояла ватага партизан. Они хохотали и, подзадоривая парня, что-то кричали ему вслед.
Движение на Советской усилилось. Василий Петрович и Барушка вынуждены были пройти квартал и перешли Советскую только на перекрестке у Комсомольской, несколько минут простояв между двумя потоками машин возле черноглазой подтянутой регулировщицы в защитном беретике.
Железная дверь подвала была приоткрыта. По каменным ступенькам, заваленным у входа щебнем, они спустились вниз, не обращая внимания на угар, которым несло оттуда. В узком коридоре Василий Петрович зажег фонарик, и в его бледном коротком луче, упершемся в закоптелую стену, заструился дымок.
— Дым, — глухо проговорил Барушка.
За поворотом коридора дышать уже стало тяжело. Задыхаясь, они добрались до второй, тоже приоткрытой железной двери и сквозь, дымящуюся завесу, пронизанную лучом фонарика, увидели, как тлеют кипы бумаг. Стеллажи рухнули, и кипы валялись по всему полу. Некоторые из них превратились в кучки пепла; некоторые, почернев, не потеряли еще своей формы и, казалось, были перевязаны шпагатом; у некоторых кип обгорели только края.
Василий Петрович решился было переступить порог, но Барушка схватил его за руку и потянул назад.
Кашляя и пошатываясь, с серо-землистыми лицами, они выбрались из подвала. И хотя там побыли не больше минуты, солнце, ясное, чистое небо, повевы ветра показались Василию Петровичу необыкновенными.
— Ведь вы, Семен Захарович, тоже, кажется, минчанин, — с обидой сказал он. — Так как же вы это допустили? Небось, вчера еще можно было спасти. Да и теперь надо сообщить в комендатуру: может, кое-что уцелело…
Барушка заморгал, как уличенный в зазорном поступке. Вытер носовым платком пот с головы и притворился, что прислушивается к паровозному гудку, который долетел от станции. Но потом резко повернулся и сощурил глаза.
— Легко вам страдать и упрекать, — бросил он. — Наверное, войны-то не попробовали, просто чистыми вышли. А вы вот сперва через чистилище пройдите…
Если б Василий Петрович мог сразу сесть за чертежную доску, все бы сложилось иначе. Обида породила бы упорство, а за ним пришло бы успокоение. В развалинах родной город, погибли все его здания. Но он чувствовал бы их в умении искать и находить нужное. Погибшее возрождалось бы в новом. Однако в сумятице первых дней, в мелочных заботах, в спорах за мебель, будущих сотрудников, жилплощадь и продуктовые карточки для них проектная работа казалась далекой, как никогда. К тому же содружество, сложившееся ранее, начало распадаться: у людей вдруг появилось много личных и самых неотложных дел.
Семья его оставалась в Москве. В Гомеле Василий Петрович жил тоже один. Но там он чувствовал себя как на станции. В Минске же он был дома — здесь надо было жить сегодня, завтра, послезавтра. А тут еще наваждение — как бы назло, воображение стала будоражить Алла. Это было дико, несуразно, да поделать что-нибудь с этим оказалось выше сил. И Василий Петрович, который вообще трудно сходился с людьми и приобретал друзей, почувствовал, — жизнь как-то ненужно усложнилась и ему необходима поддержка.
Однако искал он ее тоже нелепо. Стал избегать Понтусов, добыл где-то фотографию детского приемника и обратился в редакцию газеты с просьбой напечатать находку. Для чего? Он и сам не представлял — возможно, чтоб сохранить хотя бы какой-нибудь след о былой работе. А может быть, чтоб утвердить и собственную веру в себя. У него появилась потребность бедовать над своими потерями. Его тянуло к руинам.
Бродя возле развалин школы, он как-то встретился с Зимчуком. Друг друга они не знали, но поздоровались. Став рядом, начали рассматривать изувеченную коробку.
— Ваша? — догадался Зимчук.
— Была моя, — признался Василий Петрович, боясь, что разговор на этом оборвется. — А вы чего здесь? Тоже переживаете? Не с детьми ли что случилось?
— У меня? Нет. Вот с городским хозяйством знакомлюсь.
— С кладбищем, скажите…
Несколько дней назад Зимчук с Чрезвычайной комиссией выезжал на расследование в Тростенец, где, как установили, было расстреляно и сожжено сто двадцать тысяч человек. Потому слова о кладбище напомнили ему как раз это жуткое место. Нет, даже не напомнили. Виденное жило в нем и без этого. Но теперь оно опять как бы заслонило все… Лагерь размещался недалеко от города, возле когда-то веселой, зеленой деревушки. Ехать туда надо было по Могилевскому шоссе, по сторонам которого росли молодые приветливые березки. И каждый раз, когда Зимчук вот так вспоминал Тростенец, в его воображении вставали кошмарные печи, штабеля обугленных бревен, длинные, как траншеи, рвы-могилы и это холмистое шоссе с молодыми березками…
Печей не хватало, и, чтобы скрыть свои преступления, гитлеровцы сжигали трупы на огромных кострах, подпаливая бревна термитными бомбами и время от времени поворачивая трупы баграми. Обгорелые трупы с пулевыми отверстиями в затылке — и трепетные, залитые солнцем березки…
— Какое же это кладбище? — тихо спросил он. — Вы, вероятно, не видели настоящих кладбищ. А кроме того, у победителей города вряд ли умирают. Вам это известно не хуже, чем мне. Правда?
Слова Зимчука обидели Василия Петровича. Недавно упрекал Барушка, сейчас упрекает этот… Но, раздражаясь, он в то же время оставался уверенным, что имеет особое право на сочувствие и даже больше — его обязаны утешать.
— Есть раны, которые не залечиваются. — сказал он упрямо и понуро.
— Не знаю, но, по-моему, как-то не с руки теперь жить только своим. Пойдемте-ка, если хотите, я покажу сам одну вещь, благо тут недалеко…
Что он мог показать?
Но самое участие его было по душе, и Василий Петрович, вспомнив разговор с Барушкой о немецком генеральном плане, примирительно согласился:
— Сделайте милость…
Они миновали несколько кварталов, потом узкой тропинкой вышли на Советскую, и, свернув на улицу Володарского, спустились к коробке, что осталась от здания лечебницы.
— Ну, вот! — показал Зимчук. — Видите?
— Почти нет.
— А меня, например, радует и такое. Здесь главное — начать. Завтра вот и саперы за мост через Свислочь принимаются.
Внутри и вокруг коробки ходили люди, осматривали стены, что-то показывали друг другу, делали пометки в записных книжках. На площадке лестничной клетки стоял Понтус. Подбоченясь одной рукой, он не спеша прикуривал у солидного, в соломенной шляпе, мужчины. Потом важно кивнул ему, заметил подошедших и, высоко подняв руку с папиросой, как с трибуны, помахал им.
Ожидая Понтуса и упорно добиваясь чего-то своего, Зимчук опять спросил:
— Ну, как, по-вашему, послужит еще или нет?
— Кто знает — мои не послужат.
Морщась от дыма и вытирая носовым платком пот под расстегнутым воротом, подошел Понтус. Разморенный, вяло пожал руки и поднял лицо, к безоблачному небу.
— Жара, черт бы ее побрал. Кажется, до войны такой никогда не бывало. Все изменилось и переместилось. Разве поверишь, что это Белоруссия. Самое малое — Ашхабад, Турция.
— Как техническая экспертиза? — поинтересовался Зимчук.
— Скоро закончат.
— А еще где были?
— На углу Советской — Комсомольской и Советской — Ленинской. Но там можно использовать только частично, хоть ведомства не согласны. Опротестовывают и хотят начинать работы на свой страх и риск.
Он многозначительно взглянул на Зимчука, словно обещал ему что-то занятное и приглашал в свидетели. Затем перевел взгляд на Василия Петровича.
— Не завидуйте, дорогой! Ей-ей, скоро работа найдется и по вас. Есть мнение попозже взяться за дома, что до войны определяли облик города. Пусть свяжут новое с тем, что было. Заходите, хоть накоротке. Алла все спрашивает о вас…
— Мм!.. — нахмурился Василий Петрович, и его губы стали сухими.
— Да, да! В жизни, батенька, ничего не исчезает бесследно. Могу даже сообщить, что речь об этих материях ведется и там. — Понтус глазами показал вверх. — А вас что, и это не устраивает?
— Кто знает… Мне трудно судить… — сразу ослабел Василий Петрович, и на него стало неприятно смотреть. — Но скорее всего, осуществить эти планы не позволит сама жизнь.
— Ну, на такую штуку, как жизнь, у нас постановления найдутся! Существуют и командные высоты, дорогой. Как-нибудь обуздаем и заставим подчиняться. Такой-сякой опыт уже есть…
Разговор с Зимчуком и Понтусом как бы раздвоил Василия Петровича. Возражая им, споря с самим собою, он в то же время хотел, чтобы все было именно так, как ему говорили, чтобы то, против чего настраивал себя, стало неопровержимым.
Однако уже на следующий день оптимизм Зимчука показался ему еще более наивным, а замыслы Понтуса прямо пустопорожними.
Коробки! Без их восстановления, понятно, не обойдешься. Но чем тут восторгаться? Разве они решат что-нибудь? И какими словами не прикрывайся, это не больше чем свидетельство бедности. А чего стоят Понтусовы намеки, что среди зданий, которые поднимутся из руин, могут оказаться здания и его, Василия Петровича! Да если бы он действительно набрался упорства и по памяти восстановил свои проекты, что из того? Он не мальчик и не может обманывать себя. Он знает, — даже странно, как он мог на какое-то время забыть это?! — знает, что вряд ли есть еще другие произведения искусства, которые были бы так прикреплены к своему времени и месту, как архитектурные произведения. Даже не осуществленные в свой час, они навсегда остаются на бумаге. Заново можно воздвигать одни лишь памятники…
И, отбросив прежнее намерение — не вызывать семью, словно мстя кому-то, — Василий Петрович послал телеграмму-вызов.
Глава третья
На скупо освещенном перроне вокзала он встретил Веру Антоновну и сына с чувством вины. Чтобы скрыть это, медленнее, чем хотелось, взял из ее рук чемодан и поцеловал в лоб. Но в тот же миг забыл о дипломатии.
— Все будет хорошо, Веруся! Слово даю!.. — пообещал он и начал целовать ее глаза, виски, душистые волосы.
— Ты на сына взгляни, — слабо защищалась она, смущаясь людей, которых на перроне прибывало. — Его можно уже отдавать в музыкальную школу. А как он скучал по тебе! Как мы истосковались…
Она прильнула к его груди и на мгновение замерла. Но по едва уловимой дрожи, пробегавшей по ее спине, Василий Петрович догадался — она тоже думает не только о встрече. И ощущение вины, теперь уже почти осознанной, вернулось к нему, точно он действительно был виноват, что так тускло горят редкие синие лампочки фонарей, что захламлен перрон, а вместо вокзала — темная коробка с заколоченными окнами.
Он присел на корточки и протянул к сыну руки. Мальчик, который до сих пор с ревнивым любопытством наблюдал за тем, что происходило, неуверенно приблизился и повернулся боком.
— Юрик! — прикрикнула Вера Антоновна.
Тот обвил шею отца и неожиданно крепко сжал ее. Василий Петрович легко поднял сына и так остался стоять, прижимая его к себе. Их обходили пассажиры с узлами, чемоданами. Над перроном витал разноголосый людской гомон. Все торопились. Но ни Василий Петрович, ни Вера не решались тронуться с места.
На Привокзальной площади фонари не горели совсем. Все было окутано ночным мраком, более густым, как показалось Вере, чем в поле. Только на противоположной стороне площади, в низком бараке, светились щели плохо замаскированных окон и из широкой двери, в проеме которой время от времени появлялись силуэты людей, на землю падала желтая полоса. Там теперь помещался вокзал.
Проходя мимо, она попросила:
— А может, переждем, Вася, до рассвета? Вероятно, далеко же. И я, прости меня, боюсь. Я ничего не узнаю здесь.
Он ответил шуткой и зашагал быстрее.
Улица в самом деле выглядела страшной. В ночном сумраке сдавалось, идешь по рву, над валами которого чернеют зубцы стен с окнами, сквозь которые виднеется небо.
Там, где прежде была Ленинская улица, встретился конный наряд милиции. Один из всадников подъехал к ним и, включив карманный фонарик, висевший у него на пуговице шинели, приказал предъявить документы. По лихо закрученным усам, сдвинутой набекрень фуражке Василий Петрович узнал капитана милиции. И, протягивая ему паспорт, сказал, как старому знакомому:
— Вот, встречал жену с сыном. Из Москвы приехали к нам.
— Ну что ж, просим, — шевельнул рыжим усом капитан. — Пускай нашего полку прибывает.
Когда, козырнув, он отъехал и гулкий цокот копыт стал медленно тонуть в темноте, Вера успокоилась.
— Давай отдохнем.
Василий Петрович передал ей сына, уже успевшего заснуть, и они присели рядом на чемодане. Почувствовав тепло ее плеча и колена, он осторожно, чтобы не нарушить этого ощущения, вынул из кармана портсигар и закурил. Сказал первое, что пришло в голову:
— Ты помнишь, где мы его купили? Тут же, рядом. Помнишь ювелирторг? С такими большими витринами в темно-лиловом бархате. Ты очень любила их разглядывать. И вот, вещь пережила улицу. Пережила мои дома. Ты слышишь, Веруся? Погибли все, и неизвестно, когда придется иметь дело с чем-нибудь стоящим.
Вера поежилась.
Он мысленно выругал себя и заговорил о другом, что по какой-то связи вытекало из предыдущего:
— Завтра придется сходить на вокзал и узнать, когда прибудут вещи.
— Какие, Вася, вещи? — встрепенулась она, будто ожидала и боялась этих слов.
— Ну, понятно, твои… наши… Багаж теперь идет долго.
Вера опустила голову.
— Я не брала его, Вася. Мне говорили, что здесь страшно, как в горелом лесу. У нас же тут ничего не устроено.
— Что значит — не устроено? Ты шутишь? — изумленно вскинул он глаза на жену.
В душе Василий Петрович все время чего-то ждал от нее. Чего? Малодушия, жалоб, упреков. Но подобного, только своих расчетов — нет, их он не ожидал.
— Дай, пожалуйста!.. — показал он на сына. И взяв сонного Юрика на руки, пошел не оглядыраясь.
Она побрела за ним, неся чемодан и тихо всхлипывая.
Идти пришлось около часа.
Брезжило. Небо на востоке стало бледнеть. Сумрак мягко оседал на землю, делая предметы легкими, однообразно серыми. Даже белая церквушка на Сторожевском кладбище, окруженная старыми тополями, выглядела серенькой и невесомой.
Это была одна из окраин, куда теперь переместилась жизнь. С деревянными домиками, с палисадниками, с улицами, поросшими подорожником и муравой, — такие уголки стали Минском. Война пощадила их, хотя и состарила. Выцвели ставни, жестяные крыши домов, накренились заборы, возле них буйно разрослась крапива. Глубже в землю вросли сами домики.
Барушка с Аллой тогда в самом деле помогли Василию Петровичу облюбовать один из таких пустующих домиков. Он стоял немного на отшибе. Во дворе зеленели кусты шиповника и сирени. Но дом оказался не жактовский, а частный. Вернулись из деревни хозяева, а через несколько дней пришла из партизанского отряда хозяйкина племянница, и Василию Петровичу пришлось переселиться в одну комнату. В хлопотах и волнениях забыл написать об этом жене и, встречая ее на вокзале, может быть, сильнее всего беспокоился из-за этого. И вот на тебе…
Осторожно, чтобы не разбудить сына, Василий Петрович боком прошел в дверь, которую открыла хозяйка. В сенях, коридоре и в проходной комнате было томно, душно.
Сердце у Василия Петровича защемило. Он остановился, прислушался. Хозяйка торопливо объясняла его жене, куда надо идти, ведя, возможно, за руку.
Когда Вера следом за ним — ее качало — вошла в комнату, прежнего возмущения уже не было, осталось только недоумение.
— Ну? — спросил он, поглядывая на жену, которая бессильно опустилась на кушетку, поставив у ног чемодан.
В окно проникал сероватый предутренний свет. Склоненная фигура Веры как бы растворялась в нем, теряла реальность. Василию Петровичу стало жалко ее. Шевельнулось сомнение: а что, если это не хитрость, а обычная непредусмотрительность или простая человеческая слабость? И чего он так вскипел? Действительно, не хочет ничего признавать, кроме себя.
Чутьем, свойственным только женщинам, Вера уловила настроение мужа. Плечи ее затряслись сильнее.
— Что ты делаешь со мной? — сквозь слезы пожаловалась она и заговорила о себе, о квартире в Москве, о врачах, которые не советуют ей пока что никуда выезжать, о том, что есть возможность устроить Юрика в музыкальную школу.
Она проснулась первой. Осторожно, чтоб не разбудить мужа, встала, накинула на себя яркий халатик, приготовленный еще перед сном. Внимательно оглядела небольшую комнату — письменный стол, заваленный книгами, кресло, кушетку, колченогую койку, похожую на больничную, с которой только что встала. Знакомым показался один письменный стол, остальное выглядело таким чужим, что к нему, сдавалось, никогда не привыкнуть.
Было поздно. За окном от солнца уже изнывали сирень и шиповник, где-то под карнизом крыши вяло ссорились воробьи. Издали долетали размеренные удары молота.
С неясной тревогой Вера стала посредине комнаты и, не зная, что делать, прислушалась.
— Зося, а Зося! — послышался близкий голос хозяйки, который Вера Антоновна узнала сразу, хотя вчера перекинулась с нею всего лишь двумя словами.
— А! — откликнулся совсем рядом девичий голос.
— Ты бы воды принесла..
— Сейчас, тетя!
— Тише ты, не кричи там, под окнами. Колонка не работает. Ты к Тосиным ступай.
Загремели ведра, и мимо окна мелькнула фигура в светлом платье. Вера увидела лицо девушки только мельком, когда та открывала калитку и повернулась к окну. Но в ней сразу возникло любопытство.
Решив обязательно дождаться возвращения девушки, она подошла к письменному столу, погладила ладонью серое, потертое и залитое чернилами сукно. Полистала первую попавшуюся под руку книгу, украдкой глянула на мужа и приоткрыла средний ящик. Увидев там готовальню, кусочек кирпича, принесенный, наверно, с развалин, треугольник, баночку туши, немного успокоилась.
Спустя минут десять с коромыслом через плечо в калитке показалась Зося. На ней было белое, в синюю полоску, коротковатое платье. Гладко причесанные на прямой пробор волосы заплетены в две косы, которые, чтоб не попадали под коромысло, Зося перекинула на грудь.
Босая, в платье, плотно облегавшем ее стан и собиравшемся на талии складками, со спокойным смуглым лицом, она сдалась Вере молоденькой и милой.
Зося, вероятно, заметила, что за ней наблюдают, и с подчеркнуто независимым видом прошла мимо окна. Вода в ведрах заколыхалась, стала плескаться через края.
Ощущение вины, жившее все время в Вере и даже мучившее ее во сне, не позволило обидеться. Она только вздохнула, застегнула халатик и вышла на крыльцо.
В домике в дни оккупации жил начальник немецкого госпиталя. Немец любил и старался ладить быт как положено. По двору от крыльца к сарайчику вола узенькая тропка, посыпанная носком и обложенная по краям кусочками кирпича. Огород разбит на аккуратные гряды и грядочки, где росли помидоры и кочаны ранней капусты, потрескавшиеся от лишней внутренней силы.
Хозяйка, которая заканчивала пасынковать и подвязывать помидоры, поздоровалась.
— Как спалось на новом месте? — приветливо спросила она, открыто оглядывая квартирантку с ног до головы.
— Хорошо, спасибо, — невольно поправила Вора волосы.
— А ваш все еще спит?.. Ну и пусть. Он без вас ох как переживал! — Хозяйка покрутила головой так, что ее по-старчески пухлые щеки задрожали. — Уражливый [1] он у вас.
— Вася — архитектор, художник, — подделываясь под тон собеседницы, согласилась Вера Антоновна. — Но жалеть их очень тоже не следует. Спусти с глаз — и за-были обо всем. В войну все просто…
Хозяйка разгадала ее хитрость и сморщила губы. Потом вытерла о фартук желто-зеленые от земли и помидорных стеблей пальцы и молча перешла к капустной гряде.
Вера постояла немного, теребя оборку халатика, хотела опять заговорить, но не осмелилась и вернулась в комнату.
Юрик и Василий Петрович все еще спали. Она дотронулась до Юриного лба — нет ли температуры, — поправила простыню, которая почти вся сползла на пол, и села в кресло у письменного стола.
Нельзя сказать, что холодность хозяйки смутила ее и Вера почувствовала недовольство собою. Но пришла мысль, которая никогда до этого не приходила: а что, если она действительно может потерять Василия Петровича?
Что породило эту мысль? Воспоминание о вчерашнем? Демонстрация хозяйкиной племянницы, которая потом даже не вышла во двор, пока там была Вера? А может, сдержанность хозяйки? Пожалуй, все вместе. Однако же, Зося — статная, видимо, гордая и упрямая девушка. "Как она вскинула голову! И почему? Такие мужчинам нравятся". Правда, Василия Петровича трудно было представить в роли кавалера. Влюбленный в работу, он жил в своем, как всегда казалось, далеком от окружающего мире. Им можно было командовать, с ним можно было хитрить, строить жизнь так, как удобно одной тебе. Но… все это могла делать и другая.
"В войну, право, все просто", — подумала она. И подозрительность, неприязнь к девушке, которую видела только мельком, охватили ее.
Что делать?
Нет, она и теперь не верила в свои подозрения. Она только пыталась найти опасность, которая могла ей угрожать, и заранее протестовала. Женский опыт подсказывал, что в ее положении стоит даже выдумать эту опасность, дабы проучить мужа. Чтоб он и подумать не смел… Выдумать, обвинить и проследить, как он будет держаться, смутится ли. А главное — пусть всегда помнит, что ему угрожает в случае чего. К тому же, чтобы загладить свою вину, Вере обязательно надо было перейти в наступление. И если бы не все то же чувство неуверенности, которое никак не покидало ее, она сразу же разбудила бы мужа и заставила каяться и клясться.
В дверь постучали.
— Нельзя! — крикнула Вера, думая, что это хозяйка или Зося.
Ее крик разбудил Василия Петровича. Он раскрыл глаза, зевнул и, увидев жену, улыбнулся. По телу разливалась истома. Как человек, давно не переживавший этого чувства, он сладко потянулся и крякнул.
— Вася, — сказала Вера и подошла к кровати, — я хочу у тебя спросить… Как ты смотришь на нас с Юриком? Как понять твое вчерашнее поведение?
Он взял ее за руку, посадил на кровать рядом с собою, обнял.
— Какие мы глупые! — сказал он кротко. — Мучаем сами себя. Наверно, потому, что давно не виделись, и потому, что здорово не везет… А я ведь, ты знаешь, не могу, мне дело нужно!..
По, правду говоря, Василий Петрович часто ставил Зосю рядом с женой. Зося подкупала его своей простотой, преданностью работе, тетке — всему, во что верила и что принимала сердцем.
Он знал, что она замужем, что ее муж, Алексей Урбанович, с которым она встретилась в партизанском отряде, сейчас в армии, на фронте, и Зося тоскует, живет в страхе, хоть старательно скрывает это. Получая от него письма, она плачет по ночам, а наутро такая же, как обычно, спокойная, независимая, ходит по двору, работает дома, на огороде. Всегда занятая, она редко отлучается из дому. Только по выходным дням, взяв лопату и обязательно предупредив тетку, идет на субботник разбирать руины.
Правда, во всем этом было что-то от служения. Словно Зося дала обет и мужественно выполняла его, ища и находя в этом душевное равновесие. Иногда казалось, она вообще бежит от радостей и даже сердится на чужое любопытство к себе. Даже нервничает, когда замечает пристальный взгляд, и сразу показывает когти.
Василий Петрович не раз задумывался: что питает ее волю? Задумывался и завидовал. Как было бы хорошо, если б хоть немного такой терпеливости и преданности можно было передать Вере!
До ее приезда в доме установилось согласие. Тетка Антя убирала комнату квартиранта, стирала и чинила ему белье, готовила обед. С ним она советовалась, занимала у него деньги, Делилась своими заботами. Хозяин, дядя Сымон, любопытный старик, часто по вечерам заходил покоротать время: послушать газетные новости, порассуждать о войне, о жизни, о том, как оно пойдет дальше. Иногда заглядывала и Зося, слушала их беседу, доверчиво и внимательно наблюдала за Василием Петровичем. Так между ними возникли взаимные приязнь и сочувствие людей, которым вместе лучше, хотя у каждого разные хлопоты…
Позавтракав, Василий Петрович собрался было пойти на работу, но возле калитки столкнулся с Зосей. В руках она держала распечатанный конверт, и по тому, как она его держала, Василий Петрович догадался, что произошло несчастье. Рука у Зоси висела, словно неживая, конверт готов был выпасть.
— Что с вами?
Она подняла на него затуманенные, в слезах глаза.
— Лешу ранило.
— Лешу? — некстати переспросил он, смутно догадываясь, о ком идет речь.
— Да. Подорвался на мине… Делал проход для разведчиков…
Зося еще крепилась, пока не начала говорить. Но, произнеся эти слова, сжала дрожащие губы, и слезы потекли по ее щекам. Она явно ждала сочувствия и не скрывала этого.
— Ничего, обойдется, — положил руку на ее плечо Василий Петрович, удивляясь перемене в Зосе. — Мы еще вместе с ним город будем строить.
— Я тоже думаю.
— Он, небось, сильный у вас? Богатырь?
— Конечно. Леша у меня железный…
— Вот видите.
В эту минуту Василий Петрович заметил жену. С гримасой презрения она прижалась лбом к переплету окна и, не мигая, смотрела на них. Увидев, что на нее обратили внимание, отшатнулась, закрыла лицо ладонями и повернулась спиной.
Пунцовый от стыда, Василий Петрович вернулся в дом. Вера лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Юрик сидел за письменным столом и что-то рисовал, не обращая внимания на мать.
— Па-ап! — не отрываясь от своего занятия, протяжно произнес он, когда вошел отец. — Это мизинец, это указательный, а на ноге какие?
Василий Петрович, подойдя к кровати, тронул жену за плечо.
— Оставь меня! — передернулась та.
— Па-ап! — настойчиво повторил Юрик, не дождавшись ответа.
— Ты хоть бы сына постыдился. Называется, отец, глава семьи! Ты думаешь, я маленькая и не могу представить, что тут у вас происходило без меня?
— Вера!
— Ну что "Вера"? Что? — Она приподняла с подушки лицо, все в красных пятнах, и выпучила на Василия Петровича полные презрения глаза. — Может, выгонишь, а сюда приведешь ее?
— В таком случае, я ухожу…
Эти слова словно подстегнули Веру. Она вскочила с кровати и бросилась к двери. Расставив руки, заслонила ее собою.
— Никуда ты не пойдешь. Слышишь? Никуда!
Когда же Василий Петрович приблизился, она ступила ему навстречу, втайне пожелала, чтобы он толкнул или даже ударил ее, надеясь, что после этого он обязательно потеряет свою решительность и с ним можно будет делать все, что угодно.
— Никуда ты не пойдешь, если не хочешь, чтоб я наложила на себя руки. Ты только взгляни на меня: неужели не видишь, как мне плохо?
Вера стала наступать, оттесняя мужа. Волосы ее растрепались, на покрасневшем носу повисла слезинка.
— Я сейчас упаду, Вася. Слышишь?
Он тяжело вздохнул и, увидев, что жена теряет силы, нехотя поддержал ее. Как всегда, когда он видел ее слабость, его возмущение постепенно спадало.
— Ну, ладно, ладно! — начал он успокаивать ее. — Чего ты? Ни с того ни с сего… Мне хватает и без этого. Нельзя же так! В мире ты не одна живешь, и не одна ты хорошая.
— Кто же еще? Зося, известно?
— Что ты говоришь? У нее же настоящее "горе — ранило мужа. Она сочувствия ищет…
— Как это гадко! — перешла в новое наступление Вера. — Неужели ты не понимаешь, что это игра? Ты или юродивый, или тоже страшный развратник. Даже если действительно ранило, разве можно так? Свой мужик обливается кровью, а она жмется к чужому.
— Какой вздор!
— И имей в виду, я не буду молчать. Если так, мне все равно. Пусть все знают!
Сжав зубы, она застучала кулачками в грудь. Потом сдавила ими виски и упала на кушетку.
— Вера, успокойся! — испугался Василий Петрович. — Юрок, ступай сюда… Пожалей маму…
— Сейчас, — слюнявя карандаш, спокойно ответил тот. — Ногу вот закончу.
— Кому говорю?
— Сейчас…
Не постучав, в комнату вошла тетка Антя.
— Я к вам, предупредить, — кинула она строго. — Свои дела вы улаживайте, как вам угодно, но путать в это Зосю — не-ет! Мы просим, чтоб не путали… С какой стати ей через вас еще страдать?..
Василий Петрович растерянно перевел взгляд на жену, ожидая, что увидит, как ей стыдно. Но Вера ухмылялась и была не очень пристыжена. Но зато стало стыдно ему самому, и он впервые за эти месяцы увидел себя как бы со стороны.
Глава четвертая
Прошел месяц, а Валя, как девчонка, по-прежнему жила на высокой волне. Она стала даже сентиментальнее. Ее умиляло самое обыденное — артель, что открылась под прежним, довоенным названием; постановление горсовета, обязывавшее райисполкомы взять под наблюдение скверы; паренек, заходивший спросить, есть ли в доме дети школьного возраста.
Сводку Совинформбюро можно было прочитать в газетах. Но те приходили под вечер, а то и на другой день. И Валя каждое утро бегала к репродуктору, установленному связистами на улице. Войска Белорусских фронтов, развивая наступление, вели успешные бои. Были освобождены Молодечно, Барановичи, Пинск, Гродно, форсированы Неман, Западный Буг. Двадцать восьмого июля после обходного маневра и лобовой атаки войска Первого Белорусского фронта отбили Брест, за которым открывалось уже Варшавское направление. К концу месяца Белоруссия стала свободной. В сводках начали появляться названия неизвестных городов, местечек, железнодорожных станций. Уже это одно делало жизнь обещающей.
Почти без сожаления Валя сдала в ЦК комсомола дела бригады. В общем-то ей не взгрустнулось даже во время партизанского парада, который проходил на бывшем ипподроме и оставил в памяти шелест знамен, разноголосый людской шум и ощущение чего-то живописнего, пестрого, необычного. Она была там уже зрителем к беспрестанно махала платком проходившим мимо колоннам. Но, понимая, что знакомые ей знамена и оружие можно будет увидеть уже только в музее, Валя не жалела, что все это, когда-то дорогое, овеянное романтикой, отходит в прошлое.
— Опять учиться! — замирая от радости, сказала она Алешке, который, видимо, сразу после работы зашел к ней. — Как это хорошо — учиться!
— Говорят, Иван Матвеевич вместо "Отечественной войны" мне "За отвагу" подписал? Верно? — не разделил ее радости Алешка. — Ну что ж, теперь и без нас героев по горло. Из наших некоторые даже не больно признаются, что в подполье участвовали. Вишь, как все поворачивается.
Алешкиному ухарству не хватало обычной бесшабашности. Сквозь него нет-нет да и пробивались беспокойство и недобрая решимость.
— Поступай и ты, Костусь, — не замечая этого и вообще не очень обращая внимание на его слова, посоветовала Валя. — Политехнический тоже вернулся.
— А кто тогда работать будет?
— Мы и работать будем.
— А жить кто?
— И жить — мы.
— Да-а… Как я, Валя, представлял себе первые часы без фрицев? Выпью, мол, и пойду. Ночь. Дождик моросит. Тротуары от фонарей поблескивают. А я иду и шатаюсь. Знаешь, потянет сначала в одну сторону, потом легонько в другую. Красота! А на сердце тихо, мирно, потому что кто-то ожидает меня. С надеждой, с верой…
В комнате стояли сумерки.
Алешка сидел возле окна, и его кудрявая голова, сильная шея и крутые плечи резко вырисовывались на фоне светлых стекол. Валя уловила в словах Алешки жалобу, удивленно взглянула на него, но все же посочувствовала. И сочувствие это было особенным — от него становилось страшно. Валя знала, что имеет власть над Алешкой, но начинала его бояться. Пугала непосредственность, из-за которой Алешке почему-то прощали многое, чего никогда не простили бы другому. Страшили озорной, вызывающий взгляд, настойчивость, с которой он повадился заходить, чувствуя, что это не по душе Зимчуку.
— Не доходит эта твоя поэзия до меня, — сказала Балл, борясь с закрадывавшейся в сердце боязнью. — Пьяная она…
— А я почти и не пью! — отмахнулся он. — Так оно представлялось, может потому… Как бы тебе объяснить? Ну, захотел выпить, море широкое, и выпил. Хочу — иду прямо, хочу — шатаясь, я тут хозяин. Давай завтра за город катанем, я велосипед раздобыл.
Валя промолчала и торопливо нащупала в ящике спички.
Алешка недовольно шевельнулся, но не поднялся.
— Подожди, не надо. Я сейчас пойду.
Она не послушалась, зажгла лампу и раскаялась, Чтоб опустить маскировочную штору, надо было пройти возле самого Алешки, повернуться к нему спиной, стать на стул и развязать шнурочки, на которых держалась штора… А он? Он обязательно будет следить за ней своими нагловатыми глазами, примечать каждое ее движение, а когда она станет на стул, будет смотреть на ее ноги. "Пусть сам опустит, — подумала она и сразу же отказалась от этого: — Догадается!.."
Валя стояла возле самого стола, Лампа под абажуром лила на нее ровный, спокойный свет. И в нем она выглядела подростком. Но в позе, в чутком наклоне головы, в настороженном ожидании угадывалась женщина, которая уже знала, что она собой представляет.
— Встань, герой! — неожиданно с вызовом сказала Валя.
Пристально глядя на Алешку, взяла его стул, пододвинула к окну и стала на сиденье. Труднее было поднять руки. Но она подняла их и, стараясь не спешить, начала развязывать узелки, всем телом ощущая Алешкину близость. Но когда был развязан последний узелок, решительность стала убывать, и Валя оглянулась… Криво усмехаясь, Алешка протягивал к ней руки.
— Руки! — крикнула она.
Опустив штору, соскочила со стула. Подумала, что надо возмутиться, и сердито прищурилась.
Но это словно не касалось Алешки. В светло-голубых глазах его вспыхнули недобрые огоньки, и он, взмахнув руками, обнял Валю.
— Ты что? — оттолкнула она его. — А ну-ка, убери руки и уходи! Думаешь, тоже война спишет?..
Лежа в постели, Валя снова представила все, что произошло.
Правда, сдалось оно немного иным, чем сразу. Алешка оказался отнюдь не таким уверенным. Под бравадой чувствовались обида и смятение. Однако это не тронуло Валю. Наоборот, увело в сторону внимание, сделало черствой. "Знает кошка, чье сало съела. Сам кругом виноват. Недавно в пригородном совхозе самоуправничал — овец у крестьян отбирал. Сегодня ко мне с руками лезет. А завтра вообще неизвестно, что совершит. Распустился в войну…"
Странно, но мысли у Вали потекли именно в этом направлении. Почему? Не потому ли, что она вообще легко смотрела на вещи? Вероятно, это была черта многих ее сверстников, знание жизни у которых часто подменялось верою и готовыми представлениями о добре и зле.
"Ты хозяин жизни, — говорили им, — дело твое святое, цель ясная, дорога широкая. Конечно, могут встретиться трудности. Но что значат трудности, если они не заслонят великой цели, если от них не станет уже дорога и никто не лишит тебя права быть хозяином жизни! Важно только уметь жертвовать кое-чем, быть энтузиастом вопреки всему". И они впитывали в себя эту истину, требующую отрешенности, идеализма.
Не поколебала их веры даже идущая война. Наоборот, военные победы укрепили ее, заслонив собою поражения. Правда, трудности предстали более реально — край лежал в развалинах. Но что значили разрушения в сравнении с чудодейственной силой родины, которой все по плечу. Взглянет — и пропадут, как кошмарный сон, руины и пепелища. Взмахнет рукой — и поднимутся сказочные дворцы. Надо только не очень задумываться о себе, о том, что трудно.
Что поддерживало подобную убежденность?
Все — от ежедневных сводок Совинформбюро до ощущения собственных сил. И, может быть, еще сознание того, что ты — частичка необозримой страны, где одновременно бушуют черноморские штормы, на нивы падают тихие дожди, а над заснеженными заполярными просторами совсем не летнее небо… А тут еще юношеская беззаботная вера!
Если бы Валю спросили, что такое счастье, она скорее всего ответила бы: "Счастье! Это — жить…" И задумалась бы только на минутку. А задумавшись, добавила бы: "У нас, конечно…"
Порывом к счастью, как думала она, был когда-то и первый субботник. Голодные, обессиленные люди вышли работать сверхурочно, зная, что не получат за это ни добавочного панка, ни оплаты. И работали они лучше, чем обычно, и сделали больше. Сделали потому, что начинали понимать: счастье — в этом подвиге и дальше, за ним.
Вот и теперь, после освобождения города, проявлением такого побуждения опять стали субботники.
Кто подал о них идею? Скорее всего она родилась безымянной, хоть дала о себе знать уже в первые дни освобождения, когда на стенах еще не остывших коробок появились призывы: "Из пепла и руин поднимем тебя, родной город!" Но кто писал призывы? Многим казалось, что это сделали они сами. А потом? Кто-то ведь выступил первым на собрании, внес предложение — в выходной день начать разборку развалин. Но кто это был? Его тоже нельзя назвать. И хотя субботники имели своих энтузиастов, о субботниках говорили на летучих митингах, на совещаниях, о них писали газеты и принимались решения, — субботники выявляли стремления не только тех, кто говорил, писал и выносил решения. Даже отсталые, клявшие про себя субботники, не возражали против них вслух. Почему? Не было за что да и при таких обстоятельствах было неловко. Брали верх мораль, общественное мнение, которые оказывались сильнее самого человека… Во всяком случае, так себе представляла Валя.
Некоторые руины угрожали обвалом. Начали с них. На зубцы стен набрасывали канаты и дружно, под команду, раскачивали изувеченные громадины. С любопытством смотрели, как они начинали трескаться, обсыпаться и, раздаваясь у фундамента, не падали, а оседали на землю, обдавая клубами сухой и горькой пыли.
Другие руины держались надежно. Стояли закоптелые, холодные, с темными провалами. Лестницы в них почти всегда были целыми, и обмытые дождями ступеньки белели, как досмотренные.
С такими руинами сначала возились саперы. Гулкие взрывы рвали предрассветную тишину над городом. И Вале тогда чаще, чем в партизанские дни, снилась воина.
С утра по выходным дням и под вечер в рабочие дни к руинам стекались люди. Несли носилки, кирки, лопаты. Приходили с песнями, нередко в колоннах, расходились же молчаливо, чаще всего по одному. И хотя кое-где вырастали аккуратные клетки кирпича, кучи железа, камней, казалось, что руины по-прежнему вздымаются всюду и даже в вечерних сумерках стали выше.
Занятия в университете начинались с октября, и Валя, не желая сидеть без дела, стала временно работать в Комитете Красного Креста — одном из самых беспокойных и шумных учреждений сорок четвертого года. За Комитетом был "закреплен" квартал сплошных руин — полуразрушенных коробок и стен, которые чудом держались, опираясь неведомо на что. На них уже успели вырасти карликовые деревца. И от всего веяло таким запустением, что даже молодежь, обычно неугомонная, работала почти без смеха и шуток.
Валя возвращалась домой вконец усталая. Ладони, сухие и шершавые от кирпича, горели. Ныла спина. Не раздеваясь, она бросалась на кровать, закрывала глаза. И только тогда, в полудремоте, становилось легче, ее охватывало то приятное чувство, которое появляется, когда начинает проходить усталость.
"И все-таки хорошо, что город останется там, где стоял всегда, — думала Валя. — Свой, привычный и такой необходимый. Пусть это значительно труднее, чем построить его на новом месте. Пусть! Тут нельзя жалеть ни сил, ни времени…"
Почему это так? Валя вряд ли ответила бы. Но сердцем чувствовала, что должно быть только так. Правда, ясно представить себе город, каким он будет через несколько лет, Валя не могла. Руины, которые появились словно в результате раскопок, заслоняли будущее. Но в воображении каждый раз возникала светлая картина. И она манила Валю, заставляла торопиться. "Только бы скорее, скорее!.."
Однажды на субботник приехал Кондратенко. В сером плаще, с непокрытой головой, он зашагал между грудами щебня, попыхивая трубкой и широко размахивая рукой, в которой держал фуражку. С ним шло несколько человек, среди которых Валя узнала Зимчука и секретаря горкома Ковалевского. Они о чем-то негромко разговаривали. Невдалеке от Вали остановились. Кондратенко окинул взглядом очищенную от развалин площадку и нахмурился.
— Ну вот, в сущности, то же самое, — заметил он, по-называя на юношей и девушек, которые без работы полеживали в тени у полуразрушенной коробки и лениво перекидывались камешками. — Они же скучают. И, вероятно, тоже оттого, что мы уважаем и экономим только рубль… А что если бы это был не субботник? Даю слово, хватило бы и ломов, и носилок, и распорядителей. А здесь? Дармовщина, Да еще какая! Предложи плату — завтра ни один не выйдет на работу.
— Стоит подумать о создании чего-то вроде треста разборки и восстановления строительных материалов, — сказал Ковалевский. — Пусть будет один хозяин.
— Вот-вот! — согласился Кондратенко. — Тем более что Совнарком и цека приглашают из Москвы архитектурную комиссию. Есть основания… Во всяком случае, можно полагать, что нам и сталинградцам придется показывать пример другим…
Заметив Валю, которая стояла с киркой, не зная, отойти ей или продолжать работу, Кондратенко поздоровался.
— Тяжко? — спросил он, показывая на кирку.
Валя смутилась.
— Нет, товарищ секретарь. Почему же?..
Ей на самом деле показалось, что она говорит правду. Но не потому, что не чувствовала усталости или ей не было тяжело. Наоборот, руки уже гудели и ломило спину. Но она была убеждена: признаться в этом — значит доказать досадную слабость, в чем-то стать недостойной других. К тому же так было принято отвечать. Однако, когда взгляд ее упал на кирку, на запыленные, порыжевшие тапочки, сделалось жалко себя, и, если б не стыд, из глаз, возможно, брызнули бы слезы.
— Ну и как все-таки? — настойчиво переспросил Кондратенко.
— Конечно, немного тяжело… — поправилась Валя. — Но, честное комсомольское, про это как-то забываешь…
Наклонив голову, исподлобья, он внимательно посмотрел на нее, кивнул и пошел дальше. За нам двинулись остальные.
Переведя дыхание, Валя чуть успокоилась. Но, когда она хотела было взяться за работу, кто-то, неслышно подойдя сзади, закрыл ей глаза ладонями.
"Алешка!" — ужаснулась она, снова не зная, что делать.
Но руки были не мужские, и держали они Валину голову некрепко. Да и тот, кто держал, сам едва владел собой.
— Зося! — снова не ведая как, узнала она. — Родная! Я слышала, что ты в городе. Пусти! Я тебя из тысячи угадаю…
Она бросила кирку и порывисто обернулась. Перед ней действительно стояла Зося.
— Боже мой! Чего ты плачешь?
— Не могу, — призналась та, всхлипывая и не сводя с подруги радостных, влюбленных глаз. Но было заметно — встреча и смущает ее. Она смотрела на Валю, и краска выступала на ее лице. Ей, видимо, показалось, что возвращается прошлое. Видимо, появилось ощущение, что Валя может вот сейчас подмигнуть и невпопад что-нибудь ляпнуть про Алексея или вообще., И, чтобы опередить ее, она сказала:
— А ты совсем-совсем не изменилась.
— Когда тут было изменяться, — поправила Валя косынку. — А Минск, наверное, одни партизаны заселили. Кто по брони, кто так… Здесь ведь и Зимчук и Алешка. Помнишь тот, кудрявый? Подпольщик. Ты ему как-то еще руку перевязывала, когда приходил из города…
— Говорят, туго сейчас некоторым из них, — преодолела замешательство Зося. — Провалы ведь были. Причины ищут.
— Глупости! Ты слушан только. Мне Иван Матвеевич давно бы сказал. Мы же с ним вместе живем.
Они обнялись и так на минутку застыли.
— А Лешу, Валя, ранило, — пожаловалась Зося, прижимаясь к ее плечу.
— Алексея? — переспросила Валя. — Что ты, Зосечка? Сильно?
— Пишет, что нет. Да разве его можно слушать. Ты же знаешь, он, умирая, не пожалуется.
— И как же ты теперь?
Зося опустила руки.
— Живу вот. Ходила в Наркомпрос, в школу направляют. Так что…
Валя опять хотела привлечь ее, но Зося наклонилась, поднимая лопату, которую бросила, когда подкрадывалась, и уже спокойнее докончила:
— Мне бы только до работы дотянуть… Да хватит про меня. Скажи-ка, как Иван Матвеевич там?
— Ничего. К нему жена и дочь из эвакуации возвращаются, готовится семьянином стать. — В Валином голосе послышались насмешливо-ревнивые нотки. — Ты представляешь его семейным? Нет? Я тоже.
— Ты уходишь, надеюсь, оттуда?
— Куда? И вообще, почему я должна это делать?
— Мало ли почему.
— У тебя вечно какая-то несуразица в голове. По себе с Кравцом, что ли, судишь?
Она поняла — сказала ненужное, жестокое. Зося может обидеться, и поспешила перевести разговор на другое.
— Иван Матвеевич недавно проходил тут, С Кондратенко. Ты слышала, о субботниках, о строительстве говорили. Спрашивали, тяжело ли?
— Тяжело ли? — повторила Зося, вздыхая. — Да разве может быть сейчас легко? Я, наверное, и не выдержала бы тогда… А насчет Кравца… если хочешь подругой остаться, не вспоминай мне!..
Она не договорила. Все, кто работал поблизости, — носили кирпич, сваливали в кучу железный лом, кирками разбивали кирпичные глыбы, — вдруг остановились, глядя в одну сторону.
На зубчатой стене стоял парень и, размахивая руками, что-то кричал вниз. Он, видимо, только что накинул на желтую громадину канат и теперь отдавал последние распоряжения.
— Валить будут, — задумчиво проговорила Зося. — Пойдем посмотрим.
Но Валя, украдкой наблюдая за парнем на стене, отрицательно мотнула головой: она узнала Алешку. А тот, ловко перескочив на другую стену, немного отбежал и поднял руку. Стена закачалась, раздалась где-то у фундамента, осела и скрылась в туче пыли.
"И тут нашел работу по себе", — подумала Валя и заторопилась: надо было еще переписать сотрудников, участвовавших в субботнике.
— Валя, подожди!
— Чего тебе?
— Я должен с тобой поговорить.
— Поговорили раз — довольно.
— Почему ты начала избегать меня? И тебе уж наплели три короба?
— Я не избегаю, а просто не хочу с тобой встречаться, Костусь.
Алешка догнал ее, но все же пошел не рядом, а немного сзади, ведя велосипед и не совсем уверенно заглядывая ей в лицо. В своей сдвинутой на затылок маленькой кепке, пиджаке, небрежно наброшенном на плечи, в расстегнутой рубашке и запыленных брюках, заправленных с напуском в сапоги, он выглядел ухарски. Но протянутая рука, которой Алешка хотел остановить Валю, выдавала его тревогу.
Солнце, огнистое, красное, скрывалось за руины, а вспотевшее, разгоряченное Алешкино лицо казалось бронзовым. Он не раз собирался вытереться рукавом, но каждый раз отказывался от этого и становился все более упрямым.
Валя не оглядывалась, но чувствовала его рядом и сама замечала, что ее непримиримость слабеет.
В сквере на площади Свободы она не выдержала. Подойдя к могилам танкистов, задержалась у самой высокой пирамидки и, остановив взгляд на надписи, нетерпеливо спросила:
— Что ты хотел сказать? Говори. На нас обращают внимание.
Алешка стал рядом.
— Я не согласен, чтоб наша дружба так кончилась.
— Ты сам виноват.
— Ой ли? Я или Зимчук?
— Иван Матвеевич? При чем тут он?
— При всем. Я знаю, что значит жить с вашим братом под одной крышей. Вместе ужинать, вместе завтракать. Встречал я уже сорокалетних партизанских опекунов. Приходилось, ха-ха!
— Ты не имеешь права так говорить!
— Думаешь, я тоже не верил в него? Ого!
— У Зимчука дочка моих лет. Когда немцы повесили маму и дядю Рыгора, он мне отца заменил. Как у тебя только язык поворачивается!
— Повернется, если больно!.. Подполье со всеми, небось, теперь под лупу рассматривает. А за какие грехи? Что мы жизни не жалели? Тоже мне праведник!
Нечто знакомое привлекло внимание к надписи на пирамидке, и Валя невольно прочитала ее: танкист, погибший при освобождении города, был ее ровесником. Она прочитала надпись еще раз — звание, фамилию, год рождения, дату смерти — и уже более твердо сказала:
— Ну а что, если и проверяют? Честные люди, Костусь, не боятся проверки. Чего бояться?.. И здесь мы друг друга не понимаем.
— Значит, и ты тоже?!.
Он схватил и сильно сжал ее руку, требуя, чтобы Валя посмотрела на него.
Не показывая, что ей больно, она кинула на Алешку холодный взгляд, увидела его посеревшее лицо, блестящие, круглые глаза и не сделала никакой попытки вырваться. Это обескуражило Алешку, он отпустил Валю и, ударившись ногой о педаль велосипеда, чуть ли не бегом бросился из сквера.
Рука болела, и Валя злилась. "Сумасшедший! — думала она, возмущаясь. — Ненормальный какой-то! Так он и убить может… Псих!" Она ругала и поносила Алешку, Вместе с тем росла обида и на себя: видимо, он подмечает в ней нечто такое, что позволяет ему своевольничать. Но над всей этой путаницей чувств и мыслей все же царило одно — смятение. Что-то неведомое входило в Валино сердце, и нельзя было от него отмахнуться.
С чувством вины Валя подошла к дому. Решив незаметно прошмыгнуть в свою комнату и там побыть наедине, тихо вошла в прихожую. Но, крадучись возле треснувшего, с желтыми подтеками зеркала, не удержалась и глянула в него. Увидела — оттуда на нее смотрела чем-то пораженная девушка с растерянными лучистыми глазами. Валя резко отвернулась, и под ее ногами скрипнула половица.
— Это ты, Валюша? — послышался голос Знмчука. — Зайди, если есть время.
Мыться пришлось одной рукой, другая все еще болела. Валя нервничала и не знала, как после всего, что ей наговорили, покажется на глаза Зимчуку.
Подойдя к его кабинету, она в нерешительности остановилась, поправила валик волос, по привычке одернула гимнастерку и только тогда открыла дверь.
Зимчук сидел на диване, подвернув под себя ногу, и просматривал книгу. Рядом с ним тоже валялись книги в коленкоровых, ледериновых и картонных переплетах.
— Слышишь, Валюша?
— Что? — исподлобья взглянула на него Валя, остановившись у порога.
— Приказали вот овладеть… Видишь? Сам Первый звонил в Ленинскую, сам распорядился подобрать и для себя и для нас: Потоп настоящий.
— Теперь станет больше работы, правда?
— Я, Валюша, перелистывал одну, — он потряс книгой, — и обнаружил любопытную штуку. История архитектуры, в сущности, — история ее приближения к человеку. Сначала у этой каменной красоты была цель пугать людей, утверждать их никчемность. И все! Потом она стала немного снисходительнее. Но, устремляясь в небо, к богу, как и раньше, имела к труженику только то отношение, что он создал ее. А потом? Потом была вынуждена отдавать себя в батрачки. А простой человек только дивился искусству рук своих…
— Ага, Иван Матвеевич, — по-своему поняла его Валя. — Я согласна.
— Согласна? — приподнял плечи Зимчук.
Он отложил в сторону книгу, встал, подозвал Валю и прикоснулся ладонью к ее лбу. Потом собрал разбросанные книги и перенес их на письменный стол.
— Иметь дело с людским горем стало моей профессией, Валюша, я видел его и там, во время оккупации, и тут, работая в Чрезвычайной комиссии. Кровавое, могильное и нагое, лыком подпоясанное. Всякое. Но вот женщину и девочку одну, с которыми в подвале встретился, не могу забыть. И мне кажется, всю эту архитектурную мудрость сейчас надо направить на то, чтобы скорее вывести людей из землянок и подвалов.
— Мне нужно поговорить с вами… — тронутая его добрыми словами, сказала Валя. — Это правда, Иван Матвеевич, что с подпольем до сих пор не все ясно?
Зимчук насторожился, лицо у него стало отчужденным, словно что-то отгородило его от Вали.
— Ты про Алешку?
— Ага.
— Не люблю я ветрогонов, Валя. Это — вообще. А кроме того, с такими нельзя спешить. Доверяй, как говорятся, и проверяй. Хоть это уж не нас касается… Да и как быть иначе? Ты правильно там, на субботнике, сказала. Вот и исходи из этого…
Валя почувствовала — Зимчук уходит от ответа. Но, начиная сердиться на него, не захотела думать об этом дальше. Даже заставила себя поверить — он сказал почти все. А если чего-то не сказал, значит — нельзя.
— А мне как быть? — спросила она, однако, мстя ему за скрытность.
— Что значит — тебе? — не сразу понял он.
— Я скоро буду мешать вам.
— А-а, — покраснел Зимчук. — Это моя забота.
— Нет, почему же. Если не доверять, так не доверять…
Зимчук отвел прищуренные глаза в сторону и начал перекладывать книги на столе.
— Ладно… — помолчав, сказал он. — О тебе они наслышаны, но, признаться, ревнуют уже в письмах. Особенно Алеся, дочка. И ты, может быть, права. Идеальных семей, к сожалению, пока мало. Да и на виду мы теперь. Не только с собою приходится считаться. Я позвоню вашему ректору…
Путано сказав, что она за все благодарна ему и всегда останется признательной, Валя вышла. Надо было совсем по-новому подумать о завтрашнем дне.
Рука не перестала болеть и на следующий день. И каждый раз, когда боль давала себя знать, Валя, сердясь, вспоминала Алешку. "Сумасшедший. Сам сперва оправдайся, а потом других обвиняй. Тоже взял моду!.." — негодовала она. Но в то же время чувствовала, что теряет прежнюю власть над собой и спасительная черта, отделявшая ее от Алешки, помогавшая держать его на расстоянии, начинает пропадать. "Никогда больше не заговорю с ним. Пускай что хочет, то и думает. Никогда!" — обещала она себе, не очень веря собственным словам.
Еще труднее было вынести приговор Зимчуку. Он прочно вошел в Валину жизнь, заняв, как говорят, место в красном углу. В Зимчуке, как казалось ей, вообще жило стремление делать все так, чтобы сегодняшний день был краше вчерашнего. Особенно если это касалось партизан. Он не порывал с ними связи, бывал у них, многим помог устроиться, получить нужные справки, льготы. Выезжая на район, — в места, где партизанил, — не забывал захватить с собою новую книгу, набор рыболовных крючков, семена скороспелой кукурузы, которые неизвестно где раздобывал. И Валя уважала, слушалась его. Рвать с ним — значит остаться одной, без поддержки. Значило — в чем-то отказаться от своего прошлого…
Но как тогда быть с его неожиданным отступничеством, предвзятостью к Алешке. Подчиненностью чему-то высшему, что важнее за него самого, за его совесть, людей, вообще…
Каждый день, наскоро позавтракав, они вместе шла на работу. Им было по пути. Зимчук провожал ее до белого, похожего на глинобитку домика на углу улиц Карла Маркса и Энгельса, где помещался Комитет Красного Креста. Валя подбегала к крыльцу, останавливалась и некоторое время смотрела вслед Зимчуку, чтобы в случае, если он оглянется, помахать рукой. Даже в те дни, когда Зимчук из дому ехал прямо на кирпичные заводы или другие предприятия, он подвозил Валю на работу.
Сегодня же Валя не вышла завтракать. Зимчук тоже не позвал ее, как это делал обычно. Покашливая, прошел из кабинета в кухню, долго плескался там водой, фыркал и топал, а через минуту хлопнул дверью. Валя так и не узнала, завтракал он или нет.
Торопясь, она собрала вещи, простилась с ошарашенной старушкой-домработницей и с узелком в руках пошла в Комитет Красного Креста, а оттуда в университет.
В университетском городке уцелел лишь корпус физмата. Валя не раз уже бывала здесь, и ей не пришлось искать.
Ректор — средних лет мужчина, с кудрявыми, подстриженными под "полубокс" волосами, придававшими его голове атлетический вид, встретил Валю как-то насмешливо, с мужским любопытством. Его лицо дышало здоровьем, силой. Он был в хорошем настроении, и это проявлялось в движениях, в шутливом тоне его голоса. Но короткая и не совсем обычная беседа с ним подбодрила Валю. И когда ей показали комнатку в бараке, где предстояло жить, может, все четыре студенческих года, к ней почти вернулось хорошее настроение.
Барак был временный, покрытый толем, но комнатушка оказалась уютной. Стены оклеены обоями, голубыми, с фантастическими серебристыми цветами, потолок хорошо побелен. Валя нашла в ней еще одно преимущество — два небольших оконца смотрели на юг. Сквозь них в комнатку лилось солнце, и вся она была наполнена мирной золотистой пылью.
Комендант принес железную кровать, тумбочку, табуретку, показал, где взять соломы для матраца, и Валя принялась за работу.
Протерла стекла в оконцах, вымыла пол, застлала постель. Просыхая, пол пахнул очень знакомым, родным, и Валя все больше убеждалась: то, что произошло, — к лучшему. Теперь она, по крайней мере, самостоятельна во всем.
Все к лучшему!.. И хотя тут же обнаружилось, что для того, чтобы жить, надо иметь иголку, нитки, котелок, спички, замок и десятки самых неожиданных вещей, Валя беззаботно рассмеялась. Ей пришла веселая, уже чисто студенческая мысль: если есть комендант, значит будут и котелок, и графин для воды, и занавески на окна. А если и встретятся трудности — пусть! Без них теперь даже неловко. Зося права. Ах Зося, Зося!..
Охваченная желанием действовать, Валя нашла два гвоздя, один вбила над кроватью, другой — возле двери. На первый повесила партизанскую флягу, финку в кожаном чехле, пилотку, на второй — полотенце. Потом отошла на середину комнаты и стала любоваться ею.
За этим занятием ее и застал Зимчук.
Он зашел, делая вид, что с опаской посматривает на потолок, словно ожидает, что тот может обвалиться. Под мышкой у Зимчука был сверток.
— С новосельем! — сказал он, кланяясь. Но ему трудно было совладать с собой, и он, положив на табуретку сверток, как волшебник, замахал над ним руками. — Тохтар-бохтар! Тохтар-бохтар!
— Что это?
Зимчук перестал колдовать.
— Тут остаток твоего пайка, и еще что-то, без чего, как бабушка считает, ты погибнешь. Во всяком случае, здесь все твое или то, что должно быть твоим.
Валя взглянула на расстроенное лицо Зимчука и смутилась: "А против чего, собственно говоря, я бунтую? Разве плохо, что так вышло? Мы ведь все равно останемся друзьями. А чтобы делать выводы, надо много знать. А если не знаешь, верить в тех, кто знает…"
— Спасибо, — спрятала она сверток в тумбочку. — Я когда-нибудь обязательно отблагодарю вас.
— Ты лучше скажи "заплачу".
— Нет, почему же… Но я в долгу перед вами…
— Значит, увидела во мне чужого. А зря. Неужели думаешь, тебе пришлось перебираться сюда только из-за спокойствия моей семьи? Нет, Валя, и еще раз нет! У человека уйма обязанностей, и он, поверь, отвечает не только за себя.
— Я верю, конечно…
Она соглашалась, давала себе слово оставаться прежней с Зимчуком, но даже не подозревала, что творится у него в душе. И, пожалуй, хорошо, что не подозревала. А может быть, и наоборот, плохо, ибо чаще всего людям не мешает знать правду.
Глава пятая
Через несколько дней самолетом прилетела комиссия. Возглавлял ее академик Михайлов, которого Василий Петрович знал еще со студенческих лет. Шумливый, веселый, он осанкой напоминал пожилого врача. Когда Михайлов после совещания в ЦК вышел на улицу, он, совсем как хирург, идущий к операционному столу, потянул себя за один, потом за другой рукав и, приятно окая, приказал:
— Нуте-ка, молодой человек, показывайте!
Он обратился к Василию Петровичу, и это предрешило, кому давать объяснения, хотя в состав комиссии вошли Понтус и архитектор Дымок, в свое время работавший над довоенным планом реконструкции города. По веселому блеску глаз, по тону, каким было сказано "молодой человек", Василий Петрович догадался: академик тоже узнал его.
Михайлов слыл человеком смелых решений и широких масштабов. Некоторые из его проектов вошли в учебники и поражали ясностью мысли, строгой красотой. И, вероятно, это, как того очень хотелось Василию Петровичу, обусловило выбор ЦК. Но многие из проектов Михайлова — и это также знал Василий Петрович — не были осуществлены. Им не хватало практической мудрости.
С чувством человека, который опасается обмануться в своих надеждах, Василий Петрович повел комиссию по городу, подробно объясняя, что было до войны на месте руин, и с нетерпением ожидая замечаний и вопросов. "Испугаются, — думал он с тоской. — Увидят, ужаснутся, и куда денется прославленная смелость…"
День был ветреный. По улицам поземкой стлалась рыжая пыль. Она вихрилась, слепила глаза, наметала сугробики всюду, где могла задержаться. Руины от пыли будто дымились. Побелевшее от жары небо тоже казалось пыльным.
Слушая Василия Петровича, Михайлов щурился, часто просил, чтобы его подождали, взбирался на груды кирпича, осматривал окрестность. Кое-кто уже притомился, Понтус начал посматривать на часы, а Михайлов все лазил и лазил по развалинам.
Примерно в часу четвертом он неожиданно предложил осмотреть город с самолета. Сидя в "оппеле" и приглядываясь к улицам, как и ожидал Василий Петрович, Михайлов заговорил.
— Некоторые полагают, что генеральная идея при планировке такого города, как Минск, должна обязательно оставаться открытой, — сделал он ударение на слове "такого". — А почему, любопытно? Да потому, отвечают, что окончательно можно решить только те части города, где в камне воплотится прошлое. Иначе заданная идея будет мешать дальнейшему естественному росту города. К тому же никто толком не знает, как и в каком направлении пойдет этот естественный рост. Лет через десять в городе могут появиться, например, производственные гиганты. Что тогда? Разве они не будут влиять на дальнейший его рост? Разве город не должен быть как-то повернут к ним? Аль исключена возможность, что, скажем, такое святое место, как Сталинград, перестанет быть экономическим центром и превратится в город архитектурных памятников? И со всего света туда будут съезжаться, как в Мекку? Кто знает? И вот тогда, и в первом и во втором случае, идея, которую вы воплотите в такой прочный материал, как камень, станет на пути движения вперед…
Михайлов прищурился и взглянул на Василия Петровича, приглашая высказаться.
"Испытывает", — волнуясь и почему-то обижаясь, подумал Василий Петрович и сказал:
— Тот, кто так рассуждает, забывает, что у нас все растет в одном направлении.
— Вот именно! — подхватил Михайлов, и глаза его хитро блеснули из-под седых бровей. — А что это значит? Да то, что в нашем городе не может быть противоречий между окраинами и центром. Бесспорно, ничего не скажешь, надо чтобы в нем отразилось пройденное, приобретенное. Но мы, — Михайлов доверчиво посмотрел на Василия Петровича, — обязаны, по-моему, приоткрыть занавес и над будущим. Почему? Уже потому, что у нашего человека, дорогие товарищи, есть законное желание — пожить при коммунизме. А остальное придет само — и архитектурные памятники, и Мекка, и тому подобное…
С самолета город, пожалуй, выглядел еще ужаснее. Всюду, куда ни посмотришь, — руины, руины, где-то у горизонта окаймленные полоскою окраинных домиков. Коробки, которые с земли еще напоминали былые дома, сверху мало чем отличались от руин. Но отсюда, с высоты, улицы угадывались отчетливее, и Василий Петрович легко узнавал знакомые по плану контуры.
Пролетели линию железной дороги. При повороте за крыло стали отходить бурые, без крыш цехи вагоноремонтного завода, товарная станция с крохотными составами на игрушечных путях, руины кварталов, прилегавших к Московской улице. Возникло и уже не проходило ощущение, что самолет летит не прямо, а как-то боком, все время занося вперед одно крыло.
В пыльной дымке приблизилось здание Дома правительства. Среди развалин окрестных кварталов оно возвышалось, как на макете. Тут начиналась Советская улица. Неровная, извиваясь, сна пробивалась через город на северо-восток, пересекала серебряную полоску реки, на Круглой площади делала еще один поворот и, влившись в Пушкинскую улицу, переходила в автомагистраль.
Михайлов подозвал к себе командира экипажа и, не отрываясь от окна, попросил:
— Пожалуйста, вдоль Советского проспекта.
Он сам сперва, наверное, удивился своим словам, потому что сразу же, будто его окликнули, оглянулся и, чтобы скрыть минутное замешательство, погладил клинообразную бородку. Потом посмотрел на Василия Петровича и положил руку на его колено.
— А вы знаете, меня радует, что вы не улыбнулись… Это очень хорошо…
Долетев до парка Челюскинцев, самолет развернулся. Некоторое время летели над лугами, пригородной деревней, над пестрым, изрезанным во время оккупации на полоски полем с неожиданно многочисленными дорогами.
Откуда-то набежала тучка. Сыпануло мелким дождем. Капли дружно ударили в окна самолета и поплыли не вниз, как обычно, а стремительно побежали поперек стекол.
Все оживились.
— Многое, действительно, можно исправить, — не выдержал Дымок, переводя свои прозрачные, как небо, глаза с академика на Понтуса и опять на академика.
— Что? — недослышал Михайлов, который забыл принять таблетку аэрона.
Уши у него временами закладывало, а когда отлегало, то, словно прорвав препону, врывался гул.
— Я говорю, что некоторые улицы можно выпрямить.
— Горбатого могила выпрямит! — прокричал Понтус и, ожидая ответа, приставил ладонь к уху.
— Полноте, неужели так? — удивился Михайлов.
— Нет, конечно! — иронически поджал губы Понтус, давая понять, что он шутит. — Кое-что мы обязательно улучшим. И в частности Советскую.
— Нуте, нуте!
— На это Дымку проще ответить. Мне еще надо хозяйственника с архитектором в себе примирить.
— Поня-а-тно, — протянул Михайлов и, сморщившись от новой волны звуков, опять повернулся к окну.
К городу подошли с юго-востока. Снова под крылом поплыли руины, холмистые пустыри, узкие улицы между ними.
Когда пролетали над Круглой площадью, на горизонте блеснуло Комсомольское озеро, вырытое накануне войны. Василий Петрович догадался, в каком направлении идут мысли Михайлова. "Старик", как по старой студенческой привычке Василий Петрович мысленно называл его, видимо, намеревался предложить строить будущий город на двух перекрещивающихся магистралях. И одной из них должна была стать Советская улица-проспект. Догадка взволновала Василия Петровича: что-то близкое мерещилось ему самому, когда, склоненный над столом, он разглядывал план города, отмечая уцелевшие здания и при-годные коробки.
Ветер утих. Пыль улеглась, закат золотил руины. "Приду и самым подробным образом расскажу про все Верусе, — думал Василий Петрович, шагая домой. — Пусть будет в курсе и входит в атмосферу. Может, обживаться легче станет… Посмеемся, как Понтус пытался на всякий случай забежать вперед и как уныло протянул свое "понятно" Михайлов. Ей, безусловно, понравится… Так-таки грех и смех!.."
Хотелось верить, что между ним и женой все перемелется и уладится. Ссорились же они раньше. Даже часто. Вере всегда не хватало мужества. Она чувствовала себя счастливой, только когда не имела особых забот. Трудности ей были противны. Они пугали Веру, как когда-то ее отца страшила бедность. В голове не укладывалось, как можно идти навстречу всяким хлопотам, добровольно взваливать на плечи тяжесть. Не соглашалась она и с тем, что не может заменить мужу друзей, работу. До войны всю себя отдавала заботам по дому: вышивала подушечки для дивана и кресел, рукодельничала, покупала недорогие, но только красивые вещи, разводила цветы. И все это ради одного — чтобы украсить отдых мужа и крепче привязать его к домашнему очагу. Даже со знакомыми была сдержанна, и те совсем перестали приходить к ним. Василий Петрович чувствовал, как вокруг растет пустота, но прощал жене этот эгоизм, видя в нем только естественное стремление охранять интересы семьи. А когда пять лет назад родился сын, стремление Веры делать все по-своему вообще перестало его угнетать. Он лишь жить начал двойной жизнью: одной — на работе, другой — дома. Работал он тогда в архитектурно-планировочной мастерской. Работы было много, и она поглощала его. Он ходил, погруженный в замыслы, и, как счастья, ожидал момента, когда чувства подскажут нужное решение. И ни о чем другом на работе ни думать, ни говорить не мог. Но как только возвращался домой, сразу же выключался из всего, чем жил до этого. Читал газеты, отдыхал. Перед ужином ходил в сквер. Вера радовалась, что муж рядом, изучала наряды женщин, а он присматривал за Юриком.
На работе его ценили за честность, счастливый талант. Правда, проектируя, он иногда старался излишне "исходить из себя", как говорили товарищи. Но это объясняли молодостью.
Вера гордилась успехами мужа. От них зависело семейное благополучие. Они давали право на внимание окружающих, определяли ее место среди жен других архитекторов. А как ни старалась Вера жить обособленно, она не могла избежать той затаенной и довольно упорной борьбы, которую вели за первенство многие жены. К тому же Вера очень любила, чтобы ей завидовали, любила иметь то, чего не было у других, любила внимание. Все это давали успехи мужа. Оттого на время, когда он работал, посягала редко. Наоборот, подгоняла: работай, работай! А это было главное!..
По насмешливому Зосиному лицу, мелькнувшему в окне, Василий Петрович догадался: в доме что-то случилось. Заранее сердясь на всех, — снова испортили настроение — вошел во двор.
На крылечке сидела жена. Обняв руками колени и опершись на них подбородком, смотрела перед собой невидящими глазами. Когда стукнула калитка, не шевельнулась. Но заметила, кто идет, и окаменела.
— Скучаешь, Веруся? — спросил Василий Петрович. — Занялась бы чем-нибудь.
Вера не ответила.
Он сел рядом на ступеньке. Опять захотелось рассказать все, что пережил и передумал за день. Наклонившись обнял ее за плечи. Но Вера сбросила его руки, будто их прикосновение было противно.
— К чему эта игра? Зачем ты нас вызвал сюда? Чтоб издеваться? — произнесла она чужим голосом.
— Откуда ты это взяла?
— Я все вижу.
Вера охватила руками шею и опустила локти на колени.
— Я промучилась в этой мурье целый день. Даже сердце заболело. Десять раз выходила за ворота. Мне некому здесь слова сказать. Смотрят как на прокаженную. Сегодня эта, у которой ранило мужа, узнав, что я собираюсь стирать белье, нарочно начала кипятить свое, чтоб занять плиту и веревку.
— Откуда ты знаешь, что нарочно?
— Знаю!
Из-за кустов шиповника выбежал Юрик. Не обращая внимания на отца, на одной ножке поскакал к крыльцу. Глаза у него светились радостью, он был чем-то возбужден.
— Мам, посмотри, что я поймал! — торжественно сообщил он и разжал кулак — на ладони вверх ножками лежала божья коровка. — Это муравашка?
— Не муравашка, а мурашка, — поправила Вера и, сморщившись, чуть не заплакала. — Брось, гадость!
"Против чего она бунтует?" — удивился Василий Петрович, хоть ревность и признание жены, что ей тяжко без него, как-то польстили.
— Ты же знаешь, я был занят, — попробовал он оправдаться.
— Небось до войны находились и время и возможности…
— Навалилась куча дел. Я не мог.
— Потому что не хотел!
— Приехал Михайлов. Помнишь, я рассказывал тебе про институт и номерные проекты? Тот самый, наш… И, кажется, не испугался. Ни руин, ни разрушений… Ты представляешь, что это такое?..
— Боже мой, какой ты скучный! Неужели трудно понять, что и я хочу жить. Ведь я прозябаю здесь. Нам тяжело, я не умею так!
— Не расстраивайся, — попросил он. — Вот только кончу эту работу, и возьмем свое. Честное слово… А работа, кажется, грядет большущая! Самая настоящая! Даже не верится, что ее можно начать сейчас, когда не так уж далеко и воюют…
Это, действительно, выглядело не совсем обычно.
Все дышало и жило войной. Чаще по ночам в одном направлении — дорогами войны — над городом пролета" ли самолеты. Один за другим через каждые двадцать минут — по графику войны — проходили эшелоны с войсками, артиллерией, танками. На станцию с такой же военной точностью прибывали санитарные поезда, не останавливаясь проносился порожняк. Клинический городок и больницы каждый день принимали партии раненых, в городе и его окрестностях открывались все новые госпитали. По чаконам войны милиция придирчиво следила за светомаскировкой. Самыми людными местами, как и всегда во время войны, оставались военкоматы, продуктовые магазины, к люди никого так не боялись и никому так не радовались, как почтальонам. Да и сама война, не менее завзятая, чем в самом начале, полыхала где-то возле границы, из-за которой заявилась три года назад… А группа людей, вовсе по-мирному озабоченных, и назавтра, как по музею, пошла меж развалин и мертвых коробок. Люди громко разговаривали, спорили, жестикулировали, будто самым важным на свете теперь была судьба этих развалин.
Михайлов чувствовал себя уже совсем в своей стихии. Он внимательно осмотрел старую церковь на улице Бакунина, похвалил живописные развалины кафедрального котла, ратуши на площади Свободы и ту своеобразную, но чужую красоту, которую придавали эти здания силуэту города. Недовольно, точно рядом был виновник бед и зол, посетовал, что в городе нет архитектурно выявленного центра, плохо связаны между собой жилые районы, мало скверов, садов.
Василий Петрович не пропускал ни одного его слова и почти обожал уже "Старика", хоть что-то нет-нет да и смущало в нем, похожем скорее на ученого, чем архитектора.
— Вы бывали до войны в Минске? — спросил он, когда Михайлов бросил замечание, что город приспосабливался к природным условиям и совершенно не стремился их улучшить.
— Не приходилось… А что, обидно уже стало?
— Нет…
— Здесь, Владимир Иванович, — вмешался Понтус, недовольный, что тот, говоря, все время смотрит на Юркевича, — не так давно последним достижением техники конка считалась. И, к слову, вот тут, на повороте, где мы стоим, к ней третью лошадь припрягали. Кучер кричал, щелкал кнутом, а прохожие к стенам шарахались.
Для Василия Петровича как минчанина улица, перекресток, сквер существовали не сами по себе, а в связи с чем-то памятным. Они по-своему были дороги ему. Правда, любил он город с неким сожалением, даже пренебрежением, но любил, и слова Понтуса задели его.
— Над бедностью не смеются, — возразил он.
— Самая жестокая правда и та не насмешка, — с видом человека, который прощает слабости оппоненту, отозвался Понтус. — А в моих словах половина такой правды. Ведь когда конка подъезжала к Троицкой горе, припрягали не одну пристяжную, а две. И они — вы же помните? — так привыкли, что, заметив конку, сами подбегали к ней. А вон, видите, кусок здания? Это гостиница "Европа", бывший наш небоскреб. Так что славились мы больше по части минчанок.
Некоторые из, членов комиссии засмеялись.
— Полноте, — сдержанно сказал Михайлов. — У городов, как и людей, тоже есть душа. И скрывается она иной раз под скромнейшим обличьем. По-моему, задача наша, помимо всего, и состоит в том, чтобы найти гармонию между первым и вторым.
— Конечно…
— Я прошу, товарищи, прежде всего подумать о центре, — неожиданно предложил Михайлов.
Василия Петровича охватило ожидание. Чего? Чего-то важного, что вот-вот должно открыться всем и, кто знает" может быть, станет смыслом всей его будущей жизни… Представился город. Но не обесцвеченным, каким выглядит на плане-схеме, а с очертаниями зданий, с площадями и улицами, терявшимися в сизой дымке, будто Василий Петрович смотрел на него с высоты — как тот раз, с самолета.
Они стояли на перекрестке Советской и Ленинской улиц. Отсюда сквозь руины виднелись мощенная булыжником площадь Свободы, кафедральный костел, башня ратуши с отсеченным куполом и скелетом часов.
"Да, — всколыхнулись мысли, — городу в самом деле не хватало центра, который организовал бы его. Площадь Свободы? Ее уже давно обходит жизнь, хотя некогда и бурлила здесь. Круглая площадь? Нет, нет! Даже если на ней и скрестятся, как, видимо, предложит Михайлов, главные магистрали, все равно, отдаленная от политических и административных учреждений, она не станет тем местом, куда течет городская жизнь… Центр — это, краеугольный магнит, к которому стремится все: улицы, машины, люди, мысли людей. И пусть город по силуэту даже напоминает чашу, они в своем стремлении все равно как бы взлетают выше и выше. Потому что нет и не должно быть в городе ничего более дорогого, высокого и важного, чем это магическое сосредоточение…"
Вдруг сердце Василия Петровича, поднятое волной, замерев на мгновение, затрепетало, и словно само собой что-то осенило его.
— Мне кажется, центр можно решить… — растягивая слова, сказал он, — как систему площадей… Новой и Свободы…
— Нуте, нуте! — неопределенно, думая о своем, поинтересовался Михайлов.
— Система включила бы в себя и окрестные кварталы. А Советский проспект…
— Ага! Советский проспект! Минутку! — не дал ему говорить дальше Михайлов и, попросив у Дымка план, стал рассматривать его.
Василий Петрович немного подождал, но, видя, что "Старик" не поднимает головы, не сдержался:
— Проспект связал бы систему центральных площадей с Круглой площадью и парком, а с другой стороны — с площадями, что возле Дома правительства и у вокзала.
Все более волнуясь, он тоже склонился над планом, намереваясь показать, о чем говорил, но в тот же миг вздрогнул — Михайлов перенял его руку и несильно пожал.
Члены комиссии окружили их.
— Где вы предлагаете разместить новую площадь? — озабоченно спросил Понтус.
Его внимание почему-то обескуражило Василия Петровича. Он взглянул на его строгое лицо и показал на квадрат против ЦК и Театрального сквера.
— А все, что в квадрате?..
Когда в сорок третьем году при Совнаркоме было создано Управление по делам архитектуры и Понтусу предложили возглавить его, все приняли это как должное. Понтус поднимался по служебной лестнице не быстро, но без срывов и зарекомендовал себя администратором с цепкой практической сметкой. К тому же перед самой войной он в соавторстве с Барушкой закончил работу над проектом монументального здания исторического музея, одобренным на конкурсе. Все это, вероятно, и сыграло роль в его назначении. В то время, перед освобождением Белоруссии, на такие должности подбирали людей творческих: им предстояло работать и за себя и за тех, кто пока еще находился в действующей армии, — быть и руководителями и исполнителями.
Назначение обрадовало Понтуса: он ждал его, к нему стремился. Но приступил Понтус к работе как бы нехотя, убежденный, что сдержанность и неторопливость необходимейшие качества ответственного работника. И надо сказать, повел дело успешно. Собрал сведения о бывших сотрудниках своего ведомства — об архитекторах, конструкторах, инженерах-строителях, геодезистах, техниках-геологах и гидрологах, экономистах по планировке городов, сантехниках, буровых мастерах, чертежниках и даже копировщиках, снабженцах, машинистках и шоферах.
Большинство их было на фронте — в интендантствах, в саперных частях, меньшинство в тылу — на Поволжье, Урале, в Средней Азии. Понтус установил с ними связь, заручился согласием вернуться на прежнее место и даже добился демобилизации некоторых из них. Так что, когда правительство переезжало из Москвы в Гомель, с Понту-сом ехала довольно большая группа градостроителей.
Правда, сотрудники любили рассказывать о нем смешные истории, рисовали карикатуры. Но в шутках и насмешках не было непримиримой иронии: на Понтуса глядели как на что-то неизбежное и не самое плохое… Приблизить к себе недовольных, непримиримых, но способных, включить в обойму привилегированных, дать проявиться, блеснуть (успех, как ничто другое, гасит недовольство) — все это содержал в себе арсенал Понтуса. И пусть прозрачными были его фокусы-мокусы, они часто удавались: больно уж опасной была опала и заманчиво парение. Да и сам Понтус, человек искушенный, деловой, старался поддерживать веру в себя и умел показать, что за его спиной стоит некто более высокий и ответственный. Были у него и свои, подсказанные опытом способы, избегать поспешных решений.
Вот и теперь, чтобы не вызвать спора и в то же время, возразив на всякий случай, уйти от окончательного решения, Понтус примирительно предложил:
— Давайте, дорогой Василий Петрович, к этому вопросу вернемся немного позже.
— Когда? — спросил за того Михайлов. — И почему позже?
— Надо посоветоваться. Ведь в квадрате-то — коробки. А вокруг них даже страсти разгораются. Ведомства наперебой свои права на них доказывают.
— А с кем советоваться будем?
— С народом, Владимир Иванович.
— Ну что ж, пожалуйста, — будто не понял его Михайлов. — Но, видите ли, нам что-то тоже надобно делать… — Он энергично сложил план, вернул его Дымку и снова перевел взгляд на Понтуса. — А каково, собственно говоря, ваше мнение? Вы что, против?
— Я этого не сказал, — возразил Понтус с удивленным и немного обиженным выражением лица. — Да и там, — брови его многозначительно поползли вверх, — не рекомендовали спешить. Война ведь идет еще.
— Вот именно, что идет! И закончится она нашей победой…
На мгновение все замолчали.
— А вы как находите? — уже не скрывая, что сердится, обратился Михайлов к Дымку, который слишком долго складывал план, а потом несколько раз завязывал и развязывал папку.
Дымок перестал возиться с папкой, поднял голову и часто заморгал. Погасив виноватый блеск в глазах, ответил:
— Мне кажется, что лучше начинать с большого. Так? А уступать будем потом.
— Кому уступать, если не секрет? — иронически спросил Понтус.
— Нет, это я вообще… — торопливо поправился Дымок. — Хорошо, если знаешь, что работаешь для большого дела. Так? Тогда легче работать… Коррективы же всегда можно внести. Тут важен запев…
Возле них начали останавливаться любопытные прохожие. Слегка отстранив Дымка, в круг, образованный членами комиссии, в клешной крепсатиновой юбке и яркой, полосатой безрукавке протиснулась Алла. Семеня мелкими шажками, грациозно неся правую руку с оттопыренным мизинцем, она подошла к Понтусу и, словно он был один, взяла под руку.
— Вы скоро? — спросила, разглядывая всех по очереди.
Понтус натянуто улыбнулся и похлопал ладонью по ее руке.
— Моя дочь, — отрекомендовал он.
— Мама просила поторопить вас, — сказала она отцу, когда обошла круг и стала рядом с Василием Петровичем, как со старым знакомым.
С застывшей улыбкой тот взглянул на нее, очень похожую на мальчика-подростка, но от мыслей своих отвлечься не смог. То, что недавно овладело им, начинало как бы раскрываться перед ним, точно он всматривался в малознакомую картину, подлинный смысл которой проступает исподволь, вместе с неожиданными деталями.
— Мне кажется, действительно пора подумать о себе, — услышал он голос Понтуса и обрадовался. Значит, можно будет одному осмотреть еще раз кварталы против Театрального сквера и пройтись по Советской, которая стала вдруг по-новому близкой.
— Я вас, Василий Петрович, поведу сама, если разрешите. Можно? — щебетала Алла, беря его под руку и полагая, что этим смущает его. — Мама ждет всех. А вас с академиком в первую очередь.
— Спасибо, Аллочка, ты ведь убедилась уже, что я разучился в гости ходить…
— Что вы! Неужели все помните? Я тоже. Но из наших знакомых только вы будете, — обвела она глазами членов комиссии, — да Барушка. Он сильно соскучился по равных и хочет поговорить с вами. Вы ведь недоговорили что-то. Правда? А он друг нашей семьи и нас не бросал даже в войну.
— Нет, Аллочка, прости, не могу… Потом как-нибудь… — уже твердо отказался Василий Петрович, одновременно удивляясь колишнему наваждению.
Он с головой ушел в работу. Днем мыкался по городу, готовил для комиссии материалы, принимал участие в ее рабочих заседаниях; ночью, оставшись в управлении один, корпел над расчетами, чертил.
Домик, где жили Юркевичи, стоял вблизи хлебозавода. И когда на электростанции восстановили первую турбину, удалось подключиться к заводской линии. Это дало возможность работать дома. Склонившись над листом ватмана, Василий Петрович думал, прикидывал, рисовал. Но, как ни странно, обычное самозабвение, когда существуешь только ты и работа, все же не приходило.
На кушетке лежал сын. Набегавшись за день, он спал как убитый, раскинув ручки, ножки; иногда даже казалось, что он не дышит. И тогда Василий Петрович с тревогой поднимался со стула и на цыпочках подходил к малышу. Сдерживаясь, чтобы не погладить вихрастую головку, поправлял, надо или не надо, одеяло и возвращался к письменному столу.
Жена спала на кровати рядом со столом. Чтобы свет не падал ей в лицо, Василий Петрович загораживал лампу книгами. Все же Вера спала беспокойно. А когда муж смотрел на нее, хмурилась, словно чувствуя, что за ней наблюдают. Василий Петрович старался не глядеть, хотя жена пробуждала желание жалеть ее и ласкать. На лице, побледневшем, по-детски капризном во сне, резче обычного очерчивались темные брови, длинные ресницы и яркие губы.
Однажды под его взглядом она даже раскрыла глаза. Смущенный, Василий Петрович спросил;
— Ты не спишь, Веруся? Давай поговорим…
Она неприветливо, враждебно взглянула на него. Но тут же лицо ее потеплело, она потянулась и, точно от нестерпимой неги, снова закрыла глаза. Он ждал, надеясь, что сейчас наступит чудо и придет примирение, и лишь через минуту понял — жена вовсе и не просыпалась.
Внешне их отношения мало менялись. Идя на работу, Василий Петрович, как и прежде, целовал жену в лоб, а она провожала его до ворот и просила, чтоб не задерживался. Когда же он возвращался с работы, целовала она и, как обычно, стыдливо вытирала с его лица губную помаду. Но, чего не было раньше, в глазах у Веры появился нездоровый блеск. Часто уголки ее рта скорбно опускались, и в голосе звучала обида. Она чего-то не договаривала, таила в себе. В присутствии Василия Петровича вдруг начинала кричать на Юрика, выдавая себя за очень заботливую мать, или, наоборот, печально вздыхала, жалея сына, словно сироту.
Еще не остыв от впечатлений дня, Василий Петрович снова и снова пытался заговорить с ней о работе, о своих мыслях. Вера слушала молча, однако было видно, что думала совсем о другом. Это коробило Василия Петровича, он нервничал, но был не в силах что-либо изменить. Отступать он не мог, она же не хотела да и считала обидным для себя.
Помог случай…
Как обычно в последнее время, он вернулся домой под вечер. По в комнате не застал ни Веры, ни Юрика. Не было их и во дворе.
Василий Петрович вышел на улицу.
Дневная жара спала, улицу окутывали предвечерний холодок и тишина. Совсем как в деревне, бегали босоногие ребятишки. С коромыслом на плечах, пересекая дорогу, шла старуха. Сосед, бородатый мужчина в пропотевшей нижней рубахе, зеленовато-мышиного цвета брюках и в немецких сапогах с широкими голенищами, возился у дзота, построенного немцами на его усадьбе. Он ломом поддевал венцы и таскал бревна на свой двор.
На улице друг друга знали. Василий Петрович поздоровался с соседом и спросил о Вере Антоновне. Узнав, что та недавно прошла на кладбище, подался туда.
Кладбище когда-то было закрыто, и хоронить на нем стали только в дни войны. Это было довольно уютное местечко, куда бегали играть дети и приходили посидеть в тени тополей и кленов взрослые. Редкие кресты из железных труб, могильные плиты и камни никого не смущали. Кладбище входило в быт окраины как сквер. Чаще всего гуляли возле этих огромных тополей, в узловатые стволы которых вросли железная ограда, и у небольшого болотца, где печально серел камень на могиле Пулихова — студента, который в мятежном девятьсот пятом бросил бомбу в генерал-губернатора Курлова.
Василий Петрович направился к могиле Пулихова и тут увидел жену.
Белая как мел, с Юриком на руках, спотыкаясь чуть ли не на каждом шагу, она бежала по тропинке.
Он бросился к ней. Но Вера только метнула на него гневный взгляд и попыталась обойти. Он схватил ее за руку и глянул в лицо сына. Глаза у мальчика были закрыты, на бледном личике запеклась кровь.
— Что с ним? — ужаснулся Василий Петрович.
Движением плеча Вера освободила руку и крикнула срывка:
— Гулял в твоем городе! Нравится?..
Вдвоем они положили Юрика на кушетку. Не помня себя, Вера опустилась на колени и, как по покойнику, запричитала:
— Сынок, милый!..
Дрожащими пальцами Василий Петрович расстегнул ворот Юриной рубашки, долго на вялой ручке нащупывал и не мог найти пульс. Затем мокрым полотенцем осторожно, боясь причинить боль, вытер лицо.
Сын шевельнулся, раскрыл глаза, и только тогда Василий Петрович заметил, — ран на лице нет.
— Что с ним?
По щекам Веры текли слезы. Приголубив сына, не отвечая на вопрос, она вытерла ребенку лицо и зашептала с радостным отчаянием:
— Бедный ты мой! Глупенький мой! Разве так можно? Надо дома играть, не бегать. Надо слушать маму…
Василий Петрович положил на его лоб полотенце и присел на кушетку. Мальчик слабо улыбнулся и опять закрыл глаза. Стало слышно, как в соседней комнате кто-то прошел на цыпочках. В сенях скрипнула дверь.
— Я больше не буду, — неожиданно сказал Юра. — Ты, мам, не плачь.
— Милый мой! — всплеснула руками Вера. — Умница ты моя!
— Успокойся!
— Мне нечего успокаиваться. Скажи спасибо и так! — надрывно выкрикнула она. — Ты же называешься отцом! Что ты сделал, чтоб мы могли жить по-человечески? Чтобы опасность не висела над твоим ребенком?..
Когда, слабо вздрогнув, Юрик заснул, Вера, не глядя на мужа, через силу, начала рассказывать, как сын играл с ребятами на кладбище и как один из них, видимо, угодил на мину.
— Ну, а тот как? — холодея, спросил Василий Петрович.
Она, не понимая, развела руками.
— Я не заметила. Его отбросило к Юрику, и Юрок потерял сознание.
— А тот?
— Я же сказала — не знаю!
Василий Петрович схватил полотенце и побежал на кладбище. За могилой Пулихова увидел дикую сцену. Простоволосая, с закатанными рукавами и подоткнутой юбкой женщина била мальчишку.
— Вот тебе! Вот! — ополоумевшая от отчаяния, вопила она, поднимая за руку сына и изо всей силы шлепая его по спине.
Мальчишка не кричал, а только извивался и ручонкой прикрывал окровавленное лицо.
— Что вы делаете?! — бросился к ней Василий Петрович.
Они договорились, что Вера поедет вместе с Михайловым. Выводы комиссия уже сделала, материал, который их обосновывал, был подготовлен. Осталось лишь передать его правительству.
Вера сразу изменилась. Стала спокойной, внимательной и бесконечно заставляла Юрика целовать отца.
— Поцелуй папу! Видишь, как он устал! — с упреком говорила она и подталкивала сына в плечо. — Ну!..
На совещание Совнаркома Василий Петрович пошел со сложным чувством, вроде там должны были решаться и судьба города, и его личная судьба. Таилась надежда, что там обязательно произойдет что-то такое, после чего все изменится к лучшему. Вместе с тем Василий Петрович не был уверен, что выводы комиссии примут. Очень резким казалось несоответствие между тем, что было, и тем, что должно быть. Очень горячими еще были руины и очень глубокими раны войны. И последние ли раны? Вспоминались Понтус со своим трезвым, практическим подходом к делу, робкий Дымок… Вызывая улыбку, на память приходили далекие идеальные города Вазари, Скамоцци — удивительных мечтателей Возрождения. Их проекты тоже выглядели безупречно красивыми. Но их порок как раз и заключался в том, что они были слишком красивы, слишком идеальны и совсем не считались с возможностями времени и людей. А правильно ли учла эти возможности комиссия?
Нечто подобное, видимо, чувствовал и Михайлов. Входя в центральный подъезд Дома правительства, он задумчиво щипал бородку и хмыкал. Приветствий часовых, вытянувшихся у двери, не заметил и, не осмотрев вестибюля, первым стал подниматься по мраморной лестнице, застланной ковровой дорожкой.
В приемной Василий Петрович механически оглядел себя и следом за Михайловым вошел в просторный, залитый солнцем кабинет председателя Совнаркома. Кондратенко стоял у глухой стены, возле мольберта, на котором висел план довоенного Минска, и внимательно рассматривал его. Был он в военной форме с погонами, и это придавало его фигуре строгость и собранность. На стульях вдоль стены сидели члены бюро ЦК, наркомы. За круглым столиком в углу кабинета примостилась стенографистка. Все это Василий Петрович охватил как-то сразу, и сомнения нахлынули на него с новой силой.
Заметив вошедших, Кондратенко пошел им навстречу, поздоровался и, выждав, пока все рассядутся, вернулся к мольберту.
— Чрезвычайная комиссия, товарищи, установила, что гитлеровцы в городе уничтожили семьдесят пять процентов коммунального жилого фонда. А это значит, что нам, в сущности, придется строить на руинах новый город.
Он медленно отошел от мольберта и сел за письменный стол.
— Принесите постановление о генеральном плане Москвы, — попросил в селектор, стоящий перед ним на столе. — Это тридцать пятый год.
— Слушаю, — откликнулся из селектора чей-то близкий голос.
— А мы, товарищи, начнем. Прошу, Владимир Иванович. Смелость, говорят, не только берет города.
Василий Петрович взглядом проводил до мольберта высокую, сутуловатую фигуру академика и задумался. Как понять замечание о том, что города фактически нет и его надо строить заново? Одобрение это или упрек в адрес выводов, с которыми Кондратенко, безусловно, знаком и уже имеет свое мнение? Не хотел ли он, чтобы присутствующие трезво взглянули на будущее и не строили на пепелищах воздушных замков? "Видите, какие разрушения! Надо все начинать заново. Не будьте маниловыми". Не это ли таится в его словах?..
— Ну-с, сначала об общих моментах, — излишне просто начал Михайлов, перебирая листы бумаги, которые держал в руках. — Что определяло направление нашей работы?.. — Постепенно он вдохновлялся, и голос его начинал звенеть, особенно когда Михаилов отвечал на самим же поставленные вопросы, будто он полемизировал с кем-то и отвечал тому. — Что предлагаем мы? Для связи отдельных районов запланировать новые радиальные и кольцевые магистрали. Провести некоторое перемещение промышленных предприятии. Все? Нет. Надо будет увеличить сеть скверов, бульваров, создать новые парки культуры и отдыха, упорядочить реку и озеленить ее берега. А что с центром? Его мы предлагаем перепланировать и застроить монументальными домами, которые чередовались бы с зелеными массивами, украшенными мемориальными сооружениями…
Кондратенко слушал внимательно, иногда заглядывал в бумаги, которые принес ему помощник, и что-то быстро записывал цветным карандашом на страничке настольного календаря. Он любил думать шагая и потому вскоре поднялся с кресла и стал ходить между столом и окном. Затем остановился у стола и стоял там, пока Михаилов не кончил.
— Согласен, нам необходимо прежде всего определить цель, — проговорил он с нетерпением и рукою, в которой держал трубку, сделал движение, будто ставил точку. — Я думаю — белорусский народ завоевал право на столицу, что была бы одним из красивейших городов страны.
Чувствуя, как от растерянности захолонуло внутри, Василий Петрович взглянул на Михайлова и Понтуса. "Старик" серьезно в знак согласия кивал головой. Понтус же сидел с озабоченным лицом и сосредоточенно думал.
— Однако, — понизил голос Кондратенко, — говорить о масштабах конкретно пока рано. Во многом это зависит от промышленности, которая будет запланирована для столицы. Но…
Василий Петрович понял: наивно ожидать, что соображения комиссии будут отклонены или могут стать директивным документом. Дело совсем не в этом. Важно приковать внимание к городу, к его судьбе, выявить различные точки зрения, дать им скреститься.
— Но, — подался вперед Кондратенко и, словно что-то от себя оттолкнув, продолжал. — Это совсем не значит, что нельзя сделать некоторых выводов. Работа, проделанная комиссией, по-моему, полезна. И, бесспорно, в будущем генеральном плане будет учтена. А также совершенно ясно, что городу нужен главный архитектор, который стоял бы на его страже. Верно, Илья Гаврилович?
Вопрос был внезапным и застал Понтуса врасплох. Но со стула поднялся он решительно, вытянул руки по швам и ответил с обычной верой в свои слова:
— Абсолютно! Мне кажется, размеры задач разрешают нам обратиться к уважаемому Владимиру Ивановичу.
Это было еще более неожиданным, на минуту воцарилось молчание.
Михайлов хмыкнул и тоже встал.
— Думал ли я об этом? — сказал он, роясь в карманах. — Да, думал. — Он нашел, что искал, — серенький замшевый футлярчик, достал очки и надел их, от чего лицо его стало строгим, официальным. — И пришел к такому выводу: если главному архитектору можно работать при председателе Совнаркома, я соглашаюсь.
Кондратенко блеснул глазами, с ироническим сочувствием взглянул на Понтуса и тоже ответил шуткой:
— Но для этого надо было бы по меньшей мере изменить Конституцию.
— Вот именно! — Михайлов быстрым движением руки снял очки. — Потому я разрешил бы себе рекомендовать Василия Юркевича.
Чего хотел достигнуть своим предложением Понтус? Поставить Михайлова в неловкое положение и, зная заранее, что тот откажется, показать, что фантазировать и осуществлять фантазии не одно и то же? Или, наоборот, рассчитывал, что это польстит "Старику" и тот будет ему благодарен? А может, и действительно был убежден, что это наилучший выход? Василий Петрович не успел разобраться. Слова Михайлова, ошеломив, привлекли все его внимание.
— Ну, а по-вашему как, Илья Гаврилович? — услышал он вопрос Кондратенко.
Понтус опять поднялся и спокойно, точно ничего не случилось, сказал:
— Надо подумать.
— Пожалуйста, подумайте и доложите. А теперь, товарищи, прошу высказываться…
Позже Василий Петрович часто вспоминал эти минуты. Просторный, залитый солнцем кабинет, мольберт с планом города, высокого, слегка ссутулившегося Михайлова с бумагами в руке и у стола, за которым в окне синело ласковое небо и высились руины Университетского городка, сдержанно-нетерпеливого Кондратенко.
Поезд отходил в половине восьмого, и как только совещание закончилось, Василий Петрович на машине, которую заставил его взять Михайлов, поехал за женой и сыном.
Вера и Юрик ждали его ужо возле калитки. Когда машина остановилась и Василии Петрович отворил дверцу, Юрик захлопал в ладоши и заскакал на одной ноге.
— Это за нами! Это за нами! — запел он.
С просиявшим лицом пошла навстречу Вера.
— Ты нашел автомобиль, Вася?
Он кивнул головой, поцеловал жену и, хотя в том не было необходимости, попросил собираться быстрее.
Вера засуетилась, забегала. Выяснилось, что в комнате очень много укромных мест, уголков и всюду еще находились нужные вещи.
— Всегда что-нибудь забудешь, — смущенно говорила она, заглядывая под кровать, за кушетку, под письменный стол.
Лицо ее раскраснелось, над верхней губой выступили капельки пота, волосы растрепались, и вся она выглядела оживленной и восторженной.
По дороге, как было условлено, они заехали за Михайловым. "Старик" принимал душ, и им пришлось немного подождать. Вышел он из гостиницы довольный, свежий. Познакомившись с Верой Антоновной, прогнал Василия Петровича на переднее сиденье, к шоферу, а сам сел рядом с ней и Юриком. Вера Антоновна ему понравилась, и он оживленно, преувеличивая, как обычно говорят при женщинах, которые нравятся, начал рассказывать о совещании, о городе. По его словам получалось, что нет худа без добра и счастье города чуть ли не в том, что город разрушен до основания. Но тут же он спохватился, засмеялся и рассказал об одном знакомом медике, который однажды в ажиотаже изрек: "Это было исключительное явление. Уникум! Чудесная язва желудка!"
Сразу став солидной, Вера слушала его, улыбалась и одной рукой придерживала Юрика, который то хотел забраться к шоферу, то пытался открыть дверцу.
На вокзал они приехали первыми. Василий Петрович, выполняя просьбу Понтуса, зашел к начальнику санпропускника, чтобы уладить формальности и получить для уезжавших справку о медосмотре и санобработке. Когда он вернулся, на перроне уже собрались все — и те, кто уезжал, и провожающие: Зимчук, Дымок, Кухта. Кроме них возле Зимчука стояла девушка в простеньком платье в крупный голубой горошек. Было в ней что-то привлекающее внимание, и Василий Петрович, проходя мимо, не удержался, чтобы не спросить:
— Дочка, Иван Матвеевич?
— Нет, к сожалению. Соратница, Валя Верас, — ответил Зимчук, как говорят о людях, которых должны знать. — Когда-то с предателями на улицах расправлялась, а теперь градостроителями интересуется.
— Это в каком смысле?
— В положительном, конечно.
Жена разговаривала с Михайловым и Понтусом. Василию Петровичу хотелось поговорить с нею наедине, именно теперь, перед отъездом. С совещания он вышел с таким чувством, будто в нем что-то утвердилось. Верилось — она тоже скажет о чем-то, после чего, возможно, рассеются недобрые предчувствия. Но сейчас поговорить было нельзя. Да и Вера была увлечена другим.
— Я читала у Толстого, — говорила она Понтусу, — когда человек куда-нибудь едет, он половину дороги думает о том, что покинул, а затем уж — о том, что ожидает его впереди.
— Толстой не предвидел третьего, — смеялся Понтус, — нас. Мы, Вера Антоновна, лелеем надежду, что не дадим вам заниматься ни первым, ни вторым.
— А знаете, и я нахожу, — с напускной серьезностью согласился Михайлов.
— Вот видите!
— Вы тоже с нами? — подняла на Понтуса широко раскрытые глаза Вера и как-то неестественно замигала.
— Конечно! В качестве почетного эскорта. — Он сделал вид, что мчится на мотоцикле. — Кстати, об эскорте…
Вашего уважаемого супруга рекомендуют главным архитектором города.
— Точнее, руин, — поправил Михайлов.
— Это правда, Вася? — расцвела Вора. — Почему ты мне ничего не сказал?
Ее радость, как и внимание к Понтусу, заговорившему высокопарно, обидела Василия Петровича. Подумалось: возможно, она никогда и не любила его по-настоящему. В ней так и не пробудилась страсть к нему, и Вора жила с ним лишь потому, что выпало жить.
— Пока рано говорить про это, — нехотя ответил он.
— Ну, извините! — помахал пальцем перед своим римским носом Понтус. — Если я говорю председателю Совнаркома, что мне нужно подумать, это означает только одно: я не принимаю решения, не взвесив предварительно все "про" и "контро". А если на это высокое начальство отвечает: "Подумайте и доложите", это значит — оно предлагает: "При отсутствии криминала оформить".
— Мудрено!
— Зато здорово. Я уж и зама подобрал. Барушку. Есть установка — пока к таким относиться лояльно. Да он и справку от подпольщиков достал. Когда-то снабдил их планом города. Так что, Вера — Надежда — Любовь, можете поздравлять.
Не останавливаясь промчался товарный поезд с одним классным вагоном. В открытых дверях исписанных мелом вагонов стояли и сидели солдаты. На платформах, покрытых брезентом, угадывались очертания танков. Солдаты пели. Песня, вырвавшись из грохота, грянула на перроне, но через мгновение снова утонула в перестуке колес.
Все, кроме Понтуса, посерьезнели.
— Вы заметили, товарищи? Чем дальше развертывается наше наступление, тем упорнее танковые и воздушные бои, — сказал Михайлов. — Недавно за день подбили и уничтожили двести девяносто пять немецких танков и около сотни самолетов. Вы представляете? Нет, попробуйте представить!
— Да, многовато, — полушутливо промолвил Понтус.
Вера вздохнула.
— Боже мой, кончится ли это когда-нибудь?
— Полноте, дорогая Вера Антоновна, это же и есть конец, — убежденно сказал Михайлов. — И лучшее тому доказательство — течение нашей жизни… Нуте-ка, а ваше мнение? — неожиданно, как он это иногда делал, обратился Михайлов к Вале, которая украдкой исподлобья наблюдала за ним.
Все повернулись в ее сторону.
— Конечно, — быстренько согласилась та, восхищенно глядя на Михайлова. — Разве можно здесь сомневаться!..
Улучив удобный момент, Василий Петрович позвал жену, и они пошли по перрону.
Показался второй поезд. Могучий "ФД", выбрасывая клубы дыма, тянул длинный состав, хвост которого терялся за поворотом. Пронесшись мимо, он обдал перрон жаром, дохнул запахом мазута и отработанного пара. Грохот и перестук колес гулким эхом отдались в пустой коробке вокзала.
— Вот ты и едешь, Веруся, — невесело проговорил Василий Петрович.
— Да, Вася.
— А ты… ты не думала, что это все же бессмысленно?
Ресницы у нее дрогнули, и она просящими глазами взглянула на мужа.
— Я не героиня, Вася. Я обычная женщина, мать… Здесь мы будем только мешать тебе и мучиться сами. Кому это нужно? Ты ведь все равно будешь наезжать к нам…
Ее взгляд обезоружил Василия Петровича, но слова, которые она, скорее всего, вынашивала и приберегала специально для него, возмутили.
— Кому нужно? — жестко переспросил он. — Всем: мне, вам, работе.
— Вася!
— Нет, если так, выслушай! Ты упрекала, что я тебя мало люблю, делю себя между тобой и работой. Ну, а твое отношение ко мне, разреши спросить, это любовь?
— Вася, клянусь…
— Подожди! Я знаю, теперь там жить легче. Но я не хочу верить, что ты жена только для счастливого времени.
— Ты же сам сказал, чтобы мы ехали.
— Правильно! Но ты разве имела право соглашаться? Наоборот, ты мечтала об этом, добивалась этого.
— А Юрик?
— Его, как и тебя, тоже не мешало бы прополоскать в горе.
— Тогда я не еду…
— Нет, нет!
— Так чего же ты хочешь от меня?
— Товарищ главный! — окликнул Михайлов.
Василий Петрович оглянулся и, остывая, добавил:
— Чтоб ты подумала об этом хотя бы в первую половину дороги…
Подошел поезд. Перрон ожил, и хотя пассажиров было немного, все заторопились, двинулись к вагонам. Василий Петрович взял сына, чемодан и подался понуро за Верой, которая суетилась больше всех.
Поезд прибыл на станцию с опозданием, и дежурный по вокзалу предупредил, что стоянка сокращена. Потому, наспех попрощавшись, Василий Петрович вышел из вагона и стал под открытым окном. Вере сказали об этом, и она через некоторое время появилась у окна. Расстроенная, протянула ему руки. Нос её покраснел, на глазах выступили слезы. Уверенный, что она сейчас скажет то, чего он еще ожидал, Василий Петрович взял руку жены и припал к ней губами. Вера, как когда-то давно, поцеловала пальцы своей свободной руки, прикоснулась ими к его голове и слегка растрепала волосы.
— Ты не сердись, Вася, — попросила она, — не упрекай нас. Я буду говорить о Михайловым и в отношении тебя… — И вдруг спохватилась. — А знаешь, Вася, я все же забыла Юрин костюмчик. Он сушится на чердаке. Ты, пожалуйста, перешли его с кем-нибудь.
А Василий Петрович подумал: вот он опять остался один. И хотя это уже не пугало, как в первые дни, на сердце все же стало очень горько.
Глава шестая
На Ленинской улице внимание привлек рослый, с солдатским мешком за плечами, военный. Он шел медленно, прихрамывая, и расстояние между ними постепенно сокращалось. У Василия Петровича была хорошая зрительная память. Высокая, широкой кости фигура армейца показалась знакомой. Он напряг память и вспомнил, что видел его еще там, у поезда, среди приехавших, и тогда уже отметил себе, что этот богатырь — сержант.
Они перешли скверик на площади Свободы, спустились по улице Бакунина, друг за другом перебрались по разрушенному трамвайному мосту через речку. "Неужели он свернет на Старо-Виленскую?" — подумал Василий Петрович. Сержант поправил на спине рюкзак, с радостной растерянностью посмотрел в одну, потом в другую сторону, покачал башкой и свернул на Старо-Виленскую, "Небось, к своим", — догадался Василий Петрович, и у него возникло предчувствие, а потом и убеждение — незнакомец идет туда же, куда и он.
И действительно, дойдя до домика с шиповником и сиренью, сержант взглянул на номер, уверенно открыл калитку и вошел во двор.
Дальше сдерживать себя ему, видимо, было трудно. Он поправил пилотку и решительно зашагал к крыльцу. Но не успел взяться за дверную ручку, как его окликнули. Он оглянулся, побледнел и остался стоять с протянутой рукой. Из-за куста шиповника испуганными глазами на него смотрела Зося. Светясь от счастья, она подбежала к нему, как девочка, приподнялась на цыпочки и повисла на шее. Руки у Зоси были испачканы землей, и она обнимала его, не касаясь кистями рук шеи.
Это тронуло Василия Петровича. Он незаметно прошел в дом и заперся в своей комнате…
А они остались на крыльце, быть может, самые счастливые на свете.
— Леша, милый… — словно в забытьи, повторяла Зося. — Лешенька… Жив, здоров!..
— А ты как думала, глупенькая! Что со мной сделается, — успокаивал он, хотя сам был взволнован.
Как бы в доказательство своих слов, он легко поднял ее на руки и так хотел понести в дом, совсем забыв, что идет к незнакомым людям. А она, прижавшись щекой к его шершавой шинели, все повторяла одно и то же, не находя в ту минуту более теплых и нежных слов.
В дверях показалась тетка Антя. Всплеснув руками, закудахтала:
— Хватит, Зося! Людей хоть постыдитесь. Веди его сюда.
— Что вы, тетенька! — шутливо возразила та. — Он и в дверь-то не пролезет. Вы только взгляните!..
Потолок и стены комнаты были обиты желтым картоном, панели — фанерой, отделанной под дуб, балки выкрашены в коричневый цвет. С потолка свисал бумажный абажур, размалеванный замысловатым узором. На стене висела литография в рамке — средневековый, с башнями и готической крышей, замок на берегу озера. В углу стояла кровать, возле окна со свернутой в трубку маскировочной шторой — стол.
Тетка Антя, строго разглядывавшая Алексея, заметив его удивление, объяснила:
— Это все от бывших квартирантов, товарищ.
— Какой же он товарищ, тетенька? — дурачилась Зося. — Это же мой Леша! Видите, какой он? А вы не верили.
— Ну, хватит, хватит! — смягчилась старуха. — Раздевайтесь, товарищ Алеша.
Вошел хозяин в рабочем костюме, перепачканном глиной, с мастерком и соколом под мышкой. Зося, повесив на гвоздь у двери шинель и рюкзак, бросилась к нему.
— Дядя Сымон, мой Леша приехал! — как глухому, крикнула она и, похорошевшая, стала рядом с Алексеем.
— А-а-а! Гвардеец… Раз так, я мигом…
Он вышел, не поздоровавшись с Алексеем, долго чем-то гремел на кухне и вернулся умытый, с мокрыми волосами, в чистой рубахе.
— Будет лизаться, покажи, — сказал он Зосе. Потом, отстранив ее, повернул Алексея лицом к окну. — Ничего себе. Придется, старуха, раскошеливаться, замочить это событие. А заодно и свадьбу сыграем. В лесу они, мабыть, не про это думали.
— Эт! — отмахнулась тетка Антя, но вскоре скрылась.
Принесли еще несколько стульев, передвинули стол на середину комнаты. Зося застлала его чистой скатертью, расставила тарелки, нарезала хлеба, помидоров, соленых огурцов. Алексей достал из вещевого мешка банку свиной тушенки, кусок сала. Хозяйка поставила два сизых поллитра, заткнутых бумажными пробками.
Куст шиповника за окном потемнел. В комнату вползали вечерние сумерки.
— Непорядок, — сказал Сымон, и, опустив штору, зажег электричество.
В комнате от этого стало уютнее, и Алексей, только теперь поверив в реальность того, что происходило, понял — перейден очень важный рубеж и начинается новая жизнь. Зося же, не сводившая с него взгляда, все чему-те улыбалась, затем, вдруг вспомнив — Алексей из госпиталя, заволновалась, принялась расспрашивать, не беспокоит ли рана.
— Хватит! — опять упрекнула тетка Антя. — Разве такие болеют?
Но Зося впервые не слушала ее, ласкалась к Алексею, заглядывала ему в лицо и все спрашивала:
— Нет, ты правду скажи! Болит?..
Пригласили Василия Петровича и торжественно сели за стол.
— Ну что ж! Хлеб на столе, руки свое, режь да ешь… За тебя, Лексей, за ваше счастье! — поднял чарку Сымон. — Как говорится, дай бог не последнюю.
Он чокнулся со всеми, разгладил бороду и торжественно опрокинул стопку.
— Говорят, что она вредит, — обратился он к Василию Петровичу, который торопился закусывать. — Это совсем неправда. Чем она может вредить? Чистая, как слеза. Кон-цен-трат, да и все. Только не лакать его, а знать меру необходимо.
— Ты-то знаешь… — сердито сказала Антя.
— И опять же, скажем, вода. Без нее человек жить не может. А попробуй выпей ведро. Да еще натощак… В армии и то дают. Как их, Лексей, называют? Подскажи.
— Служебные.
Сымон принадлежал к людям, на которых сильно действует первая рюмка, но которые потом пьянеют медленно.
— Служебные, — повторил он охмелевшим голосом. — Слово и то хорошее. Значит, заработанные. Слышишь, старуха?
— Началось уже… Ты ешь, ешь!
Василию Петровичу сделалось легко среди этих людей, и все стало казаться проще, доступнее.
— Видишь город? — спросил он у Алексея. — Живого места нет. А вот же поднимем! И такое белокаменное чудо, что ахнут. Выстрадал, завоевал он это… Вы насовсем уже?
— Отвоевался, кажись…
Алексей заметил, как вздрогнули Зосины плечи, и она плотнее придвинулась к нему. Он нашел под столом ее руку и сжал. Но Зося умышленно громко, чтоб все догадались, вскрикнула и, тряся перед собою рукой, начала дуть на пальцы.
А Сымон, наливая вторую стопку, не унимался:
— Рабочий человек без косушки не может. Она азарт придает. А в нашем деле без азарта нельзя. Это тебе не у станка. Он, мастерок, чувствует…
— Кто твой мастерок знает! — сказала почти мирно Антя.
— Его все должны знать. Это такой струмеит, что им чудеса можно делать. Только до всего дойти надо… Иному кажется, что карнизы навесить — пустяковина… А это, брат ты мой, ис-ку-ус-ство! Около карниза, как тому скульптору, повертеться необходимо. Да и не каждому он дается. Хитрый, с фокусами. Сколько меня вот этим носом в глину тыкали!
— Беда с ним, — умиленно пожаловалась Антя. — Как выпьет, другого разговора у него и нет.
— Говорите, говорите! — попросил Василий Петрович, пододвигая к нему стул и улавливая в его словах свое, что пришло сегодня.
Зося потянула Алексея за гимнастерку, и они незаметно вышли на крыльцо.
Над городом уже нависла ночь — ни огонька, ни звука. Возле забора недвижно застыли кусты шиповника и сирени. За ними чернели крыши домов и деревья. И только с высоты струился мягкий звездный свет. Звезды, чистые, крупные, усыпали небо. И вдруг одна из них, как казалось, самая крупная, сорвалась и стремительно понеслась по небосклону, оставляя за собой короткий голубой след.
— Умер кто-то, — тихо проговорила Зося. — На фронте, наверно, или в госпитале.
— Много теперь умирает людей, Зось. А нам вот с тобой — жить…
— Боже мой, что бы я делала без тебя, Леша? Нет, не сейчас, не завтра, а вообще… Ты послушай, что тут творится. — Она взяла его руку и приложила к своей груди. — Слышишь?
— Слышу. Сердце, — пошутил он.
— Поступила на работу. Дали второй класс, самый легкий. А как бы я работала без тебя? Как ходила бы по земле?
— Ну, что ты! Не надо про это… Не ухаживала тут без меня?..
Зося прильнула к его груди спиной, попросила обнять и крепко прижала руки Алексея подбородком. Потом освободилась от объятий, повернулась и обняла сама.
Он притворился, что ему больно. Зося испугалась, но сразу же засмеялась грудным счастливым смехом.
— Может, пойдем ко мне? — ластясь к нему всем телом, нетерпеливо спросила она. — Они ведь все равно до полночи будут сидеть. Ну их!
Уже на следующий день — так хотелось Зосе — они пошли на субботник. Алексей догадывался, что жена хочет показать его знакомым, и потому не очень возражал. Все это ему чем-то напоминало игру, от которой было грешно отказаться. Он с удовольствием подержал в руке лом, вынесенный из сеней Антей, повертел его, как игрушку, и, вскинув на плечо, вышел с Сымоном и Зосей на улицу. С радостным чувством ощущая тяжесть на плече, сказал:
— Как это здорово, Зось! Сдается, за войну перетаскал на своих плечах горы целые, а будто и не таскал вовсе. Идешь — и идти хочется, а? Видно, этот ломик у вас не такой, как все.
— Он, Лексей, тоже партизанский, — охотно сообщил Сымон. — Я его из вашей зоны приволок. Думал — нет ничего, пусть хоть он будет.
— Что-то не верится, — подбросил на плече лом Алексей. — Он же будто пружинит.
— Лешенька ты мой, Лешенька! — восхищенно сожмурилась Зося.
Пока шли окраиной, Алексей время от времени замечал то в одном, то в другом окне или калитке одиноких женщин. Застыв в оцепенении, они провожали Алексея долгим взглядом, словно пытались и в то же время боялись узнать его. Что-то не позволяло рассматривать их, и Алексею казалось, что все женщины на одно лицо, все сутулые, поседевшие. Но замечая их скорбную зависть и тоску, Алексей еще сильнее ощущал свое счастье.
У моста через Свислочь в новеньком ларьке продавали лимонный и апельсиновый соки. Тут же, на привезенных для ремонта моста бревнах, суетливая старушка в коричневой кацавейке и худенькая девочка в полинявшем голубом платьице торговали семечками. Соки были в высоких, окрашенных в защитный цвет банках, напоминавших противогазы. Продавец шилом пробивал в банке две дырочки и разливал душистую желтоватую жидкость в стаканы. Угостив Сымона и Зосю соком, который почему-то пахнул смолистыми сосновыми свечками, и купив у девочки семечек, Алексей почувствовал себя совсем счастливым. Жизнь приобретала свои привычные формы, и он мог снова идти по ней как хозяин.
На субботник они запоздали. Всюду уже работали. Женщины — в ситцевых пестрых платьях, сарафанах, в платочках, мужчины — в майках и галифе, подростки — голые по пояс и шоколадные от загара.
Все это Алексей охватил как-то разом, заметив даже мелочи.
— Ну, а нам куда? — спросил он растерянно у Зоси, думая, какую работу выбрать для себя.
— Надо наших найти, — сказала Зося, любуясь Алексеем, и не удержалась, чтобы не похвалить. — Ты у меня здесь самый сильный, Лешенька; посмотри, даже разглядывают тебя.
Они пошли вдоль каменных груд и куч железного лома, уступая дорогу идущим навстречу с носилками. У клеток кирпича неожиданно лицом к лицу столкнулись с Алешкой, который, насвистывая, на ходу что-то записывал в тетрадь. Увидев Алексея, он остолбенел, потом сунул тетрадь в карман и бросился к товарищу. Пожимая обеими руками ему руку, радостно, со слезами на глазах засмеялся.
— Вот это да! Опять в гурт собираемся! Порядок, море широкое! Может, не так обижать будут…
— Да ты осторожней, он же из госпиталя, — заступилась за мужа Зося, немного теряясь от этой встречи. — Пусти его.
Она разняла их руки и решительно стала рядом с мужем.
— И тут себя проявляешь, Костусь? — спросил Алексей, когда первая радость схлынула. — Правильно.
— Проявляю, гори оно! Не доверяют, вишь, большего. Одно стоящее, что стены валить… Эй! — крикнул он парним, которые забрасывали на стену канат и собирались раскачивать ее. — Ниже возьмите! Ниже!.. Если хочешь, могу и тебе не особенно пыльную работу удружить.
— Навряд она подойдет, товарищ, — ответил за Алексея Сымон, не очень доброжелательно посматривая на Алешку, который чем-то не приглянулся ему.
Зосю тоже задело Алешкино предложение, и она спять посчитала необходимым стать на защиту мужа:
— Чего ты лезешь к нему? Дай поправиться сначала… Не знаешь, где учителя у вас работают?
Алешка захохотал и подмигнул ей.
— Не бойся, он не из таких, что легко на удочку идут, — с тобой останется… Однако же и не думай, что ему сразу золотое кресло подадут — садитесь, мол. Это только, когда воевали, случалось…
— Ну мне-то подадут, — немного обиделся Алексей. — Заслужил, кажись…
— Посмотрим… А ваших на другой участок перевели. Так что, ежели угодно, дам халтуру и даже запишу больше, чем сделаете. Все равно недавно на собеседование, так сказать, вызывали…
Задетый, что его слова пропустили мимо ушей и сделали это сознательно, он повел их к взорванной коробке и карандашом показал на груду глыб.
— Вот, пожалуйста, упражняйтесь…
Алексей влез на груду, поплевал на ладони и, гакнув, изо всей силы ударил ломом по верхней глыбе. Из-под лома брызнула известь, и от глыбы откололись кирпичи. Алексей ударил второй раз, третий и ощутил — его охватывает давно забытое чувство. Переведя дыхание, взглянул вниз. Зося и дядя Сымон уже шли с носилками. Зося шагала первой и улыбалась. Алексей тоже ответил ей улыбкой, готовый ради нее пойти на все.
Алексей давно вынашивал один план. Когда этот план родился, трудно сказать. Но бесспорно — к нему была причастна Зося. Говорят, сильные люди не чувствуют своей силы. Видимо, это не всегда так. Во всяком случае, в Алексее жила потребность заботиться о более слабых, и он верил, что сможет сделать Зосину жизнь светлой.
Еще в партизанском отряде, потом на фронте, а позднее в госпитале он думал, как будет ладить мирный быт. И всегда будущее представлялось ему трудным нелегким, но желанным. Зося станет учительствовать, а он, он возьмет в руки кельму, отвес. И среди домов, которые построит, будет и его собственный дом.
Много было причин, чтобы строить дом. Его имели отец, дед. Не может быть, чтобы его не хотела Зося, которая через год-два станет матерью. Он нужен и детям, их будущему. А главное — он казался Алексею чем-то таким, что сделает счастье прочным.
Дом должен быть небольшим, кирпичным, с широкими окнами и черепичной крышей. Муровать его Алексеи будет не набело, а так, чтоб потом оштукатурить и покрасить в светло-желтый или салатный колер. Со стороны улицы он разобьет палисадник, посадит крыжовник, вишни и, конечно, рябины, которые привык видеть под окном отцовской хаты, У них больно красивые, узорчатые листья. В августе их тяжелые гроздья наливаются и краснеют до самых заморозков, привлекая птиц. Да и гибкая рябина, склоненная под тяжестью своей красы, чем-то напоминает Зосю…
Словом, причин было много. Но теперь, когда он вернулся к ней, когда шел навстречу своей мирной жизни, появились новые.
Почти ежедневно перед занятиями Зося обходила порученный ей квартал, выявляя детей, не охваченных обучением, обследовала, обеспечены ли дети фронтовиков, составляла для районо заключения, какая необходима им дополнительная помощь. После уроков писала с учениками письма на фронт, навещала подшефный госпиталь, собирала подарки для фронтовиков. Домой приходила усталая, с кипой тетрадок под мышкой, с портфелем, разбухшим от вышитых кисетов, платков, пачек махорки. По вечерам же, склонившись над столом, проверяла тетради, составляла планы уроков.
Раз Алексей тайком прочитал эти планы и вдруг почувствовал, — если не совершит чего-то значительного, Зося отдалится от него: оказывается, она знала такое, чего он даже не понимал. Раньше, особенно в партизанском отряде, об этом не думалось: преимущество было за ним, боевым командиром и удачливым подрывником. Теперь же вошли в права законы мирной жизни, по которым люди оценивались несколько иначе. И вот, пожалуйста…
Подобного с ним, возможно, не случилось бы, имей он свой угол и работай на крупной стройке. Но строительные организации еще не были созданы, против работы с Алешкой восстали все, и Алексей начал брать подряды. Клал печи, починял дымоходы, заделывал в стенах проломы, чтобы придать прочность потрескавшимся стенам, замуровывал окна.
Понурый, возвращался он домой. С завистью смотрел на Зосю, когда та садилась за тетради, злился, видя, как всю ночь светится замочная скважина в двери квартирам та, как поскрипывает его стул и он что-то отрешенно бормочет.
Однажды ему пришлось работать в Зосиной школе. Как назло, в подручные ему дали недотепу-сына школьной сторожихи, пухлолицего, копотливого. "А?" — переспрашивал он каждый раз, когда Алексей обращался к нему.
Ремонтировали крыльцо.
Во время перемены выбежали ученицы и окружили работавших. С девочками, которые чуть ли не висели на ее руках, вышла и Зося.
— Кирпича! — крикнул Алексей.
— А-а? — откликнулся недотепа, неизвестно для чего, перемешивая лопатой раствор.
— Кирпича давай! Лётом!
— Можно…
— Да поворачивайся же!
— А-а?
Однако увидев, что Алексей смотрит медведем, он отступил и сел задом на кучу песка возле ящика. Ученицы прыснули смехом…
Зарабатывал Алексей порядочно, больше того, что мог получить на строительстве. Но тут же, у школьного крыльца, присягнул бросить к чертовой матери эту, как говорил Сымон, "отходную промыслу".
Вечером он решительно объявил Зосе:
— Все, шабаш! Поступаю на кирпичный завод. Ежели о нас не дуже заботятся, давай сами заботиться. Неужто и на это права не завоевали?
— Чего это так вдруг?
— Дом свой будем строить… Каменный!..
Держа тетради в руке, Зося приблизилась к нему и, как ребенку, поправила взлохмаченные волосы.
— Осилим ли?
— Я не калека еще… Мой брат Сенька по двадцать пудов поднимал. Бабу, что спаи забивают, одной рукой кантовал.
— Знаю, Леша. По нелегко это. Да и война ведь… Сегодня о немецких потерях передавали. Уничтожено, захвачено, взято в плен. И все тысячи, тысячи… А ведь уничтожать, захватывать только кровью можно…
Лицо Алексея, обычно спокойное, простое, помрачнело, стало упрямым.
— Я, понятно, не учитель, я человек темный… — произнес он глухо.
— Как это "темный"?
— Я так кумекаю: что положено, я выполнил и еще выполню. — Он заметил, как поразили Зосю слова "человек темный", но отступить не захотел. — И примаком я не буду. Примаку — двенадцать лет на завалинке спать. Так ты что, этого мне желаешь?
Их разговор из другой комнаты услышал Сымон. Постучав в стену, поддержал Алексея:
— Верно, Лексей, верно! Давай! Вертись не вертись, а приткнуть нос к своему все равно придется. Я тоже когда-то так себе воображал: чем жить в чужой хате, лучше уж сжечь ее, а потом отгрохать заново — пусть хоть своя доля в ней будет.
— Плетешь неведомо что! — заворчала тетка Антя. — Что мы им, чужие? Выгоняем или нос откусываем?
— Я вот съезжу в Западную за хлебом, — сказал Сымон, не обращая внимания на ее слова, — и тоже посрываю эти фрицевские штучки со стен и все заново облажу. Кафель на голландку присмотрел уже… А то тепло, мабыть, только когда надышешь…
Зося бросила тетради на стол и, взяв Алексея за локоть, заставила сесть на кровать.
Он нехотя, но послушно сел и сразу стал покорным.
— Ну что ж, если не можешь без ношки, будем строиться. Я ее тоже не боюсь, — заверила она тихо.
Это было неожиданно, и Алексей растерялся. Но волна любви к Зосе нахлынула на него, победила все остальные чувства. Он поднялся с кровати и зашагал по комнате, стуча тяжелыми солдатскими башмаками.
Сюда Алексей потянул Зосю сразу после очередного субботника. У обоих было настроение людей, которые, свершив положенное, могли теперь отдаться радостям личных забот. Это делало Алексея даже невнимательным. Пока шли, он почти не слушал Зосю и много говорил сам, стремясь передать ей свои чувства. Зося же, видя, как увлеченно рассказывает и смешно размахивает руками Алексей, тоже мало вникала в смысл его слов и вся жила ощущением близости любимого человека.
Они миновали поредевший, как поздней осенью, безлюдный, заброшенный парк. Свернули на убогую, незнакомую улицу, каких, казалось, никогда не было и не могло быть в городе, и вышли к речке.
Свислочь здесь выглядела не по-городскому, текла лениво, тихо. Над нею склонялись развесистые вербы. У берегов росли тальник, аир, осока. Там, где к речке подходили огороды, были положены мостки-лавы и слышались гулкие, с причмокиванием удары валька — женщины выбивали белье.
В летние теплые вечера над окрестностью тут царило кваканье лягушек, и речка дышала испарениями. Осенью стлался легкий туман, и до самых морозов плавали красноногие утки, кроша грудью слабый, как паутина, ледок.
Как это иногда бывает, взглянув на речку и вдруг загрустив над ее деревенской красою, Алексей вспомнил прошлое, босоногое детство, мать — рано постаревшую, сиротливую вдову-горемыку, и подумал, что надо наконец съездить к ней, показать невестку, порадовать хотя бы этим. Стало неловко, что с тех пор, как приехал в Минск, не выбрал времени написать ей письмо. Но эта грусть, как и воспоминание, пришла ненадолго и тронула неглубоко.
— Тут, Зось, — обвел он рукою вокруг себя, — правда, хорошо? А главное, речка под боком, начнем класть стены — воду носить совсем близко. Вообще, у воды строиться и жить всегда легче.
Зося оглядела заросший бурьяном пустырь и, хотя ничего особенного в нем не нашла и не могла представить, как все будет выглядеть потом, кивнула головою.
— Хорошо, Леша! Пусть будет здесь, неугомонный ты мой!..
По он был захвачен своим и прервал ее:
— Вот кабы не мосты, а? Закупил бы лесу где-нибудь под Ратомкоп и легонько, без забот, сплавил до самого дома.
Зося ощущала упругость его руки и плеча. Ей всегда хотелось слушаться мужа, когда она чувствовала его силу, и Зося опять согласилась:
— Понятно, было бы хорошо.
На землю спускалась предвечерняя тишина. Аир, прибрежный тальник, руины на другом берегу, бездымные трубы заводов за ними — все застыло в немом оцепенении.
Речка, обмелевшая без дождей, тоже словно остановилась, и только по ленивому, таинственному движению водорослей на дне было видно, что вода течет.
— Я умоюсь, Леша, — сказала Зося. — Умойся и ты. Мне кажется, у меня пыль и на плечах и на спине.
Держась за него, она сняла туфли, блаженно прищурилась и, помахав рукой, как на прощание, вошла в воду. Ступала осторожно, приподняв кончиками пальцев подол, и с веселой настороженностью присматривалась к воде. Потом, зажав коленями юбку, наклонилась, набрала в пригоршни воды и плеснула себе в лицо. Склоненная над водой, с зажатой между колен юбкой, с мокрым, счастливым лицом, она выглядела очень забавной. Зося догадывалась об этом и, видя, что Алексей любуется ею, делала все как-то безыскусно, доверчиво, словно только для него.
— Леша! — крикнула она. — Имей в виду, что на своей усадьбе я первая умылась. А главное — первый раз в жизни на своей усадьбе.
Она стала плескаться и фыркать, от нее во все стороны разлетались брызги. Потом сделала ладонь лодочкой и ударила ею по воде. Из-под руки на берег полетела белая струя.
— Не балуй!
— Было не приводить. Тоже мне хозяин!
— А что, может, не хозяин? Я для тебя, что захочешь, сделаю. Все нипочем. Только было бы к чему силу приложить. — Он огляделся, точно ища, на чем можно показать себя, и сел на траву, находясь во власти той влюбленности, которая живет в человеке после разлуки и всегда старается проявиться в необыкновенном поступке.
Когда Зося вышла на берег, вытерла лицо платком и села рядышком, он привлек ее к себе и ласково признался:
— Иногда я думаю: вот кабы можно было увидеть готовым все, что хочешь! И нехай бы мне это стоило вместо двух пять лет жизни, я и то не перечил бы…
— А я как же? — спросила она, дыша ему в грудь. — Может, ты мне нужен такой, какой есть, с пятью этими годами.
Он уловил ее волнение, сжал Зосину голову ладонями и, чтобы посмотреть в лицо, осторожно отстранил от себя.
Зося не выдержала взгляда, закрыла глаза и замерла в его руках. На сердце у Алексея стало сладко и тревожно. В глаза бросилось что-то новое в Зосином лице. Смуглое, доступное, дорогое, оно было тем и не тем. Алексей присмотрелся и заметил морщинку зрелости, которая действительно пролегла у ее чистых, чуть приоткрытых губ.
— Тебе плохо?
Зося раскрыла горячие глаза, и на него хлынул их свет, болезненный, острый, словно она была виноватой. В чем?
— У нас, Леша, наверное, дитя будет…
Алексей оторопел.
Его растерянность помогла ей подавить стыдливость, и она засмеялась сквозь слезы.
— Ну чего ты испугался? А еще разбрасываешься своими годами?
Вечерело. На все ложилась тишина. Вода в речке точно погустела, приобрела стальной отлив. Приречные кусты, развалины на другом берегу стали терять свои очертания. А над ними, на посиневшем небе, показалась бледная, неживая луна.
Алексей осторожно обнял жену и начал целовать в губы, в глаза. А когда она затихла и прильнула к нему, обрадованная, что ее слова так взволновали его, он спохватился:
— Что это мы делаем? Вставай, Зось! Тут сыро. Да и руки у тебя, что ледышки.
Назавтра они вышли из дома вместе: Зося — в школу, Алексей — на кирпичный завод. Проводив ее до ближайшего перекрестка, он, хотя никогда этого не делал раньше, попрощался с ней за руку.
— Помни — знаю, что тебе нечем теперь рисковать, — широко и счастливо улыбнулся он. — Красивая ты у меня, Зось. Квартирант и тот глаза лупит…
— Ты сам не больно там ухаживай. Ступай, ступай…
Было еще рано. В учительской на стареньком диване, из которого выпирали пружины, сидел только историк Лочмель. Из коридора доносился топот, стук дверей, голоса — ученики любили эту пору, когда в школе их мало, а учителей нет, и активничали. Но это как бы не доходило до Лочмеля. Сидя в неудобной позе — наклонившись и вытянув ногу-протез, он озабоченно рылся в полевой сумке и сердито шевелил губами.
Независимая, Зося в душе побаивалась этого человека. Болезненный, с желтым, изрытым морщинами лицом, с нашивками ранений на гимнастерке, он вызывал в ней ощущение вины. Однажды на занятиях у него лопнул протезный ремень. Лочмель закончил урок, просидел в классе перемену, провел второй урок — как раз были спаренные — и только тогда, совсем беспомощный, попросил позвать директора.
Бледный, откинув голову на спинку, он долго потом сидел вот на этом же стареньком диване, и все догадывались: у него болит сердце и болит часто — от пережитого, от малокровия, от того, что приходится волочить протез.
Было и еще одно обстоятельство, заставлявшее Зосю тушеваться. Как-то они разговорились, и когда Лочмель узнал, что Зося — партизанка, накинулся с расспросами, где партизанила, когда и не доводилось ли встречаться с беглецами из гетто?
— У меня там жена была, — смущенно признался он. — Барзман… Еще девичью фамилию носила. Не слышали? Много тогда людей погибло, Зося Тарасовна. Может, слишком много…
Она рассказала об этом Алексею. Тот заволновался: "Постой, мы какую-то Миру Барзман расстреляли в сорок втором. Не эту ли? Красавица, аж смотреть было страшно! Коли в гетто жила, своих продавала. Спортсменка, по-моему…" "Не может быть! — испугалась даже предположения Зося. — Ты, Леша, путаешь, наверное, и лучше не говори никому. Мало ли что. Вон кто-то трепанул, будто видел, как Алешка при немцах паек получал в продуктовом тюремном складе, и попробуй докажи сейчас что-нибудь… А Лочмель ведь в газетах печатается!"
Но странное дело, чем больше Зося присматривалась к Лочмелю, слушала его, тем меньше оставалось сомнений: так оно, видимо, и есть — жена…
— День добрый, — первой поздоровалась Зося, положив тетради и портфель на стол.
Лочмель кивнул головой и вытащил из сумки потрепанную книгу в желтом переплете.
— Взгляните, что я выкопал, — похвалился он. — "Памятная книжка Минской губернии тысяча восемьсот семьдесят восьмого года". Не такие уж древние времена. А послушайте! — Он перелистал несколько страниц и стал читать: "Минск находится под 53°34′ северной широты, 45°14′ восточной долготы при реке Свислочи, при впадении речек Крупки, Слепни и Немиги и озере Плебанском…" Вы на стиль обратите внимание… "В настоящее время жителей обоего пола 39 628…" Когда это было? Боже мой!.. А вот индустрия: "Заводов: мыловаренный один, кожевенных десять, сальный один, дрожжевой один, водочный один, пивоваренных пять, медоваренный один, кирпичных семь, кафельных два; фабрик: табачных две, спичечных три, — всего тридцать три, при ста семидесяти рабочих!.." Интересно?
Лочмель поправил руками протез в колене и оживился.
— Думаю учеников этим попотчевать…
Стали собираться учителя. Шум, топот в коридоре уступали место приглушенному гудению, в котором тонули остальные звуки.
Зося взяла портфель, тетради и, не дожидаясь звонка, пошла в класс. В коридоре ее окружили ученицы. Здоровались, жаловались на семиклассников — в субботу, занимаясь в третью смену, те опять оборвали цветы в вазонах и куда-то подели подушечку, сшитую Олей Волчок, чтобы вытирать доску.
У классной двери Зосю, которая обычно с волнением входила в новые заботы, догнала библиотекарша.
— Вам письмо, Зося Тарасовна! Пляшите! Передали из гороно.
"Письмо!.. От кого оно могло быть?" Зося заметила, что на треугольнике нет марок, а внизу, на правом уголке, знакомые штампы полевой почты и военной цензуры.
— Да берите же! — не скрывая игривых ноток, повторила библиотекарша. — Пишет Микола Кравец. Знаете такого?
Она взяла письмо, спрятала в карман кофточки и медленно вошла в класс.
Что мог писать Кравец? Зачем он это делает? И почему пишет ей, а не Алексею? Как ему не стыдно?.. Зося вынула было треугольничек из кармана, однако тут же решительно, сердясь на себя, положила назад. "Прочитаю дома, — подумала она, — успею". Надо было раздать вырезанные из газет салфетки, на которые ученики клали тетради, когда писали, суконные звездочки, о которые вытирали перья. Заставив себя не думать ни о Лочмеле, ни о письме, ни о том, как к нему отнесется Алексей, она занялась подготовкой к уроку.
Зазвенел звонок. Его звонкая трель приближалась — сторожиха, начав звонить на первом этаже, поднималась на второй.
Зося сделала отметки в журнале и легко вздохнула. Обычное течение школьной жизни овладевало ею, письмо переставало тревожить. А если и тревожило, то как-то подсознательно и скорее не напоминанием о Кравце, а о войне, что с каждым днем отходила все дальше, но еще где-то гремела.
В плане для закрепления правила, пройденного на прошлом уроке, были подобраны примеры из методики. Но теперь Зосе захотелось найти такие, чтобы в них жило ее собственное волнение, и она, назвав тему урока, начала писать на доске о городе, о том, каким он будет. И мысли, хотя их приходилось укладывать в небольшие, из трех-четырех слов, предложения, легко приходили сами.
Но когда уроки кончились и Зося вышла из школы, тревога вернулась к ней. Торопливо, на ходу, она развернула треугольник и, словно делала запретное, начала читать. "Прочитаю и порву", — думала она, успокаивая себя. Буквы мелькали в глазах, смысл написанного доходил не сразу. Мешали воспоминания, вдруг проснувшиеся в ней. И среди них одно, самое неприятное, которое мучило и приходило чаще других, — встреча с Кравцом на поляне…
Письмо было короткое. После традиционного "Здорово, Зося!" Кравец писал, что попал в разведчики и воюет уже не на своей земле. "Ну и даем, чертушка! Пыль курится!" — писал он, и Зосе представлялась его чубатая голова и отчаянное страшноватое для нее лицо с коротким носом озорника. Дальше он, вероятно, перечислял населенные пункты, в освобождении которых последнее время участвовал. Но эти строчки были старательно зачеркнуты цензором, и нельзя было ничего разобрать. Потом Кравец вспоминал, как, разминируя для них, разведчиков, проход, подорвался Алексей и его в беспамятстве отправили в госпиталь. И, наконец, шла просьба: если Зося что-нибудь знает, пусть сообщит про Алексея и "черкнет" ару слов о себе — как устроилась, как живет".
Обычное фронтовое письмо!
Однако прочитав его вторично, Зося вдруг почувствовала: оно написано с надеждой, что Алексея нет в живых. Это возмутило ее, и Зося решила обязательно показать письмо мужу.
Она еще не ведала, что, оберегая покой близкого человека, иногда лучше пережить то, что тебя тревожит, самой. Да, может быть, и не все из своих тайн следует раскрывать даже близкому человеку. Пусть догадывается, а не знает.
Часть вторая
Глава первая
Осень в том году выдалась на диво теплой, ясной.
Солнца, ласковых повевов ветра, хмельной животворной силы у земли было так много, что, обманутые ими, вторично зацвели, как весной, вишни, яблони, черемуха. Дни стояли безоблачные, тихие, вечера теплые, майские. И только по тому, как едва заметно начинали увядать старые деревья, да по светлой грусти, разлитой в небе, можно было сказать: это осень. Даже в октябре, когда начали опадать кленовые листья, не приходило ощущение осени. Листья падали медленно, летели вниз по каким-то извилистым воздушным путевинкам и касались земли неуверенно, как голуби, которые и сами не знали, сядут ли они.
Возвращаясь из школы, Зося каждый раз набирала букетики этих золотистых листьев.
Нельзя сказать, что и Алексей Урбанович не был рад этому чуду природы. Его тешили теплая погода, безоблачное небо. Но ничего другого он почти не замечал. Работа теперь стала между ним и окрестным миром. Алексей как бы выключился из времени и, живя лишь одним и для одного, замечал только то, что помогало или мешало в работе. Когда Зося показала ему кленовые листья, он безучастно взглянул на них, а потом обеспокоился:
— Уже падают? Вот лихо на них…
На свой участок Алексей приходил, как только начинало светать. Отсюда, когда пригревало солнце, шел на кирпичный завод. Сюда же, не заходя домой, возвращался под вечер.
Работал он, как двужильный, не заглядывая особенно вперед. Сдавалось, вообще он не знал усталости.
За какие-нибудь две недели, прихватывая ночи, Алексей на тележке навозил камней на фундамент, слепил из горбылей и старой жести времянку, огородил жердями двор. На заводской машине завез кирпич, известь. Заперев это богатство во времянке, он с облегчением вздохнул и забыл обо всем, кроме размеченной площадки и Зоси, которую хотелось чувствовать рядом с собой. К тому же, когда уставал, пробуждалась ревность. Вспоминался Кравец, его письмо, воображение подсказывало обидные картины.
Первый камень в фундамент они закладывали вместе. Торжественно опустив его на дно котлована, молча постояли над ним.
— Ты, Леша, только не шибко нудь себя, — помолчав, заговорила Зося. — Успеем, построимся.
— Как это? — заперечил он, почувствовав упрек. — Работаю как работается, а не вроде мокрое горит. Твой несчастный Юркевич и тот с утра до ночных петухов что-то делает.
— Ты слишком уж…
— Не бойся, у нас, Урбановичей, та еще закваска. Наш Сенька еще один фокус демонстрировал. Ляжет на землю, а ему на спину — сенник, насыпанный житом. И что ты думаешь? Поднимался и нёс. Вот ты себя только блюди…
Зося ушла, а он сразу взялся за работу. И с того дня ежедневно на рассвете и вечером можно было видеть одну и ту же картину. Большеголовый, с плечами в косую сажень мужчина, морщась от натуги, где ломом, где просто руками, ворочает камни.
Когда дни стали короче, Алексей начал приходить с фонарем. Керосина не было. Фонарь заправляли бензином, насыпая соли в горелку. Огонь то вспыхивал, то мерк, стекло быстро покрывалось копотью, и работать приходилось почти на ощупь. Работа подвигалась медленно. Но все же ее результаты были видны, и это придавало силы и приглушало тоску по Зосе, которую он теперь видел мало, чаще всего спящей.
В выходные же дни, когда они работали вдвоем, или под вечер, когда Зося приносила ужин и принималась помогать ему, он беспокоился еще больше. Опасаясь, как бы та не подняла тяжелого, за все хватался сам, спешил.
Успокаивался только, когда Зося садилась отдыхать. И если бы она всегда сидела вот так близко и можно было смотреть на ее девичью фигуру, на ее сильные загорелые ноги или просто знать, что она здесь, возле него, он вообще ничего больше не хотел бы.
Фундамент поднялся. Дом принимал свои формы. Правда, его размеры казались до того малыми, что Зося не представляла себе, где тут могут быть три комнаты, кухня и коридор. Алексей знал, что в таких случаях подводит неопытный глаз, и, не жалея времени, бросал работу, рисовал на земле комнаты, ходил по ним большими шагами, даже расставлял руки, чтобы наглядно показать их подлинные размеры, Зося смеялась, сама с хозяйским видом прохаживалась по этим нарисованным комнатам, потом садилась где-нибудь в углу на заготовленном ею же кирпиче и говорила, что смотрит в окно, ждет его, Алексея. А он снова принимался за работу.
Ночи становились холодными, темными. Все чаще начинал моросить дождь. От речки, от голых кустов тальника веяло пронизывающей сыростью. С фонарем работать было неудобно. Алексей раскладывал костер. Вокруг костра возникал свой особый мир — огня, тепла, уюта. Хотелось смотреть на него не отрываясь, наблюдать, как рождается душа огнища, как разгораются золотые угольки и трепещут, мечутся живые языки пламени.
Алексей полюбил костры еще с детства, когда мальчиком водил лошадей в ночное. Сколько рассказов о страшных и смешных происшествиях слышал он от ночлежников, рыболовов и охотников! Сколько славных минут пережил у партизанских костров, сидя в кругу близких ему людей! Он не знал еды вкуснее картошки, испеченной в горячен золе, и ухи, сваренной на костре у речки. Он мог сказать, каким огнем горит дерево: синеватым — ольха; сначала красным, с копотью, а потом медным — береза; светлым и легким — елка. Он умел развести огонь в непогодь, сделать так, чтобы не было видно дыма, сохранять горящим уголь на целые сутки. У костра его всегда что-то умиляло. Теплое чувство и теперь вспыхивало в душе Алексея, как только он принимался раскладывать костер. Но вскоре оно уступало место озабоченности. На уютный свет огнища со всех сторон надвигалась чернота, ветер выхватывал из огня искры, нёс их во тьму и там гасил. И у Алексея возникало ощущение, что его окружает безразличный ко всему, чем он живет, мир. Тьма как бы говорила ему: "Видишь? Кругом руины. Их много. В руинах половина страны. Потому полагайся только на себя, на свою выносливость. И если у тебя есть силушка, сам устраивай свое счастье".
Но постепенно Алексей начал сдавать. То ли от холода и сырости, то ли от переутомления заболели старые раны. Домашнее хозяйство — вода, белье, кухня, очереди в магазинах, даже дрова — легло на плечи Зоси. Он похудел, реже стал бриться, обрастал жесткой, почему-то рыжей тетиной. Спал неспокойно, во сне стонал, метался, силясь кого-то оттолкнуть от себя.
Однажды в воскресенье Зося пришла к Алексею только часа в четыре. День бил пасмурный. По небу ползли лохматые свинцовые тучи. Под тучами кружилась стая галок. При поворотах от стаи отделялись те, которым приходилось делать наибольший круг; они каркали и летели в другую сторону, а потом снова присоединялись к остальным, и вся стая начинала новый, еще более замысловатый вираж. За речкой угрюмо маячили потемневшие руины, а сама речка, словно остекленевшая, холодно поблескивала. Кусты тальника на берегах стояли уже совсем голыми, и все выглядело сиротливо.
Стены дома выросли до половины оконных проемов. Алексей стоял на лесах. Увидев Зосю, он помахал ей кельмой и соскочил на землю прямо через стену.
— Ну как? — спросил он, поглаживая раненую ногу.
— Ничего, подвигается, — неохотно похвалила Зося.
— А ты как думала! К лету новоселье справим.
Он взял у нее узелок с едой, сел на бревно возле остывшего огнища и стал обедать.
— Почему так поздно? — спросил, уплетая за обе щеки.
— Была на субботнике.
— Ну и как?
— Ничего.
— И у меня тут не хуже.
— Разве только тебе. Да и то не верится.
Алексей перестал жевать. В глазах полыхнул зеленоватый свет. Блеснул и погас. Глаза стали чужие. Зосе захотелось быть с ним поласковее.
— Посмотри, там, в миске, картофельные оладьи есть. Тетка Антя знает, что ты их любишь, специально пекла.
Он промолчал.
— Кушай!
— Я и так не только чавкаю.
— Приходили Зимчук с Валей, — стала рассказывать Зося, чтобы хоть чем-нибудь порадовать Алексея. — Иван Матвеевич расспрашивал о тебе. Когда услышал, что строимся, хохотал. Сказал — узнает тебя. Помнит, как ты в партизанах просил повара оставлять, на свободное время, суковатые чурбаки. Привет передавал.
— Спасибо.
— Лочмель дознался все же… Мира на самом деле его жена. Как под водой ходит. И жалко и не пособишь ничем… Почему, Леша, без вины виноватых много?
— Откуда я знаю.
— Завтра под вечер дядя Сымон подрядился прийти. Помогать будет.
— Ладно.
Зосе стало больно за мужа, и она попросила:
— Покажи, Леша, руки. Дай…
— Зачем? — помрачнел он. — Хочешь погадать, что ли?
Но по мере того, как Алексей утолял голод, к нему возвращалось хорошее настроение, и через минуту, ухмыльнувшись, он протянул руку, шершавую от кирпича, в извести и глине.
Зося присела рядом, положила его руку на свое колено, погладила.
На минуту, как это бывает поздней осенью, выглянуло солнце. Все вокруг прояснело, стало теплее, но буквально в ту же минуту пошел густой, крупный снег.
Это было так неожиданно, что Зося подняла голову. С высоты летело множество голубых, дымчатых, сиреневых снежинок. Кружась, как в хороводе, они опускались медленно, и можно было даже проследить, как падает каждая из них. Сначала приречный аир, затем крышу времянки, жерди забора, а потом стену дома, землю стал покрывать снег. И сразу крутом изменились краски: потемнели небо и речка, черными стали руины, деревья, сочно зазеленели аир и кусты тальника, ярко закраснела стена.
Не закончив обеда, Алексей забрался на леса, укрыл мешком ящик с раствором и позвал Зосю во времянку. Оттуда они, каждый занятый своими мыслями, смотрели, как идет снег.
Вдруг Алексей услышал, что Зося всхлипывает. Он испуганно заглянул ей в лицо.
— Не надо, — попросил. — Это ненадолго. Снег коль ляжет не на мерзлую землю — грязь. Скоро растает.
Зося перестала всхлипывать и в отчаянии покачала головой.
— Разве я об этом? Мне жалко тебя, Леша. Так и подорваться недолго, ославиться перед людьми…
Вернувшись как-то из школы, Зося увидела на столе записку от Зимчука. Тот писал, что хочет встретиться с Алексеем, и просил его сегодня прийти в горсовет. Зося нашла в этом особый смысл, перечитала записку несколько раз и побежала на завод.
Поведение Алексея все сильнее тревожило Зосю. Она чувствовала, как он любит ее, как тоскует по ней, видела, как одно лишь ее присутствие делает его счастливым. На прошлой неделе, верно, о чем-то беспокоясь, он предложил ей пойти в загс зарегистрироваться. Зосю это растрогало. Смущенные, как настоящие молодожены, они стояли перед столом регистратора, а потом долго и счастливо смеялись, рассматривая свидетельство о браке. Возвращаясь ночью, Алексеи разувался в сенях и по комнате ходил осторожно, на цыпочках. Прежде чем лечь в кровать, долго стоял в нерешительности и однажды улегся на полу. И все же Зосе казалось, что какая-то опасность нависла над ними. Страшило — от такой работы без отдыха Алексей надорвется. Он даже уже не интересовался тем, что делает она, ее заботами. Наоборот, на школу, субботники, учениц, на то, что она посещает госпиталь, — на все, чем жила Зося, смотрел с ревнивым подозрением. К тому же Зося чувствовала — он одинок, в нем растет отчужденность.
На завод Зося пришла с желанием спорить.
Она знала, что Алексей выгружает кирпич из печи, и направилась к большому деревянному строению, очертаниями напоминающему гумно. Под навесом на нее дохнуло сухим жаром, запахом кирпича, горелого торфа, и Зося подумала, что там, в камерах печи, где рабочие, — наверное, не только жарко, но и угарно. Она несмело заглянула в один из открытых ходков и увидела каталей. С темными, потными лицами, в брезентовых куртках и рукавицах, они нагружали кирпичом тачки. На фуражках, плечах и рукавах чернела сажа.
В камере было жарко. Жара ощущалась лицом, руками, подошвами ног, спиной.
— Здесь работает Урбанович? — спросила Зося у пожилого рабочего, который выхватывал из садки по два кирпича и ловко бросал их на тачку.
— Когда-то работал, — не оставляя дела, ответил тот, — да бог хотение отнял.
— Где же он теперь?
— На заводе хватает работы. За нее тоже продуктовые карточки дают.
— Вы, дядя, оставьте это…
— Зачем оставить? Ей-богу, на глиномешалке водою командует. Когда требуется, открутит кран, если не требуется, прикрутит.
Работал каталь споро, руки делали свое привычно, но было видно, что и его кирпич обжигает. Бросив последнюю пару, он взялся за ручки тачки и, не глянув на Зосю, быстро покатил тачку во двор.
Стесняясь вытереть вспотевший лоб носовым платком, Зося, помешкав, украдкой провела по лбу ладонью и тоже вышла из камеры. Чуть ли не бегом направилась в другой цех, к глиномешалке. Но Алексея не было и там — на месте заливщика сидела симпатичная краснощекая девушка в платке, завязанном по-деревенски.
Сбитая с толку, Зося побежала к директору. Тот удивленно посмотрел на нее, сам сходил в канцелярию к табельщице и, вернувшись, пожимая плечами, сказал, что Урбанович на бюллетене.
— На бюллетене?! — ужаснулась Зося и, не простившись, выбежала из кабинета.
Ее охватил страх. Заболел! Она даже забыла, что все эти дни Алексей приходил домой ночью и, как обычно, на рассвете уходил из дому, что она сама носила ему еду, разговаривала с ним, помогала просеивать песок, готовить раствор. А когда опомнилась, страх уступил место возмущению. Он лжет ей, обманывает всех! Взял бюллетень, чтобы работать у дома. А если узнают? Да и вообще, как он теперь будет говорить с нею, с товарищами, скрывая свой позор и боясь разоблачения?
Открыть весницы и сразу войти во двор Зося не смогла. Прижимая руку к груди, с трудом переводя дыхание, она остановилась.
Все было как раньше. Только выросла и немного поднялась стена со стороны улицы. Да из-за времянки, гремя цепью, вышла серая, широкогрудая, но худая овчарка. Заметив Зосю, она настороженно подняла острые уши, напряглась и угрожающе зарычала.
— Возьми, Пальма, возьми! — радостно воскликнул Алексей, услышав рычание овчарки.
Крикнул он это, не поднимая головы, так, как кричат не в первый раз, и толкнул локтем Сымона, который рядом с ним стоял на лесах.
Овчарка рванулась, стала на задние лапы, натянув цепь как струну.
— Ты, хозяин, хоть смотри, на кого науськиваешь! — уже не сдерживаясь, крикнула Зося и, откинув весницы, пошла прямо на собаку.
— Разорвет! Не подходи! — испугался Алексей и заспешил с лесов.
— Не дури, племянница!
Зося прошла рядом с обезумевшей от ярости Пальмой и остановилась у дверного проема. Алексеи и Сымон одновременно подбежали к ней и, ругаясь, почти втащили в середину коробки.
— Вот зверь, — оправдывался Алексей. — Я его давно присмотрел у одного. Приблудный. Обещал за него боров поправить…
— Нц-ц! Набыточек что надо, — причмокнул языком Сымон и крикнул на овчарку: — Не видишь, хозяйка идет? Ну ты, цыц!
— Что ты тут делаешь? — уставилась на Алексея Зося, не обращая внимания на Сымона.
— Разве не видать?
— Я спрашиваю вообще: чем ты тут сегодня и вчера занимался?
— Тем же, что и всегда.
— Нет, врешь! Говори, Леша, лучше правду сам. Иначе я… — Зося уже не находила слов. — Что ж это получается? Ты ли это, Леша? Мы ведь с тобой через такое прошли, что теперь и во сне страшно увидеть. А ты вон куда повернул себя.
Алексей стоял с опущенными плечами и все больше сутулился, но молчал.
Не понимая, в чем дело, Сымон попытался пошутить, но Зося резко оборвала его и тут же пожаловалась:
— Вы же не знаете, дядя, что он сделал. Если б вы только знали!
— А что? — всполошился старик.
— Он же больным притворился, дяденька! Бюллетень взял. В постели лежит. Доктора на консилиум собрались, не знают, какое лекарство выписывать.
— Что ты мелешь?
Старик растерянно взглянул на Алексея, высморкался и потопал в угол коробки, где на камне лежал его кожушок, брошенный там еще перед началом работы.
— Неужто правда, Лексей?
— Ну, последний раз прошу: говори! — с отчаянием и решимостью потребовала Зося.
Чего она ожидала от него? Оправдания? Или того, чтобы он прямо и искренне признался во всем? Вряд ли! Зося носила в себе образ мужественного, удачливого Леши, который выходил победителем из любого испытания, а не каялся и признавал ошибки. Нет! Невзирая ни на что, в ее душе теплилась надежда, что все это неправда. И потому, желая сразу положить конец нестерпимому разговору, она вплотную приблизилась к Алексею и бросила ему в лицо:
— Ты симулянт, Леша! Вот кто…
Алексей отшатнулся от жены, повернулся к ней спиной и полез на леса.
Совсем по-бабьи Зося схватила его за ватник, потащила вниз.
— Нет, ты не удирай! Слышишь? Сначала скажи, что это неправда.
Алексей посмотрел сверху на Зосин платок, съехавший на затылок, на растрепавшиеся волосы, на всю ее, такую несчастную, и с усилием произнес:
— Ну, неправда. Хватит с тебя? Пусти!
Сымон, собравшийся незаметно уйти, недоверчиво остановился.
— Ты, Лексей, не мучай нас, если что…
Лицо у Алексея передернулось, стало серо-землистым. Превозмогая себя, он отбросил Зосину руку и ступил назад, на землю.
— Вы оба меня в грош не ставите. Ну что ж, ваше дело. Насильно, как говорят, цену себе не набьешь. И я, уважая только вашу старость, дядя Сымон, буду говорить. Вот прочитайте, чтоб не очень мучиться. — Алексей вынул из кармана бумажки и, протянул их растерянному Сымону. — Это вот бюллетень, а это направление в больницу. А это нога симулянта, который сюда, может, на костылях пришкандыбал.
Дрожащими пальцами он не развязал, а разорвал обмотку и стал ее торопливо разматывать, морщась от боли и обиды.
Зося бросилась к нему, жалостно всхлипнула. Зная лишь одно — не оправдались ее страхи, — она стала перехватывать его руки, не давая ему разуваться. А он, уже не в силах оттолкнуть ее, так и остался на мгновение стоять согнувшись, не находя, что сказать.
В это время, загремев цепью, возле складика заворчала овчарка. Зося подняла голову и взглянула в оконный проем. Возле весниц в сером плаще и шляпе стоял Юркевич. Зося потянула Алексея за рукав ватника.
— Нелегкая нашего квартиранта, Леша, зачем-то принесла, — сказала она уже тоном, каким обычно говорят женщины с мужем о человеке, которому нравятся.
Ловко закрутив на ноге обмотку, Алексей быстро отвел надрывающуюся собаку во времянку, запер дверь и первым поздоровался с Василием Петровичем.
Не притворив за собою Веснины, тот вошел во двор. С любопытством осмотрел стены дома, строительную неразбериху вокруг.
— Вроде строимся? — спросил он со странным выражением лица.
— С горем пополам, как говорят, — ответил Сымон.
— И давно начали?
— Нет, не очень.
— Ну, а все-таки?
— Месяца полтора. Алексеи же двужильный. Он, как дурашка, вдвойне за себя поднимает. День и ночь тут. Так что, можно считать, три месяца.
— Так… так…
Это знакомое, без определенного содержания "так… так", за которым люди часто скрывают свои мысли или ищут, с чего начать, насторожило Зосю. Ей стали неприятны и услужливая поспешность, с какой Алексеи встретил Юркевича, и то, с какой предупредительностью заговорил с ним Сымон. Возбуждение от ссоры и пережитого еще не улеглось, и Зося во всем была готова видеть только плохое.
— Вы к нам или так, по дороге? — неприветливо спросила она.
— И к вам, и по дороге.
Зося приняла это за шутку и пожала плечами.
— Нет, я серьезно, — сказал Василий Петрович. — Ходил по городу и набрел на ваш дворец. У меня сегодня уйма сюрпризов. Хоть отбавляй…
Он еще не решался, но понимал, что все равно должен и скажет этим людям жестокие слова, огорчит, а может, даже и ошеломит их. Понимал и то, что трудно смягчить этот удар. Незачем выражать им свое сочувствие — они так или иначе возмутятся и будут во всем обвинять только его. Да действительно ли он сочувствует им? Ему жаль их труда, не хочется, чтобы обижался добродушный дядя Сымон, чтобы как на врага смотрел Урбанович, не хочется причинять боль Зосе, но как он может им сочувствовать? Что за самовольство? Так, сознательно или несознательно, можно потоптать все… Он, правда, еще неясно представляет себе, что будет построено на облюбованной ими усадьбе, но убежден — на этом месте не должно быть никаких халуп. Кто знает, может, здесь придется расширить речку, одеть ее в камень, разбить на набережной бульвар. Утопая в зелени, тут вырастут коттеджи или павильоны лодочной, а может быть, водной станции…
А что решили сделать они? Кирпичный курятник, от которого через несколько лет скорее всего откажутся сами, почувствовав потребность в водопроводе, в ванной, в газе. Какая слепота и прихоть!..
— А работу вам… мм… придется прекратить, — сказал Василий Петрович, посчитав за лучшее обратиться к Сымону.
— Почему? — опешил тот.
— Строитесь не там, где положено. Здесь нельзя.
— Что? — угрожающе спросил Алексей и смертельно побледнел.
— Этот район не для индивидуальной застройки.
— Кто это говорит?
— Пока я, Алексей.
— Неужто это вы серьезно? — искренне удивился Сымон, словно услышанное им было невероятным.
— К сожалению, абсолютно серьезно.
— Не надо, Василий Петрович, так сразу. Вы сначала разберитесь, как оно и что. Может, это не коробка из кирпича, а душа окаменелая. И, может, даже не одна душа, а две…
— Город есть город, дядя Сымон; в нем, как и в хозяйстве, все должно иметь свое место.
— Верно, — вздохнул старик, — но он, город, тоже не для ту-рис-тов строится.
Зося, стоявшая в стороне, подошла к Сымону и остановила движением руки.
— Не просите, дяденька! Нам ничьей милости не надо, мы советские люди…
Зосины слова подстегнули Алексея.
— А ну, запретитель, уходи отсюда, пока не поздно! — крикнул он. — Я в этом городе не меньший хозяин, чем ты!..
Зося тем же движением не дала продолжать и ему.
— Успокойся, Леша! Я не верю, что кто-то имеет право на это. Нет таких законов! Руки коротки.
— Так чего же он мне душу рвет?! О городе у него башка болит! Люди в землянках тулятся, в подвалах живут — нехай о них позаботится сперва. Нехай там поначалу порядок наведет, а потом уж и районы устанавливает.
— Я повторяю: этот район иного назначения. Неужели не понятно? И потому строиться запрещаю, — колко сказал Василий Петрович. — Завтра получите официальное уведомление об этом.
Он, словно прощаясь с незнакомыми, приподнял шляпу и, рассерженный, пошел к весницам, ругая себя, что не удержался и сам зашел предупредить.
Не веря в то, что произошло. Алексей побежал к Зимчуку, где, как ему казалось, лишь и мог он найти защиту. Но как только он скрылся за углом улицы, Зося тоже бросилась за ним, боясь, что натворит глупостей.
Она догнала его в двух кварталах от дома и, не говоря ни слова, пошла рядом. Алексей посмотрел на нее так, будто не узнал, но спросил:
— Чего тебе?
— Пойду с тобою, — упрямо нахмурилась Зося.
— Зачем?
— Успокаивать буду.
— Меня?
— Неужели кого другого?
Лицо у Алексея подобрело, в углах губ затеплилась улыбка.
— Не бойся, я уже сам успокоился.
— Оно и видно. Потому и бежишь посреди мостовой…
Улица была пуста. Лишь навстречу, грохоча, ехала медведка-телега на низких колесах, груженная железным ломом, да по тротуару торопливо шло несколько прохожих с поднятыми воротниками.
— Саправды по мостовой, — согласился Алексей и, взяв Зосю под руку, перешел на тротуар.
Зося поняла, что теперь он в ее власти и ему можно высказать все.
— Ты, Леша, сумасшедший. Честное слово. Разве можно так? Пусть провалится этот дом, если из-за него надо закон обходить и с людьми опостыляться. Неужели нельзя строиться, как другие? Вон у нас в школе говорят — от государства ссуду можно получить.
— Цел буду и так.
— Ой, нет, Леша! Ты же, прости меня, дичать начал, даже на свою профессию забываешься.
Алексей пошел медленнее и хотел высвободить руку, но Зося крепко прижала ее своей рукой и потянула его дальше.
Они перешли мост через Свислочь и свернули на набережную. Прохожих тут не было. Мостовую устилали мокрые вербовые листья. Два или три деревянных домика удивленно смотрели на набережную. Из окон, наполовину забитых старой фанерой и заткнутых тряпками, глядело уныние. Над домиками — рядом и сзади, по горе, возвышались развалины. На углу улицы около фундамента — все, что осталось от бывшего здания, — серел полукруглый дот с нацеленными в разные стороны амбразурами.
По-прежнему выглядели одни лишь вербы. Толстые, будто витые, они склонялись над речкой так же, как склонялись пять или десять лет назад. В тихую, по-осеннему густую воду с веток падали тяжелые капли. Теперь этот звенящий звук только и был слышен. За речкой чернел голый парк. От него веяло таким же запустением.
— Ты меня дарма упрекаешь, — сказал Алексей. — Я, Зось… Кабы каждый с мое делал, через год город бы подняли. А то он, смотри, вон какой.
Невесть откуда взявшись, на велосипеде их догнал Алешка. Он ехал, не держась за руль, н, поравнявшись, как победитель, поднял обе руки. Но потом красиво развернулся и на ходу соскочил с велосипеда.
— Откуда и куда, братья-славяне?
— Так, в одно место, — уклончиво ответил Алексей.
— К себе на стройку или со стройки, ха-ха? На кой вам это все?
— Дом никогда не мешал человеку.
Но то, что от него скрыли такую мелочь, как — куда и зачем идут, напомнило Алешке давнишний разговор на субботнике. "Сторонятся, хотят подальше быть…" — с обидой дошло до него, и он уже зло спросил:
— А на кой леший дом, если его не прихватишь, коль припрет. Если висишь на волоске?
— Тогда, по-твоему, вообще ничего не нужно.
— Что используешь — не пропадет. Ешь, одевайся, радуйся с чего можно, разве мало этого?
— Поучи маму свою…
Когда Алешка, чувствуя — сейчас они разругаются в дым, с поднятой рукой укатил, Алексей, оправдываясь перед Зосей, ворчливо сказал:
— Видела? А другие обратно… Мне один в госпитале еще хвастался: теперь, говорит, ничего бояться не буду. И не боятся — ловчат. Хоромы бросились возводить. Только неизвестно, на какие деньги. А я без хитриков. Свой дом построю и коммунальные квартиры буду строить. И ежели кого эксплуатирую, то себя самого. Дети простят.
— А я, кажется, тоже с тобой живу, — склонила голову Зося.
— По-моему, и ты простишь. Насчет же Алешки не переживай. Чем мы тут поможем? Тут самого бы не трогали…
Он огляделся по сторонам и, никого не заметив, обнял Зосю за талию. Она по-девичьи вскрикнула и толкнула его в грудь. Алексей разнял руки, отступил на шар и сморщился от боли.
— Нога, лихо на нее, — сказал он будто между прочим и дальше пошел, прихрамывая заметнее обычного.
В узком, темном коридоре перед дверью кабинета Зимчука стояла очередь. Алексей пристроился в конце ее и затих. Зося же, наоборот, почувствовала себя вольно, быстро разгадала нехитрый порядок, по которому шел прием, и сделала свои выводы.
— Ты подожди тут, — шепнула она Алексею, — а я вон к той в красном берете подойду. Мы в магазине встречались.
Зося подошла к высокой девушке с красивой, в венке тяжелых кос, головой, в берете чуть ли не на самом затылке и о чем-то заговорила с ней. Та, видимо, догадалась, чего от нее ожидают, незаметно кивнула головой и, подвинувшись, дала Зосе место возле себя.
— А я думала, вы опоздаете, — услышал Алексей ее голос.
Он хотел крикнуть Зосе, чтобы она вернулась, но острая боль пронзила ногу.
Сжав зубы, Алексей прислонился к стене, которая почему-то стала податливо крениться. Удивляясь, куда пропадает сила, он все же превозмог желание опуститься на пол. Усилием воли заставил себя раскрыть глаза и прислушаться к тому, о чем разговаривают в очереди. В коридоре стоял разноголосый шум. Говорили все и о разном: о войне, о жизни в эвакуации, про обнаруженный тайный склад вещей в одном из подвалов под руинами, о том, как счастливо вернулся некий Кушин, которого давно в семье похоронили, о субботниках и литерных карточках. Алексей слушал эти разговоры и понимал: пока он их слышит, Зося ничего не заметит. И, действительно, боль потеряла остроту, хотя ногу жгло, дергало.
Возбуждение придавало уверенность. Идя к Зимчуку и ожидая встречи с ним, бывшим комиссаром бригады, Алексеи особенно не сомневался. Зимчук должен помочь, как помогал не раз. Он всем объяснит, что город — это и есть он, Урбанович, Зося, дядя Сымон. А им не нужны разграфленные бумажки, если те полосуют сердце и глумятся над их трудом. Да разве он, Алексей, кому-либо мешает? Когда то будет, что кусочек занятой им земли понадобится для чего-то другого… Да и понадобится ли? Кто знает? Вон сколько этой земли! Бери, расчищай, строй — хватит и тебе и твоим детям. Юркевичу чхать, что некому другому, как ему, Алексею, придется первому поднимать на пепелищах будущие дома. А как он их станет поднимать на месте, где будет похоронен его собственный?
Когда из кабинета вышел очередной посетитель и Зося, не дав ему закрыть за собой дверь, шмыгнула в кабинет, Алексей сам было направился к двери. Но на него закричали, и он вернулся назад, зная, что Зося что-то придумает, чтобы обойти и это препятствие. Стремясь заранее подготовить почву, он обратился к интеллигентному, в пенсне мужчине, который все время молча стоял перед ним:
— Вот народ! Ни жалости, ни сочувствия…
— Всем не насочувствуешься, — ответил тот и отвернулся.
— Это вы зря…
— В очередях своя совесть. Одни под маркой инвалидов через каждые пять человек стараются пролезть. Другие нарочно детей с собой берут. А третьи просто начинают ругаться так, что всем муторно и тошно становится. Ну и проходят.
— Урбанович! — послышался голос Зимчука из приоткрытой двери кабинета.
Алексей растерянно посмотрел на мужчину в пенсне, но потом рассердился и демонстративно пошел к двери.
Зимчук стоял возле большого письменного стола и разговаривал с Зосей, сидевшей в кресле. Увидев Алексея, он подошел, обнял его за плечи и, разглядывая исхудавшее, обросшее лицо, покивал головой.
— Да-а, на партизанских харчах ты выглядел лучше, товарищ строитель. Подтянуло тебя порядком.
Был Зимчук, как и в те далекие партизанские дни, неторопливым, приятно спокойным. Даже одежда оставалась прежняя — гимнастерка военного покроя, офицерский ремень, галифе. Карие, с золотистыми искринками глаза поглядывали внимательно и немного насмешливо. Полное лицо, крутой лоб с большими залысинами светились от улыбки. Его радовала встреча, и он не таил своей радости, хотя сквозь нее и пробивалось настороженное внимание.
— А вы совсем не изменились, — ответил Алексей, не зная, как лучше отблагодарить Зимчука за приветливость.
— Зато тебя едва узнаешь. Что с тобой?
— На живых костях мясо нарастет.
— Оно так-то так, но ты уж того, слишком. Такой кремень был — и пожалуйста…
Алексей обвел взглядом просторный кабинет, вся обстановка которого состояла из письменного стола, двух кожаных кресел, поставленных у стола одно против другого, и нескольких стульев вдоль стены.
— Полновато? — перехватил Зимчук его взгляд. — Зато смотри вот сюда, — он показал на массивный письменный прибор на столе — отчаянный юноша сдерживал за поводья вздыбленного коня. — На бронзу будем мало-помалу курс держать… Садись! В ногах правды нет.
От этого сочувствия, оттого, что Зося — это он заметил — тайком вытерла уголком платка глаза, у Алексея родился протест. "Что это они разжалобились?" — подумал он и, чтобы переменить тему разговора, сказал:
— Я пришел с просьбой, Иван Матвеевич. Мне строиться запрещают.
Зимчук склонился над столом, взял красный карандаш и что-то записал на листке бумаги.
— Мне Зося уже рассказывала, — как-то напряженно потер он ладонью лоб, отчего порозовели и лоб и залысины. — Главный архитектор по-своему прав, дорогой Алексей; партизанить в мирных условиях не положено.
— Я не партизаню, а строюсь.
— Добавь, без всякого разрешения.
— Его нам советская власть давно пожаловала. Мы воевали за это! А квартиру не больно давать торопятся. Даже обратно…
— Подожди, подожди! — поморщился Зимчук. — Все мы воевали. А кое-кто и сейчас воюет. — И стал расспрашивать об участке, о том, давно ли Алексей начал строиться И по мере того как тот рассказывал, лицо у Зимчука становилось все озабоченнее. Затем, вынув из ящика подклеенный марлей план города, он развернул его и, сжав виски ладонями, облокотился на стол.
— Иди, бесквартирный, покажи, где и что ты тут захватил.
Пытаясь встать, Алексей приподнялся, но острая боль опять пронизала ногу и обожгла сердце. Он виновато метнул взгляд сперва на Зосю, потом на Зимчука и беспомощно опустился в кресло.
— Не могу, Иван Матвеевич, крышка! — выдохнул он и скривился от нестерпимой боли. — Раны открылись…
— Э-э, друг-строитель, — протянул Зимчук, — а я уж тебе и работу подыскал. Думал, опять своим делом займешься…
Зося не выдержала и громко всхлипнула.
Глава вторая
Иногда Василию Петровичу казалось, что он остается с разрушенным городом один на один. Маленький человек и море развалин, рыжих, опаленных солнцем. Развалины возвышаются, наступают на него, а он — один, без поддержки.
Правда, используя уцелевшие коробки, кое-кто из архитекторов проектировал новые здания. При управлении во главе с Дымком была создана специальная группа, которая вела разработку генплана. Но и эта работа подвигалась медленно: не хватало единства и было много осторожности. А главное — споры. С непременными ссылками на высокие политические категории, даже в случаях, когда спор шел о незначительном.
До войны, проектируя дома, Василий Петрович мало думал о тех, кому придется их возводить. А если и думал, то с досадой, как о дополнительной помехе, не дающей развернуться. Теперь же ощущение одиночества и неудовлетворенности, вызывалось прежде всего тем, что рядом почти не было людей, которые осуществляли бы твои замыслы, пусть даже и сковывая их. Усилия становились как бы беспредметными.
Хотя его управление было наполовину укомплектовано, в горсовете на Василия Петровича смотрели как на командира, все еще не получившего часть. К нему относились то слишком фамильярно, то со скрытой иронией и почти всегда слегка насмешливо. Даже выводы комиссии и работу группы генерального плана многие считали чем-то не совсем деловым, нужным лишь для проформы — было просто не до них. Упорство же, с каким Василий Петрович каждый раз напоминал о выводах и работе над генпланом, только докучало.
Но Василий Петрович все же находил в себе силы не обращать на это внимания. И когда кто-нибудь называл его формалистом, он даже соглашался: "Каюсь, но ничего не попишешь, нужна пока такая должность". В нем стала расти нездоровая настороженность. В каждом виделся скрытый правонарушитель, который может или намерен совершить покушение на будущее Минска. И, боясь, что рожденному в его мечтах городу могут повредить недалекие люди, Василий Петрович решил, что теперь главная его задача — мурыжить и предупреждать эти покушения. Хорошо, если город останется таким, какой он есть, покуда не закончится война и не будет составлена проектно-планировочная документация — ну, хотя бы генеральный план и проекты детальной планировки и застройки важнейших магистралей.
Что значит генеральный план? Это документ, намечающий главные городские магистрали, промышленные и жилые районы, зеленые массивы, районы капитальной застройки и т. п. Что такое проект детальной планировки? Это знаменитые красные линии, которые устанавливают нерушимые размеры улиц. А что такое проект детальной застройки? Он определяет очертания магистралей: масштабы застройки, ее характер, так называемые архитектурные акценты — башни, отступы, срезки углов зданий, которые поднимутся на углах улиц, отделка фасадов…
Когда все это будет, то близорукие люди, обычно демагоги, не смогут уже спекулировать на трудностях. Документы встанут над ними как высший закон. А закон есть закон. И хочешь или не хочешь, его надо придерживаться. Легче будет убеждать перестраховщиков, нерешительных.
С Зимчуком можно было еще мириться, но он настораживал тоже: в нем Василий Петрович чуял человека иных мыслей. Тот часто говорил о несчастьях, страданиях, перенесенных народом в войне, о необходимости уважать людские радости. Многого в нем Василий Петрович совсем не понимал. Например, тот горячо и убежденно развивал мысли, что надо уважать не только живых, но и умерших, что люди достойны, чтобы о них не забывали и после смерти. Поэтому неплохо было бы начать с того, что привести в порядок городские кладбища — огородить их и, как полагается, засадить кустами, деревьями, привести в порядок памятники. Настороженному, увлеченному своими планами Василию Петровичу все это казалось довольно странным.
Однажды они заспорили о коробке бывшей лечебницы, к которой когда-то ходили вместе. Техническая экспертиза признала ее годной для восстановления, и Наркомздрав, кому она принадлежала, попросил разрешения начать восстановительные работы. Но выпрямленная в этом месте по генеральному плану Советская улица-проспект подходила бы к коробке вплотную и лечебница очутилась бы на проспекте. Двухэтажная, бедной архитектуры, она никак не гармонировала с очертаниями будущего проспекта. Да и вообще было неразумным выносить такое учреждение на центральные кварталы главной магистрали… Надо было выиграть время. И Василий Петрович стал искать повода, чтобы сначала затянуть дело, а потом отказать Наркомздраву вообще. Завязался спор, в который наконец вынужден был вмешаться горисполком.
— А вы уверены, что Советская улица пройдет именно тут? — спросил Зимчук, выслушав Василия Петровича.
— Комиссия записала, что проспект надо выпрямлять. И группа генплана считает, что, выпрямляя его, целесообразно повернуть именно в этом месте.
— И сколько такой поворот обойдется государству? Миллион, два?
Для Василия Петровича субординация была еще понятием во многом отвлеченным. В нем еще жила закваска человека свободной профессии. И он ответил почти как о чем-то незначительном:
— Еще не подсчитывали… Но думаю — проспект прорубить, щепки будут.
— Щепки или дрова?
— Без жертв город не построишь.
— И это вы говорите, когда на фронте умирают тысячи? Вы думали об этом?
Зимчук тяжело шевельнулся в кресле.
— И еще вопрос. Как вы все же разъясните народу, что улица должна пройти не так, а этак? — Он положил согнутую в локте руку на стол и показал сначала одно, а потом другое направление, и от этого уверенность Василия Петровича, что магистраль надо повернуть, как-то потеряла прежнюю незыблемость. — Мне хочется знать, чем вы аргументируете, что не следует восстанавливать больницу и, наоборот, следует оставаться в землянках и подвалах еще на несколько лет лишь потому, что вам представляется, будто улице лучше пройти не так, а этак?
— Мм… Минуточку! — не удержался на взятом тоне Василий Петрович. — По-моему, тут уж начинаются обвинения. И в том, что я игнорирую интересы людей?..
— Возможно.
— А мне кажется, наоборот, мне мешают заботиться о них. Город, каким он был, не обеспечит ни здоровья, ни благосостояния… И я, понятно, против того, чтобы восстанавливать прежний порядок вещей. Человек имеет право на лучшее!..
Зимчук помрачнел и с отвращением смахнул со стола какую-то пушинку. Возбуждение его заметно угасло.
— Че-ло-век, — произнес он по слогам, — хочет жить лучше, а не иметь право на лучшее… Вы, пожалуйста, напишите о своих соображениях исполкому…
И вот теперь, когда секретарша сообщила, что ему опять звонил Зимчук и дважды Понтус, Василий Петрович постарался настроить себя иронически к будущим неприятностям.
Это ему удалось, и он подумал, что не так уж трудно привыкнуть даже к выговорам и назиданиям. Усмехаясь, взялся было за телефонную трубку, чтобы сперва позвонить Понтусу, но в кабинет вошел Барушка.
Как обычно возбужденный перед началом разговора, он еще у двери вынул из кармана кисет и, свертывая на ходу козью ножку, пошел не к столу, а к дивану.
— Чем порадуете? — спросил Василий Петрович, не придавая особого значения его возбужденности.
Тот дернул плечом, рассыпал махорку и заново взялся крутить цигарку. Это рассердило его, и, кусая зубами край газетной бумаги, он исподлобья посматривал на главного архитектора.
— Правдой! — наконец выкрикнул он.
— Ну что ж, прошу…
— А меня и просить не надо. Это моя обязанности. Я родился тут!
— И я тоже.
— Город не предмет для фантасмагорий. У него есть вчерашний день, это значит — сноп история. И топтать ее не разрешат.
— О чем это вы так грозно? — с видом стоика спросил Василий Петрович, уже начав привыкать к Барушкиным возмущениям.
— Я знаю о чем. Знаете и вы… Я не могу больше молчать! Что делает ваш Дымок? Это же обскурантизм. Сейчас прошлое города — руины.
— И подвиг в войне…
— Пусть. Но народы, обладающие высоким самосознанием, оставляли руины неприкосновенными. Как святыню. И, естественно, наш народ тоже требует сохранить все, что возможно.
То, о чем говорил Барушка, волновало его. Он гримасничал, с выражением страдальца искал слов. Но, показывая всем своим видом, что идет на риск, вызывал у Василия Петровича только раздражение.
— Минутку, — опять перебил он Барутку. — Кто требует? Вы или народ?
— Я… Народ…
— Нет, все-таки конкретно, — кто?
— Я знаю народ.
— И что, собственно, вы предлагаете?
— Восстановить все, что можно восстановить.
"Так вот кто автор этой идеи", — подумал Василий Петрович, вспомнив прежние Понтусовы намеки, которыми тот хотел привязать его к себе. И, зная, — надо взвешивать каждое слово, — сказал:
— Я согласен… Людям нужно не только славное завтра. Но в неволю к прошлому я пойти не могу. Минск заслужил большего. Здесь у меня расхождений с Дымком нет…
Проводив взглядом Барушку, который размахивал руками и доказывал свое, пока не дошел до двери, Василий Петрович срывка снял телефонную трубку и рукой, которой держал ее, набрал номер. Однако, подумав, что разговор с Понтусом тоже будет о злосчастных коробках, не дал утихнуть гудкам и нажал на рычаг. Практика уже подсказывала — по телефону легко соглашаться, еще легче отказывать, но убеждать, добиваться своего трудно, а иногда и бесполезно.
Предупредив секретаршу, что идет в Дом правительства и что ей придется извиниться за него перед Зимчуком, он вышел из управления, настроенный более непримиримо, чем раньше.
Неожиданно Понтус встретил его приветливо. Почесывая левую руку выше локтя — так он делал, когда был возбужден, — вышел из-за стола и поздоровался.
— Привет от жены, — сказал он, поблескивая золотым зубом.
— Благодарю, Но каким образом? — удивился Василий Петрович.
— Встретил возле "Метрополя". Вела Юрика в музыкальную школу. Присаживайтесь.
Василию Петровичу стало неприятно, что Понтус видел жену, сына, а он уже вторую неделю не получал от них писем. Но все же спросил:
— Ну как им там живется-можется?
— Что как? Чудесно! Вера Антоновна цветет. Выглядит лучше, чем тогда, в Минске. Люди оглядываются, когда проходит мимо. А женщины — у тех же всегда поединок: будь их воля — проткнули бы взглядом, как рапирой… Москва, милый человек!
Понтус сказал об этом с каким-то непристойным намеком, словно речь шла о человеке, совсем чужом Василию. Петровичу, и словно эту непристойность тот мог даже смаковать.
— Спрашивала, само собой разумеется, про вас, не скучаете ли, — так же двусмысленно продолжал Понтус. — Я пошутил, война, мол, еще не кончилась и мужчины из армии не демобилизовались. Смеялась, приказывала следить и докладывать… Ну, что еще? Приглашала на чашку чая…
— А вообще, что нового? — чтобы прекратить разговор, становившийся все более неприятным, спросил Василий Петрович, представляя Понтуса, жену и Юрика у "Метрополя". Жена и Понтус разговаривают, смеются, а Юрик упрямо тянет мать за рукав и хнычет: "Мам, пойдем! Му, мам, пойдем!.." Вера в своем шоколадном пальто, которое так изящно облегает ее фигуру, в маленькой, с вуалью, шляпке и с сумкою через плечо. На нее оглядываются, рассматривают, а она делает вид, что ничего не замечает, и полнится гордой радостью. Внимание окружающих делает человека красивее. И Василий Петрович знал, что жена в такие минуты становилась особенно привлекательной…
— Нового? Мало. Да и оно успело постареть, — безразлично ответил Понтус. Пройдясь по кабинету и приблизясь к Василию Петровичу, по-дружески поправил ему галстук. — Предупреждали, чтобы не особенно размахивались. Чтобы резали, только семь раз примерив. Весною опять обещал приехать Михаилов.
— Владимир Иванович? Это хорошо!
— Ну, как сказать… "Известия" еще до войны напечатали статью, помните? Очень поучительна — "Рыцари прямого угла". Там высказывалась трезвейшая мысль: больному нужен не кат, а хирург. Иначе говоря, нельзя чекрыжить город так, как подсказывает тебе только фантазия.
— Но при чем тут Михайлов?
— Нет, что вы! — удивленно сказал Понтус, словно довольный, что ему возразили. — Однако я полагаю, все это останется между нами. Мне в Академии архитектуры довольно прозрачно намекнули, что он… как бы вам сказать, больше теоретик и немного идеалист…
Понтус подошел к кульману, которого Василий Петрович до этого не замечал, и положил на противовесы руку.
— У нас, у практиков, есть довольно существенное преимущество. Мы, в сущности, решаем — быть или не быть. Но это тяжелое преимущество. За теоретические ошибки, батенька, только критикуют, а за наши снимают с работы и отдают под суд. Поэтому совсем непростительно, когда голова начинает кружиться от успехов или планов.
День был короткий. За окнами начинались сумерки. Но Василий Петрович присмотрелся и в проекте, прикрепленном к кульману, узнал фасад лечебницы физических методов лечения. Понтус перехватил взгляд Василия Петровича и, чтобы у того не было никаких сомнений, включил свет.
Под вечор ударил мороз. Он сковал землю, развалины, асфальт. Тротуары стали до того гулкими, что от шагов разносилось эхо. Руины, покрытые инеем, поднимались гранитными заиндевелыми громадами, и казалось, что нет ничего более твердого, чем они.
Поеживаясь от холода, к которому не успел привыкнуть, Василий Петрович по дороге зашел в закрытый распределитель. Месяц кончался, и надо было непременно отоварить карточки. Но мяса и жиров не было, и он — зато без очереди! — получил яичный порошок и баночку соленых фисташек. Фисташки выдавались вместо сахара, но Василий Петрович их любил и охотно взял.
В магазине было светло, тепло. На полках, под стеклом прилавков стояли коробки и банки с яркими, разноцветными этикетками. И от контраста — залитого электрическим светом магазина и мертвой улицы с заиндевелыми развалинами, — а может быть, оттого, что он получил фисташки, Василий Петрович остро почувствовал отсутствие жены и сына.
Правильно ли он поступил, согласившись, чтобы Вера уехала от него? Действительно ли так лучше для нее и Юрика? Небось, им тоже не хватает его. Не может же быть, чтобы спокойный, привычный быт мог все окупить. Она, возможно, тоже скучает, ей тоже нужна его близость. Но она знает такое, что невдомек ему. Матери умеют видеть, чего не видят другие. Когда родился Юрик, Вера, глядя на сына, восторженно сказала: "Он будет вылитый ты, Вася". Тогда слова жены сдались милым чудачеством. И как ни всматривался Василий Петрович в красное, с кислой гримасой личико, он так ничего и не увидел — ни сходства, ни даже того, чем можно было восторгаться. А получилось все же, как говорила она.
Ему захотелось простить жене все. Образ любимой женщины предстал перед ним как самый дорогой и светлый, каким приходит в сновидениях. В то же время был он земным, желанным. Да, да, Вера не холодна к нему, а просто сдерживает себя, не раскрывается перед ним вся. Женская мудрость заставляет ее что-то таить от него, что-то хранить про запас, обещать еще неизведанное. И, может быть, в этом причина, что он тянулся к ней, всегда ощущая неутоленную жажду… И она вставала в его воображении близкая, но не до конца своя, влекущая и очень-очень нужная. С каким облегчением и благодарностью прижал бы сейчас он к себе ее душистую голову! Как целовал бы ее бледный лоб, закрытые, с большими ресницами глаза…
Что делать?
По силам ли ноша, которую он взвалил на плечи? Неужели ему нужно больше всех? Да его ли эта ноша? Он творческий человек. С него хватило бы работы в мастерской, с небольшим дружным коллективом. Он проектировал бы здания, даже целые ансамбли, неясные, но светлые образы которых живут уже в нем. Возникнув из трепетного душевного горения, они не дают покоя, просятся на бумагу. А он гонит их, манежит и тратит себя на мелочи. Что полезного сделал он за это время? Почти ничего. Его борьба с самозастройщиками и коробками наталкивается на самые неожиданные преграды. Геодезисты никак не могут закончить съемок, и по-прежнему единственным документом является топографический план 1934 года, который удалось спасти от огня в подвалах городской управы.
Он спешил сюда, стремясь увидеть то, что создал в счастливое мирное время, а увидел одни лишь развалины. Он надеялся, что тут, в родном городе, у него снова будет прежняя семья, и в нее заглянет счастье, а семья распалась. И кто знает, когда все наладится. И наладится ли вообще? Он мечтал о творчестве, а пока мытарится, погряз в административных мелочах. Да и вообще зачем ему большая политика, если он вовсе не политик?..
Москва! Она, вероятно, не отвергла бы его. Михайлов поддержал бы, а то и взял бы в свою мастерскую. Работать с Михайловым! Вот что ожидало бы его. Перед ним раскрылись бы невиданные горизонты…
Готовый писать заявление в ЦК, Василий Петрович ступил на порог своего управления. Рабочий день кончился, и сотрудники уже разошлись. Только в комнате сектора отвода земель уборщица, подметая пол, передвигала стулья и столы. Василий Петрович попросил у нее ключ и прошел в кабинет.
На столе, как обычно, слева от чернильного прибора, лежала подготовленная стопка бумаг с прикрепленными к уголкам конвертами — почта управления. Чувствуя себя обиженным, Василий Петрович опустился в кресло и механически пододвинул бумаги к себе. Увидел положенный отдельно, чтобы обратить внимание, нераспечатанный конверт. Из каких-то соображений Вера посылала письма по служебному адресу, и Василий Петрович, не посмотрев на почерк, уже знал, что письмо от нее. С непонятной тревогой он разорвал конверт и, потому что в нем было несколько листочков, начал сперва их разглядывать. Вот лист почтовой бумаги, исписанный мелким почерком жены. Вот листок, вырванный из ученической тетради. На нем танк с красной звездою на всю башню и красным снопом огня, вылетающим из длинного пушечного ствола. Вот второй такой же листок с контуром Юриной руки, обведенной карандашом и похожей на кленовый лист. Внизу печатными буквами написано: "Папа, я тебя люблю". Вот фотография — Вера в своем спортивного покроя пальто и Юра с папкою для нот, на которой оттиснут профиль Бетховена.
Вера благодарила за присланные деньги, писала, что скучает и никуда не ходит. Погода плохая, с каждым днем становится все холоднее, и, если бы не магазины, не Юрик, она вряд ли показывалась бы на улице. В конце письма между прочим сообщала, что на днях встретила у "Метрополя" Понтуса. Поговорила, отвела душу. Он был до того любезен, что зашел на следующий день к ним домой, принес Юрику баночку фисташек и немного халвы. Юрик был рад, скакал на одной ноге, хлопал в ладоши и все говорил: "Спасибо, дядя Илья! Спасибо! Мам, посмотри!"
Последнее поразило Василия Петровича, и он уже больше ни о чем другом не мог думать. Почему Понтус умолчал, что заходил к жене? Если, скажем, оберегал его покой, то почему не удержался от каких-то намеков: "Москва, милый человек!.." Если вообще не придавал значения своему визиту, зачем же вспомнил о приглашении? Значит, ему выгодно притворяться безразличным к Вере и показывать, что не очень ценит ее приглашение. Почему?
Понтус представлялся до этого инертным, тяжелым на подъем, его мало что восторгало и также мало что особенно возмущало. С женщинами же он вообще был неприкрыто бесцеремонным и пользовался успехом только у определенной их категории… И вдруг так лисить!..
Как он смог, ничего не сказав конкретного, столько наговорить, обескуражить и даже просто пригрозить Василию Петровичу!..
А он? Он из-за своей глупой деликатности ничего ему не ответил. Ничего не потребовал объяснить.
Дома ему долго не открывали. Когда же в сенях наконец щелкнула щеколда, Василий Петрович, вспомнив о происшедшем на усадьбе Урбановича, догадался, почему не слышали, как он стучал.
Отмыкала двери тетка Аитя. Он узнал ее в темноте по тяжелому вздоху и окликнул. Но она не ответила ему.
Проходя через комнату Урбановичей, Василий Петрович увидел Зосю. Сидя к нему спиною, та перебирала тетради. Она, несомненно, слышала его шаги, но не шевельнулась и не посмотрела, кто идет.
Снедаемый недобрыми мыслями, Василий Петрович вошел в свою комнату, разделся и бесцельно постоял у стола. Попытался, как и тогда, перед встречей с Понтусом, настроить себя иронически, но это уже не удалось. И, решив, что так дальше нельзя, что надо переговорить хотя бы с Сымоном, начал готовить ужин. Вытащил из-под кровати плитку, спрятанную там от глаз контролера Энергосбыта, развел яичный порошок, приготовил омлет. Удивляясь, как это все у него споро получается, достал буханку хлеба, флягу с водкой и, набравшись духу, подался в комнату хозяев.
Сымон в очках сидел на низенькой скамеечке посредине комнаты. В руках он держал колодку с натянутой на нее серо-лиловой бахилой и старательно приклеивал неширокий красный рант. На полу валялись обрезки автомобильной камеры и несложный инструмент — сапожный нож, нечто вроде узенькой терки, набитой на деревянную ручку, для зачистки резины, кисточка-лопатка с размочаленным концом.
Он никогда не видел Сымона в очках, и потому тот показался ему чужим.
— Мне надо с вами поговорить, — сказал Василий Петрович, убежденный, что этот разговор, если он и состоится, будет тяжелым.
Старик взглянул на тетку Антю, которая подкладывала дрова в голландку, и снова все внимание сосредоточил на бахиле.
— Пойдемте ко мне. Для меня это очень важно. Я вам объясню…
— Нечего ему ходить, — опередила мужа Антя, прикрывая дверцу голландки и разгибаясь. — Вы лучше Леше объясните.
— А где он?
— В больнице.
— Тетенька! — отозвалась из-за стенки Зося, которая, вероятно, все слышала. — Чего вы с ним еще разговариваете? Ему все равно нужды мало… — И она будто захлебнулась.
С чувством, что на него надвигается еще одна беда и, быть может, не меньше той, какую вообразил недавно, Василий Петрович повернулся и, бормоча в оправдание нелепицу, вышел. В своей комнате заперся и долго сидел, обессиленный, на кровати. Потом встал, подошел к письменному столу, вынул из ящика кусочек кирпича и с отвращением бросил в открытую дверцу печки.
Было воскресенье — выходной день. Однако Василий Петрович не нашел в себе силы еще раз поговорить с хозяевами и, как обычно, сесть за письменный стол. За дверью стояла маетная тишина. И она выгнала Василия Петровича из дому. Но выйдя на улицу, он понял, что ему некуда идти. У него были знакомые, сотрудники, но не было места, куда он мог бы зайти и где бы этому не удивились. Правда, он мог заглянуть к Дымку, к Кухте. Его, скорее всего, там встретили бы гостеприимно, приветливо, но и они удивились бы…
Бесцельно слоняясь, думая, как быть дальше, он вышел к Троицкой горе.
Вокруг лежал в рытвинах пустырь, кое-где поросший чахлыми кустиками. Справа возвышались заиндевелые коробки бывшей военной школы. На втором этаже ее главного корпуса кто-то застеклил два окна, положил на междуэтажные балки доски и устроил себе жилье, выведя трубу прямо в окно.
Левее, над крышами уцелевших зданий, маячили силуэты Дома правительства, кафедрального костела на площади Свободы, купола церкви на улице Бакунина.
Дальше снова темнели руины и поблескивала серебристая полоска Свислочи с редкими, склоненными к воде вербами. На широкой заболоченной пойме темнели хибарки без дворов, редкие деревья. За Свислочью, на склоне горы, опять коробки с черными провалами окон, труба и стрельчатый, чем-то похожий на средневековый замок, фасад электростанции. Еще левее — пустырь и площадь с пепелищами, полосками побуревшего ржища и двумя начатыми еще до войны и неоконченными полукруглыми домами. И надо всем серое, мучительно низкое небо.
Перед этой картиной всеобщего разрушения вчерашние мысли вдруг показались постыдными. Бросить разрушенный город? Вычеркнуть из памяти? Похоронить всколыхнувшиеся надежды? Нет! Это то же самое, что вычеркнуть, похоронить самого себя. Да и вчера в глубине души Василий Петрович знал, что ни за что и никогда не поедет от этих руин, сквозь которые в воображении уже начал мерещиться новый город, светлый, прекрасный, как и его подвиг в войне, А несуразные мысли вчера были просто местью себе и другим. Себе — за слабость, за то, что неладно защищает свое; другим — за жестокость или равнодушие к этой жестокости.
Из-за неоконченного дома на площади показался трамвай. Василий Петрович невольно — все равно не было на чем остановить взгляда — проследил за ним, пока тот не скрылся за руинами, и вздохнул: жизнь шла своим чередом и здесь. И хотя на улицах можно было перечесть прохожих, шла в определенном направлении. Оставляя клубы сизого дыма, по Садовой проехал грузовик. В кузове его, на кирпичах, сидели грузчики в брезентовых спецовках и будто жестяных рукавицах. В гору поднимался обоз ломовиков. На медведках — железный лом. Сюда звуки не долетали, но по тому, как размахивали руками возчики и напрягались лошади, Василий Петрович представил крики, лязг. И чем больше он смотрел, тем больше проникался преданностью к городу — и этому разрушенному, и тому, красивейшему в стране. Отдалялись, теряли остроту пережитые неприятности, а чувство преданности росло, охватывало его всего.
Когда же на глаза навернулись слезы, он неожиданно увидел окруженного молодежью Зимчука. Тот стоял на ступеньках театрального портика и тоже смотрел на город. Обок, прислонившись к колонне, стояла девушка, на которую когда-то на перроне вокзала Василий Петрович обратил внимание. Захотелось незаметно уйти, но его уже увидели, и он вынужден был подойти.
— Любуетесь? — спросил он.
— Есть на что, — неприветливо ответил Зимчук.
— Это студенты наши, — вмешалась Валя. — Иван Матвеевич рассказывал нам о разрушениях. А сейчас перехватили вашу роль и определяем когда и что можно будет восстановить.
— А между прочим, — не имея уже возможности так просто оставить их, сказал Василий Петрович, — важнее, пожалуй, другое. Не когда будет восстановлено то и то, а как оно будет восстановлено…
— Неужели вы вчера тоже руководствовались этим принципом? — бросил на него удивленный взгляд Зимчук.
Когда Василий Петрович превозмогал колебания и делал выбор, он бледнел. Так и теперь — кровь отхлынула от его лица.
— Нет, не только, — твердо сказал он, кроме всего решив, что сегодня же переедет от Сымона в гостиницу. — Там я исходил из статей уголовного кодекса. Самозастройщик, Иван Матвеевич, это преступник, вредитель…
— Взгляните вон туда, — показал Зимчук на главный корпус военной школы и застекленные окна на втором этаже. — Видите? Что это, тоже штучки вредителя?
— Нет, это бедность.
— А разница? Разница, понятно, есть… Ты знаешь, Валя, кто там живет?
— Знаю, — неохотно ответила та. — Алешка.
— Так вот, там Урбанович, а тут Алешка. Мастеря это жилье, он, будьте уверены, знал, что делал. Скоро война кончится, военное ведомство не из бедных, восстанавливать свои здания одним из первых примется. А советские законы в обиду человека не дадут. И прежде чем выселят из коробки, ему, Алешке, подготовят новую квартиру. Так что за четыре-пять дней из материала, который наволок оттуда, где плохо лежало, Алешка построил себе новую квартиру в новом доме. И, возможно, на проспекте… Так, кажется, вы называете Советскую улицу?
— Проспект здесь ни при чем.
— Это между прочим. А суть в том, что нахрап, оборотистость могут выглядеть как бедность, нелегкая же работа на себя — как преступление. Нет, извините, цена человека — это прежде всего его отношение к труду. И, по-моему, ежели прощать, то не комбинаторам…
Внизу, на тропинке, протоптанной по пустырю, показалась женщина в платке с бахромой, в замызганном паль" то и мужских сапогах. На плече она несла чем-то набитый мешок. В ее сгорбленной фигуре, покорной походке сквозило что-то монашеское.
Забыв о присутствующих, Зимчук сбежал по ступенькам театральной лестницы и, переняв женщину, стал трясти ей руку.
— Куда это вы? Как там Змитрок? — долетело до Василия Петровича.
— Ничего, спасибо. Вы же знаете, ему бы только работа… — ответила женщина. — А я далеко — в Западную. Может, выменяю крупы или хлеба на барахло. Дети, Иван Матвеевич, отощали…
— Кто это? — снова чувствуя слабость и досаду, обратился Василий Петрович к Вале.
Но та, погруженная в свои мысли, не услышала вопроса. Теребя рукав пальтишка, девушка смотрела в сторону главного корпуса военной школы и, щурясь, о чем-то думала.
— Не знаю, — сказала она спустя немного, — но, по-моему, Иван Матвеевич не совсем справедливо говорил и об Урбановиче. Вы же живете у них, видите…
Глава третья
Смирилась ли Зося с тем, что и как делал Алексей? Вряд ли.
Но это был ее Леша — с открытым, знакомым до мельчайшей черточки лицом, с серыми, иногда совсем прозрачными глазами, глядя в которые она забывалась и чувствовала, как трепещет, томится от любви ее существо. Это был Леша, без которого она не представляла себя и чьего ребенка носила под сердцем. Он жил для нее во всем. Сыпанет ли в замерзшее, покрытое инеем стекло снегом или потянет дымом из маленькой печурки, сделанной для них лядой Сымоном, — и по какой-то самой неожиданной сняли вспоминается Леша. Не выучила ученица уроков, встала из-за парты насупленной, исподлобья поглядывая на Зосю, — и перед глазами всплывает Лешино лицо. Проехали по улице на лыжах парень с девушкой, зацепился протезом за порог Лочмель, входя в учительскую, сделал незаслуженное замечание директор школы — и опять мысли о Леше: надо передать, про что подумалось тогда, найти поддержку. Она любила его и не могла не любить.
На этот раз Зося направилась в больницу прямо из школы. Обрадованные, что могут проводить учительницу, ее окружили девочки, которым было по дороге. Их оказалось много. Каждая старалась идти как можно ближе, и потому, не помещаясь на тротуаре, пошли по заснеженной улице.
Небо свисало невзрачное, скучное. Падал пушистый, тихий снег.
Зося в своем вишневого цвета, еще партизанском кожушке, опушенном мехом по бортам и внизу, в кубанке, на которой остался след от когда-то пришитой красной ленты, в полученных с Валиной помощью из Красного Креста хромовых сапогах мало походила на учительницу. Она это чувствовала, но не смущалась. Наоборот, тихий снег, необычная одежда, в которой — Зося это знала — она выглядит интересной, даже воодушевляли.
— Моя мама к дяде Ване поехала, — боясь, чтоб ее не перебили, говорила худенькая нервная девочка, закутанная в большой платок, концы которого были завязаны на спине. — У дяди Вани на фронте Сергейку убили. Мы теперь с папой одни. Папа и готовит, и на работу ходит, и за мной присматривает. Он все умеет. Только косы заплетать никак не научится.
— А ты знала Сергейку? — спросила Зося.
— Нет. Но папа говорил, что он совсем мальчишка.
— А у нас обратно — папусю ранило, — сообщила другая девочка, кудрявая, с золотистыми завитками, непослушно выбившимися из-под плюшевого капора. — Где-то под Прагой. Мама говорила, есть две Праги: одна — в Чехословакии, другая — в Польше. Папусю ранило в Польше где-то.
Зося обняла девочку за плечи и пошла так с нею, стараясь, чтобы дети не заметили ее слез.
— Папуся в госпитале сейчас, — без особой печали продолжала рассказывать девочка, не замечая, как вздрагивает рука учительницы.
— Зося Тарасовна, а почему Лочмель такой? — неожиданно спросила девочка в большом платке.
— Какой?
— Ему больно, наверное, костью в протез упираться?
— Конечно…
Зося хотела и не могла отвечать. Убитый Сергейка, который ей представлялся подростком, и заботливый отец девочки, чья душа еще не научилась жить долго горем, и раненный под Прагою, и Лочмель — имели какое-то отношение к Алексею и камнем ложились на сердце.
— Завтра я приду к вам… — точно оправдываясь, поспешно пообещала она, не в силах больше говорить.
Возле коробки пожарного депо с башней, похожей на туру, Зося увидела Василия Петровича. Он шел, задумавшись, размахивая перед собою рукой и щелкая пальцами. Зося не встречала его с того дня, как он съехал от них, и если бы не девочки, обязательно куда-нибудь свернула.
— Приветствую, — виновато поклонился он.
Она ответила и, ища поддержки, взглянула на учениц. Те окружили ее и с любопытством уставились на Василия Петровича.
— Ну как Алексей? Поправляется?
— Немного лучше, — едва смогла поднять на него глаза Зося.
— Вы поймите меня и не думайте, что я безразличен к вам.
Зосино лицо потемнело, и возле рта обозначились упрямые складки.
— А мы и не думаем.
— Можно, Зося, по-разному заботиться о людях.
— Я передам ему. А вам скажу: вы не любите людей, товарищ Юркевич. Заботитесь, как говорите, но не любите их.
Ученицы внимательно прислушивались к разговору, стараясь его понять, но не понимали. Однако при последних словах заволновались. Кудрявая, в капоре девочка, взявшись за Зосин рукав, попросила:
— Пойдемте, тетя Зося!
Ненужная встреча с неугодным человеком еще больше развередила рану. И когда, попрощавшись с ученицами, она осталась одна, мысли ее были заняты только Алексеем.
В приемном покое ей пришлось ждать — собралось много посетителей, и не хватало халатов.
Здесь было чисто, тихо, пахло йодоформом. Посетители сидели на белых табуретках вдоль стены и вокруг овального столика, на котором стояли фарфоровая чашка и графин с блестевшей, как ртуть, водой. Сквозь стеклянные двери виднелись вестибюль, фикус-недоросток у лестницы и сама лестница, по которой поднимались озабоченные женщины в белом.
Одолеваемая печальной больничной торжественностью, Зося взяла свободную табуретку и подсела поближе к жующей санитарке, которая дежурила у вешалки. С нею Зося познакомилась, когда раньше приходила сюда, и как-то сразу доверилась ей.
— Как там Урбанович, не знаете? — спросила Зося, с удовольствием глядя на старую женщину, на ее морщинистое доброе лицо, которое бывает у хороших людей, видевших много человеческих страданий.
— Ходить уже пробует, — перестала жевать санитарка.
— Быть не может! — обмерла Зося.
— Да ты не волнуйся, дитятко! Он у тебя больно уж нетерпеливый. На костылях пробовал. А ночью… — старуха в нерешительности поджала губы. — Говорили, уткнулся в подушку и плакал.
— Леша плакал?!
Зося представила, как вздрагивали широкие плечи Алексея, как билось его сильное тело, и перед ее мысленным взором предстал заброшенный среди болот островок, госпитальная землянка, вымощенная жердочками, с потолком, обтянутым парашютным шелком. На нарах он, Алексей, и склоненная над ним в белом халате и косынке она. Зося. "Как тогда было хорошо!" — подумала Зося. И такая жалость, такое сострадание обдали ее, что она не могла произнести ни слова.
Санитарка испугалась и шепотом стала успокаивать ее, уверяя, что через месяц-два Алексей обязательно поправится.
А Зося, подперев рукой подбородок и не слушая старуху, думала: нет-нет, никогда она не будет жестокой с Алексеем, — не наказывать его надо, а помогать ему!
Что она сделала для того, чтобы он стал таким, как хочется ей? Как она могла допустить, что он отдалился от нее, очерствел? Если бы она боролась за свое счастье, как он за свое, все было бы по-иному. А она ведь не всегда даже понимала его и иногда сама подливала масла в огонь.
Когда очередь дошла до нее, Зося торопливо надела халат и открыла стеклянную дверь. Не чуя под собою ног, взбежала на второй этаж.
Больных было много, койки стояли даже вдоль всего коридора. Но Зося не замедлила шаг, пока не дошла до двери палаты, где лежал Алексей. Тут она остановилась и перевела дыхание.
Койка его стояла справа от двери, возле стены. Зося переступила порог, повернулась вправо, ухватилась руками за спинку койки и только тогда осмелилась взглянуть на мужа.
Алексей лежал с заломленными за башку руками, укрытый по грудь одеялом. Из-под одеяла белела ровная полоса простыни. И по тому, как аккуратно простыня была завернута на одеяло, Зося — она всегда замечала все, что касалось Алексея, — догадалась: он ждал ее и готовился к встрече. Это ожидание она прочла и на его лице, побритом, строгом, и по глазам, которые сразу заблестели и стали светлее. Алексея остригли еще в первый день, и вначале Зося не могла привыкнуть к нему, носатому и круглоголовому. Теперь же волосы немного отросли, и то, что он был острижен, лишь молодило его.
— Садись сюда, — пододвинул он табуретку и впервые при людях не постеснялся поцеловать ее.
Больные лежали и сидели каждый на своей койке, все остриженные, в нижних, с завязками вместо пуговиц, больничных рубашках, и потому похожие друг на друга. Только одна койка, рядом с Алексеем, была свободна.
— Выписали? — поинтересовалась Зося.
— Нет.
— А где же он?
— Умер.
— Здесь и умер? У вас на глазах?!
— Нет, перенесли в изолятор.
В груди у Зоси похолодело, и она с суеверным страхом взглянула на пустую койку, никак не припоминая больного, лежавшего тут.
— Постель сменили?
— Понятно.
— А твое как здоровье?
— Ничего.
— Почему, Леша, ты и здесь не бережешь себя?
Он недовольно потянул одеяло на грудь и положил на него руки.
— Донесли уже? Няня небось… Что я, маленький, не хозяин себе? Мешаю кому, что ли? Ты вот лучше скажи без утайки, как дом наш.
— Что дом? Стоит. Снегом засыпало.
— Вот видишь. А Пальма?
— Я уж говорила тебе, дядя Сымон привел. Бегает по двору на цепи, никто чужой зайти не может.
— Молодчина! С завода не спрашивали?
— Спрашивали, конечно.
— Ты права, буду просить Ивана Матвеевича, чтобы дал работу по специальности. Хватит уж неприкаянным слоняться.
— Сначала поправься вот.
— Поправлюсь.
— Ты обо мне, может, тоже спросил бы что-нибудь, — тихо проговорила Зося и подумала: Алексей ни капельки не изменился, а она толком и не знает, что надо делать, чтобы он изменился.
Вот спешила к нему, и казалось — придет, выскажет, что накипело на сердце, и все станет ясным. Но пришла, начала говорить — и словно уперлась в глухую стену. Что тут поделаешь! Что ты тут изменишь, если стена глухая и каменная!
К горлу подступили рыдания. Зося закрыла глаза, и между темными ресницами у нее заблестели слезы. Но в этот миг она вдруг почувствовала, как что-то нежное забилось в ней. Зося замерла и прислушалась. Оно стукнуло еще раз, другой и притихло. Но золотая струна, к которой прикоснулось, все звучала и наполняла Зосю чудесной музыкой. Музыка нарастала, захлестывала сердце. Слезы, блестевшие на ресницах, вдруг раздвинули их и покатились по щекам. Но это были уже слезы радости и забот.
Зося вытерла лицо, взяла руку Алексея и осторожно приложила к своему животу.
Думая, что это каприз, стыдясь Зосиных слез, Алексей насупился, задышал носом. Но в ладонь его стукнуло настойчиво, требовательно. Не принимая руки, он весь потянулся к Зосе, шепотом, будто шутя, спросил:
— Не рано ли?
Дурень…
И попросил:
— Ты меня прости. Это я так, Зось…
Обиженная, она не ответила, все еще прислушиваясь к себе и чувствуя в словах Алексея одно — желание помириться.
"Вы заботитесь о людях, но не любите их", — вспоминал Василий Петрович, шагая по тротуару.
Снег шел с самого утра и успел покрыть все вокруг. Укутанные им, как ватой, руины по сторонам улицы возвышались причудливо. Низко нависшее небо почти сливалось с заснеженными развалинами и с покрытой снегом землей. Было во всем этом нечто призрачное. И в медленном кружении снежинок реальными казались только люди, ссутуленные, с поднятыми воротниками, редкие грузовики с обвитыми цепью колесами да проворные "эмочки", "виллисы", которые сердито буксовали и которых далеко заносило на поворотах.
"А вы их не любите!.."
Нет, это неправда. Разве мог бы он так работать и жить, не любя людей? Он архитектор, а это значит — человеколюб по самой своей природе. Ни одно искусство в мире так не связано с благополучием и счастьем людей, как архитектура. В ней невозможны даже карикатуры… И что значит — любить людей? Неужели это — потворствовать им во всем? Мириться с их отсталыми вкусами, близорукостью? Нет, настоящая любовь требовательна и даже жестока. Вот пройдет пять — десять лет, когда его непримиримость пробьет сквозь эти омертвелые руины проспект, и тогда будет видно, любил ли он людей. Проспект ляжет широкий, строгий, прямой, с шепотливыми липами и стремительными взлетами башен… И пусть вокруг многое останется на время прежним — люди под вечер, после работы, станут приходить сюда как на обетованную землю будущего.
Он думал об этом несколько иронично, словно объяснял очевидное, но понимал, что доказывает Зосе не совсем то.
"Вы заботитесь о людях, но не любите их…"
Вероятно, она признает лишь ту любовь, которую принимают сами люди. Ты любишь людей только тогда, когда они признают, что ты их любишь. И ты, в сущности, не любишь их, если они не чувствуют твоей любви, если она их не согревает. В этом, безусловно, есть доля правды… Поэтому-то он и представляется Зосе неуживчивым, мелочным…
Задумавшись, Василий Петрович не заметил, как с ним поравнялась горкомовская "эмочка". Проехав с разгона метра два на заторможенных колесах, она остановилась, и из ее открытой дверцы высунулась голова Ковалевского в шапке-ушанке.
— На ловца и зверь бежит! — крикнул он насмешливо. — Садись, архитектор, подвезу.
Василий Петрович отряхнул от снега пальто, шапку и без особого желания полез в "эмку".
В машине рядом с шофером сидел Зимчук. Это не понравилось Василию Петровичу, но, не показав виду, он пожал ему руку, которую тот протянул через плечо.
— А где ваш "козелок"? — покосившись на секретаря горкома, спросил Зимчук. — Далеко куда ходили?
По его тону Василий Петрович догадался — о нем недавно говорили, и, давая понять, что знает это, ответил:
— Одному подполковнику в отставке взбрело в голову строиться на прежней усадьбе. И обязательно на пепелище, где погибли жена и дети. Чтобы одновременно, как он выражается, построить дом и памятник. Разве не уважительная причина?
— Ну и как?
— Там — район капитальной застройки. И если сможет поднять четыре этажа, пусть строится.
— Занятно, — улыбнулся одними глазами Ковалевский. — А мы тоже только что побывали на усадьбе одного из твоих крестников. И решение о нем тебе все же придется отменить.
Снег облепил стекла. В "эмочке" стоял матовый полумрак. По ветровому стеклу отчаянно метались "дворники" и с трудом раздвигали снег то вправо, то влево. Наклонившись, будто заинтересованный тем, что он видит в веер, очищенный "дворником" с его стороны, Василий Петрович спросил:
— А почему, если не секрет?
— Решение твое неприемлемо по политическим соображениям. Значит, неприемлемо вообще.
"Вот оно, начинается", — подумал Василий Петрович и заметил:
— Но город мы строим не на один день…
— К тому же, насколько мне известно, генеральный план еще и не думал выходить за пределы района капитальной застройки. Откуда же ты знаешь, что будет там, где строится Урбанович? Ты же сам заявлял: при составлении генплана отдаленных районов будешь учитывать уже существующие постройки. А чем этот новый домик хуже старых? Почему ты не хочешь его учесть?
— Существующие — это неизбежное зло, а новый домик пока не существует, и зла можно избежать.
— Вот это ладно! — передернул плечами Ковалевский. — Послушай тебя, получается, будто наше главное несчастье, что гитлеровцы не успели уничтожить все дотла.
Василий Петрович не умел спорить, горячился, и слова в защиту своего мнения приходили к нему позже, когда он оставался один и мысленно продолжал спор. Сейчас же его так и подмывало.
— Зачем жонглировать словами, — полез он напролом. — В нашем деле, к сожалению, не бывает, чтобы и козы оставались целы, и нелюди были сыты…
Завернув за угол, "эмочка" остановилась у подъезда горсовета. Недовольные друг другом, Василий Петрович и Ковалевский вылезли из машины, а Зимчук остался сидеть рядом с шофером. Сердясь почему-то на Зимчука больше, чем на секретаря горкома, полагая, что Ковалевский продолжит с ним беседу у себя, Василий Петрович первый зашагал к подъезду. Но на втором горсоветовском этаже Ковалевский слегка толкнул его в плечо к коридору, гудевшему от человеческих голосов.
— Давай, сперва посмотри, что творится там. Познакомься с жизнью хоть в коридоре. А потом заходи, поговорим.
Василий Петрович с самым серьезным видом подождал, пока Ковалевский поднимется на свой этаж, и свернул в коридор. Минут пять он толкался между возбужденными людьми, прислушиваясь, о чем они говорят, и думал…
— Познакомился, — зайдя затем в кабинет Ковалевского, сказал он. — Я слушаю вас.
Ковалевский уже сидел за письменным столом и просматривал бумаги. Услышав Василия Петровича, он поднял голову и несколько секунд смотрел на него пустыми глазами, но ответил впопад:
— Заметил, что весь этот поток людской — в жилотдел и в собес? И ни одной души к тебе. Прокурор говорил, что чуть ли не девять десятых судебных дел — квартирные. Понятно?
— По, по-моему, не нынче — завтра и я нужен буду. Поймите и вы меня. Разве я для себя стараюсь?
— Полно мстить. Немедленно подбирай участки для индивидуалов и готовь типовые проекты.
Василий Петрович собрался возразить, но Ковалевский нажал кнопку звонка, и на пороге появилась секретарша.
— Позвоните на машиностроительный, — попросил он, — и передайте — в пять пусть приедет парторг.
И то, что Ковалевскому было недосуг и он уже думал о другом, осадило Василия Петровича больше, чем самые строгие слова. Обиженный, он вышел из горкома с окончательно испорченным настроением. Чтобы успокоиться, не пошел в управление, а побрел куда глядели глаза.
Снег все еще падал и стал даже гуще. Но Василий Петрович его не замечал. Он шел по тротуару и никак не мог закончить беседу с Ковалевским.
"Слепота, — думал он словно в недуге, почему-то уверенный, что Ковалевский как старший обязан ему простить, простить и упорство и непочтительность. — Так можно все оправдать требованием времени.""
Снег и свежесть остудили его. Возле драматического театра он остановился, но, так и не решив, куда идти дальше, свернул в Театральный сквер.
Вокруг стояли заснеженные, как в лесу, старые высокие деревья. Снег лежал на сучьях, на ветках, тонкую рябину он согнул совсем и, присыпав ее отяжелевшую вершину, заставил стоять послушно склоненной. Занес он и фонтан посредине сквера. Голый каменный мальчик и лебедь стояли в сугробе. И казалось, что лебедь взмахнул крыльями, чтобы взлететь, освободиться из этого снежного плена, а мальчик, обняв его рукою, держит, боясь, чтобы не остаться одному.
А снег все падал и падал.
На Советской улице Василий Петрович опять увидел горкомовскую "эмочку". Шофер, вероятно, только что протер ветровое стекло, и сквозь него Василий Петрович заметил Валино лицо. Она сидела рядом с шофером и разговаривала с кем-то на заднем сиденье.
Валя вбежала в палату, широко улыбаясь. Ни больничная обстановка, ни то, что шла к больному, не печалило ее. Она вообще не очень верила, что Урбанович может серьезно болеть, не понимала его терзаний и видела со всем этом только мимолетную и случайную неприятность, наперекор которой все равно всем хорошо. Заметив, как поспешно Алексей отнял руку от Зоси, как вспыхнула та, Валя немного смутилась, расцеловала подругу и пожала обе руки Алексею.
— Какой снег! — восторженно проговорила она. — Он, видно, хочет засыпать весь свет. Чистый, белый, как… Я даже не придумаю, с чем сравнить.
— Прелесть! — согласилась Зося, поправляя халат. — Такой густой и тихий больно любят дети.
— Когда смотришь на него, остро-остро ощущаешь время… И вообще становится хорошо. Сыплется и сыплется…
— Нехай идет, — сказал Алексей, — весной больше воды будет. Нам хлеб нужен.
— Ехали мы вот теперь и не могли налюбоваться. Иван Матвеевич говорит, что, если нарисовать, никто бы не поверил — так красиво.
— Ты с ним? Где он? — нетерпеливо приподнялся Алексей.
— А с кем же мне быть, — как-то сразу переменилась Валя. — У меня ведь, кроме него и вас, никого нет… — Но тут же обняла подругу, прижалась к ней и выбежала из палаты.
Зося встала и тоже направилась за нею, кивнув мужу так, будто говорила: "Подожди немного, я сейчас".
Они увидели Зимчука в коридоре. Он сидел на краю одной из коек и, склонившись над худенькой, без кровинки в лице девочкой, разговаривал с ней. У изголовья стоял подросток, насупленный и комичный, в длинном, не по росту, халате. Истощенное лицо девочки и ее болезненно-внимательные глаза были взволнованы. Она готова была заплакать, особенно когда встречалась со взглядом подростка.
— Почему все же? — допытывался Зимчук. — Ну, почему?
— Да, да, пусть он скажет, — попросила девочка, видимо, тревожась, чтобы не обиделись ни Зимчук, ни подросток. — Он, дядя Ваня, у меня старший, я его слушаюсь всегда.
Подросток упрямо молчал, сердито косясь в окно. Из окна на него падал свет, и в этом свете продолговатое, худое лицо мальчика казалось очень бледным.
— Тимка, скажи, ну чего тебе!
Паренек даже не взглянул на девочку, он будто окаменел.
— Вот видите! — пожаловалась она и тут же снова попросила. — Ты, Тимка, ты не злись, я же еще ничего не сказала.
— Кто это? — подошла Валя.
Зимчук погладил девочку по голове.
— Это Оленька, а это Тимка, подпольщик, что убежал тогда. Помнишь, в первый день? Вот когда обнаружился!
Почувствовав сразу симпатию к ершистому, упрямому подростку. Валя протянула ему руку и, как равному, предложила:
— Давай знакомиться. Я тоже подпольщицей была.
Прищурив глаза, подросток смерил ее, и тонкие губы его презрительно скривились.
— Ты, конечно, знаешь Алешку? — словно не заметила враждебности Валя. — Так вот я командовала им когда-то. Понимаешь? Твоим Алешкой командовала. Правда, Иван Матвеевич?
— Тимка! — с отчаянием взмолилась Олечка.
Паренек переступил с ноги на ногу и взял Валину руку.
— Иван Матвеевич, вас Леша ждет, — напомнила Зося.
— Сейчас, — замахал на нее пальцем Зимчук. — Как же вы теперь живете? Где?
— Рассказывать долго…
— Решил в молчанку играть? А еще заслуженный человек. Но как себе хочешь, а убежать на сей раз я не позволю. Хватит, тогда удалось…
Тонкие Тимкины губы снова шевельнулись, и он с вызовом спросил:
— А что, милицию вызовете? Или уши надерете?
Будто не услышав этого, Зимчук поднялся с койки, потрепал по щеке девочку и пошел за Зосей в палату.
Олечка проводила его взглядом, тайком вытерла слезы и, схватив Валину руку, прильнула к ней.
— Тетя Валя, что же теперь будет? Тимка знаете какой? У-у-у! Никогда не уступит. Раз палец начал нарочно резать и разрезал…
Валя тоже хлебнула горя. Война лишила ее, как и этих горемычных детей, самых дорогих людей. И, относясь почти безразлично к тому, что переживали Алексей с Зосей, она сразу прониклась сочувствием к Тимке и Олечке. Ей были близки и Тимкина гордость, жестокая к себе гордость несчастного, который считает, что лучше отказаться от всякой милости, чем принять какую-то, и трогательное Олечкино мужество, с каким сна все переносит. Валя чувствовала: если бы ей пришлось очутиться на месте Тимки, она грубила бы так же, как он, а если на месте Олечки, то так же страдала бы, пытаясь примирить непримиримое.
Это Тимка ощутил. Лицо его стало мягче, и он, совсем как мальчишка, шмыгнул носом.
— Не нужен он мне со своим приютом. Мы и без него проживем… Отбрил и молодец, — похвалил он себя.
— Перестань! — возмутилась Валя, как возмущается человек, уже имеющий на это право.
— Пусть сам туда идет…
В палате Валя подсела на табуретку к Зосе, собираясь заговорить о Тимке, но, увидев, что Зимчук и Алексей увлечены беседой, решила подождать.
Возбужденный, обрадованный, Алексей сидел на койке, не спуская с Зимчука благодарных глаз. Зимчуку тоже было приятно, и он время от времени потирал лоб и залысины. Улыбалась и Зося, но грустно, будто радовалась счастью других.
Не догадавшись сначала, что их могло так увлечь. Валя стала слушать, да вспомнив, о чем рассказывал в машине Иван Матвеевич, и услышав несколько их фраз, разочарованно вздохнула.
— Неужели это так важно, товарищи? По-моему, вас тревожат не те чувства. И я уверена, что цель у вашего архитектора более благородная. Ну, отлично, вы добились своего. А дальше что?
— Я человек выносливый, — как ребенку, объяснил ей Алексей, — выдержал бы все. Жил бы даже, кабы мой дом снесли. Но как жил? А?
— Ты же сам поставил себя в такое положение…
— Оставь, Валя! Дай порадоваться хоть больному, — не дослушав ее, серьезно сказал Зимчук.
В палате привыкли к посетителям. Но на его слова обратили внимание, повернулись, чтобы посмотреть, кто говорит. Заметив это, Зимчук добавил:
— Достойных людей, Валя, стоит жалеть.
— А я, например, обиделась бы, если б меня жалели. Вот и Тимка обиделся. Скажите лучше, что будем делать с ним?
На нее обрушились сразу все, и она подняла руки вверх, не совсем сознавая, чем накликала такое бурное негодование. Но внимание больных погасило спор.
Зимчук встал и потер ладонями лоб.
— Оленьку… посоветуюсь с женой и возьму к себе. А этого огольца… Мы вчера как раз спецдом открыли, придется туда отдать. Иначе все равно человека не получится…
Побеседовав еще немного, Зимчук и Валя попрощались и вышли из палаты. Однако Тимки в коридоре уже не было.
За окнами посинело. Кто-то щелкнул выключателем, но электричество не загорелось. В палате стало тише. Скрипнув дверью, вошла няня, принесла лампу. В полумраке ее фигура в белом халате почти беззвучно проплыла от двери к столику. Только слышно было, как тарахтят спички у нее в кармане.
— Зажигать? — спросила она.
— Пусть так пока, — отозвался кто-то из больных. — Все одно читать нельзя. Полежим, посумерничаем.
Няня поставила лампу и так же неслышно вышла из палаты.
Сумерки сгущались и в то же время оставались беловатыми.
Алексею не лежалось. Хотелось помыкаться по палате, посмотреть в окно, увидеть, что творится на дворе. Радость его требовала движения. Все в нем пело.
Опять можно трудиться с дорогой надеждою. Сымон говорит, что Алексей двужильный. Он найдет в себе силы работать и за троих. У него ведь сейчас трое — сам, Зося и сын. Сын уже живет, растет, чего-то требует. Ему, Алексею, даже тогда показалось, что он нащупал малюсенькую пятку, которой тот недовольно уперся в его ладонь. Вот он уже какой — сам с наперсток, а, как отец, с характером; ему что-то не нравится, что-то нужно. Так как же не заботиться о нем, как не радоваться теперь?!.
От мыслей приятно постукивало в висках, и грудь наполняло тепло. Не в силах больше лежать, Алексей сел, спустил здоровую ногу на пол, нашел шлепанец и надел его. Потом дотянулся до халата, висевшего на спинке койки, взял костыли и попытался встать. Забинтованную, как кукла, ногу пронизала боль. Голова закружилась. Алексей прикусил губу, превозмог слабость и поднялся. Дрожа всем телом, радуясь, что побеждает боль и слабость, с минуту постоял и сделал шаг на костылях. Костыль зацепился за табуретку и отодвинул ее. И потому, что никто не обратился к нему и не сказал ни слова, Алексей догадался — все с беспокойством следят за ним. Это прибавило упорства. И он решительно заковылял к окну. Подойдя, прижался лбом к холодному стеклу и перевел дыхание.
На дворе было темно. Из окон первого этажа лились и ложились на сугробы полосы света. Вероятно, похолодало — снег падал более легкий, и даже не падал, а, подхваченный ветром, несся и несся. В этой снежной замети, особенно сильной в светлых полосах, Алексей увидел закутанную фигуру женщины. Наклонившись вперед и придерживая на груди платок, та тяжело переставляла ноги и увязала по колени в снегу. Она напомнила ему Зосю. Такой же наклон головы, то же нетерпеливое упорство в движениях. "А что, если это и есть Зося? — холодея, подумал он и тут же отогнал эту мысль. — Нет, не может быть. Она давно дома и проверяет тетради".
Алексей представил себе Зосю за столом, с озабоченным, усталым лицом, тускло освещенным коптилкой. Когда она сидит за тетрадями, у нее всегда темные, грустные глаза, от ресниц на лицо ложатся тени и по-детски капризно приподнимается верхняя губа.
Что бы он делал без нее? На лихо были б ему этот снег, метель, больница и силы, возвращающиеся к нему! На кой леший солнце, дом, весна, если б не было Зоси? Они имеют для него смысл, радуют или заботят, потому что есть на свете Зося. И все же их отношения пошли на перекос. Вот и сегодня она ушла огорченная, непонятная. Чего она хочет? Неужели ей самой не опротивело жить в проходной комнате, где каждое слово слышно за стеною? Неужели она не понимает: все, что он делает, — делает для нее? Нет, она что-то таит от него. Ей мало его любви, самопожертвования…
Алексей не слышал, как опять вошла няня, и, когда она чиркнула спичкой, вздрогнул.
За окном сразу стало черно. Тьма подступила под самые стекла и бросила в них жестким снегом.
— Легли бы вы, Урбанович, — посоветовала няня.
— Не лежится…
— Болит?
— Я, няня, за эти годы, может, третью часть жизни отлежал. За лежанием ни воевать, ни работать как следует не было времени. И вспоминаешь сам себя больше Есего перевязанным.
— У вас же, говорили, ордена есть, медали.
— Правильно говорили. Но заработаешь орден — и в госпиталь, — улыбнулся Алексей. — Ты, няня, лучше скажи, где у вас Олечка лежит. Девчонка маленькая. К ней сегодня брат приходил.
Почему он вспомнил про эту девочку?
Мысль о ней пришла как-то неожиданно, как продолжение мыслей о жене. Уходя, Зося сказала: "Зимчук берет Олечку в дочери. Как ты думаешь, почему бы это?" Он ответил шуткой: "Нам пока не надо чужих искать, мы еще и сами с усами". Это обидело Зосю. И вот теперь, разговаривая с няней, он почувствовал — его потянуло к Олечке.
Не обращая внимания, что няня знаками просила больных, чтобы те задержали его, Алексей заковылял к двери.
В длинном, на весь корпус, коридоре было темно, холодно. Горели всего две лампы, и ряды коек тонули в сером полумраке. Алексей с трудом нашел койку, на которой, укрытая двумя одеялами, лежала маленькая девочка, и, боясь испугать ее, спросил:
— Это ты, Олечка? А?
Девочка, по-видимому, привыкла к чужим людям и, внимательно поглядев на Алексея, вынула из-под одеяла руки и приготовилась отвечать. У нее начала развиваться та показная и хитрая общительность, какая часто бывает нищих.
— Я, дяденька. А что?
— Ничего, так. Пришел на тебя посмотреть. Я Ивана Матвеевича знаю. Ты с братом живешь, с Тимкой?
— Ага.
— Как же вы живете?
— Плохо, дяденька. Тимка дрова людям пилит, воду носит. А разве это ему делать? Спасибо солдатам еще, мы с Тимкой в госпиталь к ним ходим, на кухню. Они нам горячего супу, каши дают.
Что-то сжало сердце Алексея.
Видя, что ее больше не расспрашивают, Олечка замолчала, но не сдержалась:
— Мы в землянке теперь. Тимка оконце сделал, печурку. Но все равно сыро. У нас щегол был, и тот сдох. Такой щегол…
— Почему же в детский дом не идете?
— А что нам делать там? — убежденно и даже сердито сказала девочка. — Так мы себе сами хозяева. А там что? Тимка говорит: "Лучше уж воровать, чем туда идти".
Чувствуя, что вся эта история имеет какое-то отношение к нему, Алексей занервничал. Зачем он пришел сюда? Посочувствовать? Помочь? Чем? У него самого будут дети. И хватит того, что он готов пластом лечь, но только не позволить им вот так жить на свете.
— Ну ладно, спи, — неприязненно проговорил он, и голос его от волнения сошел на нет.
Теперь все кипело у него в груди. Алексей сердился на себя, на Зосю, которая будто нарочно лишает его покоя, на няню с ее заботами и лаской, на жалкую Олечку, на Тимку, который хотел быть, как и он, сам себе хозяином. Громко стуча костылями, Алексей заковылял обратно в палату. Чем он поможет тут? Ему невмоготу согреть весь свет. Хватит и того, что он делает для своей семьи. Нет, даже не так. Пусть ему дадут сначала устроить свою жизнь, а потом уже требуют, чтобы он помогал другим. Ему ж не надо чужой помощи, он сам все сделает, вот этими привыкшими к труду руками.
Алексей рванул дверь и ступил в палату, но костыль зацепился о косяк, и он, неуклюже взмахнув руками, грохнулся на пол.
В палате поднялись суматоха, гам. Запричитав, к нему бросилась няня, а за нею — ходячие больные. Все столпились вокруг, наклонились над ним. Но он, дико глядя, оттолкнул от себя няню, пытавшуюся взять его под руки, и заскрежетал зубами.
— Я сам! Не обобился еще! — надсадно крикнул он почему-то ей одной и пополз к своей койке.
Ему было больно. Нога горела, и от нее, обжигая тело, к сердцу подступала жгучая боль. Ум мешался, лицо покрылось потом. Но он выбрасывал руки вперед, подтягивался на них и снова неумолимо выбрасывал.
Так он дополз до койки, страшный в своем упрямстве и страданиях. И ни няня, ни больные не осмелились подступиться к нему. Только когда Алексей забрался на койку и, с трудом переводя дыхание, упал башкой на подушку, все опять бросились к нему. А он лежал, как в горячке, и думал, что ведет себя никудышно и невесть что и кому хочет этим доказать. Неужто Зосе, которая никак не может принять его правду? А может, Вале, которая сегодня так легко и пренебрежительно отнеслась ко всему, за что он готов взвалить на себя самый тяжелый крест? Ну, кому?..
Глава четвертая
Казалось, что Валя вообще видит в окружающем только светлое да розовое. Василий Петрович, с которым она возвращалась тогда с Троицкой горы и которому, смеясь, рассказала, что скоро начнут восстанавливать химкорпус и она непременно овладеет специальностью каменщика, заметил ей:
— Бы говорите обо всем так, будто все вас радует.
— А разве это плохо, если ты не кислятина? — ответила она, не придав значения его словам.
Не знаю… Но в жизни всегда найдется такое, что стоит отрицать. Может быть, самое необходимое в человеке чувство — неудовлетворенность.
— Ну и что из того?..
Василии Петрович, пожалуй, не ошибался. Правда, принимая жизнь такой, какая она есть, Валя всегда надеялась, что настоящее, полное счастье впереди — оно ждет, зовет. И к нему надо стремиться. Но большие надежды и ожидания мешали Вале серьезно разобраться в окружающем. Они многое заслоняли.
Алешка!.. Он не оставлял Валиных мыслей. Он часто словно шел рядом — и когда, всухомятку позавтракав, она спешила на лекции, и когда, усталая, возвращалась в общежитие, чтобы через час опять торопиться на собрание, на дополнительные занятия, на субботник. Он был где-то близко, когда Валя, подперев виски кулаками, углублялась в книгу, сидя в маленькой, всегда переполненной читальне. Он, казалось, стоял обок и тогда, на Троицкой горе, присутствовал в больнице…
Слова Зимчука, какая-то непоследовательная его добродетель вызвали в Вале протест, заставили встать на защиту Алешки, хотя она знала про него много зазорного. Еще в первые дни освобождения слышала, что тот с компанией на "студебеккере" выехал в пригородную деревню, где до войны был совхоз, и приказал согнать бывших совхозных овец. Переписав их и выбрав самую жирную, погрузил ее на машину, предупредив, однако, сельчан, что те головой отвечают за остальных. Когда же Валя возмутилась его поступком, захохотал: "Где ты живешь? На земле аль где? Посмотри, что другие делают! Пианино таскают, ковры… Иван Матвеевич вон занял себе особнячок со всем готовым — и неплох. Заплатит по твердым ставкам за вещи райфинотделу и будет, как у христа за пазухой. А я что? Мне про запас не надо. Детишкам на молочишко, и хватит…"
Нет, его можно было упрекать во многом, но не в гаденьких расчетах. Он отроду не знал ни жадности, ни далеких прицелов. Натосковался за войну по человеческой жизни и захотел наверстать, пожить свободно, не особо задумываясь над чем-нибудь. И если уж говорить правду, то это лучше, чем Урбанович. Алешка хоть невольником самого себя не становится. А перегорит излишек сил — и может заблестеть, даже засиять. Его не гнетет никакая тяжесть, как Урбановича. Этот же, кажется, сам себя в неволю уже продал. И если Иван Матвеевич думает, что Алешка делец, а Урбанович беззаветный труженик, — это он просто не в ладах с правдой. Алешка отнюдь не пропащий.
Но чаще Валя думала о нем в иной связи. Он вспоминался ей удачливым и безрассудно смелым, когда действовал где-то на грани легенды — в подполье. "Оценили меня, море широкое! — хохотал он. — Дают только за одну голову махорки, спирту и десять тысяч марок! Хоть ты сам к ним иди и сдавайся. Вот черт!" Завитки волос на его голове тряслись, как бубенчики, загорелое лицо сияло. Валя вспоминала свое первое знакомство с Алешкой, когда тот в форме полицая явился на конспиративную квартиру и потребовал у нее документы. А потом, потыкав пальцем в Валин паспорт, въедливо сказал: "Я так и знал — липа. Ваши не учли одной мелочи: орла на печати повернули головой не в ту сторону…" И еще одно часто вспоминалось — лестничная площадка в коробке напротив городской управы. Валя несколько раз ходила теперь туда и никак не верила, что это было: жандарм на перекрестке, у подъезда управы сытый в яблоках конь, запряженный в легкую пролетку, и немецкий холуй, который показался в массивных дубовых дверях, услужливо раскрытых швейцаром. Чтобы перехватить пролетку, надо было пробежать квартал, и они побежали. И, может быть, только прикосновение Алешкиных рук возвратило ей тогда самообладание… А позже? Когда убитый предатель валялся на мостовой, а они, как было условлено, бросились в разные стороны, Алешка задержался. Зачем? Безусловно, в случае чего отвлечь погоню на себя… Нет, так не мог поступить ни хитрец, ни ветрогон, ни… как еще его там называл Зимчук. А что срывается, хулиганит, то это от гордости, оттого, что не везет и обижают…
На днях ее вызвали в Верховный Совет получать орден. С утра надев лучшее платье, она прямо с лекций побежала в Дом правительства. И пока заполняла анкету, а потом, притихшая, ожидала в строгом зале — рассматривала его, вместе с другими слушала наставления молодого, но лысеющего работника наградного отдела, как вести себя во время вручения наград, Валя не теряла на дождь", что вот-вот откроются двери и она увидит своих товарищей, Алешку. Но они почему-то не приходили, и вокруг были только незнакомые люди. Улучив момент, она позвонила Зимчуку — не ошибка ли? Но в ответ услышала его маловразумительные, сердитые слова. Ей показалось, что он даже ахнул от неожиданности и досады…
Так созрело решение сходить к Алешке, увидеть его, поговорить.
Валя поднялась по заснеженной лестнице на второй этаж, остановилась возле обитых соломенным матом дверей и огляделась. Снег лежал на лестничной площадке, как на крыльце. По лестнице была протоптана уже пожелтевшая тропинка, по которой Валя и поднималась сюда, но выше, на ступеньках, лежал снег нетронутый, покрытый слюдяной ноздреватой коркой.
Валя отряхнула с ботинок снег и постучалась.
— Давай заходи! — послышался голос Алешки.
В клубах холодного воздуха она переступила порог, забыв, с чего собиралась начать разговор.
Алешка сидел на табуретке возле кровати и протягивал ложечку бледной старой женщине, лежащей на высоко поднятых подушках.
— Сегодня отменяется, — не оглянувшись и приняв Валю за кого-то другого, сказал он. — Мать опять захворала. Да ноги вытри, наследишь еще.
Женщина отвела его руку, и худенькое, морщинистое лицо ее озарилось радостным удивлением:
— Ко-о-стик, — почти пропела она, — ты сначала погляди, кто пришел до тебя! Ах, детки мой, какая же ты молоденькая!
Алешка медленно повернулся к двери, держа ложечку на весу. Увидев Валю, оторопел.
— Разольешь, Костик, — певучим голосом предупредила старушка, будто была рада, что с ложечки капает красно-коричневая жидкость.
— Я к тебе, Костусь, — сказала Валя, пораженная тем, что тут все не такое, как представлялось, и даже сам Алешка иной.
Идя сюда, она даже не подумала, что у него может быть семья, что он живет не один, и потому не знала сей час, как держаться, что говорить. Но, взглянув на старушку, на ее выцветшие, но еще ясные глаза, убедилась — бояться нечего.
— Проходи, детка, — пригласила та. — Костик, чего же ты? Предложи сесть…
В комнате было чисто и почти все белое: потолок, стены, накрытые кружевными, своей работы, салфетками и скатертями вещи — стол посредине, швейная машина у окна, рядом деревянный диван, над которым на стене висел велосипед. Красный угол завешен вышитыми полотенцами. Возле порога и у кровати — круглые, сшитые из разноцветных лоскутков половички.
— Почему ты, Костусь, не пришел по награду? — спросила Валя.
— Свою я в любое время получу.
— Я так и знала! Значит, ты сознательно?
Алешка не ответил.
— Я объясниться пришла, — сказала Валя, садясь на диван боком, чтобы не стянуть со спинки белоснежную дорожку.
— И-и-и, детки, милки мои! — пропела старушка. — Кто кого любит, тот того и чубит, Валечка…
Она назвала ее имя! Валя почти испугалась, хотя было приятно, что ее знают. Избрав старую женщину судьею, уверенная, что та может судить только по справедливости, Валя торопливо заговорила:
— Костусь должен сказать мне правду. Я хочу знать правду. Почему он делает так? Крутит, а не живет, как все?
— Охти мне! Вот наказание! — заволновалась старушка. — Аль снова нашкодил? Как маленький! Костик, почему ты молчишь?
— Каюсь, мама, — сказал Алешка, становясь обычным — насмешливым и независимым, — каюсь и полагаю: человек не лыком шит.
— Чего городишь? В чем каешься? Говори же…
— Во всем, мама! Что живу, например, дышу, что воевал не хуже других… Что отвернулись те, на кого молился раньше, ха-ха!..
Все же он смотрел на Валю доверчиво, по-своему оценив то, что она пришла, готовый все превратить в шутку, все простить. И только присутствие матери сдерживало его от больших вольностей.
— Я люблю. Валя, критику. И расту. Для тебя специально, ежели хочешь, — отрубил он с насмешливой серьезностью. — Скоро вот начальником стану. И не простым, а в вашем химкорпусе. Остались на свете еще добрые люди. Знаешь Кухту?
— Ты снова, Костик, за свое.
— А что делать, ежели чересчур в рай хочется? Хвалите хоть вы меня, мама, если люди не хвалят.
— Послушал бы, что о тебе говорят, Костусь. Комбинатором называют. Говорят, ты тут, в коробке, обосновался, чтоб потом спекулировать на законах. Правда это?
— Ай… Разве ты не знаешь?
— Я, кроме того, еще про овечек знаю… про склад…
Алешка расхохотался уже злобно.
— Да не слушай ты его, шалапута, Валечка, — опять просветлела в улыбке старушка. — Он у меня хороший.
— Мама!!
— Ему же, Валечка, все это еще немецким сдавадось. Думалось — после того, что пережили, все можно. А ту овечку, что притянул тогда, он же раздал всю… Половину — Прибытковым. У них уж вельми голодно было, да и Змитрочиха как раз захворала. Немного соседке отнес. Мы в землянке тогда еще жили и соседей имели. А когда меня хвороба свалила, стал выход искать…
— Мама! Я запрещаю!..
Алешка — он стоял у окна — рванулся к вешалке, сорвал шапку, поддевку и, не надевая их, выбежал из комнаты.
Для приличия Валя еще немного посидела, но потом сделала вид, что вспомнила о неотложных делах, и поднялась.
Утром навернулся туман. Он оставил после себя волглую свежесть. И, отправившись назавтра к Зимчуку, Валя все время куталась в свое пальтишко, подбитое ветром.
Без стука, озябшей рукою она открыла дверь и вошла в знакомую переднюю. Тут Валя не была со дня своего "бегства" и с досадой поняла — ей придется не только разговаривать с Зимчуком, но и знакомиться с его женою. "Ничего, выдержу", — отогнала она неприятную мысль и нарочно сильно зашаркала ногами о половичок. Но ее никто не окликнул, и Вале внезапно захотелось, как когда-то, посмотреть на себя в зеркало. Она подо" шла к трюмо и взглянула в него. И тут же, в зеркале, заметила — из-за полы пальто, висевшего на вешалке, за нею следят детские глаза. Чтобы не испугать девочку, Валя сделала вид, что рассматривает себя. Когда же взгляд ее встретился со взглядом блеснувших глазок, она кивнула в зеркало головою и сказала:
— Здравствуй, Олечка! Ты не узнала меня?
— Потом я узнала вас, тетя Валя.
— Чего же ты тут прячешься?
— Я играю.
Они разговаривали, глядя друг на друга в зеркало, и это занимало Олечку, хотя лицо ее оставалось грустным. Наконец Валя не выдержала и подбежала к девочке.
— Иван Матвеевич дома? — спросила она, присев на корточки и тормоша ее. — Ну, чего ты такая? Тимка приходит к тебе?
Олечка испуганно заморгала.
— Пойдемте в комнату, тетя Валя, дома никого нет, кроме бабушки, — вместо ответа сказала она, с опасением поглядывая в сторону кухни.
Валя хотела было отказаться, но потянуло посмотреть на свою бывшую комнату, побыть с Олечкой, и она, не раздеваясь, пошла за нею.
В столовой все было незнакомо — старомодный буфетик, накрытый клеенкой стол, пальма, старенький диван, этажерка в углу с альбомом и черепом на верхней полке. На бумаге стояли две фотографии в рамках — ее, Валина, и строгой, коротко подстриженной девушки, похожей на Ивана Матвеевича. "А я чего здесь?" — удивилась Валя. В ее прежней комнате теперь была спальня, и дальше двери Валя не пошла. Неловко было заходить и в кабинет. И, вернувшись к буфету, она стала рассматривать фотографии.
— А Тимка пропал, — неожиданно сообщила Олечка и шмыгнула носом. — Что мне делать, тетя Валя? Ну что?
Нет, не принесла счастья этой девочке милость Зимчука, как не принесла его давняя опека радости и ей, Вале. Неизвестно еще, чем обернется Зимчуково заступничество и для Урбановичей. А Алешка?..
— Ждать надо, — чувствуя, что не может сейчас быть справедливой, ответила Валя. — Тимка у тебя молодчина, он не бросит. Покипит, покипит и одумается.
— Раз, бабушка говорила, он приходил. Под окном стоял.
В передней зазвенел звонок.
— Иван Матвеевич, вероятно, — уже не желая этой встречи, вздрогнула Валя.
— Не-ет, чужой кто-то, — оживилась Олечка. — Дядя Ваня не так звонит.
Она побежала в переднюю, и вскоре Валя услышала ее разочарованный голос: "Его нет дома. Проходите, пожалуйста". Валя подумала, что одной оставаться тут неловко, и тоже вышла из столовой.
В передней, наклонившись над Олечкой, стоял немного озадаченный Юркевич. Из кухонной двери, не вступая в разговор, выглядывала домработница.
Увидев Валю, единственную здесь знакомую, Василий Петрович объяснил:
— Не везет, как всегда. Первый раз по соседству зашел побеседовать и, понятно, не застал…
Он неловко пожал ей руку и дальше уже не знал, что делать с собою.
— Давайте, коль так, вместе подождем. Нынче же выходной…
— У меня, например, сегодня тоже занятия.
— Может, те, по новой специальности? — улыбнулся Василий Петрович, прижмурив глаза, чтобы скрыть светившуюся в них приязнь.
Валя натянула платок, который раньше только сдвинула на затылок, и стала поправлять волосы.
— Вы не шутите этим. Я уже немало узнала. Честное комсомольское. Знаю, например, какие бывают растворы, когда ими пользуются. Какие есть системы перевязок кладки. Вы вот архитектор, а знаете это?
— Я-то, может быть, да, но зачем, если не секрет, это вам?
— Как зачем? — даже растерялась она. — Вы снова шутите, а я серьезно. Если б позволяло время, я научилась бы всему-всему.
— Для чего?
— Чтобы быть где нужно.
— О-о-о!..
Домработница, стоявшая все время у двери, взялась рукой за косяк и вздохнула.
— Катерина Борисовна предупредила, они не скоро вернутся, — сказала она, давая понять, что ждать бесполезно.
Валя вышла от Зимчуков смущенной. Ей показалось, домработница только притворилась, будто не узнала ее, и сейчас отчитывает Олечку за ненужное гостеприимство. И хотя в доме она увидела свою фотографию, тут вообще не очень ее помнят. Жалко было Олечку — она так ожидает брата, жалко Тимку, который, наверное, стал беспризорным. Раздражало, что в квартире царил порядок, и то, что к Зимчуку приходил Юркевич. Она уж решилась спросить его, не ищет ли он поддержки Зимчука, как сама почувствовала зыбкость своих подозрении… Понятно, виной всему была одежда, в которой старуха никогда не видела Валю. Да и старуха была какая-то странная, словно сама не своя. И разве может Иван Матвеевич отвечать за судьбу каждого взбалмошного парнишки? Пусть каждый делает для других столько, сколько Зимчук! И что удивительного, что главный архитектор заходил к заместителю председателя горсовета? А если говорить об Алешке, то Иван Матвеевич просто ошибается. Верит всякой всячине и не может понять… Для него вообще почему-то не существуют люди, которых он, как изгоев, исключает из остальных… Но раздражение не проходило, и Валя шла, терзаясь — бунтуя и зная, что все равно не порвет с Зимчуком. Он нужен ей, как нужны надежда и близкие люди. Человек чувствует себя лучше, если прислонился к чему-то спиной…
Рядом шагал Василий Петрович и полушутливо развивал мысль о прозорливцах-архитекторах.
Валя почти не слушала его. Думалось, что иначе чувствовала бы себя, будь обок Костусь. Не было б так повадно, не ощущалась бы такая легкая свобода, но зато на сердце наплывало бы страшноватое и радостное. Вон он какой, оказывается! Не только сам не хочет оправдываться, но и матери не дает, хоть каждому видно — напраслина.
Почему же она избегает его? Почему ищет предлога для споров?
— Помните, у Маяковского? — спрашивал Василий Петрович, заглядывая в безучастные Валины глаза и этим желая привлечь ее внимание. — "Я вижу — где сор сегодня гниет, где только земля простая…" Это специально о нас. О нашей преданности делу…
— По-вашему, получается, и миром должны править архитекторы, — все-таки заставила себя Валя поддержать разговор.
Но сразу же забыла о сказанном. Мысли об Алешке опять полонили ее.
— А еще опаснее, — ладил свое Василий Петрович, — люди, которые, как скворцы, поют с чужого голоса. О, эти конъюнктурщики!..
"Как скворцы, — дошло только до сознания Вали. — Скворцы, скворцы…"
Ей представилось весеннее синее утро и скворцы на почерневшей липе, которая когда-то стояла у ворот их, Верасовых, хаты. Пахло растаявшим снегом и мокрой липовой корою. Острый неистребимый запах аж щекотал ноздри. Скворцы чистили влажные перышки и, казалось, переговаривались. А вокруг сиял родной, ведомый с детства мир. "Наступит весна, и скворцы прилетят даже сюда, на руины, — подумала Валя, — и тогда будь что будет… Я не Иван Матвеевич, только за себя отвечаю. Мне все можно… Костуся хоть так поддержать надо…"
Совсем не по-зимнему ласково светило солнце. Небо отливало нежным отблеском голубоватого шелка, и воздух, казалось, сиял. На покрытый ноздреватою коркой снег от Вали и Василия Петровича ложились синие тени. Наст тоже искрился, и Василий Петрович с удовольствием щурился и без конца говорил.
Нет, Валя все же была легкомысленной. Дойдя до гостиницы, где жил теперь Василий Петрович, и попрощавшись с ним, она перестала думать и про Алешку. Трудно сказать, что было виной. Теплый ли, с весенними повевами день? Студент-однокурсник, приветствовавший ее с другой стороны улицы высоко поднятой фуражкой? А может быть, забияка мальчишка, который только что вышел из "баталии" и стряхивал с себя снег, бросив перевязанные ремнем книжки на тротуар? Но Валей овладели другие заботы. Нашлось множество неотложных дел, и, как выяснилось, все они требовали внимания. Надо было подготовить и поставить на заседании комсомольского комитета вопрос о помощи отстающим, организовать поход за чистоту в общежитиях; нужно было взять свои конспекты у подруг с исторического факультета и обязательно отнести в заливку галоши. Вспомнилось, что после занятии кружка придется бежать в столовую или заранее просить кого-нибудь занять место. Столовая небольшая, и, если не захватишь стул, будешь ждать около получаса, а то и больше.
Эти студенческие заботы вернули Вале обычное настроение, когда о себе и обо всем думается слегка насмешливо, но хорошо.
Занятия назначили во дворе. Возле коробки химкорпуса краснели клетки заготовленного кирпича. Несколько девушек лопатами уже расчищали "строительную площадку". В стороне стояла группа студентов, которые смеялись и толкали, друг друга локтями. Заметив Валю, они о чем-то посовещались и, как по команде, стали лукать в нее снежками.
Закрыв ладонями лицо, она присела.
— Хватит, это самое, — услышала недовольный голос Прибыткова, который должен был проводить занятия.
Снежки перестали сыпаться. Валя выпрямилась. На ресницах, на прядях волос, выбившихся из-под платка, на носу поблескивали снежинки и дрожали капли. На ресницах они сияли и даже слепили.
Валя взялась было за лопату, но подошел Прибытков и попросил разнести кирпич по рабочим местам.
— Хлопцы! — крикнула Валя. — Давайте сюда!..
Волнуясь, она взяла из кучи кирпич и положила его впритык к натянутому на колышки шнуру. Потом положила второй, третий и настороженно оглянулась — не смотрят ли на нее? Более уверенно взяла следующий и уже перестала обращать внимание на товарищей, на искристый снег. И только в аудитории, где потом оценивали работу, пришла в себя.
Когда студенты вперегонки бросились в раздевалку, Валя подошла к Прибыткову.
— Это правда, что у нас Алешка работать будет? — боясь, что Прибытков услышит удары ее сердца, спросила она.
— Точно, — ответил тот. — А что?
— Ничего… Я так… — заторопилась Валя, снова вспомнив скворцов на липе и острый запах липовой коры. — Ему ведь, оказывается, в награде отказали. Несерьезный он, неорганизованный… Хорошо, что вы хоть будете…
Когда Валя спустилась в раздевалку за пальтишком, оно одиноко висело на вешалке. Ей стало грустно. Она охватила пальтишко руками и припала к нему, как к верному другу. Потом осторожно сняла, надела и, ощущая щеками и шеей ласковое прикосновение мехового, воротника, побежала гулким коридором к выходу, догонять товарищей. До столовой было далеко, с крыши падала капель. Но Валя на крыльце подняла воротник и, не глядя под ноги, сбежала по ступенькам. И тут она лицом к лицу столкнулась с Алешкой. Он стоял у крыльца с велосипедом и, ковыряя носком сапога снег, улыбался. Валя огляделась по сторонам и немного успокоилась: студенты уже ушли и возле университета никого не было.
— Замучил, верно, безъязыкий старовер? — спросил Алешка.
— Кто? — переспросила Валя, хотя и догадывалась, кого Алешка имеет в виду.
— Старовер, говорю, ветковский, Змитрок. Он же из Ветковского района, идол. И теперь даже не курит, и меня недавно ругал, что курю и с курцами на короткой ноге. Неймется, говорит… А до войны у нас тут вообще каждый третий каменщик с Ветковщины был. У них там целые деревни печколепов, конокрадов и штукатуров.
— Неужели он старовер? Серьезно?
— Ей-ей, — поклялся он, — я у него фотографии видел — одни бородачи, все как один в волос пошли! — Он хотел захохотать и не смог. — Но ты не думай, я уважаю его, даже люблю. Мировой человек. В подполье не было надежней его. Верный был человек и остался верным.
И на пути к общежитию — до него было ближе и, значит, как надеялась Валя, можно было скорее отделаться от Алешки — они только и говорили о Прибыткове, о его честности и тяжелой молчаливости, словно теперь он интересовал их больше всего на свете.
Сначала эта древняя профессия сдалась Вале несложной. Основы ее были просты, инструменты первобытны.
И работать в одной причалке с Прибытковым Валя стала через каких-нибудь пять-шесть дней. Но вот здесь-то и раскрылась перед нею истина. Неразговорчивый, угрюмый каменщик, правда, больше жестами, чем словами, начал вводить ее в тайны своего мастерства, а она, понимая все, что он объяснял, никак не могла выполнить то, что понимала. То одно, то другое обязательно выпадало из поля зрения. Ее не слушались кельма, кирпич, раствор. Ремесло оказалось упрямым, неподатливым; не случайно проходили века, даже тысячелетия, а оно оставалось таким же, каким родилось.
Валя выбилась из сил. Даже разбирая руины, так не уставала. И хуже всего было то, что стены она муровала и во сне. Рядом все время мелькали руки Прибыткова, и, наблюдая за ними краешком глаза, она изо всей мочи старалась делать то же, что и Прибытков. Лекции усваивались туго. Над конспектами клонило ко сну. И все же настойчивость ее не ослабевала. Причиной тому был и Алешка.
Квалифицированных рабочих не хватало. Студенты работали посменно и все делали сами, даже возглавляли бригады. Алешка носился по корпусу, объяснял, показывал, и его шутки, ругань, хохот слышались везде. Он и сюда, втайне страдая и скрывая это, принес что-то от игры. Его бесшабашность нравилась студентам, и работа спорилась.
Вале некогда было прислушиваться, над чем он смеется, издевается или что объясняет, но все это придавало ей силы. И когда Алешка подходил, она сразу ощущала его присутствие.
Работали внутри коробки. Наружные стены уцелели, и только чтобы придать им большую прочность, сузили огромные окна и наложили на щели швы. Из мартовской благодати сюда заглядывало одно небо, начавшее уже набирать краски. Что-то весеннее было разлито в воздухе. И даже тут, в коробке, как на лесной поляне, пахло полевым ветром и талым снегом. Хотелось дышать глубже, быть на солнце — никогда так не жаждешь солнца, как в первые дни весны!
Валя выпрямилась, подняла вверх лицо и счастливо сощурилась:
— У-ух!
Депушки-студентки, подносившие раствор и кирпич, тоже остановились, приложили козырьками ко лбам руки и стали смотреть в небо.
— Что? Может, самолет? Наш, это самое, или немецкий? — понуро покосился на девушек Прибытков.
— Наш, товарищ мастер, — беззаботно откликнулась, как обычно, первой Алла Понтус, одетая в ватник, короткую юбку и спортивные штаны. — Голубой такой!
— Тогда, может, и бомбить не будет, и идти, это самое, по кирпич можно, — намекнул уже открыто Прибытков.
— Можно, — великодушно разрешила Алла, по-мальчишески сунув руки в карманы ватника, и вдруг подскочила. — Валька, смотри! Мираж!..
Невысоко с шорохом-свистом пролетела стайка стремительных птиц.
"Скворцы! — замирая, подумала Валя. — Как нынче рана…" Она невольно оглянулась и поискала глазами Алешку. Но не найдя, прислушалась и сразу узнала его голос. "Не будь, дороженькая, красива, а будь счастлива", — балагурил он с кем-то.
— Я их раньше только в садах видела, — наблюдая, как будет реагировать Прибытков, сказала Алла. — Не было — и вдруг сидят нахохленные. По два… Они тоже не дураки…
Прибытков рассердился.
— Я сам тогда пойду… — положил он кельму.
Студентки прыснули смехом, подхватили носилки и, как нашкодившие школьницы, бросились по настилу. А через несколько секунд Валя уже слышала, как Алла кричала: "Товарищи спортсмены, скворцы прилетели! Вам это о чем-нибудь говорит?"
Неожиданно Валины мысли оборвались. Она почувствовала, что где-то недалеко Алешка, может, даже тут, за ее спиной. Это ощущение было до того необоримым, что она, продолжая работать, спросила:
— Ты, Костусь?
— Я, — ответил тот, как и ожидала она.
— Ты что-нибудь хочешь сказать?
— Ничего особенного. Девчата скворцов видели… Ты не видела?
Он переступил с ноги на ногу, ожидая ответа, и, не дождавшись, отошел. А у нее каждый его шаг отдавался в груди.
Окончив работу, Валя все же решилась, Она злила, где должен находиться Алешка, и сразу направилась к сарайчику, в котором он принимал от студентов носилки, лопаты и тачки. Опершись плечом о косяк, Алешка стоял возле дверей и паясничал со студентками, встречая и провожая каждую шуткой.
— Аллочка! — кричал он раскрасневшейся Алле Понтус, которая в одежде строительницы чувствовала себя очень вольно. — Беда! Аллочка!
— Какая? — смеялась та, подбоченясь и широко расставляя ноги.
— Недавно за тобой приходили.
— Кто?
— Двое с носилками, а один с лопатою, ха-ха!
Вале стало обидно. "Вечно со своим смехом и вечно с такими, как Алла. Вчера, кажется, даже домой провожал. Будто нарочно выбирает… А у самого же кошки на сердце скребут…"
Студенты ныряли в двери сарая и сразу возвращались. Отряхивая одежду, расходились: парни — жестикулируя, по двое, по трое, девушки — группками, взявшись под руки или обнявшись. И грустно было, стоя одной, наблюдать за ними со стороны. Это даже как-то отчуждало от Алешки.
— Костусь! — все же окликнула Валя, когда тот повесил замок на дверь и стал увязывать обрезки досок, которые, видимо, собрался нести домой.
— Ты звала? — не поверил он, подходя.
— Проводи меня…
Он посерьезнел и, принимая это как испытание, пошел рядом. И по тому, что никак не попадал в ногу и, меняя шаг, все толкал ее то локтем, то плечом, было видно, как он взволнован.
Сумерки сгущались. Холодало. Лужицы на тротуарах с краев затянулись ледком. Но все равно повевало весною: от земли — готовой забродить силою, от неба — особенно ядреной свежестью. Валя вдыхала эту предвечернюю свежесть, и ноздри ее вздрагивали, а на щеках проступал румянец.
Их обогнал трамвай. В вагонах уже горело электричество, и люди, сидевшие вдоль окон и стоявшие в проходе, держась за висячие ручки, были видны, как на экране. Там шла своя и, как казалось, необычная жизнь.
Этот маленький, иной мир, с грохотом куда-то стремившийся по рельсам, потянул Валю за собой. Появилось желание быть там, среди света, ехать вместе с людьми, с Костусем. Куда?.. Разве не все равно?
Она сказала об этом Алешке. Тот охотно, обрадовавшись ее словам, как открытию, тоже признался: в канун весны его вообще, словно кочевника, тянет катануть куда-нибудь — в полевые просторы, побродяжничать.
— Хорошо цыганам: столько видят…
Исколесив ближайшие улицы, они попали в Театральный сквер.
Черные голые деревья вздымали сучья в звёздное небо. Ветви четко вырисовывались на его фоне, и на них можно было видеть сидящих грачей и галок. Где-то тут же, невидимые, гомозились и скворцы. Между деревьями поблескивал синеватый снег. Пролегали и перекрещивались, как ручейки, тропинки. Там-сям темнела земля. И хотя сверху снег прихватил морозик, под ним что-то шуршало, крошилось — это трудилась весна.
В чаше фонтана тоже лежал снег. Но вокруг его притоптали, он подтаял и обледенел. Валя с Алешкой обошли фонтан и остановились против каменного мальчика с лебедем. В синих ночных сумерках лебедь в радостном порыве, взмахнув крыльями, готовился взлететь, а мальчик, нежно обняв своего неразлучного друга, прощался с ним, а возможно, и просил, чтобы тот взял с собой его, бескрылого.
— Тут в сорок втором повесили Славика, — надтреснутым голосом сказал Алешка. — Какой человек был!..
Валя не отозвалась. Да и вообще говорить не хотелось. Они стояли рядом, касались плечами друг друга, и это прикосновение делало слова ненужными. Когда же молчать стало мучительно, Валя подхватила Алешку под руку и потянула из сквера. Он прижал ее руку к себе, обжег очарованным взглядом, и они пошли быстро-быстро. И чем дальше шли, тем быстрее.
Минуло недели две. На угол Советской и Ленинской улиц пришел экскаватор и сразу стал Валиной страстью. Старенький, запыленный, он весело развернулся, заворчал и почти с ходу бросил стрелу с ковшом вниз, Потом сделал несколько наступательных движении и, поворачиваясь, взметнул её вверх — из ковша посыпалась первая пригоршня поднятой земли и кирпича.
Его тут же окружили — дети, взрослые, старики. Посмотреть приходили даже с окраин. Что их тянуло сюда? Конечно, не только любопытство — не такие чудеса техники видели советские люди. Привлекало их, наверное, начало и, как они ожидали и угадывали, большое начало. Экскаватор ворчал то ровно, то натужно, ковш с грохотом падал вниз, черпал неподатливый грунт, взлетал вверх, поворачивался и, послушно раскрывшись, высылал землю и битый кирпич. А люди стояли как зачарованные, провожая глазами каждое его движение. Карьер проходил вдоль старого фундамента. Зубцы ковша, упираясь в стену, взламывали кирпич и со скрежетом отрывали большие куски. Тогда люди, спохватившись, начинали оживленно разговаривать между собою, с одобрением что-то кричали испачканному экскаваторщику, ловко орудовавшему рычагами. Всех удивляло и тешило, что где-то там, далеко на западе, еще полыхает война, а уже здесь, на углу любимых улиц, озабоченно урчит эта умная машина, уничтожая следы войны. Во всем этом был огромный смысл жизни каждого и всей страны.
По крайней мере так воспринимала виденное Валя, Она наблюдала за работой экскаватора и от души радовалась.
Неожиданно ее окликнули. Валя обернулась и увидела Урбановича. Алексей с палкой, в шинели, пилотке, худой и тщательно выбритый, стоял на краю котлована и улыбался. Валя подбежала к нему и чуть ли не бросилась целоваться — такой он был слабый и худой.
— Вот оно, Валя, как, — сказал Алексей, незнакомо шевеля губами. — Наше вам!..
— Ты из больницы? Один? Выписали или убежал? Учудил что-нибудь, наверное? — с трудом привыкая к такому Алексею, засыпала его вопросами Валя.
— Выписали… Отремонтирован с большего… Доехал сюда без билета. Кондукторша в трамвае даже орденской книжки не спросила. Значит, видик хозяйский… Но ничего, отсюда пешком доберусь. Как снег на голову.
— Вот Зосе радость!
— Кто вас знает…
— Она недавно у меня была — только и разговору что о тебе. — И, проверив, не подслушивает ли кто их, добавила: — Она недавно в консультацию ходила. Врачи говорят, скоро в декрет идти.
— Ну и разговоры же у вас!.. Всегда такие?..
Алексей осклабился и что-то приглушил в себе.
— Плохо мне, Валя, — признался он тоном человека, который ничего не хочет скрывать. — Эта болезнь многому научила, но и скривила многое. Иду домой и не ведаю, как переступлю порог. Что скажу Зосе? А она, знаю, чего-то ждет.
— Тебя она ждет, а не чего-то.
— Я понимаю…
— Слушаться надо ее, Алексей.
— Дитя ты горькое! Как же ты будешь слушаться, если она сама не больно знает, что ей надобно. Ее самое нужно за руку водить. Особенно когда улицу на перекрестке переходит.
Ковш экскаватора ринулся вниз, несколько раз напрягся и, набрав земли, битого кирпича, понес их к нарытому холму. Из ковша свешивались покореженные железные прутья.
— Этот не надорвется, — похвалил Алексей. — Вот человеку хоть бы немного его силы…
Он заметил подводу, которая переезжала Советскую улицу, и, забыв пригласить Валю, чтобы та заходила к ним, заковылял наперерез. Переговорив с возницей, сел на телегу и, только тогда снова вспомнив о Вале, отсалютовал ей поднятой палкой.
"Что сталось бы с ним, не будь Зоси?" — наивно подумала Валя, невольно вспоминая Алешку.
Сердце забилось сильней. Костусю тоже необходима помощь. Его от многого нужно устеречь, многому научить… Ей, как и Зосе, надо выбирать дорогу… Ну что ж, она вольная в своих чувствах!.. В воображении промелькнула неясная картина: Алешка в чем-то каялся и за что-то благодарил, припав лбом к ее ладоням. Лоб у него был горячий, обжигал, знобил.
В таком немного химерическом настроении через несколько часов она и встретилась с Алешкой. Тут же, на углу Советской и Ленинской.
Он взял ее под руку, и они подошли к неподвижному экскаватору, стоящему в котловане, будто в засаде. Стрела у него была опущена и казалась ненужной. Алешка нащупал ногою камешек, поднял и бросил в ковш. Послышался удар о железо, и почему-то сразу же запахло керосином и неостывшим маслом.
— Уральский, — без особого уважения сказал Ллешка, — берет кубометр.
Луна, которая была видна и днем, набирала силу. Руины под ее светом засеребрились. По небу плыли высокие перистые облака. И когда луна попадала в их прозрачную мережу, вокруг нее появлялся многоцветный радужный круг. Тогда становилось, пожалуй, светлее, потому что тени от развалин редели, теряли свои очертания, а сами руины по-прежнему были залиты рассеянным светом. И эта радуга, и удивительная игра лунного света, и руины, что вдруг становились, как в сказке, — все это воспринималось Валей остро, казалось необычным, совершающимся специально для нее. Она предчувствовала, что в эту полную изменчивых теней и света ночь к ней обязательно придет внезапная радость. Но, ожидая ее, она не спешила ей навстречу и чуть-чуть побаивалась. Вале было жалко уходить отсюда, от неподвижного, уставшего за день экскаватора, жалко и страшно. Он словно от чего-то ее оберегал. Чтобы побыть еще хоть немного здесь, она сказала:
— Днем встретила Урбановича…
— Ну и как же этот исхудавший битюг чувствует себя? — засмеялся Алешка.
— Зачем так, — взмолилась Валя. — Я и не подозревала, что ему нелегко. Смотрела и думала: вот он тут, весь на ладони. А оказывается, мучается, чего-то ищет.
— Не мудри на мелком месте.
— Я раз к Зимчуку заходила, и его домработница, — понимаешь, Костя, бабушка, считавшая меня своею, — отнеслась ко мне как к незнакомой. Обидно? Конечно! А потом оказалось, что в тот день она похоронную получила: под Шлахау, в Померании, ее последний сын погиб… А что о тебе говорят? Я и думать не хочу. Разве ты такой? Ну, скажи!
— Тебе виднее. Хоть отбить охоту от всего можно… Пойдем лучше на реку посмотрим, а то ты уж загадками начинаешь говорить.
Движения на улице не было, прохожие встречались редко, и они пошли по мостовой.
Ночь была теплая, по-весеннему хмельная. Где-то далеко, в лесу, творились весенние чудеса: трескались еловые шишки, и крылатые семена летели на землю, чтобы встрепенуться и прорасти; набухали почки, цвели ольха и орешник, зацветало волчье лыко, за лиловые цветы названное ласково и точно — лесная сирень; пел уже во сне свои песни глухарь. И хотя все это было далеко, трепет проснувшейся жизни плыл сюда по воздушным путевинкам, трогал и заставлял трепетать сердце.
Свислочь вышла из берегов, разлилась. Освещенная от самого моста прожекторами, она мерцала и переливалась. Поблескивая в изломах, по ней плыли небольшие льдины, мокрые и зеленоватые или заснеженные и голубые. Они двигались медленно, величаво, но, приближаясь к мосту, становились проворнее и уже стремглав, со вздохами, ныряли под него, во тьму. На мосту, по обе стороны возле перил, толпились люди. На построенных помостах дежурили солдаты-саперы. Шум воды, вздохи льдин, возбужденные голоса сливались в одно, что-то весеннее.
Пройдя немного по берегу, Валя и Алешка остановились. Берег тут был невысокий, и вода плескалась у самых ног, темная, густая. Она долго смотрели на реку.
Но так стоять наконец стало не в мочь. Чувствуя, как растет сердце, Алешка взял Валю за плечи и повернул к себе. Покорная, она, однако, опустила голову, не давая ему заглянуть в глаза. Тогда он торопливо обнял ее и притянул к себе.
Последнее время она всегда была несколько встревоженной. Обычное — тихое утро, лесная просека с далеким просветом в конце, извилистая тропинка вдоль железнодорожного полотну, заводской гудок — пробуждали в ней беспокойное ожидание. Но теперь, когда Алешка обнял ее, она притихла, и большой, как мир, покой опустился на Валю. Алешка почувствовал это, с силой сжал девушку и припал к ее губам. Она тоже поцеловала его и, легонько отслонив, пошла вдоль реки к освещенному мосту, над которым витал людской гомон.
Алешка свистнул, но видя, что она не останавливается, догнал ее.
— Ну куда ты? Чего?
— Прости, Костя, я хочу побыть одна.
— Теперь-то?
— Ага…
Недоумевая, он прошел следом за ней еще несколько шагов, но когда она сказала "я прошу тебя", резко повернулся и зашагал во тьму, не то в отчаянии, не то в радости закинув на затылок руки.
Валя брела, глядя под ноги, и как бы прислушивалась к себе. Грудь полнилась гулом, который она будто вынесла оттуда, от раскованной реки.
Вдруг что-то насторожило Валю.
От карьера, где стоял экскаватор, ей наперерез шли двое. Невдалеке от угла остановились. Одни из них, как показалось Вале, подал знак рукой, подзывая к себе. Вокруг, кроме этих двух, не было ни души, и Валя тоже остановилась. "Что за люди?" Тревога заставила ее оглянуться. Шагах в пятнадцати увидела третьего — длиннорукого, мордастого, который, отделившись от руин, преградил ей дорогу назад.
Сомнений быть не могло. Ей захотелось крикнуть, позвать на помощь, но, еще на что-то надеясь, она сказала:
— Я студентка, товарищи. У меня ни часов, ничего нет…
Ее, вероятно, не услышали. Мордастый, держа руки за спиной, стал медленно приближаться.
— Ты кричать не вздумай, — пригрозил он, — а то так наверну, что десятому закажешь.
Необходимо было что-то делать.
Не осознав как следует, на что она решается, стараясь видеть всех троих, Валя предупредила тоже:
— Лучше, товарищи, не подходите! Я все равно не позволю прикоснуться к себе. Слышите?
Не переставая приближаться, мордастый презрительно сплюнул.
— Стой! — крикнула Валя.
В тот же миг из черноты руин на противоположной стороне улицы вынырнул четвертый — верткий, невысокий. Он бросился было к Вале, сбежал с тротуара, но передумал и испуганно замахал руками.
— Хлопцы, своя! — выдохнул он. — Своя! — Потом, помедлив, словно проверяя, поняли ли его, прыгнул назад, в темноту.
Голос, фигура подростка показались Вале знакомыми.
— Тима! — оторопело окликнула она. — Тима!
Но никто не отозвался. Вокруг уже никого не было.
Глава пятая
Когда в оперативных сводках Совинформбюро появилось Берлинское направление, война с новой силой ворвалась в жизнь каждого. О войне не забывали, разумеется, и раньше, но к ней привыкли, тем более что события развертывались счастливо и беспокоило лишь упорство немцев в Прибалтике.
Берлинское направление! Приближался конец войны. Тем паче что следом начались штурмы пригородов Берлина — решающие схватки, за которыми, как было ясно, маячила победа. О ней говорило все — и резко возросшие трофеи, и приятные поправки о количестве пленных, взятых согласно уточненным данным, и добровольная сдача в плен немцев, и медленное угасание воздушных и танковых боев. В конце апреля войска Первого Белорусского фронта, перешедшие в наступление с плацдарма на западном берегу Одера, прорвав оборону противника, овладели несколькими городами и ворвались в Берлин. Начались жестокие уличные бои. Замелькали знакомые по книгам названия — Тегелер-Зее, Силезский вокзал, Тельто-канал, Темпель-хоф… Недовольный тем, что многих населенных пунктов и городов, упоминаемых в сводках, нет на его карте, Василий Петрович отмечал кружочками все, что можно было отметить, и часто ходил к окружному Дому офицеров, где были вывешены огромные карты Европы и Берлина. Стоя, в толпе и рассматривая их, он загодя радовался тому, что произойдет, и пытался угадать направление дальнейших ударов.
Так проявлялись не только его человеческие тревоги и заботы, но и нетерпение архитектора. Он чувствовал, победа откроет возможности, которые трудно предвидеть, принесет новые масштабы делам.
Спрятав в карман газету с последним сообщением Совинформбюро, Василий Петрович пошел в Управление по делам архитектуры. "Нагряну, и пусть ответ держит…"
У Понтуса сидел Барушка. Этого Василий Петрович не ожидал. Но, решив, что так, может быть, и лучше, — "Ударю одним махом по обоим, неужели не пройму?" — вынул газету и протянул ее Понтусу.
— Читайте, Илья Гаврилович, — сказал он как о новости, которой тот еще не знал.
— Что-нибудь неприятное, конечно? Или лирика? Где?
— На первой странице.
Понтус взял газету, посмотрел ее, догадался и отложил в сторону. Не подавая вида, что попал впросак, почесал левую руку выше локтя.
— Вы, уважаемый, как всегда, недооцениваете начальство. Оно не только читает газеты, но и радио слушает.
— Пс-с-с! А разве он не начальство? — засмеялся Барушка, на которого иногда находило желание подхалимничать, особенно если он перед этим сделал человеку гадость.
Это еще больше рассердило Понтуса, он бросил мрачный взгляд на бумаги, лежавшие перед ним, и перелистал некоторые из них.
Будучи в приподнятом настроении, Василий Петрович, однако, не придал особого значения ни словам Барушки, ни официальности, вдруг проявленной Понтусом. "Пустяки!.."
— Теперь уже настоящий конец! — разоткровенничался он. — А тактика! Окружают, раскалывают и уничтожают. В Тиргартен врезались с юга и с севера, пока не соединились на Шарлоттенбурген-шоссе.
— Блестяще!.. Вы по делам?
— Я думаю, нам тоже следует сделать выводы.
— Из чего? Из военной тактики?
— Нет, я имел в виду победу. Она принесет возможности, пройти мимо которых — преступление.
Понтус скривился и протянул перед собой руку, словно защищаясь или останавливая кого-то.
— Ну вот, с этого и начинали бы! Хоть тоже выспренно, но зато уже можно догадаться. Если преступление, значит речь пойдет о коробках. Так?
— Дело не в коробках, а в городе…
— Вот именно, — встал со стула и взялся за спинку Барушка. — И потому Минск должен остаться Минском.
Будто не услышав его, однако более твердо, чем перед этим, Понтус переспросил:
— Значит, о коробках?.. Но кто так решает вопросы? — Однако, увидев близко лицо Василия Петровича, уже желчно бросил: — Ну ладно! Вы знаете, я человек открытый. И чтобы между нами не было обиняков, предупреждаю: я спекулировать на победе не собираюсь, Такое, имейте в виду, отрыгается.
— Что? — понимая, куда тот гнет, удивился Василий Петрович.
— Конечно, с точки зрения психологии, расчеты произведены неплохо. Взорвать коробки под грохот салютов наиболее безопасно. Разве тогда до них? Но это, батенька, называется… хитрить с государством. А оно всегда остается самим собой, и поэтому его не обманешь. Не разберется сразу — разоблачит отсебятину потом. Это, батенька, недремное око.
— Мм… Я никого не собираюсь обманывать.
— Неправда! Вы делаете все зависящее от вас, чтобы обмануть историю! — напыжился Барушка, который уже отошел к окну и стоял там, заложив руки за спину. — Вы — талантливый человек, а у вас нет национальной гордости!
— Минуточку, товарищи, — заперечил Василий Петрович. — Тут просто недоразумение. За что вы меня в тюрьму толкаете? Так же нельзя, Илья Гаврилович!
Сузившиеся глаза Понтуса уставились куда-то в сторону, лицо стало намеренно глухим. И, как тогда, после приезда, когда он высунулся из окна, у чувственного, резко очерченного рта обозначились жесткие складки. Он знал, что его обвинения далеки от правды, но они были выгодны ему, ими можно было припугнуть Юркевича — не больно ерепенься, а то вон что ожидает тебя. Да и поскольку эти обвинения пришли ему на ум, значит, они могут также прийти другим. И уже потому их надо высказать. Иначе, может случиться, будешь отвечать за то, что не высказал их. Не доверять человеку легче, чем доверять. Обвинять более безопасно, чем оправдывать.
Эти премудрости он усвоил давно, и они приносили успех. Но на этот раз позиция получалась шаткая, и Понтус счел за благо подкрепить ее, а заодно подготовить пути к отступлению.
— Вы знаете, какое мнение муссируется в кулуарах? — покосился он на Барушку. — Говорят, что вашу борьбу с коробками легко попять, если учесть судьбу ваших собственных здании…
Василий Петрович всегда пасовал, когда ему приходилось сталкиваться с бесстыдной наглостью. Да и в самом деле, что можно было ответить Понтусу? Встать и уйти? Но сейчас шла речь о том, что становилось смыслом его жизни, и он сказал:
— Ведь это не больше, как сплетни…
Раздражаясь главным образом от того, что его игнорируют, Барушка вернулся к своему стулу и, став боком к Василию Петровичу, театральным жестом выкинул руку.
— Тут вообще и во всем криводушие, Илья Гаврилович!
Побледнев, Василий Петрович поднялся тоже.
— Я не хочу и не допущу, чтобы вы обвиняли меня, — сказал, бледнея все больше и больше.
— Это почему ж?! — сорвался на фистулу Барушка. — Новый ход?
— Ваше прошлое не дает вам права оценивать поведение других.
— Пс-с-с!
— Не горячитесь, — вмешался Понтус. — Лучше, если мы сами исправим ошибки. Хуже будет, коль нам на них укажут сверху. И хуже не только потому, что будет больше виноватых, — он, безусловно, имел в виду себя, — но усложнится и процедура разбора. Больше будет шума, принципиальности. Дела тогда принимают показательный характер… А пока, Василии Петрович, вторично предлагаю выдать разрешение Наркомздраву — пускай начинают работы, и никаких…
— Наркомздрав уже сам отказался от коробки. Ему выгоднее строиться заново, чем начинать бессмысленную реконструкцию.
— Как? — вскочил Понтус, закипая бешенством. — Уже успели походить и там? Я… не позволю, чтобы за моей спиной совершали махинации!..
Больше делать здесь было нечего. Василии Петрович взял со стола газету, спрятал ее в карман и стал искать шляпу, которую оставил в приемной.
Надо было немедленно принимать решение.
Василий Петрович считал, что у него было три возможности. Первая — согласиться с Понтусом и капитулировать. Вторая — оставаясь самим собою, с достоинством отказаться от должности главного архитектора. И, наконец, третья — действовать напропалую, как под-сказывает совесть.
Самое легкое, понятно, было согласиться. Но что бы это означало? Делать все наперекор убеждениям. Правда, можно было успокаивать себя тем, что это до поры до времени, и когда страна побогатеет, все можно переделать заново. Возводят же временные бараки для строителей… Но, веря в будущее страны, Василий Петрович знал и то, что временные постройки стоят, пока не обветшают совсем, что неотложные нужды были, есть и всегда будут. Вот, например, в магазинах огромные очереди. Сигналы дошли до Москвы, и оттуда категорически предлагают срочно расширить торговую сеть. А как? Надо наспех восстановить несколько коробок. Занятия в школах идут в три смены. Значит, жди распоряжения о коробках для школ, потому что так легче всего ликвидировать трудности.
Снять с себя ответственность? Уйти? Но что это изменит?
Оставалось одно…
Стараясь быть как можно спокойнее, Василий Петрович направился в трест разборки и восстановления строительных материалов. В доме, где расположилось это учреждение, был обжит только цокольный этаж. В коридоре, темном и извилистом, как в катакомбах, двери то вовсе не, открывались, то открывались прямо в черную бездну.
Управляющего трестом Кухту Василий Петрович нашел в сырой, уставленной шкафами и столами комнатушке чуть ли не в конце коридора. Поставив ногу на табуретку и облокотившись о колено, Кухта курил и что-то диктовал машинистке, сидевшей возле единственного в комнате окошка.
— Петрович, какими судьбами! — удивился Кухта, заметив в дверях товарища. — Проходи, проходи, не бойся! Должно быть, в лесу медведь сдох? Ты же нам вот так, — он провел ладонью по короткой шее, — нужен. Искали, искали тебя сегодня…
Он энергично потер руки, будто мыл их, и, бросив машинистке "потом", пошел навстречу.
— Видимо, что-нибудь важное? Что, нет?
— Небогато живете, — не решился начинать с ходу о главном Василий Петрович.
— Зато весело. Ты посмотри только сюда. — Кухта кивнул круглой головой в сторону окна и засмеялся. — Говорят, что в Париже когда-то был такой театр. Занавес там поднимался на каких-нибудь полметра, и, когда начинали показ, зрители видели только, ноги. По зато самые разные — женские, мужские, в опорках, в сапогах, в туфлях…
В самом деле, за окном кто-то прошел — над машинистской протопали огромные сапоги с кирзовыми голенищами.
— Милиционер! — сказал Кухта, и его грузное тело затряслось от смеха. — Мне теперь возглавлять бы сапожную артель. Изучил это дело, ей-богу, на "пять" — досконально. Дефекты, узкие места, все!
Мешковатый, фамильярный, он обнял Василия Петровича и повел его к ближайшей табуретке.
— Чего это я вам так срочно понадобился? — спросил, садясь, Василий Петрович.
— Объекты давай!
— Пожалуйста, хоть все.
— Я кроме шуток. Мы, Петрович, первый раз в жизни месячный план в апреле выполнили. И разобрали и восстановили. А май — вот с праздников начали. Два дня нерабочих. Я хотел чего-нибудь отменного у тебя просить. Очень приятно план выполнять. Раскланиваются хотя все.
— В этот раз на Советской дам. Как литые! — сказал Василий Петрович и почувствовал, что сжалось сердце. — Бери только…
Столы в комнате стояли тесно, и в проходах между ними ходить можно было только боком. Но, охваченный тревогой, Василий Петрович все же встал и попытался пройтись возле стола управляющего.
Его попытка оказалась комичной. Чтобы скрыть улыбку, машинистка вынула из сумочки носовой платок и стала осторожно, чтоб не размазать помаду на губах, сморкаться. Кухта многозначительно откашлялся.
"Неужели догадывается? — настороженно подумал Василий Петрович. — Ну и пусть. Ему же не отвечать". И все же, гадая — сразу Кухта попросит письменное распоряжение или пришлет за ним сотрудника, — посчитал лучшим сказать с деланной щедростью:
— Подчистишь квартал против Театрального сквера, А также… разберешь коробку лечебницы на Володарского и коробки на углу Советской — Комсомольской, Советской — Ленинской. Хватит пока?
Опершись о стол руками, Кухта откинулся назад и с веселой решимостью потер свою полную шею.
— Вот это по-моему! — одобрил он. — С глаз долой — соблазну меньше. Как это у Маркса? Мертвые могут хватать за ноги живых… Так?
— Не совсем точно. Но…
— То-то! А у меня как раз минеры завтра будут, они покажут нм, как хватать. Что, нет?..
Однако, прощаясь, Кухта все-таки задержал руку Василия Петровича в своей.
— Согласовал с кем? Или сам надумался?
Опять щемящая тоска охватила Василия Петровича. Захотелось еще немного побыть тут, в этой сырой, сплошь заставленной шкафами и столами комнатушке, поговорить с Кухтой открыто, признаться во всем. Но рядом сидела завитая, неприятно любопытная машинистка, и это сдерживало.
— Мм… Как всегда, — развел он руками. — Нам не привыкать. На бога надейся, а не плошай. Советников много, а сам все решай.
— Серьезно?
— Я же сказал. Будешь свободен — заходи. С генпланом познакомишься. Месяцев через шесть в основном завершим, тогда и побеседуем.
— Ну, коли так, добро, — усмехнулся Кухта. — На рассвете слушай и мою работу.
Ночью Василий Петрович спал неспокойно. Все время он пытался что-то додумать и никак не мог. А когда казалось — решение вот-вот будет найдено, появлялся Понтус и грозил пальцем. Палец был большой, а сам Понтус унылый и вытянутый, как рисуют на карикатурах или каким можно увидеть человека в кривом зеркале комнаты смеха. И каждый раз он произносил одни и те же слова: "Дудки, уважаемый! Мы тоже кое-что могём!" — и это въедливое, умышленно искаженное "мо-гём!" глушило, отнимало волю.
Наконец злым усилием Василий Петрович прогнал надоедливый кошмар и открыл глаза. Сильно билось сердце. Из вестибюля долетели три мягких удара часов. Он сосчитал их, несколько минут бездумно полежал и попытался снова-таки заснуть, но уже не смог. За стеною жалобно заплакал ребенок — почти всю гостиницу заселяли такие же бесквартирные жильцы. Жалобный детский плач напомнил о жене, сыне, и сон отлетел окончательно.
Убедившись, что все равно не уснет, он оделся, сел за стол и принялся было за работу. Но мысли вертелись вокруг разговора с Понтусом, с Кухтой, и в голову ничего не шло. Рассердившись на самого себя, он накинул плащ и спустился в вестибюль.
За стойкою, положив голову на стол, дремала дежурная. На диванах и в креслах в самых разных позах, с изможденными, бледными лицами спали, приезжие. Услышав шаги Василия Петровича, дежурная подняла голову и торопливо вытерла слюну, набежавшую в уголок рта. Щека ее была помятая, красная, и Василий Петрович почувствовал себя неловко: помешал ей дремать.
— Отдыхайте, отдыхайте! — заспешил он смущенно. — Это я так, хочу отлучиться на одну-две минуты.
На улице было по-утреннему холодно, серо. Едва занималась заря. Это сказывалось пока на очертаниях домов, руин, мягко выступавших из сизого сумрака. В синем небе еще дрожали звезды. Их стало меньше, и мерцали они как-то прощально, но зато были ясные-ясные и крупнее обычных.
Зябко поеживаясь, Василий Петрович глянул в один конец улицы, в другой и, замечая, как гулко отдаются собственные шаги, пошел в сторону Советской. Понял, что и поднялся, и оделся, и вышел с одной целью — пойти к опостылевшим коробкам.
Через квартал он увидел пикет. Высокий усатый солдат шел ему навстречу и знаками показывал, что надо возвращаться.
— Нельзя, товарищ, — сказал он, загораживая дорогу. — Сейчас тут взрывать начнут!
— Я главный архитектор, — замялся Василий Петрович.
Солдат с любопытством посмотрел на него, и усы его насмешливо натопырились.
— Все одно, товарищ архитектор. Он, кирпич, глупый, может угодить и в главного. Вам, если что срочное, придется квартала два обойти.
— А лечебницу, не слышал, взрывают? На Володарского, — слабея от радостной тревоги, спросил Василий Петрович.
— Вам лучше знать.
— Тогда я отсюда посмотрю. Можно с тобою?
— Рыгор, поди сюда! — окликнул пикетчик другого солдата, стоявшего на противоположной стороне улицы у стены дома.
Небо на востоке светлело, и трепетная бирюза поднималась над горизонтом все выше. Дул легкий ветерок, и мгла, словно развеваемая им, начинала редеть, и все — мостовая, руины, стены, крыши домов — пояснело.
Поглядывая на небо, солдаты закурили.
— Интересуетесь? — спросил тот, кого пикетчик назвал Рыгором. — Оно и впрямь занимательно. Но тут поблизу дома целые, и взрывать осторожно будут.
— Он архитектор, — сказал высокий пикетчик с усами.
— А я гляжу — волнуется человек. Жалко, наверное?
— Потеряв корову, по веревке не плачут, — пыхнул цигаркою высокий. — Все одно торчат, что зубы гнилые. Ей-ей!
— Как, как вы сказали? — встрепенулся Василий Петрович.
— Я говорю — не такие уж бедные мы, чтобы не уважать себя. На большее завоевали право. Человек с войны вернется жадным.
— Это верно, — согласился второй. — Повидали и свет и людей. Нам теперь мало, что было. Уважать не только других научились.
От полоски на востоке шел свет и ложился на обветренные, загорелые лица и серые фигуры солдат. Были они в поношенных шинелях, подпоясанных брезентовыми ремнями. Карабины мирно висели у них за плечами. И от этого слова солдат показались Василию Петровичу особенно значительными.
— Да, да, — подтвердил он.
Послышался пистолетный выстрел.
В груди Василия Петровича заныло, но отвратительной слабости, с которой он вчера шел к Кухте и которую скрывал от себя сегодня, не было. Он жадно вдохнул холодный воздух и, ощущая его свежесть, на секунду задержал в себе.
В этот момент в конце квартала полыхнул огонь и ухнул взрыв. Глухой, сдержанный, он разорвал предутреннюю тишину и раскатисто пронесся над руинами. Как близкий гром.
Василий Петрович с облегчением выдохнул воздух и, подчиняясь внутренней потребности, оглянулся назад.
Возле него, вытянув шею, словно глядя через головы людей, стоял Кухта.
— И ты здесь? — не особенно удивился Василий Петрович и проглотил подкатившийся к горлу комок.
— Тут, Петрович. Что-то не спится.
— Спасибо, дорогой…
— После тебя Понтус наклюнулся. Просил показать список объектов на ближайшую декаду. Нотный товарищ.
— Ну и как?..
— Врешь, нас тоже не обведешь. Я обещал сегодня прислать… Однако он все-таки добился своего — ставят твой вопрос на бюро. Хочет придать собственному мнению форму коллективного решения или состряпать дело. Тоже на Маркса ссылается. Говорит, что человеку прежде чем высокими материями заниматься, нужно есть, одеваться и жить где-то… Вот, действительно, — бойся коровы спереди, коня сзади, а комбинатора со всех сторон. Он и бодается, он и брыкается…
Кухта хохотнул, но сразу же осекся. Слева, а потом и справа полыхнули, загремели взрывы.
В полдень приехал Михайлов. На вокзале его встретил Понтус и, сообщив, что номер в гостинице забронирован, предложил поехать в управление. Михайлов согласился, но, когда "оппель" остановился у Дома правительства, неожиданно, хотя собиралось на дождь, попросил поездить по городу.
— Вероятно, под вашим, как говорится, руководством многое изменилось, — щурясь, приветливо сказал он. — Хвалитесь, пожалуйста!
В Университетском городке я заметил — работают. Студенты, наверное?
— Да, — неуверенно произнес Понтус.
— Это прекрасно. Пусть знают цену аудиторий. Вообще было бы полезно каждому знать, сколько стоит его персона народу.
Понтус почему-то посчитал; что слова Михайлова сказаны неспроста, но промолчал — невыгодно было начинать со споров — и принял озабоченный вид.
— На Серебрянку! — громко приказал он шоферу, стараясь найти причину, что погнала академика по городу, и подготовиться к возможным неожиданностям.
Приезд Михайлова — это Понтус понимал отлично — прибавит ему забот. Но в то же время при определенных обстоятельствах может и застраховать от некоторых неприятностей.
Не решив сразу, что лучше — пугать Михайлова убогостью или хвалиться, Понтус выбрал среднее — показать отдельные объекты. И, побывав на машиностроительном, инструментальном, вагоноремонтном заводах, где шли восстановительные работы, объехав те немногие участки, где восстанавливались жилые дома, они снова вернулись к Дому правительства. Но, как и в первый раз, Михайлов попросил, если можно, "проскочить" еще по Советской улице.
Проехали наполовину уцелевший квартал, потом квартал руин, уже разобранных по одну сторону. Поравнялись с Комсомольской. И тут Михайлов увидел взорванную коробку.
Он положил руку на плечо шофера и, когда тот остановил машину, не по возрасту ловко открыл дверцу. Вслед неохотно вывалился и Понтус. Его мутило. "Сюда, конечно, тянул все время. Хитрил, прикидывался, — подумал он неприязненно. — Списались, гении". А вслух сказал:
— Весна, Владимир Иванович! Благодать! Мальчишки теперь все на крышу норовят забраться, поближе к солнцу… Вы осматривать будете?
День был действительно мягкий, мглистый. И странно было, почему накрапывает дождь.
— Угу! — на ходу ответил Михайлов и, подняв воротник непромокаемого плаща, неуклюже полез на кирпичные груды.
Посмотрев вдоль улицы, он в знак согласия с мыслями кивнул головою, вынул из кармана объемистый блокнот и, нагнувшись, чтобы прикрыть его от капель дождя, принялся что-то записывать.
— Давно? — ткнул он авторучкой себе под ноги.
— Только сегодня.
— А там?
— Тоже, — поглядывая на академика, как на статую, сказал Понтус.
— И кто же?
— Конечно, герой… Юркевич…
— Молодчина! Вас интересует почему? Жизни можно уступать, но не в главном. А если взглянуть с перспективой, это важнее, чем, скажем, построить тут дворец. Согласны?
— Теоретически, Владимир Иванович… На нас тоже нажимают…
— Значит, не согласны.
— Вы знаете, как в городе обстоит дело со снабжением. Магазины не успевают выдавать, что имеют. И было предположение временно использовать под торговые точки эти целые коробки.
— Безусловно, безусловно, — согласился Михайлов и стал спускаться.
"Чудак какой-то", — подумал Понтус. И, подождав, когда тот сойдет, приглушенным баском, как говорят по секрету, сказал:
— Завтра Юркевича слушают в горкоме. Есть мнение — будут говорить о его архитектурной политике. Эти взрывы вызвали толки.
Смысл его слов будто не сразу дошел до Михайлова. Он взял Понтуса под локоть, подвел к машине и заставил первым сесть в нее. А когда сел сам и "оппель" тронулся, спросил, вроде они уже договорились:
— Значит, к нему?
Понтус ожидал всего, только не такого поворота. Должна же быть у этого самодура хоть капля трезвого ума!.. Впрочем, что ему с его именем! Разве он чем-либо рискует? Сегодня здесь, завтра там. Сделает ошибку — скажут: "Поиски". Докажет свое — похвалят: "Вот это принципиальность!" Он давно уже миновал черту, за которой делают не всегда то, что думают… Такой элите можно…
Бросив косой взгляд на шофера, Понтус прежним приглушенным баском проговорил:
— Ехать к нему мне неловко, Владимир Иванович. Я, как архитектор, понимаю его. Но, к сожалению, я еще и администратор. А сообщаю вам обо всем, чтобы вы ориентировались. И, к слову, сегодня мною принято решение освободить от обязанностей Барушку, с которым Василий Петрович не совсем ладит. Это тоже о чем-то говорит…
— Ничего, ничего, — заторопился Михайлов, — коль так, я уж как-нибудь сам доберусь…
Он нашел Василия Петровича в мастерской.
Широко расставив ноги и нежно поглаживая лысину в венчике кудрявых волос, Дымок увлеченно говорил:
— За этот отрезок, Василь, ей-богу, не будет стыдно. От Садовой к мосту поднимем проспект на четыре — шесть метров. Так? Слева, по пойме, разобьем парк. Справа подведем парк Горького. Так? Проспект пойдет по зеленому массиву на уровне крон. Люди будут видеть, как вокруг них колышется зеленое море. Здорово, черт бы его побрал! Ай да мы!
— Ну, — соглашался Василий Петрович, и подбородок его упрямо округлялся.
Незамеченный ими сразу Михайлов остановился у порога и начал рассматривать план, около которого они стояли.
— По-моему, тоже неплохо, — сказал он, проследив за прямой стрелой Советской улицы, оригинально и незаметно повернутой только в одном месте — на Круглой площади.
Василий Петрович оглянулся, и щеки у него заметно посерели.
— Владимир Иванович! — всплеснул он руками.
Было ясно: его приезду рады и, позабыв обо всем, ждут, что Михайлов скажет.
Не ожидая приглашения, он снял плащ, поискал глазами, куда бы его повесить, не нашел, бросил на спинку стула и, высокий, сутуловатый, приблизился к плану. Видя, как внутренне напряжен Василий Петрович, сказал:
— Нуте-ка, выкладывайте ваши новости.
Дымок путано стал сыпать цифрами, названиями улиц, площадей.
Перед Михайловым возникал город. Он лежал, опоясанный зеленой полосой, на спокойной равнине, гористой только по берегам Свислочи. На юг и север, на восток и запад от него, как лучи, отходили железнодорожные пути, шоссе. Да и сам он напоминал что-то лучистое. Крест-накрест его рассекали две магистрали: улица, которая еще не имела названия, и Советский проспект — главная ось композиции. От центра к окраинам расходились улицы, где-то на середине пересеченные кольцевой магистралью. Площади и прилегающие к ним кварталы составляли центр. Вместе с Советским проспектом это был единый ансамбль. Шести- и пятиэтажные в центре и на главных магистралях здания постепенно снижались, выходя к окраинам. Принимая воду из загородного водохранилища, разделенная плотинами, текла одетая в камень Свислочь. Ее зеленые берега связывали в целое парковые массивы. Город утопал в зелени.
Да, это были уже не черновые наброски комиссии, а документ, в котором ясно вырисовывались очертания будущего города, хотя еще и оставались белые пятна.
— А где резервные территории для промышленности? — вдруг перебил Михайлов Дымка.
Тот запнулся.
— Вот это?
— Да…
— Мало. Вы не находите? — разочарованно сказал Михайлов, окая по-волжски, отчего слова его казались округлыми. — При такой вашей щедрости некому будет строить город. На промкооперации да учреждениях далеко не уедешь. У сталинградцев стоит поучиться… Виделись сегодня с Понтусом? Нет. Нудный, надо сказать, человек… — Но заметив, как удручающе подействовали его слова на Юркевича и Дымка, заговорили о частном — об улицах и проездах, о скрещениях городских магистралей и железнодорожных путей — и тут же высказал соображение о путепроводе, который переносил бы проспект над железной дорогой.
Однако первое замечание Михайлова так поразило Василия Петровича, что он никак не мог забыть о нем. "Жалеет нас "Старик", — думал он, слушая Михайлова. — Кто, в самом деле, будет все это строить? В Сталинграде индустриальные гиганты — тракторный, "Красный Октябрь", "Баррикады". У них хватит сил и на заводские поселки и на центр. А у нас? Что у нас? На бюджет горсовета не построишь и за сто лет. Если же пересматривать масштабы, значит, пересматривать и все вообще…"
— Я хотел бы, чтобы вы сказали все открыто, — настойчиво попросил он, глядя Михайлову в глаза. — Неужели оплошали и на песке планируем?
— Полноте, — откликнулся тот, словно ожидал такой вопрос и имел уже на него ответ. — Могу и открыто. Извольте. Людям часто помогало само время. Будем надеятся — поможет и вам. Вот и делайте выводы. И еще кое о чем придется подумать… Догадываетесь?..
Но как следует оценить замечания и советы Михайлова Василий Петрович смог только на другой день. Понял — "Старик" страховал его, хоть кое-что скрыл…
Поужинав в столовой ЦК, поговорив о Вере, просившей Михайлова узнать, что там происходит у мужа с Понтусом, они вернулись в мастерскую и работали там до поздней ночи. И хоть назавтра трещала голова, шел Василий Петрович в горком почти с веселой готовностью спорить и доказывать свое, чего бы это ни стоило.
Он верил — истина всегда побеждает, и не любил оправдываться. Зачем? Он даже считал, что нечестно искать сочувствия у людей, просить их о поддержке. Сочувствие и поддержка, как ему казалось, должны прийти сами собой, если ты только стоишь их. Но, непоколебимо веря в справедливость жизни, он забывал, что может ошибаться и сам и другие, что правда может оказаться только полуправдой или даже вовсе неправдой. Потому его упрямство часто вызывало желание спорить с ним, возражать ему, когда он, безусловно, был прав. А иному хотелось даже насолить ему. И этого Василий Петрович не понимал.
По лестнице он шагал мало не через две ступеньки и в приемной догнал Понтуса.
— Вы тоже, значит, на форум? — с волнением, что приходит вместе с приливом сил, спросил он.
Понтус подозрительно покосился на секретаршу, которая, держа плечом возле уха телефонную трубку, что-то искала в ящике стола, кивнул головой.
— Тут мы, видимо, уж договоримся…
Понтус не ответил.
— Можно войти? — обратился он к секретарше.
— Проходите, — разрешила та и поставила карандашом птичку на бумаге, лежавшей перед нею.
Не оглядываясь на Василия Петровича, будто его и не было, Понтус остановился возле обитой дерматином двери, поправил галстук, открыл ее и, как только переступил порог, быстро прикрыл за собою.
Не обращая внимания на это дипломатическое хамство, Василий Петрович зашел вслед. С порога заметил незанятый стул рядом с Кухтой, сидевшим возле окна, и, поздоровавшись со всеми, направился туда. Кухта хлопнул по свободному стулу ладонью и, когда Василий Петрович сел, сообщил на ухо:
— Приглашенных больше, чем членов бюро. Держись!
— Ничего, — отмахнулся Василий Петрович. — Читал сводку? Очищаем, дорогой управляющий, уже острова. Самолеты берем тепленькими — на аэродромах… Да и еще кое-что в запасе есть…
Но когда он получил слово и подался к столу Ковалевского, неожиданный холодок пробежал по спине. Присутствующие проводили его внимательными взглядами. Пришла неприятная мысль: "Небось, мало, чтобы ты был прав. Нужно, чтобы и доверяли еще". "Вы заботитесь о людях, но не любите их", — в который уж раз вспомнил Василий Петрович. Ведь это тоже сомнение в его искренности! Значит, сегодня придется доказывать не только свою правоту. Но уже на пятой минуте кто-то прислал записку, где просил не размахивать руками и уважать других. Что это было? Василий Петрович затаил обиду и передал записку Ковалевскому. Прочитав ее, тот с любопытством взглянул на присутствующих, ища, кто мог прислать такое, и громко посоветовал:
— Я бы, например, послушался.
Норовя в отместку говорить, как и до этого, уверенно, Василий Петрович, однако, никак не мог забыть о случившемся.
Кто?
Из присутствующих он выделил наиболее вероятных авторов записки: Понтуса, который сидел, положив на стол оба локтя, и с отсутствующим видом выводил ручкой мудреные вензеля на листке бумаги; директора машиностроительного завода — усталого, с седыми висками и высоким, без единой морщинки, лбом мужчину и, наконец, моложавого, с кудрявой, густой и черной как смоль шевелюрой второго секретаря горкома Зорина, готовившего вопрос и сейчас почти не отрывавшегося от записной книжки.
— Создается впечатление, что вы смотрите на индивидуальных застройщиков как на зло. Это правда? — бросил реплику директор завода.
"Он", — решил Василий Петрович и, почему-то сразу забыв о записке, ответил:
— Не совсем. Хотя, понятно, их домики не украсят город.
— Это почему?
Короткого убедительного ответа не нашлось, и Василий Петрович пожал плечами.
— Они, архитекторы, гигантоманы, — тряхнул густой шевелюрой Зорин.
— Нет, серьезно? — опять спросил директор.
— В нескольких словах трудно ответить…
— По-моему, это профессиональные предрассудки, — отозвался Понтус и сделал автоматической ручкой широкий росчерк, будто подписывался.
— Не только, — возразил Зорин, который в подобных случаях считал своей задачей поддерживать чувство ответственности у других, веря, что это чувство главное во всякой работе. — Такое убеждение характеризует в первую очередь отношение к требованиям времени.
— Конечно…
Этот обмен репликами как бы предопределил и характер прений. Уже первое выступление задело Василия Петровича за живое и, если б не беседа и ночная работа с Михайловым, сбило бы с толку.
Показав жестом Ковалевскому, что хочет говорить, директор завода обратился к Василию Петровичу, как обращаются, когда разговаривают с глазу на глаз.
— Вы еще многое не продумали из того, что защищаете, — сказал он с ироническим сочувствием. — По-вашему же, получается, что пятую часть территории будут занимать одноэтажные дома, в основном частные. А разве не от вас зависит, чтобы они украшали город. — Он провел ладонью по лицу, сгоняя усталость, и голос его окреп. — Сейчас мы не обсуждаем генплан, однако я вынужден сказать и относительно остальных четырех пятых. Огромная территория! В полтора раза больше довоенной! Кто ее будет застраивать? Промышленным предприятиям самим надо сначала подняться из пепла.
— Захотите, чтобы было кому их поднимать, — возьметесь и за эту территорию.
— Если и возьмемся, что из того? Сколько нас? На пальцах пересчитаешь. А для новых гигантов, думаю, найдутся более надежные места. На Урале, скажем, в Сибири… Поэтому стоит даже создать жилищные кооперативы из индивидуальных застройщиков — пусть помогают друг другу.
Кивком головы он дал понять, что кончил, сел и задумался.
— Прошу вас, Илья Гаврилович, — предложил Ковалевский.
Понтус намеревался выступить в конце, когда прояснятся решения, и встал неохотно.
— Объективность при обсуждении таких вопросов — главное, — начал он бесстрастно. — И, сознавая это, я, возможно, не сделаю таких категорических выводов, как Иван Федорович. Но надеюсь, что коллективно их сделать можно. Потому считаю важным напомнить факты, которые в свое время я уже приводил Зорину. Вспомним хотя бы случай с демобилизованным красноармейцем Урбановичем или аналогичные случал с рабочими машиностроительного. Юркевича прозвали "Нельзя-товарищ". Во имя чего он твердит это свое "нельзя"? Особливо возмущает факт, что взорвали почти целые здания. Эхо от этих взрывов разносится и теперь. Люди говорят, что разрушение города продолжается. Только раньше это делали немцы, а сейчас мы сами.
— Я не верю, что так могут думать, — усомнился Кухта.
— У Юркевича нет партийной выдержки. Ему бы все с маху делать, — не услышал его Понтус. — Не терпится, видите ли. Он даже не обращает внимания на то, что вокруг происходит. Как одержимый!..
Понтус грузно сел и, как человек, выполнивший свой долг, снова принялся старательно выводить вензеля.
Наступила пауза.
В глаза Василию Петровичу бросились большие стоячие часы в углу кабинета. Стрелки, гири и маятник их тускло поплескивали. Маятник качался важно, без обычного тиканья. Но от этого острее чувствовалось течение времени, которое отсчитывали часы, и Василий Петрович болезненно ощутил его. Вместе с этим в нем крепло какое-то самоотверженное упорство. Хотелось даже, чтоб испытание было более тяжким. Пусть! Все равно правда возьмет свое. Закончив доклад, он не вернулся на свое место, а сел за длинный стол, на который глазами показал Ковалевский.
— Меня тоже интересует психологический аспект вопроса, — услышал Василий Петрович над собою голос Зорина, поднявшегося, как только Понтус углубился в свои занятия. — По-моему, Юркевич понимал, что идет на противозаконное. Заметьте: он очень спешил, действовал напропалую — пан или пропал. Почему? Опасался, что ему помешают. С другой стороны, есть тут еще один неприятный привкус. Пусть даже в интересах дела и следовало бы взорвать коробки. Допустим! Но зачем эта скрытность? Зачем эти молниеносные решения и распоряжения? А на кого он замахнулся? На людей заслуженных, нашу опору. Для которых и поступиться кое-чем не жалко. Может быть, знаменем сделать. И вообще Юркевич не верит в мудрость… — Он поискал слово и не нашел его. — У него своя правда. А отсюда и девиз: делай по-своему, все одно тебя не поймут. Делам и помни: то, что не успеешь сделать, будет не по-твоему. Как это называется?
— Решением, принятым с чувством ответственности, — опять озвался Кухта.
— Добавь, принятым не без твоей помощи. О чем, надеюсь, мы еще поговорим.
— Пускай и с моей. Я отродясь от хороших дел не отказывался.
— Мне кажется, признание Кухты следует занести в протокол, — не отрываясь от своего занятия, сказал Понтус.
Ковалевский вопросительно взглянул на Василия Петровича, ожидая, что тот ответит.
— Я просил бы… мм… членов бюро, если линия моего поведения будет признана порочной, всю ответственность возложить на меня одного.
— Разреши, — попросил слово Зимчук.
Сердце Василия Петровича помертвело.
Этими днями Зимчуку пришлось побывать в землянках в конце улицы Горького, где они образовали целое поселение, а также в старых, наполовину разрушенных бараках Грушевского поселка, тонувшего в непролазной грязи. Землянки и бараки произвели удручающее впечатление. Поразили они, конечно, его не сами по себе — часто выезжая на обследования, Зимчук видел разное. Но тут вся убогость и бедность была собрана воедино. И вот теперь, когда Зимчук слушал выступления, картина этой убогости, его беседы с женщинами, жившими в каморках и землянках, то и дело вспоминались ему. Почему не говорят об этих женщинах? Город же для них, на чьем труде держится очень многое и чьи мужья, братья и отцы добывают победу.
— В партизанах, — начал он, придерживая руку на темени, — нам тоже приходилось уничтожать школы, сельмаги, больницы. Мы их взрывали или сжигали, когда поступал сигнал, что немцы хотят разместить там гарнизон. Иначе говоря, мы взрывали, жгли для того, чтобы над местными жителями не нависла большая беда. А почему взрываете здания вы, Василий Петрович?
— Чтоб они не искушала некоторых, — и сейчас опередил Кухта. — Чтоб не мешали делать расчеты.
Вы объясните с точки зрения интересов людей. Что от этого будут иметь женщины, которые ютятся в землянках? Что будут иметь их мужья, когда вернутся с фронта? Разве, может, что вместо восьмидесяти будет шестьдесят магазинов?
— Магазинов меньше не будет, — костенеющим языком проговорил Василий Петрович. — Мы с участием Михайлова вчера разработали проект временного, сборного магазина.
— А может, осчастливите их тем, что вместо десяти больниц построите пять?
— Новый город будет охранять здоровье жителей надежнее, чем больницы.
— Улита едет… Нет, недооценивать сегодняшние радости людей — значит, недооценивать самих людей. Есть задачи неотложные, а есть более далекие. Уничтожить землянки, дать людям минимум, а потом уже думать про стадионы и проспекты-лучи.
— Поздно будет.
— Смотря для кого… Но вряд ли во всем этом можно видеть злой умысел…
Кровь бросилась в лицо Василию Петровичу и мгновенно отхлынула. Он торопливо поднялся, взглянул на Ковалевского, на Зимчука и, остановив взгляд на незнакомой строгой женщине, которая, подперев рукой щеку, не сводила с него пытливых глаз, заявил:
— Я, товарищи, безусловно, знал, на что шел. Были, понятно, и свои соображения…
Он заметил, как, перестав выводить вензеля, вытянул шею Понтус, как переглянулся он с Зориным, и невольно замолк. В Понтусовом внимании явно таилась надежда на его, Василия Петровича, неразумную искренность. В том же, как демонстративно Понтус и Зорин переглянулись, чувствовался сговор, приглашение друг друга в свидетели.
"А они ведь не доверяют мне, считают, что хитрю, и словно издеваются", — с обидой подумал Василий Петрович.
— Ну-ну! — подзадорил его Понтус.
— Я понимал, на что шел, — передохнув, повторил он. — И пусть кое-чего не учел, но и теперь убежден — меры, принятые мною, пойдут на пользу. И чтобы ничего не скрывать от вас, я должен признаться еще в одном.
Я знал — эти меры многие не смогут одобрить. Знал и делал.
— Что же это такое? — склонил на плечо голову Зорин. — Самопожертвование?
— Я… мм… думал и об этом.
В кабинете загомонили. Зорин встал, подошел к Ковалевскому и, опершись локтем на стол, тихо, с сердитым видом что-то стал говорить. Понтус взглянул на секретарей и немного отодвинул свой стул от стола, словно дальнейшее его не касалось. Директор завода как-то боком наклонился к соседу слева — седому, подстриженному "под ежик" председателю исполкома Ленинского райсовета — и, вероятно, сказал что-то смешное, потому что тот улыбнулся и весело почесал "ежик".
Зимчук видел — искренность главного архитектора оставляла противоречивое впечатление и теперь многое зависит от Ковалевского. Сам же Зимчук внезапно почувствовал симпатию к Василию Петровичу.
Недавно, зайдя к нему и начав, как всегда, спорить, тот признался: "Я, если что и решаю, руководствуюсь одним: польза должна быть больше городу, чем просителям. Ибо они были — и нет их, а город остается". "В этом — он весь, — подумал Зимчук. — Трудно поднимать целину. Понтус не совершит таких ошибок, но зато никогда и не возьмется прокладывать первую борозду. И самое лучшее, на что способен, — разоблачать ошибки других. Вишь, как быстро отмежевался от Барушки, вроде и не протежировал ему раньше… Хотя при таких работниках, как Юркевич, нужен и Понтус. Дисциплинированный, выдержанный".
Зимчук решил было еще раз попросить слово, но собрался говорить Ковалевский.
Он был недоволен — вероятно разговором с Зориным. Его худощавое лицо порозовело. Прямые темные брови хмурились. Постучав по графину и подождав, пока Зорин вернулся на свое место, Ковалевский сделал сердитое движение рукой, в которой держал карандаш.
— Сперва о тебе, архитектор. Во всем, что говорили тут, много справедливого. Ты и город будто собираешься строить не для людей. Да и бороться за свое не умеешь. Хотя я согласен: восстанавливать — значит, делать так, чтобы восстановленное было и дальнейшим движением вперед. Но зачем же ломать стулья?..
На круглом столике зазвонил телефон-вертушка. Ковалевский, не поворачиваясь, снял трубку и, сказав "я слушаю", замолк. Узнать, кто говорит на другом конце провода, было трудно. Но по словам, которые можно было разобрать, Зимчук догадался — речь идет о главном архитекторе. Зимчук взглянул на него и пожалел. Тот сидел похудевший, с выражением обреченности в глазах.
— Товарищи, — положив трубку, сказал Ковалевский, — звонили из ЦК относительно взорванных коробок. Просили в связи с этим передать вам, что Союзное правительство запланировало нам два гиганта — автомобильный и тракторный. А это принципиально важно для судьбы столицы…
Оторопев, Василий Петрович недоуменно посмотрел по сторонам. "Михайлов, — мелькнуло в его мыслях, и он проглотил слезы. — Бесценный ты наш "Старик"…
Глава шестая
Зося ложилась в кровать, когда в окно постучали. Она тронула за плечо Алексея, но тот уже спал. Он ходил в Лошицу — на пригородную опытную станцию, к садоводу, бывшему подпольщику, за саженцами. Вернулся усталый и, едва положив башку на подушку, заснул как мертвый. Зося накинула на полуголые плечи платок и подошла к окну. За окном увидела незнакомую и также наспех одетую женщину, которая подавала нетерпеливые знаки. Вторая рама уже была выставлена, и встревоженная Зося распахнула окно.
— Вставайте, товарищи, вставайте! — возбужденно дыша, заговорила женщина.
— Что такое? Кто вы? — оробела Зося, с трудом узнавая дальнюю соседку.
— Война кончилась, Зося Тарасовна! По радио передавали. Вставайте! — Она притянула Зосину голову к себе, поцеловала и, легонько оттолкнув, скрылась в темноте.
Зося втянула в себя горячий воздух и обомлела, не веря услышанному. Нервный трепет, поднимающийся из глубины, по мере того как она осознавала новость, охватил ее. Она бросилась к кровати, слыша, как растет шум на улице.
— Леша, Леша! — принялась тормошить Зося мужа, который, одурев ото сна, никак не мог понять, чего от него хотят. — Да проснись же! Тетка Антя, вставайте и вы!
Алексей отвернулся, но затем все же сел.
За стеной зашлепала босыми ногами тетка Антя, закряхтел, вставая, Сымон.
— Чего тебе? — потягиваясь, промычал Алексей.
— Война, Леша, кончилась!
Больше Зося не могла произнести ни слова. Обессиленная, присела на край кровати и, жалко улыбаясь, заплакала.
Алексей вскочил, нашарил на стуле одежду и стал молча одеваться, с трудом попадая в рукава гимнастерки.
В комнату вошла Антя, за нею с коптилкой в руках — Сымон. Зося бросилась к тетке, повисла у нее на шее. Прикрывая огонек коптилки ладонью, Сымон отступил в сторону.
— Что у вас тут? — оглядел он всех растерянно.
— Война кончилась, дяденька. Тосиничиха только что передала, — откликнулась Зося, целуя Антю и все еще плача.
— Победа, значит? — Рука у старика дрогнула. Слабый язычок огня колыхнулся, замигал и погас.
В окно опять застучали.
— Знаем уже, знаем! Спасибо!.. — поблагодарила Зося.
Вдруг на дворе глухо грохнуло. Тоненько простонали стекла. Потом сразу же, будто совсем недалеко за окном, голубой луч полоснул небо. Светлый, ясный посредине и лиловый по краям, он затрепетал и стал подниматься. Это послужило как бы сигналом. Совсем недалеко наперегонки затрещали выстрелы: сухие, с присвистом — винтовочные, басовитые и короткие — из пистолетов.
— Правильно! — крикнул Алексей. — Эх, а мне не из чего!
Они выбежали на улицу и столпились у ворот.
За городом ухнула пушка — раз, второй, третий. Вспыхнули новые прожекторы и, перекрещиваясь, заскользили по небу, гася вокруг себя звезды. Следом за ними сыпанули синие, зеленые, красные, желтые звездочки — стреляли грассирующими из пулеметов.
— Я в школу сбегаю, — сказала Зося и, не обращая внимания на возражения, побежала по необычно освещенной улице, как раз туда, откуда слышалась самая сильная стрельба.
… Она вернулась, когда Алексей опять ложился в постель. Присев возле него, игнорируя, что он сердится, торопливо начала рассказывать о том, что узнала.
— Акт о безоговорочной капитуляции в три часа дня подписывали, а мы до сих пор ничего не знали. Вот как бывает!.. А в школе, если б ты видел? Все собрались — и учителя, и ученики… Целуются!.. Лочмелю, видно, жена вспомнилась — плакал. Не случись того, она ведь тоже у нас работала бы… А завтра, Леша, на демонстрацию надо идти. Понимаешь?..
Она начала успокаиваться, только когда услышала за стеною разговор Анти с Сымоном и догадалась — тут тоже все проведали.
— Так оно и должно быть — безоговорочно, — рассуждал Сымон, которому, было видно, нравилось последнее слово. — Сложи оружие, стань руки по шрам, склони голову и жди, что прикажут. Безоговорочно жди!
— С ними нельзя иначе, — кудахтала Антя. — Сколько человеческой крови пролили!
— Теперь усмирят их. Для того и без-о-го-во-роч-но, чтобы усмирить.
— Отходчивые наши-то, — вздохнула Антя.
Зося погладила Алексея по голове и положила руку на его лоб. Этой минуты она ждала давно.
— Ты веришь? — наклонилась она над мужем.
— А как же…
— Это же конец, Леша. Не будет разговоров — ранили, убили, взорвали, уничтожили… Перестанут похоронные идти. К детям отцы вернутся.
— А самая большая радость солдатам, — сказал Алексей, думая о своем. — Тяжело, верно, последнему было на смерть идти.
Зося поцеловала мужа, пригорюнилась, но сразу же ее лицо снова засветилось.
— Для сирот просто дворцы надо строить. Присматривать, ласкать…
Она почувствовала необыкновенную нежность к Алексею, к тетке Анте, Сымону, деловито, мирно беседовавшим за стеною, к тем, кто, не в силах успокоиться, все еще стрелял там, в ночи, и чьи голоса и смех слышались на улице.
— Я люблю тебя, Леша, крепко люблю, — не нашла она других слов, чтобы выразить то, что нарастало в ней.
— И правильно делаешь, — сонно похвалил ее Алексей. — Мы с тобою теперь заживем, Зось. Завтра впервой все ордена и медали надену. Посмотришь!..
Зосе вспомнилось, каким Алексей вернулся из больницы — кротким, послушным. Зимчук устроил его на работу в трест разборки и восстановления строительных материалов, и там ему поручили подобрать бригаду каменшиков. Алексей принялся за дело с расчетом. И вскоре, перетянув к себе Прибыткова, знаменитого каменщика и штукатура Сурмача, возглавил бригаду первоклассных мастеров. "Ни одного неумеки! — хвалился он Зосе. — Зарабатывать будем — во!.." И на самом деле, в первую же получку принес кругленькую сумму, талон на отрез драпа и долго советовался, сколько из заработанных денег можно выделить на дом.
Держа руку на его лбу, Зося притихла и отдалась думам. Она не услышала, как смолкли за стеною старики, не обиделась, уловив ровное дыхание уснувшего мужа. На сердце было легко, спокойно. И Зося просидела так, не двигаясь, почти до самого восхода солнца. Беспокоясь о погоде, она тихонько вышла на двор, постояла немного на крыльце, довольная вернулась в комнату, подошла к зеркалу и внимательно оглядела себя.
Лицо у нее было помятое, бледное, со впавшими щеками, от чего отчетливее на лбу и особенно над верхней губою проступали желтые пятна. Зося наклонилась ближе к зеркалу, потерла пальцами пятна, посмотрела на высокий живот и улыбнулась. Еще вчера она немало стеснялась этих пятен, своего живота и избегала лишний раз показываться за калиткой, а если и выходила на улицу, то словно невзначай прикрывала живот руками.
Три дня назад, все не осмеливаясь заходить с передней площадки, она с трудом втиснулась в вагон трамвая. Какой-то молодой человек, увидев ее, встал и уступил место. А Зося? Вспыхнув от стыда и обиды, отвернулась и долго не знала, куда девать глаза.
Глупенькая!..
Часов в десять, по-праздничному одетые, они вышли из дому и, радуясь многолюдности улиц, сразу попали в поток, который тек к центру. Их обгоняли девушки, подростки, мальчишки. Проезжали грузовики, переполненные людьми. Ехали конные милиционеры.
Алексей торжественно вел Зосю под руку, а она шла независимо, гордо, как не ходила уже давно. Как-то подсознательно чувствовала: сегодня, неуклюжая, с подурневшим лицом, она имеет право на радость, может быть, больше, чем кто-либо другой.
Площадь Свободы кипела людьми. Сквер украшали громадные панно с батальными сценами. Вдоль ограды были установлены портреты маршалов, на высоких древках трепетали узкие, но почти на всю длину древка флажки. Разделившись на два потока — по Ленинской и Интернациональной улицам, — в направлении к Дому правительства двигались колонны демонстрантов. Над ними колыхались знамена, букеты черемухи, тополевые ветки. Огненно поблескивали трубы оркестра. Торжественный марш сливался с песнями. И эта сумятица звуков волновала Зосю, пожалуй, больше всего.
Теперь уж можно было идти только как все — не обгоняя и не отставая.
Но Алексею и Зосе все же удалось попасть к Дому правительства, где собирался митинг.
Здесь Зося не была давно, и знакомое серо-голубое здание показалось ей по-новому красивым. Опершись на плечо Алексея, она стала на камень, оказавшийся под ногами, и огляделась. Увидела учителей из своей школы и… монумент Ленина.
— Леша, смотри! — вскрикнула она от удивления.
Вокруг колыхалось шумное людское море, и Зосин голос утонул в нем. Но, видимо, в этот необыкновенный день люди ждали чего-то особенного, и ее услышали.
— Что там такое? — откликнулось сразу несколько голосов.
Зося знала — надо успокоиться, и все же никак не могла овладеть собою. Все ее умиляло и волновало — песни, знамена, солнце, люди и больше всего этот монумент, знакомый давно-давно.
Ленин стоял на пьедестале-трибуне, взявшись руками за ее край. Он, казалось, только что взошел туда и оглядывал людей, собравшихся на митинг, слушал их возгласы. Мысль, которую он хотел передать, уже озарила его лицо.
— Когда это, Исаак Яковлевич? — вытирая слезы о рукав Алексеевой гимнастерки, спросила Зося у Лочмеля, который протолкался к ним.
— Формы в Ленинграде сохранились, вот и отлили, — сказал тот, стесняясь, что у него тоже увлажняются глаза.
Люди подались вперед. Алексей стал сзади Зоси и обнял за талию.
На балконе Дома правительства в больших стеклянных дверях появились военные и штатские. В репродукторах, установленных на крышах правого и левого крыла, со звоном щелкнуло и загудело. Толпа стала утихать, и в тишине ритмично застрекотали камеры кинооператоров.
— Товарищи! — гулко разнеслось по площади и, долетев до задымленных коробок Университетского городка, вернулось обратно: — Товарищи! То-варищи!..
Редко получается так, как бы тебе хотелось, как ты представлял это заранее. Но Зося не желала сейчас ничего большего. Живя минутою, она радовалась за себя, за Алексея, за дитя, которое скоро увидит свет, за всех, кому этот день возвращал желанное.
— …Великая победа одержана, — неслось из репродукторов, и жесты Ковалевского там, на балконе, несколько опережали его слова. — Безоговорочная капитуляция — вот позорный конец нашего врага. В веках останется этот день!
— Я около Ботанического живу. Там тоже митинг был, — не удержался Лочмель, повернувшись к Зосе. — Решили в секторе местной флоры аллею Победы из белорусских елок высадить.
— Мы тоже свое высадим, — сказал Алексей, сжимая Зосю. — Видишь, как получается… А? — И нетерпеливо затопал на месте, увлеченный неожиданной мыслью.
— Ш-ш-ш-ш! — послышалось с разных сторон.
— А я из школы ухожу, Зося Тарасовна, — послушно приглушил голос Лочмель.
— Куда? Зачем? — слушая его и оратора одновременно и как-то медленно осознавая новость, спросила Зося.
— Не могу больше… Попробую в газете работать… Мира, оказывается, в нашей школе практику до войны проходила… Так что, может, не скоро встретимся. Вот и хочу проститься с вами, поблагодарить…
— Есть за что.
— Есть, есть, Зося Тарасовна. Я ведь о многом догадываюсь. Думаете, часто такое встречается? Любят еще некоторые презирать других…
— А мы как без вас?
— Очень просто. Не будет кому скуку наводить… Ехал я сюда на трамвае. Рядом женщина сидела. Простоволосая, несчастная. День Победы, говорит. Все под ручку идут. А я с кем пойду? Мне тоже не с кем идти, Зося Тарасовна… Да еще и хуже того…
— За труд, товарищи! — помноженные эхом, разносились по площади слова Ковалевского. — Помните — с нами братья! С победой, товарищи!
— Слышишь, а? — зашептал Алексей, склонившись к Зосиному уху и косясь на Лочмеля. — А ты говоришь — рано!..
И когда митинг окончился, он, осторожно ведя Зосю, заслоняя ее собой, только и рассуждал что об услышанном. Тут и там, прямо на улице, люди водили хороводы, танцевали, а он все доказывал — сад необходимо посадить только сегодня, тем более что ямы подготовлены, припасены колышки и чернозем.
При входе в Театральный сквер они увидели среди танцующих Алешку с Валей. Алешка по-молодецки притопывал и, прижимая к себе раскрасневшуюся Валю, ухарски, напропалую кружил ее.
— Поздороваются, Леша, или сделают вид, что не заметили? — виновато спросила Зося.
— Как хотят себе. Я ему не делал гадостей и не собираюсь. А коли сердится, то пускай.
— Больше жизни, братья-славяне!.. В круг! Полька слева! — подал Алешка команду, когда Алексей и Зося поравнялись с танцующими, и вдруг, остановившись, отколол: — Да здравствуют славные партизаны "Штурма"! Ура-а, братья-славяне!
— Шалопут, — улыбнулся Алексей и, отойдя, опять заговорил о своем.
Зося слушала его и никак не могла понять, радоваться ли ей или печалиться.
Нет, скорей всего надо было радоваться.
Сымон встретил их возле калитки с молотком в руке.
— Ну как? — спросил он, глядя на самодельный флаг, развевавшийся над воротами. — Моей домашней милиции не видели там? Беда просто…
Его словам не хватало определенности. "Ну как?" — к чему это относится: к митингу или к флагу? "Беда просто" — о чем это?
— Сами сшили? — показала Зося на флаг.
— А ты думаешь, меня только глина слушается? Правда, привык мало-мало мужчиною быть, ничего не скажешь. Но все же… Вот они, видишь? — Он протянул Зосе руки с припухшими в суставах, корявыми пальцами.
— С кем это вы уже успели? — догадалась, в чем дело, Зося.
Сымон покрутил головою и засмеялся. И по тому, как весело и сокрушенно покрутил он головой, как глуповато смеялся, стало видно: старик выпил.
— Только что Зимчук заезжал, — сказал он, оправдываясь. — Приглашал вечером к себе.
Алексей не поверил, заставил Сымона повторить и заторопился.
Сажать сад пошли втроем, не дождавшись тетки Анти. Ключ от дома положили в условленное место, под крыльцо.
Жара не спала и после полудня. Над головой не было ни облачка. Они белели только над самым горизонтом. Но это была майская жара, да и от речки веяло свежестью, и за работу принялись охотно.
Алексей старался делать все сам, а Зосе разрешал только держать саженцы, когда закапывал ямы, и привязывать их к колышкам. На него было приятно смотреть. Он ловко орудовал лопатою, с нежной бережливостью брал саженцы, мочил корни в глиняной жиже и осторожно опускал деревце в яму. Выверив ряд, руками присыпал корни землею и снова брался за лопату. Потом хватал ведро и бежал к речке.
— Это бэра. Слуцкая, — объяснял он Зосе, поливая посаженную грушку и считая ее уже деревом. — В тридцать девятом и сороковом их тьма намертво вымерзла. Теперь ее даже на Слутчине редко встретишь. А у нас их три. Душистые, сладкие, даже есть нельзя…
— Коли нельзя есть. — сказал Сымон, — зачем же они тогда, Лексей?
— Нехай растут. Может, как-нибудь и съедим.
— Бэра — это в самом деле вкусно! — согласился Сымон. — На весь свет груша. Потом и мне дашь…
И тут произошло неожиданное.
Слетав за последним саженцем, — Алексей приносил их по одному, чтобы солнце не сушило корней, — он стал перемешивать глиняную жижу, которая быстро отстаивалась. А когда перемешал и наклонился за саженцем, даже содрогнулся. На саженце стояла Зосина нога. Наступив на узловатый сросток, который связывал бывший дичок с черенком слуцкой бэры, нога спокойно стояла, придавив его к земле. Сросток треснул и, казалось, молил о спасении.
— Ты что, ошалела?! — завопил Алексей, не помня себя.
Зося вздрогнула и, не понимая причины этого истошного крика, растерянно замигала, будто на нее замахнулись и хотели ударить.
— Посмотри, что ты наделала! — схватился он за голову. — Растяпа несчастная!
С искаженным от гнева лицом он поднял деревце с земли, сел на краю ямки, замазал надлом глиною, вынул из кармана носовой платок, демонстративно располосовал его и забинтовал поврежденное место.
— Твое счастье, что так, — выдавил он, — а то мало не было б… Тебе это легко дается…
— Нет, ты сначала скажи, что было б? Ударил бы, может? — чувствуя, как тяжелеют ноги, спросила Зося.
Злость у Алексея спадала — саженец приживется, — но потребность высказать все, что мутью осело на душе, оставалась.
— Ты как чужая, — упрекнул он уныло. — Тебя ничего не трогает, вроде я один должен из кожи лезть.
— Да будь эта бэра золотая, я и то не кричала бы на тебя так. Разве я нарочно — взяла и наступила?
Подошел Сымон и, словно прося прощения, посмотрел сначала на Алексея, потом на Зосю. Его взгляд немного охладил Алексея, но все же не удержал от ответа:
— Куда нам с суконным рылом… Может, кто из деликатнейших на примете есть? Не назад ли к Кравцу потянуло?
— Совестно так говорить, Лексей. Такой ведь день! — заступился старик.
Зося опустила голову и побрела к речке.
Берег начинал зеленеть. Кое-где зацветала калужница. Ее желто-золотистые цветы напоминали мотыльков, которые, усевшись на стебли, трепетали крылышками. Речка текла стремительно, поблескивая на солнце. На противоположном берегу собирались купаться мальчишки.
По шагам, а потом по дыханию Зося узнала, что к ней идет Алексей. Он остановился сзади, и она поняла — раскаивается и боится, что хватил через край.
"Думает, откажусь идти к Зимчукам, — догадалась она. — Ну погоди тогда, ты у меня еще поклянчишь".
Жизнь остается жизнью. К Зимчуку они пришли наполовину примиренные, но в том настороженном настроении, когда один опасается другого. В передней их встретила жена Ивана Матвеевича — седая строгая женщина, в простом темном платье, с гладкой, на прямой пробор, как у Зоси, прической. Она, наверное, знала их по рассказам мужа, потому что поздоровалась, как со знакомыми, помогла Зосе снять пальто и повела в столовую.
Уже в передней Алексей почувствовал себя неловко. В глаза бросились нелепый вихор на голове у Сымона и пудра, выступившая на лбу и над верхней губою у Зоси. Он не решился предупредить их и вошел в столовую, стараясь быть веселым и свободным в движениях. Но, увидев Юркевича, сидевшего на диване и разговаривавшего с Валей, надулся и кивнул головою, ни на кого не глядя.
Зимчук тоже при всех регалиях, в своей военного покроя гимнастерке, в галифе стоял у буфетика и колдовал над графином — лил в него из стакана воду, взбалтывал, смотрел на свет.
— Садись, Алексей, садитесь, дядя Сымон, и ты, Зося, — пригласил он и понес графин на стол, — марочных нет пока. Хлопцы вот девяностоградусного зелья прислали. Не забывают, черти! А тетка Антя где же?
— Дома осталась, — ответила Зося и переглянулась с Сымоном. — У нее все страхи…
Стол был уже накрыт, на нем стояли холодные закуски, батарея пивных бутылок под салфеткою, тарелки с приборами, стопки и маленькие рюмки. Алексей, гремя орденами и медалями, неловко опустился на стул возле фикуса и словно одеревенел, чувствуя собственную неуклюжесть. На лицо набежала бессмысленная улыбка, глаза льстиво заискрились. Не сводя взгляда с Зимчука, он стал думать, что бы ему такое сказать, и не мог придумать.
— Ну, как работа? — спросил у него Зимчук, чтобы Алексей освоился. — Я слышал, что наши строители собираются со сталинградскими соревноваться.
— Работа, Иван Матвеевич, ничего. Уже завистники есть. Говорят, хорошо нам, если в бригаде все как один наметанные. Попробуй угоди.
— Ты, видно, в самом деле всю сметанку сгреб? Да и помогли, наверное?
— Кто себе враг. Работать — не в бирюльки играть. На лихо они, неумеки! — признался Алексей и даже вспотел: ляпнул не совсем то, что нужно.
Зато Сымон сразу почувствовал себя как рыба в воде: стал помогать хозяину, потом куда-то исчез и вскоре вернулся с миской квашеной капусты. Зося подсела к Вале, но в столовой появилась Олечка, и Зося, подозвав ее к себе, отошла в угол к пальме.
— Мы тут заспорили, Иван Матвеевич, — громко проговорил Василий Петрович. — Я вот утверждаю, что теперь можно жить только с далеким прицелом. Победа увеличивает ответственность перед потомками. Слово и дело каждый должен ставить на их суд: что скажут они!
— А мне кажется, я тоже потомок, хотя и не очень далекий, — перебила его Валя.
— В войну была одна цель — разбить врага. Она заслоняла все, потому что надо было защищать право на жизнь. А теперь… Говорят, победителей не судят; современники, возможно, и нет, но потомки будут к нам требовательны вдвойне!
С улицы долетали хай, смех. Кто-то горланил песню. Кто-то наяривал на гармони. Ей вторил бубен. "Вон та звезда, Маня! — восторженно под самым окном сказал тот, кто пел. — Она меняет цвет. Красная, зеленая, оранжевая. Видишь!" Потом слова потонули в смехе, переборах гармоники. Чистые, сильные, они, как волны, ударялись о стекла и словно откатывались от них. И потому казалось, что там, за окном, плещется море.
Прислушиваясь к веселому хаосу звуков, Валя запротестовала:
— Это не жизнь, а служение. Зачем мне пугать и подгонять себя каким-то судом, если я и так знаю, что ни в чем не виновата? Даже если кому в голову и взбредет обвинять… я в разрушенном городе зданий не взрывала.
— Так его! Получил? — осведомился Зимчук, не уловив чего-то скрытого в Валиных словах. — И, по-моему, коль уж служить, так служить сначала тому, что есть.
— Стране, какая есть, людям, какие есть. Да и судят пусть уж они.
— И не только на словах… — добавила Валя.
Переливы гармоники отдалились. На минуту стихли смех и восклицания. Донесся и растаял цокот копыт — кто-то проскакал верхом. И опять новая волна звуков ударилась в стекла.
Не обращая внимания на то, что происходит на улице, Василий Петрович возразил:
— Ну, извините! Это не просто суд. А суд, который подсказывает, за что надо стоять и что отрицать. С его подмостков лучше все видно. Иногда помогают не так люди, как время.
Человек дела, Алексей вообще недоверчиво и враждебно относился к отвлеченным спорам. Рассуждения же Юркевича, которого он возненавидел душой, вызывали в нем физическое отвращение.
— Потомки — это дети, — сказал он, опять-таки краснея до пота. — Почему же вы тогда хотели отобрать у моего ребенка даже пристанище? А?
— Почему? — немного изменился в лице Василий Петрович. — Да потому, чтобы у него было лучшее наследство. Чтобы не было оснований упрекать нас.
— Ладно. А почему же тогда не по-вашему вышло?
— Это отдушина, Урбанович. Временная отдушина для наденщины, которая напирает. И если не дать ей выхода, она неизвестно что может натворить. А если ей дать полную волю, она натворит еще больше.
— Ты тут, Лексей, уважая этот дом, не докажешь ничего, хотя правда и твоя будет, — сказал Симон тоном, каким упрекают за наивную доверчивость. — Видишь, товарищ нас одними завтраками собирается кормить.
— Я тоже хочу спросить, — подала из угла голос Зося, прижав к себе Олечку. — За кого вы принимаете нас, Василий Петрович?
— Всыпь ему как полагается! — весело поддержал ее Зимчук, хоть ему как хозяину надо было следить, чтоб атмосфера не шибко накалялась. — И спроси еще, за кого он себя принимает.
— Нам — отдушина, а потомкам — все! Вы же обижаете и потомков и нас.
— За кого я принимаю себя? Скажу, — стал отвечать Василии Петрович сначала Зимчуку. — Город — существо немое, безъязыкое. Но существо! Его кроят, режут и часто стараются полоснуть по живому. А он не может ни сказать, ни пожаловаться. Жизнь, ведомства наступают на него. И у всех одна песня; "Если можно участочек, то дайте поближе. Если возможно, то там, где невозможно…" И вот стоишь и принимаешь его боль на себя. И кричишь вместо него и защищаешься, чтобы не доконали…
— За стол, товарищи, — пригласила хозяйка и осторожно дотронулась до локтя Василия Петровича. И по ее бережному прикосновению стало видно, что она сочувствует ему.
Сели за стол, заработали вилками и ножами. Зимчук как хозяин стал наливать по первой чарке.
— Мне лучше сразу, в стакан, — попросил Алексей. — Не могу повторять. И, коли можно, воды запить.
— За победу! — высоко поднял рюмку Зимчук, поблескивая на всех помолодевшими глазами.
Алексей дотянулся стаканом до его рюмки, чокнулся, выпил залпом, не переводя дыхания, запил водою и наугад ткнул вилкой в тарелку. Теплота стала медленно разливаться по телу, а потом мягко ударила в башку. Что-то отгородило его от окружающего, и он, как из укрытия, жуя, стал наблюдать за остальными с ощущением, что его самого никто не видит.
Валя, точно кому-то назло, была оживленной. Поднимая то на одного, то на другого лучистые глаза, охотно кивала головою, смеялась, но говорила мало и не всегда впопад. Василий же Петрович, наоборот, ловко орудуя вилкой и ножом, успевал делать несколько дел одновременно — соглашаться с Зимчуком, старательно намазывать горчицу на мясо и упрекать Валю в рассеянности. Сымон, как и всегда, охмелев от первой чарки, гладил бороду и начинал философствовать.
— Вот, вы говорите, коньяк, — обращался он к Зимчуку. — Ведомо, неплохая штука. Хорошая, можно сказать. Но за такие гроши каждый будет хороший. Выкачается, выполощется в бочке да в море, как на ку-рор-тах! А водка, она свою крепость из хлеба набирает. Она от природы такая.
— Пить конь-як или пить, як конь [2], что-либо другое, — смеялся Зимчук, — одна холера, дядька Сымон!
Зося отвела Олечку спать, потом вернулась и сидела молчаливая, погруженная в себя. Она только чокалась и пригубляла рюмку, но не пила. И все старались чокнуться с Зосей. Хозяйка несколько раз подходила к ней и шепотом, с улыбкой говорила что-то свое.
Немного удивленный, что его бывший комиссар пьет как все и как все находит удовольствие в застолице, Алексей попытался осмыслить это, но не мог. Захотелось пошутить, но это желание, не успев укрепиться, тут же пропало. Да и вообще Алексею не удавалось сосредоточиться на чем-либо одном. Его радовали Зимчук и Сымон, не нравилось, что Зося сидит между ним и Юркевичем, смущала хозяйка, ни разу не взглянувшая на него, росла симпатия к Вале. Той, прежней, с орденскими планками на груди. И от всего этого хотелось излить душу.
— Давайте споем, товарищи партизаны! — предложил наконец он, то ли охваченный воспоминаниями, то ли надеясь, что песня подскажет, чего никак не найти самому.
Ему нельзя было возражать, и, привычно откинув голову, Валя запела:
Это было как раз то, чего хотелось. Алексей взмахнул рукой и подхватил:
Хорошее, близкое наплыло на сердце. Он нахмурился, чтобы не выдать своего волнения, и взглянул на Зосю. Она поняла его взгляд как просьбу и, хотя чувствовала ее б я неважно — только что напомнил о себе ребенок, — вскинула брови и тоже запела.
Не зная слов, не пел только Василий Петрович. Он слушал песню, завидовал поющим и с грустью думал, что нельзя ему жить без них, никак нельзя.
Боли начались неожиданно.
Зося кончала стирать белье. Склонившись над деревянными ночвами, стоящими на табуретке в тени сиреневого куста, она стала подсинивать воду, и вдруг в глазах у нее потемнело. Весенний день погас, куда-то пропали звуки. Она бросила тряпочку с синькою и схватилась за живот. Не имея сил выпрямиться, едва добралась до скамейки под окном своей комнаты и села.
Сперва она даже не подумала, что с ней, а только испугалась. Да и, готовя себя к ожидаемому дню, Зося не представляла, как это все будет.
Но боли стали утихать. Вернулось ощущение теплоты, света. Удивленная, Зося даже оглянулась. Быстренько встав, одернула передник и, словно ничего не было, вернулась к ночвам. От тряпочки с синькою в воде расходились синие пряди. Это напомнило о прежних заботах. Да и Алексей обещал прийти сегодня раньше, чтобы вместе сходить к знакомому, который ведает стеклом. "Как увидит тебя — враз помягчеет…" — с надеждой похвалил он.
С чувством облегчения, возникающим к концу работы, она опустила в подсиненную воду любимую кофточку — с черным бантиком у воротничка, с пышными буфами на рукавах, — ловко выжала ее и, встряхнув, положила в таз. Пожалела, что не удастся надеть ее, когда пойдут к Зимчуку. С крепдешиновой расклешенной юбкой кофточка была ей очень к лицу, и, как однажды сказала Валя, в этом наряде Зося напоминает Алоизу Пашкевич…
На крыльцо с мотком веревки вышла тетка Антя.
— Денек, ай да денек! — радостно проговорила она. — Тебя, Зоська, любят еще хлопцы.
— Почему? — словно не поняла Зося.
— Такая погода на белье… ай-ай! Не успеешь оглянуться, как высохнет.
— Мне, тетенька, теперь никто не нужен. Даже и тех, кто любил когда-то, вроде как и не было вовсе…
Они натянули веревку от сарая к крыльцу и начали развешивать белье. Зосе нравилось это занятие. Белье было влажное, холодноватое. Когда Зося, встряхнув, вешала его на веревку, лицо обдавало свежестью. Даже было приятно брать его в руки и смотреть на него — белоснежное, подсиненное.
И вдруг Зося снова согнулась от нестерпимых корчей, застонала и оперлась о стену, боясь пошевельнуться. Занятая своим делом, Антя — она вешала остаток белья прямо на кусты шиповника и сирени — не заметила этого сразу. А заметив, всплеснула руками и подбежала к племяннице.
— Что с тобой? Ай-ай!
— Боли-ит…
Старуха обняла ее и хотела было повести в дом, но Зося отрицательно покачала головой и тяжело, порывисто задышала.
— Не на-а-до… — попросила она. — Сейчас пройдет.
— Спина болит, а? Болит спина? — сердито и таинственно зашептала Антя.
— Не-ет.
— Вот тут, у поясницы? Или немного повыше, вот тут?
— Нет, тетенька, — желая только одного, чтобы оставили ее в покое, ответила Зося.
— Ну и хорошо. Тогда что-то другое, значит. Не бережешься, глупая! Придет Алексей — я ему голову откручу. Пойдем в дом, полежи хоть немного.
Не раздеваясь, Зося прилегла на кровать и попыталась превозмочь боль. Но боль была такая, что лишала и силы и воли. Когда же терпеть стало невмоготу и Зося, боясь, что закричит, закусила зубами наволочку, неожиданно, как и в первый раз, полегчало.
Тетка Антя, заметив это, заставила Зосю встать, постлала постель и приказала ложиться. И хотя к Зосе возвращалась прежняя уверенность, что все это так себе, она послушалась.
Прислушиваясь к ровному, приятному шипению примуса — Антя подогревала воду для грелки, — Зося мысленно искала причину происшедшего. И чем больше думала, тем более тревожно становилось на сердце: вероятно, все же это было оно!
В окно заглядывали ветки сирени. Сирень цвела, пышные белые гроздья будто мерцали, сгибаясь от собственной тяжести. Зося смотрела в окно, и ей казалось, что они обо всем догадываются и сочувственно приветствуют ее. Зосе захотелось выплакаться.
Скоро она станет матерью. Когда? Завтра, послезавтра, а возможно и через неделю, так говорят врачи. Что-то безвозвратно уйдет от нее. Она и замужем до беременности ощущала себя девушкой и не теряла чувства девичьей свободы. А вот вскоре этому, вероятно, навсегда придет конец. Но сожаления не было, ощущение потери тонуло в бурном, хотя и неясном, чувстве — она станет матерью, у нее будет ребенок! Что-то совсем новое войдет в ее жизнь. Такое важное, что даже при мысли об этом становится страшно.
Ребенок!.. Страдания только увеличивают любовь, связывают с сердцем. Это ее частичка, частичка крови, души. Это она сама. Говорят, если во время пожара будущая мать испугается и дотронется, скажем, до лица, у ребенка на лице будет родимое пятно. И пусть это предрассудки, в них есть та правда, что мать и дитя, — одно. Но в ребенке будет жить не только она, в его глазах будет светиться свет Алексеевых глаз. И потому ребенок для нее уже теперь дороже собственной жизни.
Когда ребенок пойдет в школу, Зося возьмется вести первый класс. Она сама будет учить ребенка и воспитает из него счастливого человека.
И вдруг Зосе сделалось страшно. Сердцу стало тесно в груди. А что, если она не выдержит и умрет в страданиях? В свои-то двадцать три года, не нарадовавшись жизнью!.. Что она из-за войны видела?
— Тетенька… — позвала она, едва шевеля губами.
Алексей пришел усталый, с трудом передвигая ноги.
Увидев, что Зося лежит в кровати, бросился к ней, опрокидывая стулья.
От него пахло кирпичом, раствором. Зосе захотелось, чтобы он был ближе к ней: рядом с ним не будет страшно.
— Поцелуй меня, — попросила она. — Что у тебя нового?
Он не догадался, что Зося спросила об этом, желая предупредить его вопросы, и с благодарностью провел ладонью по ее руке. Его все-таки смущало, что жена заговорила с ним так, словно что-то извиняла, смущали ее прозрачные, окаймленные синими кругами глаза и просветленное от страданий лицо.
— Кончил, — сказал он виновато. — Положил последнюю черепицу. Стоит уже будто готовый, только без трубы и окон…
— А на стройке как?
— Тоже вкалываем. Обещают, ежели оправдаем доверие и других обставим, еще больше озолотить… А работы около дома еще по горло…
Сначала он говорил просто, лишь бы ответить, пытливо поглядывая на нее, потом увлекся, стал доказывать, что стекло так или иначе достанет и, чем черный не шутит, к осени они смогут справить новоселье.
— Ты, Алеша, может, сходил бы и снял белье, — сказала недовольная Антя, стоя в дверях комнаты.
Алексей послушно вышел и, вернувшись с целой охапкой, свалил белье прямо на стол и простодушно удивился:
— И откуда столько набралось? Кажись, не было чего…
Мало-помалу стемнело.
Зося чувствовала себя неплохо, но вся была в ожидании. Она лежала и безучастно слушала, о чем рассказывает Алексей. Иногда в ней рос протест против его слов, далеких от того, что переполняло ее, против его спокойного тона, но и тогда Зося сдерживалась и только отводила взгляд к стене. Но когда боль в третий раз насквозь пронизала ее, она не выдержала. С отчаянием, даже с отвращением, что-то оттолкнув от себя, села.
В голове мутилось. Опять промелькнула мысль о смерти. Сердитые, затуманенные глаза округлились, лицо искривила гримаса, и она закричала.
Это было так неожиданно, что Алексей вконец оробел. Тетка Антя всплеснула руками, но моментально начала распоряжаться.
— Чего ты сидишь? Беги машину ищи! — набросилась она на Алексея. — А ты, Зосечка, не стыдись, громче кричи. Так легче… Сымон! — крикнула она за стену. — Выйди и ты из дома! Тебе тоже тут нечего делать!
Алексей выбежал на улицу, кинулся в одну сторону, в другую, но, услышав, что кто-то вышел за ним и, может быть, хочет что-то сказать, вернулся к калитке.
Это был Сымон.
— Ты не бойся, Лексей, — произнес он не совсем уверенно, — дело житейское ведь…
Но, мягкий и чуткий по натуре, он волновался сам, никак не мог свернуть цигарку и тут же ушел к соседям.
Улица одним концом упиралась в Сторожевское кладбище, а другим спускалась к речке, за которой распростерлись так называемые Татарские огороды и днем виднелись мечеть и уцелевшие домики Татарского конца, размещенного на склоне горы. Теперь в домиках горели огни, и создавалось впечатление, будто светятся окна больших, многоэтажных домов. Но Алексей не замечал ни этих огней, ни этой иллюзии. Он был точно в лихорадке.
Из дома долетел приглушенный Зосин стон. Алексей глянул на окно своей комнаты и заметался в безысходной нерешительности: он ничем не мог помочь Зосе. Ничем — ни уберечь ее от опасности, ни принять ее страдания на себя. Было страшно и оставить ее одну.
Озираясь, он все же побежал к перекрестку и, когда из-за поворота блеснули фары, поднял руку. Но его словно не заметили.
Автомашины — чаще всего грузовики — шли редко. Фонарей поблизости не было, и вокруг царили тьма и безлюдье. Боясь подумать, что там с Зосей, Алексей раскорякой встал посреди перекрестка. Однако машины — все до одной — видимо, принимая за пьяного, объезжали его.
Минут через двадцать легкий "козелок" тоже шарахнулся в сторону, но все же затормозил. Обрадованный Алексей, на бегу вынимая из кармана деньги, бросился к нему. Сейчас Зосины страдания кончатся: он почему-то был уверен, что, как только Зося попадет в больницу, она сразу же перестанет мучиться и все будет хорошо.
— На полчасика, браток! — крикнул он шоферу и протянул скомканные деньги. — Только духом, ради бога!
Шофер смутился и показал кивком головы на заднее сиденье.
Алексей заметил в "козелке" второго человека и узнал его. Это был главный архитектор. Он, кажется, улыбался и протягивал руку.
Алексей отступил и торопливо спрятал деньги в карман брюк.
— Что с вами, Урбанович? — спросил Василий Петрович, начиная понимать, что перед ним взволнованный человек.
— Ничего… — пробормотал тот, уверенный, что опять все пропало.
— Глупости, — рассердился Василий Петрович. — Если случилось что серьезное, говорите… — Его самого тяготили чужие нотации, сам он тоже терпеть не мог читать их, но тут не сдержался. — А относительно своей обиды запомните — вы лишь с собой хотите считаться. А так нельзя… И спасибо скажите, что война шла…
— Но я, по крайней мере, другим жизнь не портил и не порчу.
— Как сказать.
— Точно! — зло передернулся Алексей и хотел отойти, но превозмог себя и открылся: — Зося там умирает!
Василий Петрович отшатнулся, потом схватил Алексея за руку и, не мешкая, потянул в машину.
— Направо! — приказал он шоферу.
Зося металась в кровати, измученная, простоволосая. Глаза ее лихорадочно горели. Но она ничего не видела перед собой, ничего не слышала.
— Машину вот привел, — неуверенно сообщил Алексей, остановившись у порога.
— Уже не надо, — замахала на него Антя. — Иди отсюда, иди!
— Не прогоняйте, тетя! Не могу я! Она же умрет тут без меня.
— Иди, говорят тебе!!
Алексей вышел во двор и подошел к "козелку".
— Уже не надо, — повторил он слова Анти, почти забыв, что в "козелке" сидит Юркевич.
Обессиленный, опустошенный, он начал мыкаться от калитки к крыльцу, прислушиваясь к Зосиным стонам и вздыхая; когда же до него вдруг долетел — поднялся, удерживаясь на высокой ноте, и оборвался — пронзительный крик, Алексей кинулся в дом. Подбежал к двери комнаты, схватился за ручку, но только припал к ней лбом и стоял так, пока в страшной тишине не послышалось настойчивое: "Гуа-гуа!" Тут что-то оборвалось в его груди, и он застонал.
— Не канючь там, не млей, — услышал он, как сквозь туман, голос тетки Анти. — Заходи вот…
Алексей приоткрыл дверь и заглянул в комнату. Первое, что он увидел, было Зосино лицо. Она лежала теперь с откинутой головой. На подушке рассыпались ее темные волосы, и в их обрамлении бледное, с запавшими глазами лицо словно светилось. Зося не улыбалась. Лицо было застывшее, но светилось тихой, стоящей всех страданий на свете радостью.
Потом Алексей увидел ребенка — маленького, розового, чем-то недовольного. Его умело и бережно держала на руках Антя. Ребенок кривился, плакал, а старуха прижимала его к себе.
— Кто? — тихо спросил Алексей. — Сын?
— Нет, Лешенька, минчанка… В сорочке родилась…
Книга вторая
Тяжелые знамена
ИСТОРИЯ не особенно щедро раздает славу городам.
К Минску же она долго была совсем скупою. На ее пожелтевших страницах он вспоминался чаще всего, когда его жгли, брали в плен, когда в нем лютовали несчастья — моровая язва, холера, голод, пожары.
Возникший на перекрестке торговых дорог, он когда-то шумел народными восстаниями, ярмарками, славился изделиями кустарей-умельцев. Через него в остзейские и прусские порты шли зерно, лен, пенька, шерсть, кожи, смола, лес. Но эта слава тонула в дыме пожаров, в опустошительных княжеских междоусобицах, в битвах с татарскими полчищами Кайдана, Менгли-Гирея, в кровопролитных стычках с немецкими псами-рыцарями, польской шляхтой, шведами, Наполеоном. Тут скрещивались дороги и мечи. Тут скрещивались веры. Из черного Ватикана через Польшу и Литву надвигалась напасть католицизма. Тут сталкивался Запад с Востоком и неизменно отступал, оставляя как память о себе пепелища, развалины замков и воздвигнутые костелы, иезуитские, доминиканские монастыри.
И все-таки, невзирая на это, история упорно не давала городу эпопеи, которая осветила бы его дальнейшее существование, сделала бы народной святыней. Он поднимался из руин словно для того, чтобы снова превратиться в руины.
В годы первой мировой войны Минск стал прифронтовым городом. Солдаты, толпы беженцев, бесконечные воинские обозы наводнили его. Ночами, а то и днем на площадях и улицах горели костры. Возле них толпились и сидели люди в серых, точно изжеванных шинелях, в лохмотьях и в домотканых свитках. У костров на соломе и на земле лежали больные дети. Специальные команды подбирали на улицах трупы. Город приходил в упадок. И потому тут, наверно, больше, чем где-либо, рос и созревал справедливый народный гнев, который и взорвался в грозовом семнадцатом.
И вот свершилось! Минск стал в ряды самых революционных городов этой эпохи. Советская власть в нем была объявлена в тот же седьмой день ноября, что и в Петрограде. Он стал сердцем Белоруссии, ее первой и вечной столицей. Строились заводы, больницы, институты. И не просто больницы, а Клинический городок, и не просто институты, а Университетский городок…
Новая слава осенила город в дни Великой Отечественной войны.
Борьба минских подпольщиков и партизан против новых захватчиков впитала в себя и самопожертвование предков, которые посчитали лучшим сжечь свой город, чем покинуть его шведам на поругание, и партизанскую сноровку, удаль прадедов, что громили интендантские склады, обозы и части наполеоновской армии, и опыт конспираторов — участников Первого съезда РСДРП, когда-то проходившего здесь, и гордую решимость рабочих, которые в бурный девятьсот пятый пошли на строй ощетинившихся штыков, чтобы заявить о своем праве на свободу. Их борьба впитала в себя организованность октябрьских боев, волю и мудрость тех, кто защитил Октябрь, и потому стала непримиримой, победной. Этот подвиг, озарив прошлое и будущее города, принес ему всеобщее уважение и любовь.
Вот почему, поднимая из пепла один из старейших и в то же время самый молодой город Белоруссии, приходилось возрождать его таким, чтобы он был достоин своей эпопеи.
А людям?..
Часть третья
Глава первая
Как обычно, рабочий день начался с телефонных звонков. Звонили наперебой — из строительных организаций, архитектурно-планировочных мастерских, министерств. Это наваждение звонков подгоняло, навязывало свой ритм.
Строгого порядка в кабинете не было. Столы — одни письменный, с мраморным прибором и мраморном лампой, и другой, узкий, длинный, накрытый зеленым сукном, поставленный впритык к письменному, — были завалены папками, свитками ватмана. Прямо на полу, у стен, в рамках стояли проекты зданий и архитектурных деталей, на кожаном диване — макет первой очереди проспекта.
На душе у Василия Петровича было неспокойно. Он выслушивал телефонные просьбы, молча подписывал или отодвигал от себя бумаги, принесенные сотрудниками, а предчувствие какой-то неприятности, может быть, даже беды, не проходило.
— Что? — спрашивал он в трубку. — Вы же знаете, проспект застраивается только пяти- и шестиэтажными домами… Что? Выделить другой участок? А кто будет застраивать центр? Строиться хуторами мы не можем. Да, да… — Василий Петрович прикрывал мембрану ладонью и говорил заведующему сектором отвода земель Шурупову, нахохленному, с болезненным лицом мужчине, стоящему у стола: — Съездите сначала на место, а потом уже делайте заключение. — И опять в трубку: — Ну хорошо, я могу предложить вам район Болотной станции… Далеко? Но это еще не все. Канализацию, водопровод и телефоны потяните туда сами. Электричество тоже. Причем начинать придется как раз с этого. Да, да, окончательно… Пожалуйста, жалуйтесь… — И ощущение надвигающейся неприятности усиливалось.
Просматривая положение о мастерских генплана, присланное на утверждение Белгоспроекту, Василий Петрович подумал о причине своего самочувствия. Что за она? Ночная работа? Тогда так и не удалось представить образ парковой магистрали, которая должна была соединить площадь Свободы с Комсомольским озером. И как ни напрягал воображение, магистраль представлялась просто зеленым лучом… А может, сегодняшняя погода — по-апрельски ветреная и теплая? Когда Василий Петрович вышел из гостиницы, в небе пролетал косяк журавлей. Они устало махали крыльями и курлыкали. На горизонте белело влажное кучевое облако — из тех, что похожи на сказочные замки. И казалось, что журавли, как гуси-лебеди, летят как раз туда, в сказку. А вокруг было столько солнца, что дома, строительные заборы, подсохшая земля казались в золотистой пыльце. Иногда и такое тревожит человека…
Но вдруг Василию Петровичу стало ясно — нет, его тревога вызвана другим — вчерашним разговором в горкоме.
Оказывается, свои соображения о завтрашнем дне города появились и у Зорина. Опять Зорин!..
Вызвав вчера Василия Петровича и расхаживая с завоженными назад руками по кабинету, он внезапно заговорил о знатных людях, о том, что долг платежом красен и они заслужили право на особое внимание.
"Логично?" — бросил он через плечо.
"По-моему, да", — кивнул Василий Петрович.
"Вот и добро. Это — оплот, опора наша. Ударники, народные артисты, ученые, герои, им сторицей не жалко воздать. Заслужили! Пускай остальные смотрят, воспитываются на зримом и тянутся. Социализм не уравниловка".
Зорин подошел к несгораемому шкафу и вынул из его синей глубины план-схему.
"Вот, — обвел он Круглую площадь, разложив план на столе, — по-моему, где-то тут. Близко парк — и в центре и в зелени. Пускай живут да здравствуют". — И снова заходил.
Провожая его глазами и почему-то обратив внимание, как цепко зажал Зорин правой рукою пальцы левой, Василий Петрович признался: "Пока не понимаю, о чем вы…"
Тот остановился и испытующе посмотрел на него: "Я о персональных коттеджах. А что, и допустить не мог? Ха-ха!"
Он принадлежал к людям крутым, упрямым, которые любят проявлять инициативу, часто ослепляются своими же идеями, и Василий Петрович возразил осторожно: "Здесь район не той этажности и не тех масштабов". — "Опять пресловутый район?" — "Да". — "Ты брось знакомые штучки! Прикинь хоть сперва. Это принципиально важно…"
"Не было печали… Понтус, понятно, постарается подхватить — да так оно и положено! — и будут навязывать уже вдвоем…" — вспомнив этот разговор, с досадой подумал Василий Петрович. И, чтобы отогнать неприятные мысли, вызвал секретаршу: пусть заходят посетители.
Но вместо нее, легок на помине, заявился Понтус. Высоко подняв шляпу, расстегнул пальто и высморкался в платок.
— Кажется, тепло, а у меня грипп, — сообщил он с расстроенным видом. — В лечкомиссии говорят, этой весной свирепствует какой-то "А прим".
— Есть такой, — сказал Василий Петрович, гадая, зачем забрел Понтус.
— Природа не спит в шапку. Ты открыл пенициллин с экмолином, а она — вирусный грипп, рак. Кто когда болел этим раком?.. А найдут что-нибудь против него — новая хворь объявится.
Понтус вынул из кармана портсигар, старательно запихал в мундштук папиросы клочок желтоватой ваты и закурил. Сев в кресло, закинул ногу за ногу. Затянувшись табачным дымом, вытолкнул несколько колец, которые поплыли под потолок, медленно увеличиваясь.
— А знаете, как Барушка называет строителей? Внутренними врагами. Они как те же хворобы. Сейчас это особенно стало заметно. Нам надо эпоху прославить, увековечить ее, а тут бледная немочь стройтрестов!.. Барушка утверждает, что первый архитектор и первый строитель на земле разговаривали только на языке жестов. Причем в руках архитектора, конечно, была Лубянка.
— Проект, небось, кончаете? — все же оживился Василий Петрович, подумав, что это, конечно, говорится Понтусом неспроста.
— Давайте, в самом деле, поедем ко мне, — как бы невзначай предложил тот. — Я верю вашему вкусу…
Правда, колишние стычки, тайные ходы, к каким и теперь прибегал Понтус, чтобы добиться своего, делали их отношения натянутыми. Но Илья Гаврилович за эти годы во многом понаторел, изменился. Ему нельзя было отказать в чувстве времени. Видя, как богатеет страна, какими планами грезит, он как-то естественно стал горячим сторонником широких и смелых начинаний. На обсуждении проекта детальной застройки первой очереди Советского проспекта Василий Петрович нашел в нем единомышленника. Более того, вернувшись однажды из Москвы, Понтус высказал идею построить несколько высотных зданий и в Минске. Они, по его мнению, должны были символизировать современность, обогатить силуэт города, придать ему торжественный, величественный облик. Это импонировало Василию Петровичу, заставляло многое прощать.
— Лучше перед выходным, Илья Гаврилович, — не совсем охотно, но сдался он и кивнул на дверь: — Там же тысяча и один посетитель.
— Вам видней, пусть, — не стал настаивать Понтус. — Но это между прочим… — И, постучав кулаком по краю стола, начал говорить о том, что на Советский проспект следует выпускать лишь маститых, что, хотя официально никто и не объявлял Минск стройкой коммунизма, "есть мнение, почти команда, считать его таковой". — Вы понимаете, какая ответственность? Чего-то стоит и соревнование со Сталинградом… Так что тут не до миндальничанья…
Затем он тяжело поднялся, застегнул широкоплечее, с большими накладными карманами пальто и, поглядывая поверх Василия Петровича, протянул руку.
Стали входить посетители. Заходили по одному, но незаметно через каких-нибудь полчаса в кабинете их набралось уже довольно много — штатских, военных, с портфелями, папками, со свитками ватмана, Однако ощущение, которое было в Василии Петровиче, не оставляло его.
Вот уж с полгода Понтус работал над проектами у себя дома, в частной кумирне, как выражался Кухта. Через день, по вечерам, к нему приходил Барушка, и они садились за работу. Фактически садился Барушка, а Илья Гаврилович ходил из угла в угол или полулежал на тахте — думал.
В кабинете было темновато, хотя чертежную доску, за которой работал Барушка, освещала яркая электрическая лампа на подставке, выгнутой, как очарованная музыкой кобра. Вокруг и особенно в углу, где стояла мохнатая пальма, в складках гардин на окнах таился сумрак. И, если прищурить глаза, можно было видеть только чертежную доску и склоненного над ней Барушку, который медленно и бережно, будто имел дело с хрупкой вещью, водил тонко заостренным карандашом. Со стороны казалось, что секрет работы Барушки как раз в этих осторожных движениях, в его худощавых и чутких пальцах. Свет лампы падал на ватман и, отражаясь, освещал сосредоточенное скуластое лицо Барушки и его большой, будто полированный лоб.
— Знаешь, на кого ты похож сейчас? — иронически усмехался Понтус с тахты. — На летописца в келье. Пишешь донос истории…
Всегда одно и то же время неслышно, как привидение, в кабинете со стаканами чая на подносе появлялась жена Понтуса — безмолвная неопрятная женщина. Несмело покосившись на мужа, она ставила поднос на стол и исчезала. Понтус поднимался с тахты, брал стакан и, помешивая в нем ложечкой, подходил к Барушке. Стоя у него за спиной и прихлебывая из ложечки чай, долго рассматривал рисунок.
— Знаешь, — говорил он, прислушиваясь к собственным словам, — у меня родилась идейка-индейка. А ну-ка, прикинь…
В соседней комнате что-то падало. Понтус ставил стакан на поднос и быстро шел к двери, за которой мгновенно становилось тихо. Прикрыв ее за собою, искал гневными глазами жену и, найдя, шепотом цедил сквозь зубы:
— Макака! Когда ты будешь как люди?! Убирайся к себе!
Тишину имела право нарушать только Алла. Она заходила в кабинет, как хозяйка, бросала на тахту красную разлетайку, целовала отца в лоб и подходила к чертежной доске.
— Что это? — показывала она оттопыренным мизинцем на колоннаду, которая под рукою Барушки быстро возникала на бумаге. И, ожидая ответа, словно к струнам, прикасалась тем же мизинцем к своим губам.
Барушка молодел.
— Это лоджии, Аллочка. Очередная идея твоего фатера. Они должны украсить ансамбль.
Алла замечала его оживление, с ленцой в движениях поправляла коротко подстриженные волосы, включала верхний свет и, вынув из сумочки карамельку, садилась в кресло.
— Это правда, папа? — спрашивала она, посасывая конфетку, и тут же забывала о своем вопросе. — Что такое счастье, Семен Захарович, знаете?
— По-моему, Аллочка, это отсутствие несчастий, — жмурился, как кот, Барушка.
— Я серьезно.
— Серьезней уж некуда. Время наше суровое, быстрое. У него столько дел, что оно не имеет возможности заботиться о людях. Потому человек может считать себя счастливым уже тогда, когда на голову не валятся шишки.
— Алла, это отсебятина, — великодушно предупреждал Понтус и поднимал палец. — В нем говорит неудачник. Роль сознания у нас выросла настолько, что мы можем навязывать событиям свою волю. И уже по одному по этому человек не является жертвой. Тем паче талантливый. Хотя ему, конечно, следует знать, что и как делать.
— Не понимаю, папа… Понду позанимаюсь немного. У нас ведь через месяц соревнования, — зевала Алла и шла в свою комнату, оставив разлетайку на тахте.
Сегодня Алла не вбежала, а ворвалась в кабинет.
— Тра-ля-ля! — пропела она, зная, что сообщит отцу приятное. — Угадай, папа, кого я привела! Он, оказывается, впервые у нас на новой квартире. Василий Петрович, где вы там? Мама, да отпусти ты его! Он нужен папе.
Понтус поднялся с тахты, но не пошел навстречу гостю, а шагнул к чертежной доске и озабоченно склонился над ней.
— Крышу на башнях тоже не худо бы сделать такими наплывами. Подожди…
Взяв из рук Барушки карандаш, он широкими движениями нарисовал в углу листа башню, покрыл ее крышу скобками и прищурил глаза, чтобы лучше представить себе нарисованное.
— Наконец-таки забрели! — воскликнул он, когда Алла за руку втащила в кабинет Василия Петровича. — Нашего брата не так уж много, чтобы безразлично относиться друг к другу. Нас меньше, нежели, скажем, генералов.
— Абсолютно, — взмахнул рукой Барушка, словно собирался проголосовать.
Сердясь, что чувствует себя неловко, Василий Петрович натянуто поздоровался и сел. Понтус, взглянув в трюмо, стоящее в простенке между окнами, на минуту вышел и, вернувшись, продолжил:
— Эпоху, конечно, создают поэты, художники, композиторы. Но высшее проявление она находит в архитектуре. Так было в Греции, в Риме, в королевской Франции.
— Папа, ты гений! — воскликнула Алла и подсела к Василию Петровичу. — Правда?
Василий Петрович подумал: любопытно было б посмотреть, как реагировал бы Понтус, согласись он с Аллой, — и скованность, раздражавшая его, стала пропадать.
Барушка с Понтусом проектировали три жилых дома. Занимая целый квартал проспекта, здания завершали важный ансамбль.
Василию Петровичу был дорог этот уголок будущего Минска, очертания которого уже определил проект детальной застройки. Много воздуха, зелени, легкая архитектура, без той строгой торжественности, которой отличались центральные кварталы.
Он шел к Понтусу наперекор себе, с желанием быть справедливым и, если потребуется, помочь советом. Однако уже по незамысловатому разговору, который затеял хозяин, понял, что приглашен не для этого. Понтус явно "обрабатывал" его и совсем не стремился к спорам. Ему нужно было другое — вырвать здесь, в домашней обстановке, одобрение проектов и этим связать Василия Петровича в дальнейшем.
Недовольный собою, Василий Петрович стал рассматривать чертежи и рисунки, разложенные Понтусом на письменном столе, тахте и даже полу.
Это были основательные, тяжеловатые здания, чем-то похожие на тех, кто их создавал. Центральный дом украшал портик, крайние — четырехугольные башни. Соединенные лоджиями, которые увенчивались рогами изобилия, щедро украшенные орнаментом, богатыми карнизами, они холодно смотрели на Василия Петровича. Вместе с тем было в них что-то очень крикливое и пестрое.
Возле письменного стола сгрудились набыченный Барушка, озадаченный Василий Петрович, уверенный Понтус и Алла, которая, положив подбородок на плечо отца, держала его под руку так, чтобы завидовал гость.
Еще не совсем осознав, что ему не нравится в проектах, но неприятно пораженный ими, Василий Петрович сказал:
— По-моему, ваши дома, Илья Гаврилович, мало считаются с тем, что уже есть.
— А мы, батенька, ищем. У нас своя задача.
— Возможно… Но взгляните, например, на фасады. Древние греки, которых вы вспоминали… мм… говорили в таких случаях, ей-ей, безжалостно.
— Что они там говорили?
— Когда тяжело создать красивое, создаешь роскошное. А вы ведь, так сказать, киты, могикане…
— Правда, папа? — обиделась за невнимание Алла.
Понтус презрительно шевельнул губою, отстранил от себя дочь и спокойно стал собирать чертежи и рисунки.
— Это, Илья Гаврилович, галиматья, прихоть! — взорвался Барушка, убежденный, что его не остановят. — Не хотят ли нас вообще вернуть к космополитическим штучкам? Лишить права на свое?
— В самом деле, папа?..
В приоткрытой двери показалась растрепанная голова хозяйки.
— Можно подавать на стол, Илья? — несмело спросила она, глядя мимо мужа.
— Подавай, подавай! — как от зубной боли, скривился Понтус. — О вкусах, как говорится, не спорят, дорогой Василий Петрович. Почему, действительно, я должен верить не себе, а вам? Да я к тому же проконсультировался в Академии архитектуры. У этих проектов Москва за плечами. Наконец, посмотрите на работы ведущих. Они, по-вашему, тоже напоминают выставку? Нет, если пошло на откровенность, то вы, оказывается, выдыхаетесь, дорогой. Мельчаете. С чего начали и чем хотите кончить? А? Но поспорить, право, мы всегда успеем. Прошу! — Он протянул руку к двери в столовую и, немного склонив голову, добавил: — Послезавтра опять еду в Москву, скажите лучше, что передать супруге.
Василий Петрович почему-то смутился.
Спасибо, она скоро ко мне приезжает. Не надо…
Вера сама никогда не поверила бы, если б кто-нибудь раньше сказал ей, что у нее сложатся близкие отношения с Понтусом. "Что за глупости, Я еще в своем уме! Не рехнулась…"
Она любила внимание мужчин. Чтобы ощутить власть над ними, могла пофлиртовать, разрешить вольность, но не больше. Правда, время, как и возраст, постепенно приучали на все смотреть проще. Разлука не только обостряла чувства, но и притупляла ответственность. Однако оставались страх и кошачья брезгливость. Они сдерживали — близкие отношения чем-то пятнали, пришлось бы скрывать их, притворяться, петлять. Они усложнили бы жизнь, могли быть чреваты последствиями…
И все-таки в один из приездов Понтуса в Москву это случилось. Нет, подобное у Веры вряд ли могло произойти с кем-либо из московских знакомых — держала бы марку. А вот с ним, который наезжал в кои-то веки, правда, неожиданно, помимо воли, но произошло.
— Человек когда-нибудь должен перегореть, — не давая ей заплакать над случившемся, сказал тогда Понтус. — В молодости или позже, но непременно. Такой закон натуры. А ты что видела? Разве у вас любовь? Просто манная каша…
И как ни странно, эта грубость, шокировав ее, в то же время помогла и заставила взглянуть на все по-новому.
— Правда, правда, — согласилась она, однако противясь желанию самой обнять Понтуса. — Человек имеет право… Но как быть там, в Минске?
— Не бойся, пока с усами, — привлек он ее к себе.
Вера умела создавать уют. И теперь здесь, в купе, как только тронулся поезд, она поставила на столик букет подснежников, круглое туалетное зеркальце, положила раскрытую наугад книгу и коробку конфет — подарок Понтуса Юрику. А когда проводница постлала постели, переоделась, забралась на нижнюю полку и, укрыв ноги полою халатика, удобно примостилась у столика. Что-то обаятельное было в ее фигуре, красивом повороте головы, в спокойном внимании, с каким она смотрела в окно. И сразу купе приобрело обжитый, уютный вид, а на Веру тянуло смотреть. И, может быть, именно потому у Понтуса шевельнулась обида. Неприязненно взглянув на верхнюю полку, откуда свешивалась вихрастая голова Юрика, тоже смотревшего в окно, он сказал Вере:
— Вы начали уже ждать встречи. Так?
— Мудрено ли, — спокойно повела она тонкими бровями. — Разве прошло недостаточно времени, чтоб соскучиться?
— Конечно, — улыбнулся своим мыслям он. — Но вчера в Комитете я слышал поучительную шутку. Одни острослов сказал, что ожидание снижения цен более приятно, чем само снижение.
— Глупости! — упрекнула его Вера, бросая быстрый взгляд на сына.
Понтусу захотелось поиздеваться над ее достоинством, с каким она держала себя, над её страхам перед сыном. Но он сдержался и будто случайно зевнул, хотя было обидно: эта женщина становилась ему нужной.
Поезд набирал скорость. За окном убегало назад Подмосковье — удивительно чистые березовые рощи, веселые борки, похожие на декоративные, с пристройками, верандами и резными ставнями дачи и дачки, платформы с пестрыми толпами пассажиров. Навстречу с воем пронеслась электричка.
Понтус вышел из купе и, вернувшись в полосатой пижаме, лёг на своей полке против Веры. Оскорбляться или сердиться было бессмысленно. Наоборот, ему только оставалось быть благодарным. Она брала единственно правильный и нужный тон в их нынешних отношениях.
— Я ужинать не буду, не будите, — попросил он и повернулся лицом к стене.
Но не прошло, казалось, и получаса, как кто-то осторожно дотронулся до его плеча. Понтус недовольно замычал, с трудом открывая один глаз. В купе горел только верхний синий свет, и Илья Гаврилович не сразу увидел и узнал склоненную над ним Веру. Приложив палеи к губам, она делала ему знак, чтобы он встал и вышел из купе. Понтус неохотно поднялся и, глядя в темное окно, за которым пролетали длинные золотистые искры от паровоза, долго ногами искал тапочки. Наконец, нащупав их, надел. Зевая и потягиваясь, вышел вслед за Верой.
В коридоре было пусто и очень светло.
— В чем дело? — переседающим со сна голосом спросил он, начесывая на лысину прядь волос.
— Мне не спится, Илья.
— Вряд ли я смогу помочь тебе, хоть в вагоне и чувствуешь всегда этакое возбуждение. Особенно когда лежишь на спине и тебя потряхивает.
— Постыдился бы…
— Человеку незачем стыдиться, что он человек.
Понтус понимал Веру и часто, когда оставался с него с глазу на глаз, становился вот таким грубым. И эта его манера нисколько не оскорбляла ее, наоборот, делала их отношения более простыми, освобождала Веру от ответственности: он все брал на себя. Так и теперь — его бравада как бы позволяла не стесняться ей тоже, делала разговор бесцеремонным, открытым.
Из соседнего купе вышел обалделый мужчина в калошах, носках, галифе, с подтяжками поверх сорочки и, шатаясь, как пьяный, пошел в конец вагона.
Вера подождала, пока он закрыл за собой дверь, поглядела в окно и, увидав в стекле только смутное отражение своего лица и голой шеи, сказала?
— Почему ты сердишься, Илья? Почему демонстрируешь?
— И не думаю.
— Я надеюсь, ты останешься другом. Моим и мужа. Вам не следует ссориться. Я хочу просить тебя — не усложняй отношений. Ради меня… Ты — старший, а Вася — мальчишка.
— Которому четвертый десяток, — насмешливо хмыкнул Понтус.
— Пусть. Но он и состарится таким.
— Его мальчишество у меня вот где сидит, — ударил себя кулаком по затылку Понтус, и сонное лицо его вытянулось. — Я сперва тоже так думал. Перекипит, обвыкнет, надоест человеку ребячиться. Жизнь не таких уму-разуму учила. А он? Наоборот. Если раньше на худой конец огрызался и делал свое, то сейчас укусить норовит, Михайлову уже написал о моих проектах.
— Почему ты думаешь, что это он?
— К счастью, еще есть верные люди… Чтобы приглушить его подвохи, пришлось к самому президенту сходить. Но ты для меня тоже что-то стоишь…
Ей показалось, этого достаточно, и она успокоилась. Да и Понтус как-то незнакомо просительно потрепал ее по оголенной до плеча руке.
Однако как только поезд приблизился к Минску, тревога вернулась к Вере. Она увидела ажурные мачты радиостанции, новенькие стандартные домики не известного ей полустанка, огромные заводские корпуса на противоположной стороне путей, в сосняке. "Тракторный", — догадалась она, и щемящее чувство усилилось.
На полустанке загружали какими-то большими ящиками платформы. Подъемный кран, поворачиваясь, нёс как раз один из них на платформу. "Увижу, как поставят, — все обойдется", — загадала она и потянулась к окну, забыв об окружающем. На платформе стоял человек и руками показывал крановщику, куда ставить ящик. Как назло, крановщик, видимо, не попал сразу, человек замахал руками, и ящик повис над платформой. Торопясь, Вера схватилась за никелированную ручку и стала ее крутить. Но окно опустилось только немного — что-то заело.
— Да помогите же вы! — с отчаянием крикнула она Понтусу, застегивающему чехол на чемодане.
Понтус застегнул последнюю пуговицу, пододвинул чемодан ближе к двери и встал.
Гряда покрытых лесом и кустарником пригорков, тянувшихся за окном, неожиданно кончилась, и открылся город, издалека совсем невредимый, настоящий.
— Пустите, — попросил Понтус, отстраняя Веру от окна.
Та чуть не заплакала и безвольно села на полку.
— Не надо, уже не надо…
Все дрожало, и замирало в ней, когда она выходила из вагона. Однако увидев на перроне мужа, воспрянула духом и напролом, словно от кого-то спасаясь, кинулась к нему.
Василий Петрович тоже увидел ее и двинулся навстречу.
— А где Юрок? — удивленно осмотрелся он по сторонам, почувствовав, что губы у жены незнакомо холодные и у него самого нет той отрады, которая охватывала прежде при встречах.
Рядом с носильщиком, ведя Юрика за руку, показался Понтус. Подойдя, он подождал, пока Юрик поцеловался с отцом.
— Ну, теперь, кажется, съехались все, и надолго, — обеими руками пожал руку Василию Петровичу и, словно тоже встречал Веру, обратился к ней:
— Ну как, Вера Антоновна, теперь у нас? Узнаете? Недавно приезжал Михайлов. Вышел на Привокзальную площадь, огляделся и, говорит, чуть не вернулся на вокзал. Думал, сошел не в том городе.
Василий Петрович не слушал его. Разглядывая смущенную Веру, он никак не мог понять, что же в ней изменилось и почему она кажется чужой. Присутствие Понтуса снова пробудило ревность, и роль друга семьи, роль, в которую он все охотнее входил, казалась оскорбительной.
За оградой Понтус остановился и, не обращая внимания, что мешает пассажирам, выходившим из ворот, широко жестикулируя, стал объяснять Юрику, что в недалеком будущем изменится здесь, на Привокзальной площади, в этом парадном вестибюле столицы.
"Чего он пристал к нему?" — раздраженно думал Василий Петрович.
Пока на площади кроме восстановленного вокзала стояло только одно здание — правда, большое, на целый квартал, с одиннадцатиэтажной башней. Его еще не оштукатурили, и кирпичная зубчатая башня напоминала Кремлевскую стену, Спасскую башню.
— Напротив поставим, Юрик, такое же здание, — с пафосом говорил Понтус. — И тогда это будут ворота в город. Представляешь?
— Я уж как-нибудь сам расскажу ему об этом, — наконец прорвало Василия Петровича. — Прощайте, Илья Гаврилович! — И, взяв сына за руку, направился к своему "Москвичу".
За ним заторопилась и Вера…
В гостиницу, однако, она вошла как давняя жиличка. Великодушно, словно со знакомой, которая не один раз оказывала ей услугу, поздоровалась с дежурной в вестибюле, попросила у горничной, встретившейся в коридоре, фартук и, переступив порог номера, сразу же принялась наводить порядок.
Чтобы не мешать жене, Василий Петрович отодвинул стул в уголок и сел, чувствуя себя лишним. С удивлением увидел, сколько со времени последнего приезда жены собралось ненужного хлама и мусора. Недоброе безразличие к себе выглядывало отовсюду — из-под небрежно застланной кровати, из-за тюлевых занавесок, висевших на окнах, из-под газеты, которой были накрыты стакан с недопитым чаем и недоеденные бутерброды на столе. "Все же хорошо, что они приехали. Я сам не знаю, что творится со мною", — убеждал он себя.
Юрик, непривычно долговязый, в коротких штанишках и в матроске, с кислым лицом прошелся по комнате, заглянул в платяной шкаф, за занавески.
— Мам, а где голуби-и? — заныл он совсем как когда-то. — Голуби где?
— Я, Вася, сказала, что у тебя есть голуби, — объяснила Вера, собирая с подоконника листы бумаги и старые газеты.
— Я хочу посмотреть их, мам.
— Полно, Юра! У меня нет никаких голубей, — более сухо, чем хотел, одернул его Василий Петрович, недовольный также и сыном. — Тебе придется сразу привыкать к этому.
Мальчик обиделся, надул щеки и подошел к матери.
— Сегодня, Вася, ты несправедлив к другим, — сказала она, лаская сына.
— Ты, небось, имеешь в виду не только Юру? — покраснел, а затем побледнел Василий Петрович. — Хватит с меня и того, что ты кое с кем чрезмерно справедлива и приветлива.
Иногда самое незначительное происшествие может изменить настроение и даже что-то подсказать в главном. По крайней мере так назавтра произошло с Василием Петровичем. Идя на работу, он вдруг заметил на строительном заборе трехцветное, желто-красно-синее объявление: туристское бюро сообщало, что оно организует экскурсии по Минску, и просило подавать заявки.
Экскурсии по Минску!
Василий Петрович остановился, перечитал объявление и невольно оглянулся: не смеется ли кто за спиной? Он вспомнил, что как-то в горкоме действительно слышал разговор о создании туристского бюро, и улыбнулся. Эту идею тогда развивал Ковалевский. Стуча карандашом по столу и каждый раз пропуская карандаш между пальцами, он говорил, что хорошо, когда люди видят, куда идет их труд. Лучше и людям и работе. Правда, эти экскурсии скорее будут напоминать путешествия в прошлое или в будущее. Но пусть: неплохо знать, с чем прощаешься и что тебя ожидает…
Подумалось, что к указанным маршрутам неплохо бы добавить еще один — в сердца и души тех, кто строит город. Это был бы, пожалуй, самый поучительный маршрут. Много значат слова экскурсовода: "Здесь сплошь лежали руины. Теперь вы видите строительную площадку. Через два года на этом месте вырастут красивые жилые дома…" Слова эти чудесны уже потому, что они радуют тебя, рождают гордость за себя и других. Но в них еще не весь смысл происшедшего. Среди развалин, видите ли, осталась одна коробка, принадлежавшая артели инвалидов. И чтобы взорвать ее, надо было переступить через демагогию некоторых сердобольных ее защитников. Но это тоже еще не все. Дирекция тракторного завода, которому отвели этот участок, упорно настаивала на разрешении строить трехэтажные дома — не хотела отдавать первые этажи под магазины и комбинаты бытового обслуживания, обязательные в четырехэтажных домах. А проекты? Понтус надумал защищать кандидатскую диссертацию. Кажется, что могло быть общего между этим и подбором авторов для проектирования нового жилого квартала? А выяснилось, что могло. И автором проекта утвердили не молодого, талантливого архитектора, уже создавшего несколько интересных ансамблей в районе автомобильного завода, а влиятельного человека со званием, который затянул сдачу проектов и не может осуществлять архитектурного надзора за строительством…
Василий Петрович опять вспомнил о споре с Зориным и Понтусом и пикировке с последним на Привокзальной площади. Захотелось зайти к кому-нибудь, отвести душу.
Было еще рано, и он позволил себе свернуть в подъезд горсовета. Но не стал подниматься в горком, а пошел к Зимчуку.
Рабочий день еще не начинался, но в кабинете у того уже сидел посетитель — бородатый мужчина с застывшим лицом. Василий Петрович подумал, что, видимо, мужчина глуховат. Встретил он Василия Петровича долгим напряженным взглядом, а потом медленно перевел его на Зимчука, словно боялся пропустить, когда Зимчук заговорит вновь.
— Здравствуйте! — громко поздоровался Василий Петрович и сел в стороне, чтобы не мешать беседе.
— Вы знаете, кто это, — улыбнулся Зимчук, когда мужчина вышел. — Прибытков. Работает в бригаде того самого Урбановича, которого кое-кто хотел в жертву принести.
— А с ним еще будет хлопот, — сказал Василий Петрович и подсел ближе к столу. — Сад, небось, соток на десять разбухал. Да и герой он, как вам сказать… Послушайте, что строители за глаза о нем говорят…
— Этот Прибытков, — будто не услышал его Зимчук, — за свою жизнь поставил столько домов, что хватило бы застроить проспект. А сам с семьею досель невесть где ютится. И думаете, пришел требовать? Вовсе нет. Просто Алешка — знакомы с таким ухарем? — петицию настрочил. Вот и вызвал — пусть жалуется на нас, легче помочь будет. А то крикунов ублажаем, а молчаливые да преданные ждут.
— Бирюковатый он какой-то…
— В прошлом году он школу строил, а когда в ней начались занятия, приходил слушать первый звонок.
Василию Петровичу опять стало грустно.
Зимчук видел в людях хорошее и знал их. Народ для него — это Прибытков, Урбанович, Зося. Для Барушки народ — он сам. Для Понтуса народа вообще не существует. А для него, Василия Петровича? Понятно, работает он ради народного блага, но народ для него — это нечто более значительное, нежели окружающие люди.
— Вывесили объявление, что проводятся экскурсии по городу, — сообщил он, чувствуя в этом скрытую поддержку себе.
— Да, — подтвердил Зимчук. — У нас вообще все считается историческим. Партизаны даже в маленьких отрядах своих Несторов завели. На них возлагалось, так сказать, обеспечивать будущую историю фактами. И, надо признаться, шло на пользу. Каждый имел в виду — брошенная им граната взрывается отмеченной в истории, ха-ха!
Василию Петровичу захотелось рассказать о Зорине, проектах Понтуса, но что-то удержало его. Скорее всего, мысль, что его не поймут, сделают свои выводы и эти выводы могут обернуться против дела. Точили и сомнения — не формалист ли он действительно, не замахивается ли на творческую индивидуальность других, не стремится ли помешать в поисках? Да и сами отношения, сложившиеся с Понтусом по приезду жены, смущали, и он сказал не совсем то, что думал:
— Вы, Иван Матвеевич, лучше посоветуйте, где и как набраться воли, чтобы не было стыдно каждую минуту вступать, как говорите, в историю. Мне жена как-то жаловалась: "Устала, — говорит, — до того, что не могу быть красивой. Хочу и не могу. Не хватает сил быть красивой…". В этом есть правда.
Зимчук взглянул на Василия Петровича и, проведя ладонью по лицу, на миг остался сидеть с закрытыми глазами. Морщины на его лбу и под глазами разгладились.
— Лекарства тут, по-моему, одни, — сказал он, нехотя раскрывая глаза и хмурясь. — Правда, это для вас: к людям скорее…
"Для некоторых в самом деле было бы полезно организовать и такой маршрут", — с горькой иронией подумал Василий Петрович, выходя от Зимчука. Пришла мысль, что даже круг знакомых и то у него узкий. Сколько их? Один, два — и обчелся. С иным по улице идти горе — раскланивается на каждом шагу, останавливается, будто в городе живут только его родственники и друзья. А у него? Ему, кроме жены, почти никто даже писем не писал. И о том, что творится за стенами управления и заборами строек, он знает только из газет. Раньше хоть на рынок ходил, в трамваях ездил, а теперь и этого нет. Как под колпаком живет. Взять бы хоть во время отпуска бросить все и пойти пешком. Подышать бы дорожной пылью, поночевать в гумнах, послушать, посмотреть…
В коридоре управления Василий Петрович встретил Шурупова. Тот, видимо, страдал мучительным катаром желудка и малокровием. С желтым, болезненным лицом, он шел как-то боком, неся левое плечо впереди. Поравнявшись, остановился и, словно коридор был узкий и нельзя было разминуться, отступил к стене.
— Мое почтение, — поклонился он.
"А я же, в сущности, и его не знаю, — здороваясь, подумал Василий Петрович. — Чем он болеет и почему его, такого забитого, все-таки побаиваются сотрудники?.."
Глава вторая
Туча проходила стороной, но один ее край все больше заволакивал небо. И отсюда, с беговой дорожки, казалось, что она надвигается прямо на стадион.
Поглядывая на тучу. Валя вернулась на старт. Поправила стартовые станочки, привычно опустилась на колено и уперлась руками в черную гаревую дорожку.
В такой, будто перед взлетом, позе она всегда волновалась. Особенно между командой "приготовиться!" и выстрелом судьи — в мгновение, с которого начинался успех или неудача. Чтобы сдержать волнение, она нахмурилась и покосилась на Аллу Понтус, тоже вышедшую в финал, по вине которой забег пришлось начать заново.
Алла бегала с высокого старта и, подбоченясь, позируя, стояла возле своих станочков. Что-то мальчишеское было в ее фигуре, в дерзком, с капризным подбородком лице. И только бант, мотыльком сидевший над коротко подстриженной гривкой, да кокетливо-озорной изгиб стана не гармонировали с ее видом. Она почувствовала, что на нее смотрят, и оглянулась, перехватив Валин взгляд, подмигнула в ответ.
— Приготовиться! — подал команду судья.
Рывок у Вали был неудачным.
Повела Алла. Нетерпеливо одолев первые, всегда трудные метры, она красиво, легко побежала у самой бровки футбольного поля, и бант запорхал над нею. За Аллой шла студентка медицинского института — полноватая, высокая девушка с гордой, в венке тяжелых кос, головою. Медичка сильно размахивала руками, словно бежала на гору, и было странно, что ей удается идти шаг в шаг с худощавой стремительной Аллой. Сзади бежали еще две девушки. Одну из них Валя чувствовала у себя за спиною и, казалось, улавливала ее дыхание.
В начале второй стометровки Валя заметила, как расстояние между Аллою и медичкою стало уменьшаться. Видимо, последняя решила вырваться вперед. Как подтверждение этому долетел взрыв разноголосого гама. Стадион подбадривал, предостерегал, советовал.
Валя сама ускорила темп и, когда снова побежала по прямой, почти не удивилась, что оказалась рядом с Аллой и медичкой. Краешком глаза увидела их сильные ноги, мелькание рук и упрямо наклоненные головы.
Слева забелели костюмы судей, сидевших, как гребцы в шлюпке, на спортивных лестницах, у финиша. Над ними, над зеленым откосом, темнела лиловая туча. На её фоне четко очерчивалась зубчатая башня на Привокзальной площади.
И вот, когда Валин взгляд скользнул по силуэту так хорошо знакомой башни, тяжелый раскат грома всколыхнул тучу. Словно в ответ ему со стороны вокзала долетел призывный гудок паровоза. В нем было что-то тревожное, торопливое — такое, когда паровоз гудит на ходу. И Валя внезапно почувствовала прилив сил — известное многим "второе дыхание".
Над трибунами опять раздались выкрики, свист, аплодисменты.
— Эй ты, с бантом, отстанешь. Переключай на последнюю!
— Валя, жми, жми!
— Чур, только не падать…
— Ого-го-го!
— Лида, ей-богу, премируем! Да-а-ва-ай!
Рядом локоть в локоть бежала уже только медичка. Это разжигало упорство. И на последнем метре Валя с откинутой головой бросилась на ленту. Обрадованная, пронесла ее немного и, словно тяжесть, сбросила на землю. Охваченная нарастающим возбуждением, побрела вдоль бровки, слушая, как бушует стадион.
Когда Валя, все еще стараясь не смотреть на трибуны, вернулась к финишу, к ней подошла, тяжело дыша, медичка и неумело пожала руку. Потом подбежала Алла. Обняла и, приподнявшись на цыпочки, чмокнула в щеку. Глядя через Валино плечо на медичку, которая направлялась к одежде, брошенной на траве возле футбольных ворот, зашептала:
— Везет же тебе, Валька! Во всем. У Василия Петровича и то глаза масляные делаются… Ты и не обратила внимания. Она ведь совсем накоротке от тебя шла. Мираж! Взмахнула руками, а ленты-то нету.
— Кто-то все равно должен был прийти первым, — возразила Валя, не в силах, однако, скрыть радость. — Ты, конечно, вечером идешь в парк?
— Еще бы! А потом сабантуйчик сварганим. Проиграла вот, а на сердце, как говорит Алешка, расчудесно. Никто больше не заставит бегать и дурой быть. Смотри!..
Она неожиданно отстранилась и стала в позу балерины, начинающей танец.
— И-раз! — скомандовала сама себе и закрутилась, широко расставив руки и постепенно поднимая их вверх.
На ближайшей трибуне захлопали в ладоши. Алла перестала кружиться и, словно держась пальцами за подол юбочки, грациозно присела в поклоне. Потом выпрямилась и, независимая, вихляя бедрами, пошла к своей одежде.
Хорошо быть победителем!
Хорошо потому, что тебя обязательно начинает знать немного больше людей, чем до сих пор. Потому, что они смотрят на тебя с большим любопытством и уважением. И ты имеешь на это право.
Но, вероятно, наилучшее — то, что ты начинаешь понимать: и мир, и ты сама стали немного иными. Между тобой и миром доброе согласие.
Довольная, что отвязалась от Аллы, прижимая к груди цветы и чемоданчик, Валя влилась в людской поток. Он сразу полонил ее, и понес к выходу. И только на улице, разделившись на ручейки и ослабев, позволил идти свободно.
Липы на Комсомольском бульваре цвели. Золотистая цветень усыпала кроны и делала их похожими на пламя свечек. От лип, казалось, струился чистый, трепетный свет, и они были окружены сиянием. Только год назад привезли их из далекой пущи, и первое лето они цвели бледным, чуть ли не голубым цветом. Цвет быстро, раньше времени, опадал, и то, что можно было назвать жизненной силой в деревьях, как бы засыпало. И пока не сняли проволоку, которой липы для устойчивости были прикреплены к земле, не совсем верилось, что они приживутся и к ним вернется обычная, полная силы краса…
Неожиданно налетел ветер, свежий, душистый. Липы радостно затрепетали, стали пестрыми, и листья закрыли цвет.
Валя невольно оглянулась. У входа на бульвар увидела Василия Петровича. Тот заметил ее тоже и быстро зашагал к ней, по привычке широко размахивая портфелем и пытаясь сдержать улыбку.
— Вы совсем как приезжая, — сказал он, здороваясь за руку выше локтя.
В синих спортивных брюках, в белой блузке, с чемоданчиком и цветами, она действительно выглядела так, словно только что вышла из вагона и кто-то из друзей, приветствуя, подарил ей букет.
— Домой?
— Ага.
— Тогда пойдемте, — Василий Петрович портфелем и кивком головы показал на грозовую тучу.
— А вы неужели с работы? — как невероятному удивилась Валя, вспоминая Аллин намек.
— Если это можно назвать таким словом! Кроме смеха. Да, да!.. Одни стоят на страже рубля. Другие — времени. У них все как на ладони. Это дает экономию, работает на темпы, и его стоит поддержать, а это ведет к лишним расходам, тормозит, дело, и его, разумеется, необходимо отбросить. А тут? Имеешь дело с такой каверзной вещью, как красота.
— Почему каверзной? — не удержавшись, окунула Валя лицо в цветы. От них пахло теплицей, но она с удовольствием вдохнула этот пресный запах. Ей даже стало чуть жалко Василия Петровича. — Первое, о чем я напишу, будет именно красота. Честное слово.
— Вот Театральный сквер… Допустите, если б его не было. Представляете? На Центральной площади создалось бы ощущение такого простора, какой запомнился навсегда и каждому.
— И возразил, конечно, Зимчук.
— Я не рубака. До этого больше с рейсшиной имел дело. Но раз нужен топор, найди в себе мужество взяться и за топор. Мы же ханжествуем. А вот поди попробуй докажи!
Он произнес это горячо, и Вале сдалось, что невысказанная мысль настойчиво бьется где-то за его словами.
— Тогда я могу сказать, что говорит Иван Матвеевич. Он говорит, пора нашим архитекторам научиться считать до ста.
— Примерно…
— Нет, нет! Это не все, — заторопилась Вали, боясь, что ей, как обычно, не дадут высказаться до конца. Главное, никто не представляет города без сквера. Многие тут назначали свидания, играли с детьми.
— Но ему ведь ближе, чем кому, военная слава города!
— Ну и что же?..
Они вышли на Советский проспект.
Он лежал широкий, прямой. Правда, застроенным был только один квартал, и асфальтированная полоса обрывалась возле Центральной площади, где желтели груды вывернутой земли. Но проспект уже существовал, жил. На соседних кварталах возвышались кирпичные громады. Одни одевались в леса, другие едва поднимались над забором, обклеенным объявлениями и театральными афишами. Третьи угадывались по внимательно склоненному крану.
Где-то невдалеке работал экскаватор. Окрест разносилось неровное — то басовито-низкое, то напряженное — завывание его мотора и характерный, словно что-то рушилось, грохот ковша.
По проспекту надвигалась стена ливня. Была она светло-голубая и плотная. Перед ней по тротуарам бежали прохожие.
Василий Петрович взял у Вали чемоданчик и первым бросился к ближайшему строительному забору, под "козырек".
Стена ливня пронеслась мимо. На минуту все заполнилось звонким, веселым гомоном дождя, бульканьем и журчанием. Потом сразу так же, как и набежали, гомон, бульканье утихли. Только вдоль обочины текли волнистые ручьи, и блестящий проспект стал похожим на широкую водную гладь, в которой отражались дома и заборы. Автомашины пробегали с веселым шорохом. Из-под шин вырывались стремительные серебристые брызги.
Они уже собрались идти, как к ним подбежал Алешка. Без шапки, в мокрых рубашке и штанах, что липли к телу, он ударил себя по ляжкам и захохотал.
— Вот это да! У меня целый час. Пошли проведу до общежития.
Его мокрые волосы кудрявились сильнее, чем обычно.
На лбу и на щеках дрожали капли. Он смахнул их рубом ладони, полез в карман за носовым платком, не нашел его и вытерся рукавом рубахи.
— Везет! Вчера велосипед изурлючил, как бог черепаху. Так что к себе на Понтусовку все одно не поспею. Да и в трест надо…
Попросив чемоданчик у Василия Петровича, в чем-то благодарная ему, Валя простилась и, переступая через слюденистые ручейки, пошла с Алешкой. Но тот шагал быстро, и никак не удавалось попасть ему в ногу.
— Я устала, — обиженно упрекнула она.
— Сгори оно все! Жить, Валька, хочется! — отмахнулся он и тряхнул головой, мокрые кудри его заколыхались.
Вале нравилась Алешкина привычка встряхивать головой, нравилось колыхание его ухарских завитков. Но сейчас это не тронуло ее.
— О чем ты? — спросила она, не особенно вникая в его слова.
— Жмут и жмут. Ни отдыха тебе, ни срока не дают. Аж в зубах настряло. Каждый день одно. К управляющему вызывают — знаешь, в чем и как будет исповедовать. На заседание постройкома идешь — снова все ясно. Заранее расписали и наметили. Надо только проштамповать и предъявить. А ежели вспоминают тебя, то чтоб цифру назвать. Фамилия с цифрой.
— А ты постарайся еще лучше…
Это неожиданно ожесточило Алешку.
— Старайся не старайся, а ходу уж не дадут. Фига! Вчера выпивал с пижонами из треста. Прикинулся, что захмелел. Так один все недоумевал на полном серьезе, чего, мол, со мной цацкаются и не посадят. А другой объяснял ему: "Заслуги у него какие-то". Руки пачкать было неохота… Урбанович и тот командовать начинает. Вишь, на Доску почета выставили и поднимают как могут.
Валя пожала плечами и оглянулась.
Туча с громом и молнией уходила на север. Косые полосы дождя падали уже над окраиной города. За тучей гуськом тянулись лохматые тучки и белые, опрятные облачка. Небо очищалось и, как это бывает после грозы, становилось весенним.
Разговор не клеился, и они пошли молча. И только дойдя до общежития и спохватившись, Валя напомнила:
— В парке у нас прощальный вечер, Костя.
— Пойдем лучше в цирк, — предложил он.
— Что ты? Разве можно?.. Я жду…
Она мотнула головой и, не оглянувшись, вошла в барак. А Алешка остался стоять у крыльца, задетый ее безответным отношением.
— Зачем тебе это? Неужели нельзя жить с людьми по-людски? — сразу, как только муж переступил порог, начала Вера. — Ты добьешься, что отвернутся все.
— Где Юрок?
— На улице, — не понизила она тона. — В гостиницах не бывает дворов, где могли бы играть дети.
— Давай отправим его в лагерь.
— Новое дело! Мне ребенок еще не опостылел. И скажи, будь добр, что тебе надобно от Ильи Гавриловича? Он сам отвечает за себя, и пока ты подчиняешься ему, а не он тебе.
— Полно, Веруся, это тебя не касается.
— Кухта тоже хорохорился, а влетело. Я не хочу, чтобы наша жизнь зависела от каких-то коттеджей, карнизов и башен.
Последняя фраза насторожила Василия Петровича. Он подозрительно взглянул на жену. Нет, он никогда не рассказывал ей об идее Зорина и проектах Понтуса. Не говорил даже о том, что ходил к Понтусу и поспорил с ним. Скрывал, не желая тревожить, считая, что неприятности лучше пережить самому. Пусть знает только то, чего нельзя не знать, — хватит с ее характером и этого.
Вера полулежала на оттоманке и, когда Василий Петрович вошел, с отсутствующим лицом листала журнал. Ему было давно знакомо это ее выражение. Жена всегда становилась такой, когда старалась что-то представить себе. Заговорив, она приподнялась и спустила ноги. Журнал бросила рядом. Разволновавшись, оперлась на него рукой. Василий Петрович перевел взгляд на узкоплечих, в пышных платьях женщин, изображенных в журнале, и почему-то настороженность и досада его усилились.
— Откуда ты знаешь про наши споры?
— Знаю, — ответила она, одернув подол и прикрыв оголенные колени. Ресницы ее вспорхнули.
Но через мгновение она подавила смущение и посмотрела на мужа спокойно. Только в глубине посветлевших глаз осталось ожидание. Да и сам взгляд был необыкновенный — рассеянный, далекий, будто Вера смотрела не на мужа, а сквозь него.
Василий Петрович подошел к столу и устало положил портфель.
— Нет, ты все-таки ответь.
Она поднялась с оттоманки, поправила волосы и с вызовом прошла по комнате, но не к нему, а тоже к столу, который теперь разделял их. На столе в хрустальной вазочке стоял букет пионов. Нервным движением Вера оторвала от нежного цветка лепесток и разорвала его.
— Чего тебе надо от меня? — повысила она голос, наотмашь отбросив последний шматочек лепестка. — Я, Василий, не маленькая и понимаю, что означает этот допрос.
— Кто сказал тебе о проектах?
Она отпрянула, будто он мог ударить ее, и презрительно сощурилась.
Порванный лепесток и букет вдруг напомнили Василию Петровичу Валю. Что-то напряглось в нем, затрепетало. И это сразу лишило сил.
— Как ты все-таки узнала об этом?
— Рассказал Илья Гаврилович, когда ехали из Москвы. Хватит с тебя?
Василий Петрович не ответил.
— Стены лбом не прошибешь, Вася, — примирительно промолвила Вера. — Не я это выдумала, И ты напрасно сердишься. Я хочу одного — чтобы все было хорошо.
Она обошла стол и приблизилась к мужу сзади. Неуверенно и ласково обняла за плечи. Хотела прижаться всем телом и положить голову на плечо, но Василий Петрович разнял ее руки и, не поворачиваясь, вышел из комнаты.
— Мне плохо, Василий! — крикнула она вдогонку.
Он нашел Юрика на улице. Воинственно размахивая палкой-саблей, тот гонялся за мальчишками.
— Погуляем, сынок, — скорее попросил, чем предложил Василий Петрович.
В новеньком голубом ларьке, возле сквера на площади Свободы, он напоил озадаченного Юрика лимонадом. Мальчик повеселел. И, слушая его рассказы обо всем на свете, Василий Петрович собрался с мыслями.
Ссора с женой, в сущности, мало добавила к тому, что было между ними. Но, почти не добавив ничего, как-то обнажила Веру. Ведь она совершенно не считается с ним. Полна заботами только о себе и уверена — всего можно добиться скандалом. А как держит себя с другими? На улице не узнает знакомых, бесцеремонно разглядывает странными, круглыми глазами каждую женщину, если та со вкусом одета. Разговаривает со всеми, словно оказывает милость, будто все хорошее, что сделал муж, исключительно ее заслуга.
Раньше хоть это скрадывалось наивностью. В городе и до войны существовала целая каста модниц, которые знали друг друга и ревниво следили одна за другой. В этом было даже что-то интересное, чисто женское, чего мужчины, вероятно, вообще не поймут. Но не было того, что появилось теперь, — болезненного соперничества, пренебрежения ко всему. Она не вмешивалась в его дела, хотя и подгоняла: работай, работай! А вот сейчас требует: криви душой, соглашайся, с чем согласиться нельзя. Не хочет, чтобы он был открытым, не верит в справедливость и боится за свое благополучие. Правда, мысль — умри он, и она будет также предана другому — иногда приходила к нему. Но усомниться в ее верности и чистоте раньше он просто не посмел бы! Даже улики, накапливающиеся с днями, не могли поколебать веры…
Василий Петрович погладил по голове сына и, делая вид, что слушает его, шагал, сам не зная, куда ведет ребенка, но чувствуя, что тот должен быть рядом.
Нет! Во многом он виноват и сам. Он почему-то не может уже быть справедливым. Достаточно Вере кинуть не то слово, не так, как хотелось бы ему, поступить, — и он злится, грубит…
— Я куплю тебе голубей, — сказал Василий Петрович, чтоб перестать думать об этом. — Мы станем гонять их вместе. Они будут летать, а мы смотреть на них. Нальем в таз воды и будем смотреть в воду. Так еще лучше видно.
— Я знаю, — объявил Юрик и, захлебываясь, стал рассказывать о московских друзьях-голубятниках.
На улице Янки Купалы, на деревянном мосту через реку Свислочь, Юрик, высвободив руку, подбежал к перилам.
Обмелевшая за летние месяцы до межени речка текла медленно, нехотя. Дно возле моста тонуло в страшноватом темно-зеленом мраке. Из него поднимались поросшие мохом старые сван. Дальше по течению, тоже под водой, лениво шевелились зеленые пряди водорослей. По обоим берегам, склонившись, росли вербы, которые обычно расщепляет молния или выжигают мальчишки, но которые растут наперекор всему. Одна из верб упала поперек речки. Упала, но росла, и вверх тянулись ее молодые побеги. Листья на них были более сочными и зелеными, чем на других.
Внезапно Василий Петрович почувствовал, что рядом с ним стоит еще кто-то. Он с досадой оглянулся и увидел Кухту. Подняв воротник серого пыльника, тот со спокойным видом тоже смотрел на речку и вербы.
— Откуда ты взялся, Павел? — обрадовался Василий Петрович. — Ты всегда, как фокусник: нет — и есть.
Кухта потрепал Юрика по голове и широко улыбнулся.
— А что ты думаешь? Я и в самом деле того… Рабочих не хватает, в главке всего два башенных крапа, а мы, брат ты мой, полугодовой план выполнили. Сталинградцев, которые приехать собираются, опять обставим. Пусть знают, с кем соревнуются.
Он смешно вертел круглой головой и энергично жестикулировал — совсем неожиданно для его грузной комплекции.
— А за что предупредили на бюро? — в тон ему спросил Василий Петрович.
— Это другое дело. Предупредили за сдачу готовых объектов.
— Скажи — за несдачу.
— Пускай так. Большим штанам положен такой же утюг. — Он редко унывал и с легким сердцем шутил над всем: над своей полнотой, над тем, в чем ему повезло. И это, вероятно, потому, что не очень думал о своем счастье, но всегда как бы чувствовал его.
— Это называется нетребовательностью, Павел.
— Мы, брат, подрядчики. Сколько дают, столько и отдаем. А у вас ведь еще хуже. Планируете, скажем, сквер. Ладно. Но вот такому, как ты, не понравилось что-либо. Раз — и забраковал. А жизнь идет. И пока какой-нибудь бедняга доводит проект, начинают разбивать сквер безо всякого проекта.
— Подожди! — удивился Василий Петрович, зная, что если Кухта намерен что-нибудь сообщить, то начинает издалека. — Это же Понтуса слова.
Через мост, шурша по деревянному настилу, проехал самосвал, груженный землей. В конце моста кузов его подскочил и загремел. Кухта проводил его взглядом и шумно вздохнул.
— А ты думал! Был сегодня, развивал эту мысль. А потом попросил написать, что мешает в работе со стороны проектных организаций и твоего ведомства. Понимаешь, гражданин? — обратился он к Юрику. — Это называется ход конем. Ты в шахматы, надеюсь, играешь?
— Ошарашить хочешь? Боишься, что перед выговором спорить придется?
Кухта комично наморщил шишковатый лоб.
— Какой ты, Петрович, спорщик, если на два хода вперед не видишь! Это, наверно, и Юрке ясно. Ясно, гражданин? Ну вот… Дай пять! — Он широко размахнулся и осторожно ударил своей пудовой пятерней по его ладони. — Ты мне сначала скажи: строители план выполняют? Выполняют. Вы проектную документацию задерживаете? Задерживаете. Так кто же виноват, что объекты не вводятся в строй? А людям нужны виноватые люди. С ними легче. Так что, наивная душа, озирайся, а не то, как на вешалке в ресторане — и оденут и разденут, только руки подставляй…
Кухта обнял Юрика за плечи и потянул с моста. Потом отпустил и обернулся.
— И еще имей в виду: Понтус до войны не одного живьем съел. Откроет хайло и глотает. Талант и принципиальность для некоторых тоже подозрительными представляются…
Валя вбежала в общежитие. Подруг по комнате еще не было. В щели между плинтусом и полом нашла ключ. Прикрыв за собой дверь, припала лицом к цветам.
Комнатушка мало чем напоминала ту, в которую Валя вошла несколько лет назад. Кроме ее кровати были еще две, аккуратно застланные пикейными одеялами, с беленькими подушками, поставленными на угол. На окнах белели мережчатые занавески. Над столом свисал самодельный абажур. Под ним на столе стояли вазочки с ковылем, маленький бюст Маяковского, зеркало, лежали книги. Все было обжито, и на всем были видны следы девичьих рук. От прошлого остались только пилотка и финка в чехле, висевшие на гвозде у изголовья Валиной кровати.
Нет, прежним осталось и чувство, будто Валя стоит на пороге чего-то неожиданного и важного.
К работе она начала готовиться давно — может, с первого дня учебы в университете. И все же, сдавая последний экзамен — по литературе, почти ужаснулась, что это ее последний университетский экзамен. Председатель государственной комиссии, профессор с седым хохолком, который он все время приглаживал, долго, придирчиво опрашивал Валю. А потом вышел за ней в коридор и взволнованно принялся доказывать, в чем она ошибается. Но это как раз и поразило — он не делал замечаний, а спорил, возражал, как человек, который считается с твоим мнением.
Студенты есть студенты, и даже способные из них остаются по отношению к своим преподавателям только учениками. Ошибка студента обычно — ученическая ошибка, хоть она и проистекала бы из убеждений. Необычный разговор с профессором показал Вале, что место ее среди людей вдруг изменилось. Она получила новые права.
Стоя на пороге и глядя на комнатушку, Валя подумала о том, что изменятся теперь и условия жизни, изменится все-все и надо прощаться с дорогой порой, цена которой до этого почему-то не ощущалась.
Раньше она мало задумывалась даже над своим отношением к Алешке. Теперь же стало ясно — нельзя переступить порог в новую жизнь, не решив и этого.
Валя положила цветы и села на кровать.
Что делать?
Еще в прошлом году, в парке, под сосной со странной, как на китайских рисунках, кроною. Алешка упрекал Валю, что она не любит его. И когда они сели на сухую, усыпанную шишками землю, он, неуемный Алешка, схоронив в ладонях лицо, вдруг зарыдал. Вале стало по-матерински жаль его. Она положила его кудрявую голову себе на колени и прикрыла ему глаза. Всхлипывал и не снимая ее руки, Алешка утих.
Вокруг не было ни души. Вале стало страшно. Но пугало и то, что кто-нибудь, проходя мимо, может увидеть их. А главное все-таки — охватывал страх одиночества, страх от лесного шума сосен, какой-то нутряной, непонятный. Поглядывая на побледневшее Алешкино лицо, Валя даже сжалась: кто он? Неужели ей суждено прожить с ним, бунтующим неудачником, жизнь? Почему?
Наконец Алешка снял ее ладонь и долго смотрел на Валю. Затем поднялся и потянулся обнять. Но она перехватила его руки и, отряхивая платье, встала.
— Уйдем отсюда…
Он озлился. Понимая его злость, Валя опять опустилась рядом. Над головой шумели сосны. Сквозь их шум она немногое услышала из того, что говорил ей Алешка, но поняла — он требует, чтобы она назначила срок.
Заходя к Алешке, Валя последнее время заставала его мать за необычным занятием — она то щипала гусиные перья, то расшивала бисером платье. Ласково поглядывая на Валю, вздыхала, жаловалась на свои глаза и заводила разговор о сыне. "Учить его, Валечка, надо, — певуче тянула она. — Словом и шелковой плетью. Держать изо всей силы-моченьки. Без этого он пропадет…" Когда Валя сдавала государственные экзамены, Алешка добился ордера на квартиру и, переговорив со знакомым прорабом, вселился в нее, когда еще на лестничной клетке работали маляры…
Расстроенная Валя сходила в кухню, налила воды в махотку и поставила в нее цветы. Букет сразу стал пышнее. Даже показалось, что цветы встрепенулись, стали ярче, и она уже знала, что, входя в комнату, каждый раз будет смотреть на них, как на неожиданность. Поглядывая на цветы, переоделась: надо было еще съездить в Дом печати и хоть мельком посмотреть, где придется вскоре работать.
Были как раз часы "пик", но повезло. К остановке подошли два автобуса, и Валя легко вскочила во второй и уселась возле окна. Она любила это место. Рядом разговаривали люди, кондукторша настойчиво и бесконечно требовала, чтоб пассажиры проходили вперед, где было свободнее. А здесь, у окна, можно было спокойно сидеть, поглядывая на улицу, и думать о своем. Автобус мягко покачивался. Улица бежала, словно на киноленте.
Город строился, и, проезжая по Советскому проспекту, можно было наблюдать весь строительный поток. Тут разбирали старую брусчатку, снимали трамвайные рельсы, выкапывали шпалы — трамвайная линия переносилась на кольцевую магистраль. Там рыли траншеи для подземного хозяйства, и на желтой насыпи чернели трубы, стояли огромные катки с кабелем. Немного дальше бульдозеры уже разравнивали новую трассу улицы — широкую, сорокавосьмиметровую, и грузовики-самосвалы один за другим принимали из ковшей экскаваторов лишнюю здесь землю. На спуске к Свислочи выпрямленная улица-проспект должна была пройти значительно левее прежней, и половину ее перегораживало уцелевшее белое здание бывшего педагогического техникума. Дальше проспект поднимали на несколько метров, и те же неутомимые самосвалы подвозили и подвозили щебень, землю, кирпичные глыбы от взорванных руин. Новый мост через речку еще не начали строить, но земляные работы шли и на другом берегу. Строительные заборы опоясывали целые кварталы. Там и тут поднимались красные стены. И уже не верилось, что когда-то начинали с расчистки тротуаров и мостовых.
После торжественной части и самодеятельного концерта в зеленом театре они пошли по прибрежной аллейке. Здесь было меньше людей. От речки веяло свежестью. На противоположном берегу ярко светились окна электростанции. Свет падал на черную водяную гладь дорожками. Речку на этом месте перегораживала плотина, и шум воды на спаде покрывал все звуки.
Валя еще жила слышанным. Секретарь горкома комсомола поздравлял студентов с окончанием учебного года. Ректор говорил о заботах, которыми окружает их народ. И из каждого выступления что-либо западало в Валину душу. Потом выступали чтецы, музыканты, пел хор университета. И Вале, какую бы песню ни исполнял хор — веселую или печальную, — хотелось плакать.
Алешка же, подстриженный, надушенный, был скучным. Он подтрунивал над речами, над тем, что люди без шпаргалок даже выступать разучились, хохотал не там, где было смешно, или сидел насупленный, унылый.
Дойдя до главной, широкой аллеи, они не возвратились, а пошли под фонарями, свисавшими с серебристых мачт, как плоды на склоненных ветках. Парк заполняли студенты, и знакомых встречалось много. У "комнаты смеха" подбежала нарядная Алла. Пожала руку Алешке, схватила Валю за талию, закружила.
— Вот это я понимаю! — заахала она, стреляя игривым взглядом в Алешку и поправляя платье. — Наконец-то! Никого не надо бояться — ни декана, ни председателя профкома…
Она стала рядом с Алешкой, прильнула к его плечу и ущипнула за руку.
— Не ревнуешь, Валечка? Не надо. Его хватит на многих. А ты, Костя, тоже не особо ей доверяй!..
— Ты, кажется, в Витебск? — не ответила Валя, взглядом требуя от Алешки, чтобы тот положил конец Аллиной игре.
— Чего я там не видела? Папа сегодня сказал, что остаюсь дома, при нем. Ведь я у него распронаединственная, — засмеялась она. — Ты рада? Давайте через часик закатимся к нам и отметим это обстоятельство, чем тут слоняться. Муть! Ковшов! — увидев стройного, в белых брюках и светло-синем пиджаке парня с черными усиками, окликнула она и, не попрощавшись, устремилась к нему. — Так мы ждем… Не сабантуй — мечта будет! Утонченнейший!..
Алешка купил эскимо и, кусая его, как хлеб, повеселел.
Постояли возле качелей. Шесть лодок взлетали вперемешку. Из них раздавались смех и визг девушек. Лодки поднимались вровень с перекладинами. Девушки протестовали и, когда парашютом надувались их юбки, стыдливо и смешно приседали. Дежурный время от времени покрикивал и тормозил. Вокруг разносился глухой, басовитый стук. Тут же огромная стрела поднимала в небо привязанных к сиденью любителей острых ощущений, опускала вниз головой до земли и снова взмывала вверх. Некоторые даже не держались, а, расставив руки, летали, как ласточки.
Во всем этом было не так уж много затейливого, но Вале тоже стало хорошо. И, катаясь, она все больше проникалась чувством какой-то окрыленности. А когда выбралась из лодки и сошла с помоста, сердце у нее билось толчками — тук! тук! тук! Алешка угадал это. Не спрашивая согласия, потянул на танцевальную площадку. Но как только они подошли к ней, взвился фейерверк. Музыка и шарканье ног стихли. Россыпь разноцветных звездочек — зеленых, желтых, красных — повисла над вершинами деревьев. Трепетный свет залил людей, деревья. Через мгновение звезды покатились вниз, а навстречу им взлетели тени.
Танцевать расхотелось. И они побрели песчаной дорожкой по склону пригорка.
Огни фонарей, мерцавшие между деревьями, не доносили сюда света. В кустах, в кронах деревьев притаилась темень. И хотя от танцевальной площадки долетала музыка, от качелей — глухие удары лодок о доски-тормоза, а на Первомайской улице то и дело звенел трамвай, — и музыка, и удары, и трамвайные звонки казались далекими и нездешними.
— Тут хорошо, — сказала Валя, подставляя лицо теплому повеву.
Не желая дальше слушать ее, Алешка ухмыльнулся:
— Пойдем к этой коллективистке? Отметимся? Верно, деликатесы разные будут. Рванём?
— Нет, конечно…
— Ну и черт с ними!.. У матери с глазами плохо, — зашептал Алешка. — А я и про это думать не могу… Чего волыним? Неужто не видишь, как тяжело мне?
Он подался к ней, но Валя откинула голову. Обняв и поддерживая ее за спину, Алешка все же дотянулся до Валиных губ и припал к ним. Страх заставил Валю слегка отстраниться и закрыть их ладонью. Но Алешка пересилил ее и снова привлек к себе. В такой неудобной позе, замерев, но борясь, они остались на долю минуты.
— Не надо, Костусь, пусти, — слабо попросила она.
Однако Алешка отвел от губ ее руку и опять начал целовать.
Она грудью чувствовала, как бешено бьется его сердце, и это кружило голову. Воздух, который вдыхала теперь Валя, обжигал губы. Таким же горячим казалось прикосновение Алешкиных рук. А тот прижимал Валю к себе и все ниже опускал по ее рукам свои руки, судорожно перебирая пальцами.
По когда он, потеряв над собой власть, порывисто дыша, попытался клонить ее к земле, Валя вдруг уловила запах водки. Он выпил перед тем, как идти сюда! Зачем? Чтобы приглушить что-то в себе и быть смелее? Значит, он заранее готовился к этому!..
Уже и раньше вместе с отнимающим силы томлением в ней было желание сделать Алешке больно, за что-то отомстить. Смириться она могла, только протестуя против того, что ожидала и что надвигалось на нее. Были и мысли: "Ты ли это, Валя? Опомнись! Иначе завтра — кто знает! — опостылеешь себе и тогда трудно будет глядеть на свои голые плечи, руки, которые радовали прежде. Доведется кусать пальцы, плакать, боясь, что тебя услышат, и страдать от бессилия что-либо изменить. А сквозь слезы в душу будет закрадываться страх: а что если?.. Разве уже решено все? Наоборот… А если выберешь другого? Ты же принесешь страдания и ему. Простит ли он тебе? Да и любовь, когда прощают, не та любовь…"
Правда, потом мысли исчезли, но желание противиться осталось. Сейчас же оно охватило Валю всю, пробудило даже ярость. Почти бездумную, но лютую.
Она рванулась и оттолкнула Алешку, И, сбегая среди редких сосен с пригорка, слыша топот Алешкиных ног, лихорадочно думала, куда ей сейчас бежать. Куда?
Обессиленная, Валя добежала до домика Урбановичей. В окнах горел свет. Занавеска в одном окне была приоткрыта, и она увидела их всех — Зосю, Алексея, Светланку. Они сидели за столом, занятые каждый своим. Подперев рукой щеку, погруженная в себя Зося читала книгу. Рядом с ней, неумело держа ножницы и высунув от старания язык, девочка резала бумагу. Положив на стол длинную, чуть ли не на всю комнату, рейку, Алексей прикреплял к ней ватерпас и, что-то обдумывая, склонял голову то на одну, то на другую сторону. "Как это хорошо!" — с завистью подумала Валя. И, услышав, что во дворе цепью загремела собака, крикнула через весницу:
— Зося! Выйди сюда! Пожалуйста!
Чувствовать себя оскорбленным может не только тот, кого оскорбили. Алешка рвал и метал, более чем убежденный, что Баля все перекрутила по-своему.
"Чистюлька! — возмущался он. — Кого ты из меня делаешь? Мне ведь и так хватает. Разве я не хотел, чтобы ты мои была?.. Ну ладно!.."
Найдя фонтанчик питьевой воды, Алешка умылся и решительно зашагал из парка.
Он не знал номера Аллиной квартиры: до того, если приходилось, провожал лишь до подъезда. Однако поднялся на второй этаж, послюнявил пальцы, пригладил брови и позвонил в первую попавшуюся дверь. Когда щелкнул замок и в приоткрытой, взятой на цепочку двери показалось женское лицо, нагловато сказал:
— Я к Алле. Она тут живет?
— Заходите, — грустно пригласила женщина.
За стеклянной дверью, в гостиной, на рояле заиграли туш. В переднюю выбежала Алла, не удивилась, зааплодировала, помогла ему раздеться и, держа за концы его белый шарфик, придирчиво оглядела. Потом забросила шарфик за его голову и так потащила не в гостиную, а в свою комнату. Там царили голубые сумерки. Горел ночничок на тумбочке у кровати, и от трельяжа исходил рассеянный свет, дробясь в алмазных гранях флаконов и пудрениц.
— Один? Поссорились? — дурашливо засмеялась Алла. — От тебя за версту несет парикмахерской.
Она взяла пульверизатор, сжала в ладони голубую грушу с кистью и обдала Алешку душистыми брызгами.
Нарочито грубо, не отвечая, он взялся за мочку ее уха, привлек к себе и поцеловал, чувствуя, что Аллины зубы с хищной осторожностью впиваются в его губы.
— А что, больно? — через минуту спросила она, растирая укушенное место пальцем и, как ни в чем не бывало, ведя Алешку в гостиную.
Там было четверо: бледнолицый, с усиками, длинными, зачесанными назад волосами Ковшов; горбоносый рыжеватый артист филармонии Прудник — тоже в широкоплечем пиджаке и в узких брюках, и две девушки с причудливыми прическами, одетые ярко, но со вкусом. Одна из них студентка консерватории, тонкая, безгрудая, вероятно, только что кончила играть и шла от роняя к остальным, что стояли у круглого столика. Походка у нее была медлительная, вялая. Она едва поводила плечами и держала руки по швам.
Нового гостя дружно приветствовали и расселись вокруг столика. Только Алла осталась стоять, облокотившись на спинку кресла, куда сел Алешка.
— Мы говорили тут, Аллочка, про тебя, — сказал Ковшов, бережно поправляя волосы на висках и переводя глаза на полную, с застывшим, будто нарисованным, лицом девушку. — Зина вспомнила о прошлогоднем курорте.
— Ха-ха-ха! — утробно захохотал Прудник.
— Очень нужно, пусть она сначала о себе расскажет, — безразлично ответила Алла. — О купальнике, в котором в очереди за нейлоновыми манишками стояла. Или как ходила на пляж с двумя полотенцами, словно Иисус Навин.
— Непонятно, — приподнял широкие плечи Ковшов.
— А ты расспроси. Одно полотенце для головы, а другое вместо юбочки. Дошло? Сила!
— Что в этом особенного? — спокойно удивилась толстушка. — Я просто была постельно больной…
— Ха-ха! Два — ноль в твою пользу!
— Два — это не так уж много, — вставил Алешка, набираясь, как и они, игривого нахальства.
— Мерси, тоже очко, ха-ха!
Перешли в столовую.
Нельзя сказать, чтобы Алешке понравились его компаньоны. Особенно прыщеватый от вожделения Прудник, который из-за пустяка хохотал громче всех, считая это признаком собственного достоинства. Безгрудую же ломаку, с походкой, как у загипнотизированной, — ни кожи, ни рожи! — он возненавидел сразу. И поэтому, когда стали пить, пьянел тяжело, стал показывать клыки и все больше наливался свинцовым упрямством.
Алла заметила это, и, когда Алешка, подняв вилку, как оружие, скосил свои страшноватые глаза на Прудника, осторожно взяла под руку и потянула в кабинет отца. Усадив на тахту, по-кошачьи примостилась рядом и положила руки ему на колено.
В столовой звенели рюмки, было слышно, как хохотал Прудник и медлительная студентка рассказывала анекдот о каком-то пустыннике, его искусительнице, эликсире и знаменитой башне в Пизе. Алешка как бы впитывал это в себя и, хмелея, делался все более мрачным.
— Хорошо Урбановичевой Пальме, — сказал он, — гавкнет, скажем, на тебя, а никому ведь и в голову не придет обижаться или поправлять ее. А тут и перекрутят еще…
— А мне хоть бы что, — отозвалась Алла. — Я просто не обращаю внимания. Пускай себе.
— Ого, не обратишь!
На письменном столе зазвонил телефон.
Торопливо чмокнув Алешку в щеку, Алла вскочила и подбежала к столу.
— Алло! — как можно спокойное сказала она, игриво глядя на Алешку, который тоже встал с тахты и, шатаясь, подходил к ней. — Я вас слушаю. Иван Матвеевич?.. Нет, папы нету…
— Зимчук? — хрипло спросил Алешка. — Вот еще один праведник… Дай!
— Ты с ума сошел! — крикнула она, испуганно зажав мембрану в кулаке.
— Дай, говорю!
На него стало жутко смотреть.
Алешка вырвал из ее рук трубку и поспешно проглотил слюну.
— Эй, вы, Иван Матвеевич! — надорвался он. — Я говорить с вами хочу… Что? Пьяный? А на кой черт я кому, если все в норме. Про меня, может, и вспоминают только, когда провинюсь и критиковать надо. Попал на язык, то уже не надейся, что спустят…
Испуг, вызванный его странным поступком, у Аллы проходил.
— Зачем он тебе, Костя? Охота связываться! — шепнула она, показывая, видимо Зимчуку, нос.
Алешка отстранил ее и более спокойно сказал в трубку:
— Ой ли! Такая помощь тоже не мед. Мне ни нянек, ни надзирателей не нужно. Тем более, если они тебя за преступника считают. А какой я преступник? Я только сам до всего дотронуться хочу. А разве крамола это? Привыкли, чтоб все на вас были похожи. Чтобы ваше слово законом служило. И мне теперь дозволено одно — каяться и оправдываться" А что, если я не умею оправдываться? Если для меня на миру и смерть красна? Понятно это вам? Доходит?
— И не лень тебе? — тихо, но уже более настойчиво попросила Алла, пренебрежительно глядя на телефонный аппарат. — Неужели не осточертело еще? — и нажала на рычаг указательным пальцем.
Алешка не обиделся, устало положил руку на ее плечо и опустил кучерявую голову. Ластясь, Алла взлохматила ему волосы, сняла с плеча его руку и заставила обнять за талию. И эти расчетливые уверенные, немного торопливые движения замутили мысли Алешки, переключили на другое. Он сжал Аллу и почувствовал, как шумит кровь в голове.
— Папа улетел в Москву, — зашептала она, пряча лицо на его груди. — Ты, если хочешь, можешь остаться… До утра…
Когда гости ушли, она проводила его в свою комнату. Принесла графин с коньяком, нарезанный тонкими ломтиками лимон на блюдце. Как-то таинственно и торжественно поставила все это на тумбочку возле кровати и, не погасив ночника, стала раздеваться.
Глава третья
Светланка после сна обычно бывала ласковой. Она садилась на кровати, как только просыпалась, и, протерев глаза, без слов тянулась к отцу или матери — кто стоял ближе. Обняв за шею, прижималась к щеке и замирала, не имея силы сбросить с себя сладкую истому. Целовала она словно нехотя и издалека складывала губы. Но в этом было столько трогательного, что родители уже не могли быть взрослыми.
— Проснулась? — спрашивал Алексей, когда был в хорошем настроении. — Что во сне видела? А?
— Сон, папа.
— Какой, помнишь?
— Зеленый такой, зеленый.
Встав на колени, чтобы было удобнее, Алексей сам начинал одевать дочку и фантазировал:
— Я уж во дворе был, тька! С солнышком разговаривал.
— Ну-у? — веря и не веря, широко раскрывала она глазенки.
— Оно про тебя спрашивало.
Несмотря на ночное посещение Вали, которое взбунтовало его, Алексей все равно чувствовал себя именинником. Полученная им вчера зарплата была рекордной, и он принес ее домой как заслуженный подарок. "Радиолу купим, как раз в магазине есть, — сказал он с независимым видом. — У нас тоже губа не дура. Пусть будет". И, проснувшись, опять заговорил с дочкой о солнышке и даже показал в окно:
— Вон видишь. Давай скорей!
Солнце действительно заглядывало в окно. Его зайчик сверкал на никелированном шарике кровати. Оно дробилось в зеркале, висевшем на стене над тумбочкой, и окрашивало его грань в цвета радуги. На подоконнике, словно в сиянии, цвели огоньки. Утром Зося выносила вазоны из комнаты и поливала. Капли на листьях будто дрожали.
Взяв за руку, Алексей вывел Светланку во двор. Велел умыться из таза, стоявшего на табуретке возле крыльца, и окликнул Пальму. Позванивая цепью, гремя проволокой, овчарка подбежала и уставилась на хозяина агатовыми глазами.
— Ишь ты, морда! — потрепал ее по загривку Алексей. — Гляди, чтоб все было как было. А то дам!
— Дав! Дав! — гавкнула Пальма, льстиво махая хвостом.
— Вот тебе и "дав"! — передразнил Алексей.
Позавтракав, они собрались и пошли.
Было приятно смотреть на эту молодую семью — на Зосю в светло-сером платье и беретике, со строгим, красивым лицом и густыми волосами, которые было трудно держать под беретом, на Алексея, который в вышитой рубашке и тщательно отутюженных брюках шагал, как на демонстрации, неся дочку на плече, на Светланку в голубом платьице и с такими же лентами в косичках. И потому, что Светланка была похожа и на мать и на отца, казалось, все они чем-то похожи. А может, и в самом деле люди, долгое время живя вместе, перенимают друг от друга не только привычки, вкусы, характер, но и внешние черты, выражение…
— Семья Урбановичей идет, — сказала Зося, смеясь от наплыва хороших чувств.
— Ты сына давай, тогда "во" будет, — поднял Алексей большой палец. — Да и сама станешь настоящей женам, а не учительницей.
Зося испуганно показала глазами на Светланку.
— А что тут такого?
Вошли в Театральный сквер. Вокруг цвели высокие липы. От них волнами исходил терпкий медовый запах. Алексей снял Светланку с плеча, и они повели ее вдвоем, взяв за руки. Около фонтана с каменным мальчиком и лебедем она заставила остановиться. Розовый мальчик по-детски обнимал своего друга. Приложив ладонь ко лбу, всматриваясь в высокую лазурь, он словно выбирал, куда его другу лететь. А лебедь, хотя и взмахнул крыльями и вытянул шею, еще не знал, полетит он или нет. Высвободив руки, девочка обежала вокруг фонтана и вдруг, пораженная, остановилась.
— Папа, ты?! — воскликнула она, словно нашла то, что от нее прятали: — Ты! Ты! А вон и дед!
Зося уже не один раз приходила в сквер посмотреть на портреты мужа и дяди Сымона. Подолгу стояла перед Доской почета, разглядывая их серьезные, натянутые лица и перечитывая скупые подписи. Заходил сюда и Алексей и, чтобы выглядеть не очень счастливым, поглаживал щеки, подбородок, не давая проступить улыбке. И когда Светланка крикнула: "Папа, ты!", это заставило Алексея заново пережить радость.
— Я, дочушка. Не святые горшки лепят, пойдем, — сказал он и заговорил о другом. — Валю жалко, хоть сама и любит учить других. Таких урвителей, как Алешка, гнать от себя надо, шлендает, шатается. Встречные уже обходить начинают. А недавно снова видел с фифой, которой ничего не жалко.
— Чего ты так зло? — спросила Зося, проверяя, не слушает ли их Светланка. — Ему тоже не сладко, назло козыряет.
— Ты всех, кроме меня, оправдываешь. А я не то что… горло грызть таким охальникам готов. На лихо он живет? Прибытков и тот свою кельму смастерил. Она у него и за молоток и за кельму служит. А Алешка что? Ни себе, ни другим. Вот поработала бы с ним…
Зося знала — подобные разговоры пробуждают в Алексее ревность, он вспоминает прошлое, терзает ее, себя. И она как могла спокойнее сказала:
— Глупенький ты! Знаешь, куда мы идем? — И грудью прильнув к мужу, повисла на его руке. — Пойдем скорей, а то разберут все.
В магазине людей было густо, но больше любопытных, и вскоре продавец поставил на прилавок обтекаемой формы радиоприемник. Алексей сам воткнул штепсель и щелкнул выключателем. Около шкалы с радиостанциями засветился зеленый круглый глазок. В динамике загудело. Алексей повернул ручку настройки. И по мере того как яснел круглый глазок, очищался и усиливался звук в динамике.
Многие трудности первых послевоенных лет отходили в прошлое. Они начинали даже казаться странными. Были созданы предприятия строительных материалов и крупные строительные организации. Почти каждый десятый горожанин был в комбинезоне строителя или одежде, измазанной известью, краской. Да и сам город напоминал огромную стройку. На юго-западной окраине воздвигались автомобильный и тракторный гиганты. Возле них вырастали большие заводские поселки, которые позже должны были слиться с городом. Все яснее проступали контуры площадей, улиц. Заканчивали трамвайную линию от центра к Сторожевке, и приближалось время, когда городские сорванцы получали право целый день кататься бесплатно в празднично украшенных трамваях.
Строительный сезон был в разгаре. По улицам катили самосвалы, грузовики с кирпичом, с железобетонными плитами, балками. Грузовики с прицепами везли бревна, железные прутья, арматуру. Своим ходом куда-то передвигался экскаватор, за ним — бульдозер, и на перекрестках, поблескивавших новым асфальтом, им под гусеницы подкладывали доски. Колеса и гусеницы оставляли после себя следы глины, она быстро подсыхала, трескалась и пылила. Космы пыли несло и от котлованов, от куч навороченной земли. Она стлалась, вихрилась.
Переступая глубокие колеи и колдобины, выбитые автомашинами, Алексей миновал ворота и очутился на территории стройки. Все здесь было знакомо так, что почти не замечалось. Леса, наспех сброшенные возле забора. Под навесом навалом бумажные кули с цементом, груды извести, песка. Дальше — растворомешалка, куча кирпича, подъемник, транспортер. На отшибе склад-времянка, где находилась и контора прораба. Неизбежный строительный мусор. Но все это, почти не фиксируемое сознанием, всегда настраивало Алексея на хозяйский лад. Мысль начинала работать в одном направлении.
— Привет, дядя Алексей! — поздоровался с ним моторист — курносый, веснушчатый парень, которого на строительстве почему-то звали "Швагер".
— Здорово, — ответил Алексей и направился к конторе.
Алешка с заспанным лицом сидел на скамейке за длинным, наспех сколоченным столом и графил ведомость.
— Кирпича хватит? — спросил с порога Алексей, невольно вспоминая разговор с женой о Вале и чувствуя большую, чем обычно, неприязнь к Алешке.
— А что?
— А то, что прошло время, когда кирпич привозили прямо от печей — горячий, с дымом, когда мы его в стены теплым клали. А все равно своевременно подвезти не можете.
— Ты что, сегодня с левой ноги встал? — вверх, как птица, взглянул Алешка.
— А разве не было этого на прошлой неделе?
— Было, да сплыло, ха-ха!
— Мне твои шутки не нужны, — упрямо сказал Алексей. — Завтра сталинградцы приезжают.
— Знаю и, кажется, тоже отвечаю за строительство! — блеснул глазами Алешка, и его тонкие ноздри задрожали. Позавчерашняя история, за которую он был готов казнить себя, новая бессонная ночь, после которой пришел на работу с головной болью и омерзением на сердце, — все это вдруг породило ярость. Явилась потребность кричать на кого-нибудь, на кого — не важно. Он стукнул кулаком по столу и ощерился: — Ты меня не учи! Учителей и без тебя по горло. Сам знаю, что мне делать и о чем заботиться!
— Потише, — спокойно предупредил Алексей, но потом тоже рассердился: — Я тебе, может, не Валя. А?
— Что Валя? — голос у Алешки сорвался.
— Сам знаешь. Я говорю, не всех можно обижать. Я тебе не девушка. А про кирпич и раствор говорю загодя, чтоб хватило. Подсобника замени — тюфяк. Нового дай, попроворнее.
— Нет, ты скажи, при чем тут Валька? — вскочил Алешка.
Он опрокинул скамейку, вышел из-за стола, забияцким движением подтянул брюки и одернул пиджак.
— Я говорю о ней, чтобы предупредить тебя, — не моргнув, сказал Алексей. — Нехай лучше не бегает плакаться к Зосе. Понятно?
Алешка побледнел, но нагнулся и поднял скамейку.
— А откуда ты знаешь, что в этом только я виноват? Почему обо мне, заступник, ничего не спрашиваешь?
— И так все ясно.
— Тогда ладно, — взглянув на открытую дверь, пробормотал Алешка. — Посмотри вон, чем тебя постройкой встречает. Может, подобреешь и не только то, что под носом, замечать будешь.
Согнувшись в проеме двери, Алексей вышел из конторы и сразу — как он не заметил этого раньше? — увидел на лесах красное полотнище. Крупными буквами на нем было написано: "Работайте так, как бригада Алексея Урбановича!" В груди приятно пощекотало. Он остановился и, не таясь, несколько раз у всех на виду прочитал написанное.
— Нравится? — крикнул Алешка, стоя уже в двери и держась, как распятый, за косяки.
Алексея потянуло к людям. И хотя не было необходимости, он поговорил со Швагером, который копался в моторе. Подошел к бетономешалке, пошутил с девчатами, с удовольствием замечая, что те смотрят на него внимательнее, чем обычно, разглядывая, как малознакомого, и нет-нет да и переводят взгляды с него на полотнище. Потом перекинулся словами с вахтером, седоусым стариком, похожим одеждой, видом на охотника, и только после этого поднялся к себе на леса.
Прибытков уже готовился к работе. Но, заметив бригадира, подошел.
— Видел? — спросил Алексей, собираясь хлопнуть молчаливого каменщика по плечу и превозмогая это желание: панибратства в среде мастеров не любили.
Прибытков кивнул бородой. Но по тому, как он взял ее б горсть и провел по ней, Алексей догадался — настроение у него тоже приподнятое.
— Ну и как? — опять переспросил он, осмелев и меньше опасаясь задеть его самолюбие.
— Ничего… Законно…
Завязывая на ходу фартук, с изжеванной папиросой во рту подошел Сурнач — кургузый круглолицый здоровяк с любопытными, веселыми глазами. В бригаде Сурнача уважали за золотые руки, за простоту и счастливый талант: он был отличным баянистом, руководил клубным оркестром и часто выступал с ним на стройках.
— С тебя магарыч, бригадир, причитается, — сказал он, сверля Алексея веселыми глазами.
— За мной не пропадало… Но завтра, хлопцы, сталинградцы приезжают. Кого-кого, а нас не минут. Придется навернуть как следует. Пусть посмотрят.
— Ну что ж, навернем! Запросто! — выплюнул папиросу изо рта Сурнач. — Нам репетиций проводить не надо.
Он понимал собеседника больше, чем тот хотел, и обычно смотрел на других слегка иронически, даже насмешливо. Это чувствовал Алексей и все же редко смущался Сурнача. Но, принимая угрюмое трудолюбие Прибыткова за признак ограниченности, он больше, чем перед кем-либо, почему-то терялся именно перед этим многодумным человеком.
— Кельму свою покажешь, — сказал он, чтобы в чем-то оправдаться перед Прибытковым. — Я тоже одну штуку продемонстрирую. На ветру пока ты отвесом тем стену выверишь! А эту штуку приложи — и готово.
— Давай удивляй! — иронически поддержал Сурнач.
Возводили третий этаж, но вокруг еще не было зданий, и отсюда открывался широкий вид на город. Даже была видна окраина: зеленая купа Сторожевского кладбища, среди нее белая церковка с синей луковкой, окраинные домики. За ними в мглистом куреве гряда холмов, извилистая полевая дорога с тоненькими, как черточки, столбами, пригородная деревня, а за всем этим — полоска далекого леса. Веяло простором, и воздух казался здесь чище, чем где.
— Эх, и работном! — выдохнул Алексей, ища глазами домик Сымона. — Нехай знают, коль интересно…
Делегация сталинградцев состояла из восьми человек. Возглавлял ее начальник производственно технического отдела Главсталинградстроя инженер Рыбаков. Гости встретились с Юркевичем, осмотрели город, ознакомились со строительством автомобильного завода и только на следующий день, разделившись на группы, пошли по объектам.
Алексей заметил их, как только они показались в воротах стройки. Чувствуя, что по спине пробегает холодок, он негромко предупредил Прибыткова:
— Ну, Змитрок, на всесоюзную арену выходим. Предупреди хлопцев, а я встречать пойду. Они к Алешке, должно быть, сначала заглянут.
Он бросил кельму, вытер о штаны руки и, заметнее обычного переваливаясь, начал спускаться по шатким сходням.
На площадке царило оживление. Все, казалось, было как всегда. У растворомешалки суетились девушки. С грузовика рабочие сбрасывали песок. Напряженно скрипел подъемник, подавая ковш с раствором. Но приподнятое оживление замечалось во всем: и в том, как работали девушки, — чаще, чем это нужно, поправляя платки, — и в размеренных движениях рабочих, сгружавших песок, и даже в поскрипывании подъемника, напоминавшем курлыканье журавлей. Это передалось Алексею, и он, взволнованный, подошел к конторе прораба. Но то, что увидел в темном прямоугольнике двери, смутило его окончательно. Обнимая одного из сталинградцев, Алешка хлопал его по спине и захлебывался то ли смехом, то ли плачем.
— Микола, ай, Микола! — повторял он, и Алексею Казалось, что на светлых, обычно насмешливых глазах его слезы.
— Что это у вас такое? — спросил он со скрытой иронией, почти догадываясь, кого обнимает Алешка.
Плечи сталинградца вздрогнули, он выпрямился, но Алешка не выпустил его из объятий, и тот не мог пока повернуться. Однако по красивой голове, по фигуре, стройной, широкоплечей, по чуть кривым, как у кавалеристов, ногам Алексей узнал Кравца.
— Пусти-ка, прораб, — сказал он, поддаваясь порыву. — Я, кажись, тоже был в партизанах, и мы не меньше знакомы. Слышь, а?
Они тоже обнялись и поцеловались. Держа бывшего "заклятого друга" за плечи, Алексей стал разглядывать, надеясь найти в его лице что-нибудь новое и чужое. Но тот совершенно не изменился. Словно и не годы прошли, словно и не вступала в свои права зрелость. Как и пять лет назад, под козырьком кучерявился порыжевший от солнца казацкий чуб, как и прежде, поблескивали серые, страшноватые для многих глаза, и так же презрительно вздрагивали при улыбке ноздри прямого короткого носа.
— И ты здесь, чертушка? — вскрикнул Кравец совсем как раньше. — А я гляжу, какой это Урбанович ходит во славе?
— Я тут дома, а вот ты каким манером сюда попал? — в свою очередь спросил Алексей.
— Закончил войну, погостил у родителей на Кубани, а потом рванул в Сталинград. Вот так, Лёкса, и попал. А Зося где? Наставничает, наверно?
Только теперь Алексей обратил внимание на остальных. В конторе были также Кухта и двое незнакомых — очень смуглый, небольшого роста, сухощавый мужчина и высокий, почти такой же, как Алексей, богатырь с волевым, энергичным лицом. Приветливо и снисходительно улыбаясь, они ждали, когда спадет возбуждение, вызванное этой встречей, и молчали.
— Знакомься, — сказал Кухта, встретив взгляд Алексея и показывая на смуглого мужчину. — Инженер Рыбаков. А это — Сычков. Слышал? Работает над механизацией штукатурных работ. Ну, а это, как известно, Кравец, твой собрат по профессии.
И хотя встреча с Кравцом, скорее всего, могла принести только терзания, Алексею было приятно видеть этого, когда-то своенравного кубанца, и, здороваясь с остальными, он смотрел только на него. В глубине же души они оба удивлялись, что все проходит так гладко.
— Спрашиваешь, как живу? — повернулся Алексей к Кравцу. — Спасибо. Дом построил. Сад посадил. Дочку имею.
— С Зосей живешь? — настойчиво повторил Кравец, гася насмешливые и в то же время тревожные огоньки в глазах.
— А то с кем же? Я, брат, занапрасно не меняю жен, как другие. Мне хватит и одной. Тем более, если она обещает целый, дом детей навести. Видишь, какие обещании дает?
— Та-ак, чертушка…
— А ты, должно быть, все еще холостяком ходишь?
— Свободный пока.
Это почему-то укололо Алексея. Он переступил с ноги на ногу и напряженно предложил:
— Пойдем, посмотрите, как работаем. Можно, товарищ Кухта?
Сталинградцы собирались сначала ознакомиться с учетом и организацией труда на стройке. Но отказываться было неловко, и все подались из конторы.
Алексей поднимался по сходням последним. Он слышал, как пыхтел и отдувался Кухта, как шутил Кравец, и все больше волновался. Его успех или неудача приобретали теперь особый смысл. Шли годы, а Алексей не мог простить Зосе ее увлечения, не мог примириться с тем, что Кравец когда-то любил жену и был близок с ней. А главное, что все это происходило на глазах. И вот сейчас его успех как бы должен был положить конец прежнему и нынешнему молчаливому спору, должен был успокоить самого, поднять еще выше. И он внутренне холодел от нетерпения и ожидания.
Пока сталинградцы знакомились с другими членами бригады, рассматривали ватерпас, кельму Прибыткова, он топтался у своего рабочего места, исподлобья смотрел на подручного и незаметно вытирал вспотевшие ладони.
Взялся он за работу неторопливо, наблюдая за бригадой и постепенно входя в ритм. Несколько месяцев назад бригада стала работать "двойками", и теперь Алексей полагался на это.
— А ну, Степан, давай! — сказал он через минуту подручному.
Тот зачерпнул сизоватый вязкий раствор и разостлал его по стене. Раствор заполнил пазы, неровности и начал твердеть, будто угасая. Дохнуло острым запахом извести, речного песка. Проникаясь сознанием, что под руками нечто живое, Алексей провел по раствору кельмой, привычным движением взял из подготовленной кучки кирпич и не положил, а бросил его рядом с замурованным. Потом, ловко пристукнув ручкой кельмы, потянулся за в вторым, и тот снова, послушный, лёг рядом.
Краем глаза он заметил, как одобрительно кивнул Сычков и оживился Кухта.
— Наддай, Степан! — не выдержал Алексей, чтобы опять не подогнать подручного.
Широкоплечий, сильный, он, казалось, не работал, а распоряжался кирпичом, раствором, напарником, и делал это легко, свободно, без всякого напряжения. Сосредоточенность проступала разве лишь на обветренном, с крупными чертами лице.
Он чувствовал в себе хмельную силу. Она просилась в работу. Ему захотелось развернуться, подать голос, крикнуть что-нибудь вроде молодецкого "гоп-ля".
Так он проработал около получаса, пока кто-то не положил на плечо руку. Почувствовав ее, Алексей огляделся. Возле него стоял Кухта, за ним, усмехаясь, Кравец, немного дальше — Рыбаков с часами в руке, Алешка, Сычков.
— Шабаш, — сказал Кухта, сжимая плечо Алексея. — Теперь подсчитаем. Устал?
От работы горели ладони и гулко билось сердце.
— Нет, — нарочно похвалился он, — наоборот, Павел Игнатович. Устаю, коли медленно работать приходится.
— Точно, чертушка! — согласился Кравец. — Ты заставь человека ходить, как в кино я видел, когда что-то испортилось. Ногу одну поднял, поставил, потом другую поднял. Он так и километра не пройдет. Я, между прочим, тоже не могу.
— Нет еврейской семьи без бабушки! — ввернул Алешка. — Ха-ха-ха!
Поддержка Кравца, собственный успех и даже хохот Алешки настроили Алексея на щедрость. Появилось желание чем-то отблагодарить всех. Да коль показывать себя, так показывать по-настоящему! И он торжественно произнес:
— Если можно, товарищи сталинградцы, буду просить вас к себе. Встретимся, поговорим, опытом обменяемся… — И, отведя Кухту в сторону, стал торопливо и горячо что-то шептать ему, прикрывая рот ладонью.
Когда Алексей приглашал сталинградцев, он был в ударе. Это получилось у него само собой, как делаются все великодушные жесты. Идея понравилась Кухте, и тот, чтобы придать банкету "фундаментальность", предложил помощь. Алексей принял ее, и это окончательно рассеяло сомнения, которые начали было точить его. Но когда он вернулся домой и перечислил Зосе приглашенных, то сам удивился тому, что сделал. В его доме будет Кравец! Кравец окажется рядом с Зосей. Они поздороваются за руку, станут разговаривать, Кравец будет смотреть на Зосю. Подвыпив, начнет шутить, может, даже вспоминать прошлое, а ему, как хозяину, придется мириться со всем этим и только усмехаться. Алексей заметил, как замешкалась, смутилась и Зося.
— Разве Кравец тоже здесь? — нагнулась она над Светланкой.
— Этот будет всюду, где ему лучше, — отрезал Алексей, наливаясь мстительным чувством и злым любопытством. И, уже готовый на страдания, только бы что-нибудь узнать еще, в чем-нибудь убедиться, что-то разоблачить, он добавил: — Коли демобилизовался, к себе на Кубань поехал. Говорил, месяц у родных прожил — как в карты проиграл. Но колхозного хлеба не захотел. Стал патриотом и Сталинград восстанавливать поехал. Так что встретитесь.
— Мне с ним нечего встречаться, — обиделась Зося, но не отошла от Светланки и не взглянула на мужа.
Он ждал, что жена обязательно начнет возмущаться, и то, что она не возмутилась, еще крепче разбередило душу.
— Ты, может, скажешь, и не было ничего вовсе?
Зося не ответила, взяла Светланку за руку и направилась к двери, но от порога повернулась.
— Было да сплыло. Не надо про это. И не вспоминай больше!..
Удачи приносят в семью согласие. Да и Алексей не давал последнее время поводов для ссор. Окруженный вниманием других, он не мог оставаться прежним.
С того времени, как Урбановичи переехали в собственный дом, в семье стали укореняться свои привычки, свой обиход. Вставали, как и во всякой рабочей семье, рано. Зося бралась готовить завтрак. Алексей выходил во двор и возился у дома: он умел находить работу. Да и заботы, которых хватало в любую пору года, казались срочными, неотложными. Дом стоял как игрушка, но нужно было оштукатурить сени снаружи, поставить частокольчик от улицы, построить возле сарайчика душ, вскопать землю под яблонями… И Алексей, встав утром, сразу же принимался за дело и работал, пока Зося не звала завтракать.
Из дому уходили вместе. Алексей — на строительство, Зося — со Светланкою в ясли, а оттуда в школу. Когда снова собирались вместе, Зося заставляла мужа подробно рассказывать о прожитом дне. И если он начинал сразу с того, что его занимало, просила: "Ты по порядку, ничего не пропускай… Ну, ты пришел, а дальше что?" Выслушав его скупой рассказ, она начинала рассказывать сама, — чаще всего о дочке, ученицах, но зато основательно, ничего не пропуская, уверенная, что мелочей в таком деле нет и все одинаково важно. По вечерам принимались каждый за свое: Зося — за планы и тетради, Алексей — за какую-нибудь прореху в хозяйстве.
Правда, он упорно, и чем дальше, тем больше, добивался, чтобы Зося бросила работу — сама воспитывала дочь. И случалось так, что Светланка, их общая радость, становилась причиной неладов. Стоило ей только прихворнуть, вернуться из яслей с поцарапанной щекой, как начинался тягостный разговор о Зосиной работе. Бывало еще хуже, когда она задерживалась на педсовете или родительском собрании. Алексей встречал ее тогда вовсе отчужденно. Им еще было невдомек: чтоб семья оставалась счастливой, мало одних удач и достатка. И, возможно, это стало яснее именно сейчас, когда у него, знатного каменщика, готовился званый ужин для делегации строителей такого города, как Сталинград. Думал ли, видел ли когда-нибудь во сне Алексей, что ему, бывшему деревенскому парню, у которого если и есть что-либо необыкновенное, то это сильные руки да жадное к работе сердце, придется от имени строителей столицы принимать у себя, приветствовать и угощать таких гостей. Нет, никогда не думалось и даже во сне не снилось! И все же он страдал в такую торжественную минуту, страдал и думал: "Нехай, может, ее и не было бы совсем".
Зося, раскрасневшаяся, но решительная, в веселеньком фартуке и платочке, бегала из кухни в комнату, где поставили столы, и носила посуду, настряпанную вкусноту. За ней по пятам важно ходила тетка Антя и показывала, куда что ставить. Чтоб поместилось больше гостей, столы разместили наискосок, оставив узкие проходы. Располневшая за последние годы Антя едва пролезала в них, подтягивая, насколько могла, живот, и сердилась.
Сымон сидел в углу на табуретке, с наслаждением курил и, добродушно посмеиваясь над женщинами, сыпал рифмами: "Что правда, то не грех, что торба, то не мех. У богатого гумна и свинья умна. Так, Антя?.." Когда же к нему подошел Алексей и, указав на радиолу, спросил, сколько она, по его мнению, стоит, Сымон засмеялся: "Не подкрепишься — за кусок хлеба отдать согласишься".
Посуды не хватало, пришлось занять у соседей, по зато теперь, накрытый белоснежными скатертями, уставленный бутылками и закусками, стол выглядел на славу, хоть при нем и стояли разные стулья.
Предоставив женщинам хозяйничать, как им заблагорассудится, терзаясь Зосиным вызовом, Алексей, может быть, впервые в жизни бродил без всякой цели из комнаты в комнату, включал и выключал радиоприемник, разглядывал себя в зеркало. Из кухни вкусно пахло жареным. Он вдыхал этот запах и, все больше волнуясь, опять начинал слоняться по комнатам. Но как только, просигналив, возле весницы остановилась первая "Победа" и Алексей вышел на крыльцо встречать приехавших, все заслонили хозяйские заботы. Он провел гостей в переднюю, позвал жену и, знакомя сталинградцев с Зосей, стал помогать им раздеваться. Даже когда очередь дошла до Кравца и тот, блеснув глазами на Зосю, озорно спросил, почему не знакомят его, Алексей нашел в себе силы ответить шуткой: такого, мол, знаменитого каменшика, как Кравец, и так все знают. Затем, словно ничего и не произошло, повел всех осматривать сад.
Яблони стояли строгими рядами. Еще не густые их кроны, будто прислушиваясь к окрестным звукам, едва очерчивались на бледном предвечернем небе.
— Молодец! — первым похвалил Кухта. — Если б каждый за свою жизнь посадил хоть одно деревце, вырос бы целый зеленый океан.
— У нас по двадцать шесть метров на душу запла-нировано такой роскоши, — бросил Кравец. — Да и растет все как скаженное. Точно. Канадский клен, чертушка, аж на два метра за год шугает.
— Тут тоже растет, — желая перечить всему, что ни скажет Кравец, сдержанно проговорил Алексей. — Только трудись. А то бывает и так: пряла, ткала, шила, да все языком. Ты вот скажи: сколько сам посадил? Свои метры, небось, другому передал?
— У нас разделение труда существует, — не смутился Кравец. — Я стены мурую, а другие в тресте зеленых насаждений работают. Так даже спорее выходит.
— У нас, у нас, будто тут не нашенское, — подражая интонации Кравца, засмеялся инженер Рыбаков.
— Вы делиться опытом не мешайте, — норовисто встряхнул чубом Кравец. — Пусть только хозяин руку из кармана вынет. Не иначе камень на всякий случай припас. И пусть не задается: у него с организацией труда не так уж распрекрасно. У нас, Лёкса, каменщик совсем не бутует.
— Этого мы не видели, — уже с открытой неприязнью проговорил Алексей.
В доме зажгли огни. В окне показалась ладная, при свете совсем девичья Зосина фигура.
Зося раскрыла окно, и в сад полилась музыка. Она хлынула внезапно, волнами, и все окрест изменилось. Молодой сад окутала таинственная настороженность. На потемневшем небе Алексей неожиданно увидал звезду, потом другую и еще, еще…
— Купил приемник, — произнес он глуховато, забыв, что уже рассказывал об этом. — Хочется, чтобы лучше было. А с тобой, Микола… Я согласен, ежели тебе не страшно, давай потягаемся.
— Да вы хоть по рукам ударьте! — посоветовал Кухта, подтолкнув Алексея к Кравцу.
В окне опять появилась Зося и пригласила в дом.
Он проснулся около трех часов и уже больше не мог заснуть. Башка, словно налитая свинцом, трещала. Было даже больно думать. Повалявшись, он не выдержал и встал с кровати. Захотелось черного хлеба и сырой воды.
Алексей поплелся в кухню, пошарив в тумбочке, нашел кусок черствого хлеба, посолил его, зачерпнул кружкой воды из ведра и сел за стол. Чавкая, начал есть.
Стало немного легче.
Алексей выпивал редко и опохмеляться не привык. Проклиная себя, что пил вчера больше всех, он облокотился на стол и сжал виски. В памяти всплывали отдельные фразы, брошенные или услышанные им вчера. Словно из тумана вынырнуло насмешливо-уверенное лицо Крав-на. Возникла и начала жить тревога, не позволил ли он себе чего лишнего, не обидел ли кого-нибудь из гостей. Он помнил только, как тянулся к Кравцу, обнимал его и убеждал, что напрасно тот дает согласие тягаться с ним, Алексеем. "Ты на руки взгляни. Видишь? — повторял он с пьяным упорством. — Видишь? Сенька, брат мои, сорокапудовую бабу, которой сван забивают, одной рукой кантовал. Слышь?.. У нас в бригаде мастеров ниже шестого разряда вообще нет. Чудак ты несчастный!" И не будь Зоси, все, вероятно, кончилось бы еще хуже. "Ну и хозяин! — ругал себя Алексей. — Приемы еще закатываешь… Теперь иди и проси прощения у сталинградцев и Кухты…" И чем больше вспоминал он вчерашнее, тем больше оно казалось ему бесславным.
Едва дождавшись, когда встала Зося и начала готовить завтрак, он принялся ее расспрашивать:
— Я, кажись, пьяный был вчера? Голова разваливается. Был? А?
— Неужели не был! — сердито ответила Зося.
— И что за беда такая? Будто на гибель повело. Как с горы катился. Все хотел, чтобы Кравец знал…
— Ну вот и узнал, — все еще непримиримо проговорила Зося, догадываясь, чего от нее добивается Алексей. — Под самым его носом так руками доказывал, что лучше и не скажешь.
— А Кравец?
— Что Кравец! Усмехался и за хозяина был.
— Вот лихо на него!
Семью крепят не только удачи. Если в ней живет любовь, ее укрепляют даже тревоги и неприятности. Тот, кого постигла беда, льнет к своему близкому и теперь единственному защитнику. А тот, кому надо утешать, тронутый, что у него ищут поддержки, проникается сочувствием, лаской. И так устанавливается еще большее согласие. Зося полюбила Алексея удачливого, но с годами, привыкнув к нему, стала уважать мужа и несчастного, виноватого. Она прижимала к себе его большую голову и сидела так молча. Он тяжело дышал, ему было неудобно, но он не шевелился, кроткий и послушный. Таким он оставался еще некоторое время, когда неприятности уже миновали, ходил словно по ниточке, и это было самое счастливое для Зоси время.
Видя, как терзается Алексей, Зося вздохнула:
— Ты не одному Кравцу грубил, ты и Кухту чистил.
— Кухту? — с просьбой о пощаде, будто Зося могла сделать так, чтобы этого не было, уставился на нее Алексей. — Как я мог?
— У себя спроси… Сказал, что некоторым руководителям тоже не мешает у тебя поучиться. А хвастался как! А бюрократов как пушил! Жевал и свое вел…
— И Кухту?
— Инженер сталинградский, кажется, что-то записал даже, — с сожалением сказала Зося, бессильная прогнать воспоминание о Кравце. Как он глядел на нее! Что говорил глазами! А она? Опасалась — только бы не остаться с ним наедине.
Нет, она не боялась своего прежнего увлечения; от него защищали семья, Алексей. Но, как видно, не все можно забыть из пережитого, не все вычеркнуть…
— Ай-яй! — в отчаянии закачал головой Алексей. — Вот беда! У нас же и так бывало: погрозись в темную ночь кулаком, утром обязательно спросят, кому грозил. Да кабы я не уважал Кухту аль злобился на него… Обиделся, должно быть?
— Не знаю… — пожалела она мужа.
Он проводил Зосю со Светланкой до яслей, а потом одну Зосю до школы — как раз на пришкольном участке собирались ученицы — и попрощался очень неохотно, точно боялся остаться один.
На стройку он пришел с тревогой и, подозрительно присматриваясь к каждому, кого встречал, неохотно поднялся к себе на леса. Время шло медленно. Казалось, оно оставляет в башке тягучий, нудный шум, и этот шум только и живет в Алексее, а остальное притаилось. Руки работают как бы сами собой. Он даже не знает, какую операцию они вот сейчас выполняют. И Алексей несколько раз ловил себя на том, что словно просыпается, и каждый раз удивлялся: каким образом ему удается все делать как следует? К нему с вопросами подходили Сурнач, Прибытков. О чем-то смешном рассказывал подручный. Но надоедливый шум заглушал все, и сквозь него настойчиво и отчетливо пробивалась лишь одна мысль: надо идти к Кухте, объясниться и покаяться.
Алексей едва выдержал до обеденного перерыва и, когда ударили в рельс, тут же скинул фартук, умылся и побежал в Главминскстрой.
Встретил он Кухту на лестнице. Застегивая пуговицы пыльника, тот сбегал по ступеням. Сзади него, прихрамывая, едва поспевал главминскстроевский фотограф с длинными, как у попа, волосами.
— Ты ко мне? — не остановился Кухта и жестом показал, чтобы Алексей шел с ним. — Поговорим по дороге.
В третьем тресте умудряются кирпич на носилках носить. Видишь, дикарство какое! Будто тачек им не хватает. Вот хочу зафотографировать и на память работничкам приложить к приказу.
— Я по личному делу, — тайком взглянул Алексей на фотографа.
— А ты думаешь, носилки не личное дело! Это, братец ты мой, косность! Самая что ни на есть личная косность управляющего и прораба… Ты, наверно, про вчерашнее пришел объясняться? Ну, давай исповедуйся.
— Я хотел, Павел Игнатович, извинения у вас просить, — выдавил из себя Алексей, немного подбодренный тем, что Кухта начал разговор с неполадок на стройках.
— У меня? — поднял одно плечо Кухта. — Это почему же у меня? Коль уж просить, то у наших строителей.
Ты же от их имени демонстрировал себя: смотрите, мол, какие мы! Что, нет?
— Я был пьян.
— Полагаешь, ты один нашелся такой гостеприимный? Нет, братец, не полагай. А что получилось? Вообразил, оказываешь всем милость — и нам и им. Возомнил и начал куражиться…
Слова Кухты стегали Алексея. Он не мог обманывать себя — в них была правда. Она доходила до Алексея, но, доходя, вызывала одно чувство — тревогу. Перед ним раскрывалась мера его вины, и он прикидывал, искал по ней меру наказания. И о наказании, надо сказать, тревожился больше, чем о вине. Ему были уже дороги внимание и уважение других, и Алексей переживал, что может потерять их. Заглядывая Кухте в лицо, он просительно дотронулся до рукава его пыльника и растерянно спросил:
— Что же мне делать, Павел Игнатович?
— Как что? — сердито вытаращил глаза Кухта. — Думать, что делаешь! И думать с высоты того этажа, на котором работаешь…
У Алексея отлегло от сердца. Значит, ни о каком наказании Кухта не думает, хотя, конечно, недоволен и сердится. Ну и пусть… Да так ли он, в самом деле, виноват? Что он особенного сделал? Зося всегда и во всем такая. У нее вечно предосторожности и страхи за его честь. Он своим трудом купил себе право делать замечания кому захочет. Еще никто не видел работы Кравца, и пусть тот не очень-то задается. Да и Кухта… Пусть любит критику. А его, Алексея, работа видна каждому, Вон она и на проспекте и на других улицах. За нега нечего краснеть! И все-таки, пытаясь окончательно выведать настроение Кухты, Алексей спросил опять:
— А как с моей просьбой, Павел Игнатович? Я ведь просил сталинградцев, чтобы разрешили дом построить у них. Там я оправдаю, будьте уверены…
Было жарко. От быстрой ходьбы грузный Кухта вспотел. Он снял кепку, вытер подкладку носовым платком, обмахнулся кепкой, как веером.
— Придется пока подождать, Урбанович, — ответил он, помедлив.
— Почему это?
— Видишь ли, — подыскивая слова, щелкнул пальцами Кухта. — Вскоре для тебя, да и не только для тебя, будут другие важные дела. Сегодня сообщили, что мы получаем пополнение из ФЗО, и твою бригаду придется расформировать.
— Стращаете? — отшатнулся Алексей. — Как расформировать?!
— Очень просто. У тебя все мастера. Матерые. Вчера ты хорошо об этом сказал. Каждый сам может быть бригадиром. А тебе дадим новых, из фабзайцев. Подучишь — подумаем и про Сталинград.
— С пацанами вождаться? — остановился Алексей. — А?…
Стал и Кухта. Он, вероятно, ожидал такой реакции, потому что спокойно взял Алексея за пуговицу пиджака и притянул к себе.
— Ты не горячись, а рассуди сначала. Выйди на проспект, посмотри. На движение, на людей, на афиши — на всю эту благодать. А зданий — раз, дна и обчелся. Что это такое? Отставание, брат ты мои, наше отставание. А выход где?
— За чужой счет легче всего выкраивать. Охочие у нас на это.
— Я тебе говорю, что другого выхода нет.
— А я тоже не согласен, чтобы на моем горбу в рай въезжали. И никто не согласится. Делайте тогда это гвалтом, коль право такое есть…
Алексей повернулся и, ссутуленный, с опущенными плечами, словно ему было трудно нести свои большие руки, зашагал от Кухты.
Глава четвертая
Несколько ночей подряд шли дожди. Как по расписанию, каждый раз в одно и то же время.
Перед заходом солнца на небосклоне появлялась туча. Выглянув из-за горизонта, останавливалась и ожидала, пока ослепительное солнце пряталось за нее. Бирюза переливалась, меркла, а туча росла. От этого темнело быстрее, чем обычно, и казалось, туча вот-вот пройдет над городом. Но она еще долго гасила звезды и только к полуночи, невидимая, проливалась теплым, спорым дождем.
Ровно и весело дождь лил до самой зари. Он падал откуда-то из хлябей на город. На его пока не замощенные площади, на пустые по-ночному, часто не обозначенные еще домами, улицы, на расчищенные от руин пустыри, новостройки, скверы и тихие окраины.
Город замирал, как необитаемый. Кругом царил только неумолчный шум дождя, который лопотал по крышам домов, рвался из водосточных труб, журчал по водостокам. Лишь в свете редких уличных фонарей было видно, как, оставляя тонкие, похожие на нити следы, дождь падает на землю, в лужи, на которых вскакивают и сразу куда-то плывут мутноватые пузыри. Да вокруг матовых шаров где-нибудь на Комсомольском бульваре или в Театральном сквере можно было видеть, как капли дождя пригибают листья и с них стекают уже струйками. Там же, где еще не было зданий и открывался невидимый простор, сами городские огни напоминали звезды. Немигающие поблизости и трепещущие, мерцающие вдали, они горели, не давая света. По их негустой россыпи только и можно было угадать, где кончается земля и начинается небо, — звезды светились на земле, а над ними чернела кромешная, неохватная тьма.
Тьма и дождь… После таких дождей меняется даже лес. Между деревьями поднимается и, достигнув крон, стынет не то туман, не то синяя дымка. Стволы сосен теряют медный цвет, седеют, и на них вырастает похожий на грибы лисички косматый мох…
На заре дождь утихал. Небо быстро очищалось. И хотя везде и всюду поблескивала вода, и дома, заборы, мостовая были темнее обычного, рассвет наступал ясный-и чистый. Трепетное сияние поднималось из-за горизонта, разливалось по небу и уже оттуда струилось на землю. Овеянный свежестью, но удивительно тихий и даже немного сонливый рассвет опускался на город, словно тихая песня. И, как это бывает, пожалуй, только на заре, после дождя все успокаивалось в ожидании неизведанного…
Под шум дождя спалось хорошо. Дождь барабанил по крыше барака гулко, настойчиво, и, как только он кончался, Валя просыпалась от тишины. Она вскакивала, как по сигналу, и открывала форточку, когда звонкие капли еще падали с крыши.
В комнате Валя опять жила одна — подруги разъехались кто куда. Каждый раз она включала электричество, наспех делала физзарядку, умывалась и, не застлав кровати, садилась за стол.
Третьего дня, когда она в полночь возвращалась с дежурства в редакции, тоже линул дождь. Выйдя из автобуса, Валя пробежала полквартала и шмыгнула в первый попавшийся подъезд. Здесь было темно, как в печи, и она не сразу заметила, что вблизи стоит кто-то еще. Да и внимание ее отвлекли характерные для проходных помещений запах и сырость.
Но, освоившись, Валя в нескольких шагах от себя рассмотрела пару. Обняв за шею парня, девушка висела на нем и заискивающе мурлыкала:
— Ты, Костя, умеешь. Зинка и та от тебя без ума, дура, говорит, если уступишь кому-нибудь…
Валю и раньше многое раздражало в Алешке: его вызывающая мстительная наглость, его отношение к другим девушкам… К тому же тяжесть, которая гнела его, передавалась и ей. А трудно любить, если не радоваться вместе.
После случая же в парке Валя вообще решила пока не встречаться с ним. И все же этот пошепт ошеломил Валю. Боясь оглянуться, она ринулась из подъезда и, услышав, как засмеялись ей вслед, под проливным дождем побежала домой.
Не было сомнения — Алешка искал утех с другими. Зося, ее добрая Зося, тоже страдает. От гордости она пока об этом не говорит, но разве скроешь, если что-то гложет тебя. Тяжело и Юркевичу. Ему нужны поддержка, сочувствие. И надо писать…
О чем? Конечно, о жизни, о ее красоте… Сделать город — а это ведь тоже жизнь! — как можно краше. Увенчать здания скульптурными группами. На площадях, в парках поставить обелиски, статуи. Триумфальными арками отметить въезды в город…
Разве это не заставит людей больше думать о себе и других? Разве утоляемая жажда красоты, данная человеку природой, не сделает свое?
Всякий раз, собираясь на работу, Валя прятала исписанные, помаранные листочки в сумку и несла их с собою в редакцию. Однако так и не решалась прочитать написанное даже заведующему отделом Исааку Лочмелю, который сам недавно стал газетчиком.
Она догадывалась — Лочмель тоже пишет и не только то, что печатает в газете, — отчеты, репортажи, заметки. Он вообще нравился ей: что б там ни говорили — фронтовик! Нравилось, что, неохотно вспоминая о войне, он живет ею; нравились его темные печальные глаза и даже то, что он редко встает из-за стола и всегда на спинке стула висит его трость. Рассказывали, когда начались восстановительные работы и на Старо-Виленской улице стали строить несколько деревянных домов, Лочмель, инвалид, зачастил туда и очень радовался, видя, как на склоне горы они растут, как рабочие ставят на улице изгородь, выравнивают земляные террасы и обкладывают откосы дерном. В портфеле у него всегда лежала библиографическая редкость о Минске, и он знал множество интереснейших фактов из его прошлого. Валя завидовала и удивлялась — откуда такое можно выкопать, каким образом можно сколлекционировать и сберечь в памяти? Видимо, это было главным, что связывало его с жизнью, питало надежду, давало силы. И он аккуратно посещал публичные выставки архитектурных проектов, был в курсе различных конкурсов, участвовал в слетах и общегородских собраниях строителей. Все это сближало Валю с Лочмелем. Но даже и ему она не осмеливалась показать то, что писала…
Валя проснулась, как и все эти дни, оттого, что стало тихо. Во сне она не переставала думать о статье и встала с ощущением, что ей приходили интересные мысли. Пытаясь вспомнить их, она подошла к окну и протянула было руку, чтобы открыть форточку, но вдруг отпрянула, Промокший до нитки, под окном стоял Алешка.
Еще не совсем ободняло.
— Костя! — испуганно прикрыла она на груди вырез ночной сорочки. — Чего тебе?
— Открой, — простуженным голосом попросил он, приблизив лицо к стеклу и опираясь руками на раму. — Я не могу, Валя, больше! Я места себе не нахожу. Ну ладно, пусть я никудышно вел себя тогда. Но это же любя. Что я, прощелыга какой? Оттуда я тебя, может, на руках понес бы к себе… Прости…
Лицо у него было землисто-серое, глаза лихорадочно блестели.
Валя, босая, с голыми плечами и распущенными волосами, беспомощно стояла посреди комнаты.
— Почему молчишь?.. Тогда возьми вон свою финку и режь лучше!..
Она растерянно окинула взглядом комнату, ища, где можно бы спрятаться. И не найдя такого места, попросила:
— Отойди сейчас же от окна, Костусь!
Алешка стукнул кулаком по раме, соскочил с завалинки.
— Прогоняешь? Накачали, значит, идеализмом? — уже не обращая внимания, что его могут услышать посторонние, выкрикнул он. — Как собаку шелудивую гонишь! Раньше нужен был, а теперь нет? Чистюлька несчастная! Недотрога! Что же ты со мной делаешь?
Валя отыскала халат, надела его и снова подошла к окну. Открыв форточку, уверенная в это мгновение, что поступает правильно, сказала:
— Пеняй на себя, Костусь. Я же тебя и в подъезде видела. Ступай к своей Алле! Ну и нашел!.. Не нужен ты мне такой. Я ведь тоже партизанка и гордость имею…
— Что Алла? — остервенел Алешка. — Мужчина же я. Неужто и этого, чистюлька, понять не можешь?
— Замолчи и убирайся отсюда!
Если бы у Алешки было что-нибудь под рукой, он, безусловно, пустил бы его в ход. Пистолет — поднял бы стрельбу: на возьми, съешь; палка — начал бы крушить все вокруг; граната — вырвал бы чеку, бросил под ноги: пропади оно все пропадом!.. Но у него ничего с собой не было, и он, схватившись, как оглашенный, за голову, матерясь, кинулся прочь.
Припав к окну, Валя выждала, пока Алешка скрылся за углом соседнего дома, и вернулась к кровати. Но сил сразу убавилось, и она, прижав руку к горлу, упала лицом в подушку. Ее душили слезы жалости, ненависти и обиды.
Она проплакала с полчаса, сама не понимая, чего плачет, и смутно чувствуя, что виновата во всем и сама. Но постепенно ей стало легче — сердцем овладевал щемящий покой…
Однако, когда поздно вечером Валя вернулась из редакции, тоска с новой силой охватила ее. Ей опять захотелось плакать и жаловаться. Она попыталась чем-либо заняться. Взяла книгу, но буквы мелькали перед глазами, и смысл прочитанного не доходил до сознания. Попробовала писать, но мыслей не было, да и все это вдруг показалось ей никчемным, пустым: разве исправишь людей статейками? Задернув занавески и прикрепив над ними кнопками газеты, Валя ничком легла в кровать. Но сон не приходил, пока ливмя не хлынул дождь, как и во все эти ночи, спорый, теплый.
И все-таки Валя, конечно, написала статью.
Она как раз перечитывала ее, когда раздался телефонный звонок — вызов к редактору. Готовился номер, посвященный восстановлению Минска. Надо было побеседовать с главным архитектором и проехать на недавно принятые объекты, чтобы собрать материал о недоделках строительных организаций. Задание немного смутило Валю: статья, в сущности, задевала Василия Петровича, и встречаться с ним сразу показалось неловко. Но радость часто бывает нерассудительной. И вскоре Валя не только согласилась, но и нашла во всем этом что-то занимательное. "Пусть любит правду, — подумала она и представила, каким сдержанно-официальным будет лицо у Василия Петровича. — Нам, хлебнувшим в войну, не привыкать…"
Выйдя из редакции, она развернула газету и на ходу стала еще раз просматривать статью, которую знала уже наизусть. На нее озирались, а она, углубившись в газету, шла и шла, не обращая ни на кого внимания. Даже удивилась, как попала на автобусную остановку.
В приемной у Василия Петровича сидели два посетителя — полный, с бритой головой мужчина и бесцветный молодой человек. Секретарши за столом не было, и когда звонил телефон, бритоголовый по-хозяйски снимал трубку и с видом, что ему это надоело, отвечал.
На Валю они не обратили внимания и продолжали громко разговаривать. Поблескивая глазами, бритоголовый жестикулировал и, словно кропил изо рта водою, прыскал смехом. Молодой человек сдержанно кивал и часто поправлял очки, бережно дотрагиваясь до них безымянным и большим пальцами.
Валя прислушивалась к их беседе, и чувство, которым она шла сюда, стало пропадать.
Хлопая собеседника по колену, наклоняясь так, что затылок и шея краснели, бритоголовый костил Валину статью:
— Это огульщина! Фантасмагория! Ну хорошо, памятники, бюсты и статуи. Это мы приветствуем. Но айн момент, как говорили немцы. Кому памятники? Ну, скажем, Скарине, Калиновскому. Но их же нужно где-то поставить, включить в ансамбль, вписать в пейзаж. Как?
Где? Не рядом ли с будущим универмагом? Пс-с-с! Вот было бы оригинально: Скарина — и универсальный магазин!
— Весело, — согласился молодой человек, но лицо его осталось печально-серьезным. — Помню, после войны один энтузиаст тоже через газету требовал срочно возвести пантеон. Да не какой-нибудь, а непременно лучше Агрипповского в Риме. И когда? На Долгобродской улице еще росла рожь, и по ночам зайцы в трампарк забегали.
— А триумфальные арки! Новая околесица. Когда народ наш ходил под ними? Они же как фиги будут торчать. Не понимает даже, что у каждого народа свой ритм и формы.
Кровь приливала и отливала от Валиного лица. Стало больно, стыдно, обидно. Больно, ибо легко развеивались выношенные ею мысли. Стыдно потому, что она в самом деле выглядела наивной девчонкой. Обидно: не находилось слов, которые можно было бы противопоставить услышанному. Вспомнился почему-то и Алешка.
Она так была поглощена всем этим, что не заметила, как открылась дверь кабинета и в ней показался Василий Петрович.
— Заходите, — пригласил он ее. — Прочитал вашу статью…
У Вали захватило дух: "Неужели вот так, при них, тоже начнет издеваться?"
— Заходите, чего же вы? — повторил он, ожидая ее. — Для нас, архитекторов, очень важно хорошее чувство. Материал неподатливый — кирпич, дерево, бетон, — а идешь от чувства. Гете утверждал, что архитектура — окаменелая музыка. Прошу вас!
— У Янки Купалы есть тоже нечто вроде этого, — немного воспрянула Валя и прошла в кабинет. — Купала назвал один княжеский замок пламенем окаменевших сердец.
— Я представляю его. Всегда, как в тумане, серый, проклятый и… все равно прекрасный. В муры ведь заложены труд и талант народа. Окаменелое пламя сердец…
Он не заметил, как слегка изменил купаловские слова, и указал Вале на кресло.
— А насчет остального надо вот что сказать. Мы не так богаты, Валя, чтобы строить дешевое. Мы тоже хитрые… От стандартных фигурок дискоболов да баскетболисток, каких и мы успели наставить возле парка и в парке, радости мало. А при нашем климате… вообще стыд. Стоят зимою в одних трусиках. Босые, белые. На плечах снег. Вокруг снег. Просто жаль бедных. От их голой красоты мороз по телу пробегает. А каждую весну штукатурь, окрашивай… — И опять направился к двери.
С большой папкой, злой от смущения, вошел бритоголовый. Хмурясь, продефилировал к письменному столу. Молча стал развязывать папку.
— Вы не знакомы? — спросил Василий Петрович.
— Барушка, — неохотно отрекомендовался тот и с видом, что предугадывает возражения и загодя отвергает их, положил развязанную папку на стол.
— Здания стали лучше, — просмотрев чертежи и тщательно подбирая слова, сказал Василий Петрович. — Удачнее завязалась основа. Но вот незадача… Мне кажется, главное преодолеть не удалось.
Барушка дернулся и побагровел.
— Я думаю, что мы имеем право на свои взгляды. В правах искать и, если хотите, даже ошибаться.
Угадывалось: его сдерживает и подмывает присутствие Вали.
— Неужели вы думаете, мы не чувствуем времени?
— В Горьком, говорят, есть дом, где, чтобы попасть на первый этаж, сначала надо подняться на второй, — возразил Василий Петрович. — Однако я полагаю…
Зазвонил телефон. Василий Петрович снял трубку и, прикрыв мембрану, закончил:
— …что это не лучшие поиски и не такое уж оригинальное решение. Я много думал, Семен Захарович… Но, извините, иначе не могу. Так и передайте начальству… Не могу…
Когда же Барушка вышел, а за ним и молодой человек, оказавшийся сотрудником треста зеленых насаждений, Василий Петрович неожиданно предложил:
— Знаете что?
— Нет.
— Пока не задержали, поедемте-ка вместе. Покажу недоделки сам. Вот сюда, например, на Понтусовку… Все равно отступать некуда.
Взяв со стола один из свертков, он развернул его.
Это был эскизный проект новых кварталов у Театра оперы и балета. Чтобы скрыть приязнь, что светилась в глазах, прищурился и стал объяснять.
— Это, Валя, тоже отдушина. При такой разрухе на высоком штиле не удержишься. Странным тут, пожалуй, является только одно — непонятные крайности Понтуса. Неужели он и здесь искал? Хотя… как говорится, на месте виднее. Да и не о нем сейчас речь…
Не доезжая до Комсомольского бульвара, они встретились с водополивочной машиной. Обтекаемая, серозеленая, она напоминала усатое живое существо. Из нее во все стороны вырывались струи. На них играла радуга. "Москвич" проскочил мимо. Брызги ударили в бок и в стекла окон. Валя невольно сожмурилась и даже поправила волосы. Взглянув на Василия Петровича, увидела, что он тоже улыбается и протирает платком пенсне, словно на него попали брызги.
Сколько раз проходил или проезжал Василий Петрович по этим улицам! Он наперечет знал их размеры, проценты уклонов, помнил историю каждого нового здания. И все же не уставал смотреть на то, что видел десятки раз. Наоборот, непременно замечал что-нибудь незамеченное. То недовольно хмыкал, что улицы плохо убирают, и начинал развивать мысль — следовало бы поднять заинтересованность дворников и в больших домах планировать специальные дворницкие. То жалел, что, когда был в доме отдыха, вместо лип на Садовой посадили дубки, а они очень поздно распускаются, и осенью, до самого снега, на них зябко трепещут желтые, жестяные листья. То радовался, что приближается пора, когда можно будет пустить на слом бараки на Троицкой горе, которые рядом с театром как бельмо на глазу.
— Улица любит порядок, Валя. Она должна быть по-своему строгой, как прямая линия. Вы посмотрите на Невский… — И он начал рассказывать о Невском и улице Росси в Ленинграде.
Свернули в новую улицу, и "Москвич", подскочив, заковылял по выбоинам. В некоторых местах колея была настолько глубокой, что он кузовом чертил по земле и вздрагивал от ударов. До этого молчаливый шофер зачертыхался, озираясь назад при каждом ударе.
По обеим сторонам разбитой, в рытвинах, улицы стояли дома, похожие на финские. Белые, новенькие, они, однако, выглядели приземистыми, неуклюжими. Ни тротуаров, ни оград между ними не было. Слева тянулась глубокая траншея, поперек которой кое-где были положены доски.
— А что тут творится в дождь! — возмутился Василий Петрович. — Видите, вдоль домов даже набросали камней. А кто виноват? Метр! Обычный квадратный метр жилой площади. Кухта молодец, но и он хочет, как сам говорит, ходить среди выполняющих план!
Он попросил шофера остановить машину посредине квартала, напротив дома с шатровой крышей. Дом стоял не на линии улицы, а немного в отдалении, и через всю площадку перед ним к одному из подъездов были положены доски.
— Недурно сюда бы зайти, — сказал Василий Петрович. — Тут, скорей всего, кто-то из строителей живет. Видите доски? Интересно, как он будет оправдываться.
Хотя всюду было сухо, они все же пошли по доскам. В подъезде Василий Петрович пропустил Валю вперед и, поднимаясь по лестнице уже следом за нею, предупредил:
— А теперь смотрите.
Стены лестничной клетки были побелены, но панель, отмеченная синей чертой, так и осталась непокрашенной. Перил вообще не было. На верхней площадке, откуда дверь вела на чердак, стояли облепленные известью и глиной козлы.
Постучав в первую попавшуюся квартиру на втором этаже и не дождавшись ответа, Василий Петрович толкнул дверь и вошел в узкий коридор. Отсюда была видна одна из комнат — чистая, светлая. Но чем-то таким знакомым повеяло от ее обстановки на Валю, что она испугалась. "Неужели они живут здесь?" — подумала она, не желая и страшась встречи с Костусем и его матерью. О чем сейчас говорить с ними? Неужто о недоделках строительных организаций? И как она вообще будет смотреть в глаза старухе? Разве можно доказать матери, что сын ее недостоин любви? Да и как ты будешь это доказывать в присутствии постороннего человека?
— А боже ты мой, снова забыла замкнуть дверь! Кто там? — послышалось с конца коридора.
Конечно, это была она, худенькая прозорливица, сказочница-мастерица с ласковым, певучим голосом. Осторожно касаясь рукою стены, она неуверенно приблизилась к Василию Петровичу и Вале. Лицо ее било спокойным, но в широко раскрытых глазах простучали болезненная беспомощность и какая-то вина. И смотрели они не на вошедших, а дальше их.
— Кого вам? — спросила она более громко, чем требовало расстояние.
Пораженная догадкой, Валя удивленно втянула о себя воздух и быстро прикрыла рот кулаком.
— Мы из горсовета и редакции, — заторопился Василий Петрович, по-своему поняв Валин испуг. — Мы хотели бы знать, нет ли каких жалоб на строителей.
— И-и-и, детки, — протяжно проговорила старуха, — им кланяться надо, а не жаловаться на них… Вот что они нам дали. Светло хоть жменями бери. — Она в самом деле словно что-то зачерпнула пригоршней и выплеснула вверх, от чего в темноватом коридоре, как почудилось Вале, посветлело.
— Тогда хоть квартиру посмотреть разрешите. Все равно через год-два заявления писать начнете.
Старуха промолчала и повела их по комнатам. Валя шла последней, ничего не видя и механически записывая, что говорил Василий Петрович.
Но ходить с ними молча и бояться, чтоб не вырвалось слово, было маятно, стыдно. И когда опять вернулись в коридор, Валя не выдержала.
— Это я… — не зная, как назвать старуху, призналась она и проглотила слезы.
Старуха недоверчиво вытянула шею, с осторожностью слепой подошла к Вале и, как это делают дети, когда играют в "отгадайку", провела ладонью по ее волосам, щеке и шее.
— Валечка!.. А я ждала тебя, ненаглядную. Ох, как ждала-то! Кто это с тобою, родная?
— Главный архитектор…
— А-а-а! — пропела та, будто ей стало понятно все, и поджала губы. — Вы, видать, кончили что надо? Записали? Он, может, сделает милость и уйдет на минутку?
Не ожидая Валиного согласия, догадываясь о случившемся, Василий Петрович повернулся и вышел из квартиры. Когда же Валя, расстроенная, с красными глазами и распухшими веками, через минуту подбежала к машине, он хрустнул пальцами и сам открыл ей дверцу.
— Зачем вы повели меня в этот дом? — обиженно спросила Валя.
Он опустил голову.
— Поверьте, я ничего не знал…
Василий Петрович оправдывался! Ему бы возмутиться, одернуть ее — какая дикая выдумка! Но в том-то и дело, что во тушение не приходило, Валя обезоруживала его, и это заставляло чувствовать вину, какой не было. Не было? Нет, значит, он в чем-то все-таки виноват. В чем? Не в том ли, что ему приятно быть с этой девушкой? Его влечет к ней. И тем сильнее, чем больше растет неурядица в семье. И когда он видит ее, ему мечтается настоящая любовь…
Чтобы скрыть замешательство, он, когда сели в машину, взял свой портфель, с которым не расставался, и принялся сразу что-то искать. Не особенно уверенно достал несколько книг.
— Мм… Это я подготовил утром, — поспешно объяснил он, — когда прочитал вашу статью. Это о градостроительстве, Просмотрите, если будет время.
Обратную дорогу они почти все время молчали. И когда, выехав на проспект, увидели Зимчука, обрадовались оба. Размахивая руками, тот шагал по мостовой в направлении Центральной площади. Видя, что полнеет, он стал избегать мучного, сладкого и ежедневно совершать послеобеденную прогулку. Василий Петрович знал это, и как только догнали Зимчука, отпустил машину.
Пошли втроем. И взвинченная Валя сразу заговорила о виденном.
— А вывод? — не совсем доброжелательно перебил ее Зимчук. — Какой вывод?
Валя упрямо тряхнула головой.
— Я согласна: виноват прославленный метр, который многим представляется куском пола. А по-моему, это и тротуар, и водопровод. Даже липа перед домом и магазин…
— Возможно, — снова прервал её Зимчук, — но я еще не слышал, чтобы рабочий или инженер приходил в заводоуправление и требовал расчет, потому что поблизости нет магазина или Дома культуры. И, к сожалению, был свидетелем, когда рабочий покидал завод, если его не могли обеспечить квартирой.
— А я не хочу, мне не нужно такой правды! — повысила голос Валя. — Зачем мне она?..
Нет, жизнь была сложнее, чем казалось.
Зимчук привык чувствовать ответственность за других. Вероятно, это пришло вместе с сознанием ответственности за порученное дело. Это понимали. К нему шли с жалобами, с предложениями, уверенные — Зимчук поддержит, посоветует. И он, действительно, принимал к сердцу их беды и радости. Правда, не все — некоторые: время наложило и на него отпечаток. Выслушав, скажем, тогда по телефону Алешку, он возмутился — и только, не уловив в его крике просьбу о помощи. Хотя позже никому так и не рассказал об этом разговоре — значит, чувствовал в глубине души, что не совсем прав… И все-таки было очевидно — в служении людям он поступался даже своей свободой…
Катерина Борисовна и Зимчук, встретившись, поначалу были почти как чужие. Слишком много и своего довелось им пережить за эти годы. У разлуки есть тоже граница, за которой начинается отчуждение. Однако их согласие нужно было не только им. Они были на виду, на них смотрели. И согласие, сперва внешнее, а затем и настоящее, восстановилось.
Кто в этом был повинен? Прежде всего характер Зимчука и еще, пожалуй, прошлое. Оно как бы возвращалось к ним, восстанавливая когда-то дорогой строй жизни, былые привычки, привязанность, чувство. Помогла и дочь Алеся, связывающая их невидимыми, но прочными нитями.
Поэтому понятно — Зимчуки любили вспоминать прошлое и часто говорили про Алесю, с которой Катерина Борисовна промыкалась всю войну и которая после окончания института работала далеко — в Сталинграде…
Чего только не приходилось делать Алесе в военное время! Училась, работала в муляжной мастерской, плела маскировочные сетки и рисовала на асфальте московских площадей здания, а на глухих заводских стенах окна. Когда же муляжная мастерская стала столярной, делала ящики для мин… И все-таки удавалось добиваться номерных проектов, отметки на которых ставил сам И. В. Желтовский.
Когда враг приблизился к Химкам, институт получил приказ эвакуироваться в Среднюю Азию.
Катерина Борисовна заперла комнату, полученную по приезде в Москву, и поехала с дочкой. Институт на колесах стал для нее домом. И хотя студенты были разделены на взводы и роты, организовать быт в теплушках старались по-мирному. В вагоне сделали окна, приспособили кадочку под воду и почти не тужили. А молодежь даже находила в этом свою прелесть. Читали, спорили, готовились к лекциям. Криком "ура" встретили станцию, где не было затемнения, смешно, с церемонией, раскланялись с ишаком и гордым верблюдом. И, как ни странно, за месяц дороги даже поправились.
В Ташкенте архитектурный институт был слит с индустриальным. Жили там же, где и слушали лекции, — в аудиториях. Вставали по команде, выходили на линейку, делали физзарядку, свертывали постели и принимались за лекции. Четыре дня в неделю работали на стройках каменщиками, подносчиками кирпича или помогали колхозникам копать свеклу, снимать фрукты. И опять, как ни странно, у Алеси находилось время не только на учебу, но и на то, чтобы принимать участие в конкурсах на проекты памятников, находились силы быть донором.
Летом студенты ездили в творческие командировки в Бухару, в Самарканд. Делали архитектурные обмеры и зарисовки древних памятников, жили в медресе — в кельях древних студентов. Возвращались в разбитых составах, шедших на ремонт, везли с собой папки с рисунками и результатами обмеров, коллекции камней, черепа, потом, в минуты вдруг появившейся потребности шутить, пугали друг друга, вешая над дверями аудиторий, где спали, черепа и нарисованные на бумаге крест-накрест кости.
Есть истина: архитектор обязан видеть больше, чем кто-либо иной, и это виденное всегда носить в себе.
В этом залог успеха. И, вернувшись осенью сорок третьего в Москву, Алеся под влиянием матери стала держаться этой истины. Старательно изучала архитектуру Москвы, увлекалась произведениями Жолтовского, знакомясь с архитектурными памятниками, моталась по Подмосковью, ездила на практику в Ленинград. И мало было мест, где вместе с нею не побывала бы и мать.
То ли они были близки по характеру, то ли их такими сделала любовь, но Катерина Борисовна увлекалась тем, чем увлекалась Алеся, и безразлично относилась к тому, что не вызывало интереса у дочери. Чтобы стать как можно ближе к ней, она приобрела специальность — сначала копировщицы, а потом чертежницы — и, вернувшись в Минск, поступила на работу в Белгоспроект. Трудолюбивая, аккуратная, быстро завоевала расположение сотрудников. Люди не любят тех, кто жаждет, чтобы их куда-то выбирали, в чем-то выделяли, повышали по службе. И, наоборот, охотно отдают свое расположение неторопливым, скромным работникам.
Говорят, что в прочной семье муж и жена обязательно должны в чем-то противостять друг другу. Быть может, это и верно. Полное согласие всегда тяготит. Но так или иначе, в семье Зимчуков никто не стремился быть первым, хотя Катерина Борисовна заботилась о муже как старшая.
Его занятость не позволяла им часто бывать вместе. Но зато они очень ценили такие минуты. И когда, например, Иван Матвеевич провожал жену до Белгоспроекта, ему хотелось идти с ней как можно дальше. Когда делился своими мыслями, знал — никого так не взволнуют они и нигде не найдут такого отклика, как у жены.
Единства, возможно, не было разве только в отношении к Юркевичу. Катерина Борисовна находила в нем черты своей Алеси и поддерживала во всем. Зимчук же относился к нему как ко взрослому подростку. Симпатизировал, но не уважал, понимал, что такие люди нужны, но был убежден — их надо сдерживать, даже ограничивать.
— У него много идей, Катя, — говорил он, — и все они, если судить отвлеченно, возвышенные. Но Юркевич знает, что надо Делать завтра, а не сегодня. Посмотри, на что он ориентирует своих архитекторов. Его идеи о парковой магистрали — красивый бред и только. Он не считается ни с чем. "Человек рождается с чувством прекрасного, и не нам глушить его!" Вот и весь его сказ. И поэтому — уперлась магистраль в бисквитную фабрику или завод молочных кислот — убрать их! Мешает Свислочь — повернуть ее. Хоть и занял правильную позицию к коттеджам для избранных. Да и то потому, что не вписывались в те кварталы…
Сразу после разговора с Валей и Юркевичем Зимчук пошел к Ковалевскому. Тот выслушал его и покачал головой: "У тебя тоже крайности, Иван. Ладно ли это? Боюсь, забываешься, что архитектура — искусство. Хозяйственник уже в кости въелся. Забыл, как выступал против земляных работ у Оперного театра? А что было бы, послушай тебя? Не парк, а кладбище! Есть, брат, такие люди мелких дел с народническим уклоном. Смотри!.." Но что стоит предпринять, Ковалевский все же подсказал. И, заехав после работы за Катериной Борисовной в Белгоспроект, Зимчук по дороге домой в открытую тешился:
— Ты понимаешь, как это будет? Соберем в горсовете жителей новых домов, пригласим строителей, архитекторов. Пусть обменяются комплиментами. Польза будет для всех, а особенно для твоего главного. Пусть подумает. Я уже звонил, — говорит, доволен и он. Вероятно, рассчитывает, что шишки посыплются на строителей. Не помешает послушать и Вале. Особенно сейчас…
Катерина Борисовна внимательно посмотрела на мужа, но ничего не сказала.
Что-то пошатнулось в Валиных взглядах.
Последние события словно разбудили ее. Стала пропадать та легкость, при которой все казалось почти простым, возможным. Вещи, люди вдруг предстали перед нею иными. Она болезненно почувствовала — надо значительно больше знать, чтобы не только учить других, но и самой жить как следует. И боже сохрани, чтобы убеждения твои вырастали из одной фантазии и усвоенных формул добра и зла! Жизнь — очень мудрая штука, и нельзя подходить к ней с заранее заготовленными мерками. Раньше, не задумываясь, она могла сделать замечание Василию Петровичу, что неразумно сажать липы на проспекте в один ряд, а лучше создать сплошную зеленую стену, размещая деревья в шахматном порядке в два ряда. Могла упрекнуть Зимчука, что он без особого энтузиазма относится к строительному комбайну… Но почему липы должны быть посажены не в один, а в два ряда? Действительно, стоит ли заниматься неуклюжим и малопродуктивным комбайном, который пока не оправдывает себя? Над этим она мало задумывалась. Ей казалось, что зеленая стена будет красивее, чем вытянутые в ряд липы, что, не поддерживая строительного комбайна, Зимчук тем самым не поддерживает новаторства и идеи механизации строительных работ вообще. И этого было достаточно, чтобы наседать и доказывать свое. Не потому ли выслушивали ее чаще всего из приличия, а когда забывали о нем, то переставали слушать, перебивали…
А встреча с матерью Алешки? Она смутила Валю. Открыла в её отношениях с Алешкой грани, о которых трудно было подозревать.
Бережно обняв за плечи, старушка повела Валю в комнату, посадила на деревянный диван с вышитой дорожкой на спинке. Долго, словно рассматривала, стояла перед ней. И верилось, что она по дыханию угадывает, как чувствует себя Валя.
— Погасли мои очи, Валечка, — призналась она.
— Да, это — горе! — посочувствовала Валя, не находя теплых слов. — Беда!..
— Слепилась — вышивала, маялась. Думала, лучше будет. А оно, вишь, как обернулось. Ни Костика, ни тебя. Запил он. Ой, как запил, детки-и! Приходит домой — сам не свой. Все, что остается от Костика, это только жалобы егоные. А ты ведь знаешь, у дитяти пальчик заболит, а у матери — душа. И все ему надо. Только это и осталось от его мальчишества. Весь вечер вчера Прибыткова с языка не спускал. Жаловался, клялся, плакал… Говорил, что ходил куда-то, требовал, каб судили его, арестовали или правду признали. Мочи нет с ним. Неужто вы не помиритесь с ним, Валечка? Неужто навек разлучились?
— Разве вы не знаете? — жалея ее, смалодушничала Валя.
— Почему не знаю? Он, пьяный, пока не заснет, как на духу, все рассказывает. Но не верится мне. Вельми легко разошлись вы. Да разве бросают друга в беде, отступаются… Хотела сама до тебя сходить. Но где там! Пьяный и то адреса не дал.
Она заволновалась, подошла к шкафу и открыла дверцу. Выбрав на ощупь нужную вещь, сняла ее с вешалки и протянула Вале. Это было белое шелковое платье, вышитое голубым бисером.
— Бери, — предложила она, закатывая глаза, будто пытаясь рассмотреть, что делается над нею, вверху.
Старческие руки дрожали. Бисер на платье переливался и поблескивал, как снег в морозный солнечный день. И Вале стало страшно. Она поднялась с дивана и, отмахиваясь, как от привидения, начала отступать к двери…
В редакцию Валя пришла, ожидая очередных неприятностей. Немного успокоилась, когда увидела за столом Лочмеля, его трость, повешенную на край стола, и убедилась, что все в отделе идет по-прежнему. Но сесть обрабатывать собранный материал не было мочи. Бросив сумочку на стол, она отошла к окну и застыла, не зная, что делать.
За окном асфальтировали улицу. С самосвала на лоток машины сплывала черная искристая масса горячего асфальта. Асфальт дымился и напоминал живое вещество. Возле него стоял пожилой рабочий в замасленном комбинезоне и брезентовых рукавицах. Молодцеватый, с русым чубом шофер самосвала, высунувшись из кабины, шутливо грозил пальцем девушкам, проходившим мимо с носилками. Невдалеке медленно двигался каток, а за ним тянулась гладкая полоса, которая поблескивала и лоснилась. И от этого вокруг будто становилось светлее.
Но стоять без дела и мозолить глаза было неловко. Валя вышла в коридор, заглянула в отдел информации, в библиотеку. Неприкаянная, перелистала подшивку совсем не нужной ей теперь "Красной звезды". И хотя есть не хотелось, чтобы чем-нибудь заняться, заставила себя взять в буфете бутерброд и стакан чаю.
Оттого, что она не могла найти себе места, оттого, что ей надо было мотаться, показывать, будто она что-то делает, к неудовлетворенности и сомнениям присоединилось еще чувство нехорошей усталости.
— Что с вами? — удивился Лочмель, когда Валя вернулась в отдел. — Случилось что-нибудь?
— Конечно, Исаак Яковлевич, — призналась в меньшем она. — Я, кажется, начинаю понимать: трудно претендовать на что-то, если обо всем знаешь понаслышке.
— Вы о своей статье?
— И о статье.
— Напрасно. Сигналов никаких не поступало, и отдел заносит ее в свой актив. Вам письмо, Валя…
Лочмель был занят — читал гранки очередного номера, и потому сразу замолчал.
Со смутной тревогой Валя разорвала конверт и, не веря глазам, стала читать. Кто-то — подписи не было, — нещадно ругая Валю, предлагал ей, если осталась совесть, зайти к кому-нибудь в землянку или в подвал и посмотреть, как живут люди. "Может, тогда не потянет на живописные вывески и скульптуру, окаменей ты вместе с нею", — брызгал неизвестный слюною и ругался на чем свет стоит.
Валя до того растерялась, что перестала дышать. Ее напряженное молчание заставило Лочмеля оторваться от гранок. Увидев Валино лицо, он быстро взял трость, поднялся и подошел к девушке.
— Что?! — вытаращил он глаза, прочитав письмо. — Какая гадость!
Чтоб успокоиться, вынул из бокового кармана папиросу, постучал мундштуком по ногтю большого пальца и стал прикуривать. Но папироса не разгоралась, и Лочмель зажигал спичку за спичкой.
— Вы не принимайте это к сердцу, — наконец сказал он. — Честный человек не будет кропать анонимок. А к подобным гадостям не мешает быть подготовленной. Иначе — где же справедливость? Делать неприятности другим, а самой их не иметь?
Валя уже замечала — Лочмель всегда старается сгладить острые углы, примирить спорщиков. Стремится быть утешителем, берет сторону более слабых. Скорее всего, таким его сделали личная драма, ощущение собственной неполноценности. Мучился он, наверное, и оттого, что не мог возненавидеть жену, а она жила в его сознании такой, какой он ее знал… Открыто Лочмеля, конечно, никто не попрекал. Не позволяли кровью добытые награды, увечье, его прошлое и настоящее. Но за глаза между собою часто промывали косточки и не подпускали близко к себе: на крутом повороте он все-таки мог бросить тень. И стоило ему, скажем, внести деньги на строительство памятника жертвам в гетто, как сразу пошли различные кривотолки и сплетни. Валя, понятно; была далека от этого, но стремление Лочмеля примирить непримиримое не нравилось и ей.
— Нет, Исаак Яковлевич, — возразила она, уже жаждя испытаний. — Пока человек не может ничего дельного подсказать другим, ему нечего лезть к ним с наставлениями…
На столе Лочмеля зазвонил телефон, и когда Лочмель взял трубку, Валя узнала голос редактора — тот вызывал ее к себе. Засунув анонимку в конверт, она положила его около Лочмеля.
— Я уже слышала, Исаак Яковлевич, — почему-то обиженно произнесла она. — А вы, если можно, отошлите это в отдел писем. Пусть зарегистрируют.
— Отдел писем тут ни при чем, — поглядывая на дверь, отодвинул он от себя конверт и заковылял на свое место. — Письмо адресовано лично вам. И не надо, Валя, бросать вызов самой себе… В жизни хватает и без этого…
Однако то, что Валя услышала в кабинете редактора, снова поставило ее в тупик. Ничего конкретного не скачав о статье, редактор, улыбаясь, сообщил, что сейчас звонил начальник Архитектурного управления. Он благодарил за сигнал и обещал через день-два прислать ответ. Ибо факты подтверждаются: главный архитектор действительно недооценивает скульптурное оформление и архитектуру малых форм. А если журналист начинает с того, что статьи его могут воскресать под рубрикой "По следам наших выступлений", это, говорят, лестно и хорошо.
— Нет, это не совсем хорошо, — почти испуганно запротестовала Валя.
Редактор обмакнул перо в чернильницу, давая этим понять, что сказал все. Но, увидев — Валя не уходит, положил ручку.
— Почему, скажите на милость? — спросил он, делая вид, что принимает ее слова за чудачество.
— Статье придают смысл, которого я не придавала! Понимаете?
Выхватив из-под манжеты носовой платок, Валя скомкала его в кулаке и вытерла рот.
— Не знаю, чем руководствуется начальник управления, — уже выкрикнула она, — но я считаю статью наивной! И прошу вас, прочитайте письмо, которое пришло в редакцию на мое имя… Я прошу вас!.. Хоть Лочмель и говорит, соль в рану не сыплют…
Глава пятая
Он не рассказывал Зосе о своем разговоре с Кухтой, пока не уехали сталинградцы и пока не побеседовал со своими в бригаде.
С Прибытковым пошел Алексей прямо с работы. Проводил его до самого дома, даже в подвал. До этого они друг к другу не ходили. Алексей если и встречался с ним в нерабочее время, то обычно после получки, за кружкой пива в "забегаловке" или в темной пристройке у ларька при входе в парк имени Горького, откуда дороги их расходились. И еще разве по субботам в бане, на полке, в клубах сухого, горячего пара. Прибытков парился отчаянно, и мало кто выдерживал его "высшую точку". Алексей тоже был не прочь "пострадать", и они иногда уславливались идти в баню вместе. На этом их связи и кончались. Поэтому Алексей чувствовал себя у Прибытковых неважно и заговорил о деле, лишь когда они остались одни.
Оглядывая подвал, Алексей невольно сравнил его со своим домом и едва удержался, чтобы не улыбнуться. Быть может, это и придало ему нужной веры в себя. И когда Прибытчиха притворила за собой дверь, он сказал:
— Надо, Змитрок, спасать бригаду! Насмарку пускают.
Прибытков, взявшийся было за спинку стула, собираясь сесть напротив, долгим, внимательным взглядом посмотрел в лицо бригадиру. Но промолчал. И оттого Алексею стало опять неловко. Ему показалось, будто взгляд неказистого каменщика искал в нем то, что могло скрываться за его словами, выискивал какую-то вину — есть она или нет.
— У меня заботы не только о себе, — заторопился Алексей. — Разбросать нас — нехитрое дело. А ты попробуй поднимись, как мы поднялись.
Пристальный взгляд вообще мало приятен. У Прибыткова же он был, кроме того, неподвижный, тяжелый. Стоя перед Алексеем, неуклюжий Прибытков не сводил с него округлых глаз и упорно ждал еще чего-то.
— Перед нами вон что раскрылось, — уже не по своей воле продолжал Алексей. — Теперь только и работать бы. А от них нам ничего не нужно. Нехай только не трогают. Наверное, кому-то завидно стало. Нашли на кого намахиваться!
— Я подумаю, это самое, — пообещал наконец Прибытков…
Разговор с Сурначом был еще короче. Тот просто рассмеялся:
— Чего тут лясы точить! Все течет, бригадир, все меняется! И коль не хочешь в какую-нибудь историю влипнуть, брось мутить. А то будет тебе "справедливость"…
Домой Алексей пришел мрачный, как туча. Пнул ногой Пальму, которая, лебезя, кинулась ласкаться, и, услышав в доме детские голоса — к Зосе пришли ученицы, — садом направился к речке.
Свислочь текла тихо, мирно, шурша аиром у самого берега. Неподалеку плавали утки. Проворно работая лапками, они часто ныряли, и на поверхности воды смешно, как поплавки, покачивались их кургузые зады. Алексей прошел на лаву — мостки, сделанные, чтобы Зося могла полоскать белье, — и тупым взглядом стал следить за утками. "Как так?.. Какое кто имеет право лишать его, заслуженного, потом добытого? Кто он?" В правоте своей Алексей не сомневался. "Что он козел отпущения?" Но надо было в этом убедить других. Чтобы не подозревали ни в чем и поняли. Все, даже Кухта. Чтобы поставили себя на его место и по-человечески поняли. Он же человек. И хочет, в сущности, только одного — пусть тот, от кого зависит его судьба, не забывает об этом. А утки все ныряли и ныряли, поднимая потом головы и что-то глотая, и это мешало думать.
Он не заметил, как подошла Зося. Она стала у него за спиной и, когда он вздрогнул, почувствовав чье-то присутствие, дотронулась до плеча.
— Опять неприятности, Леша? Что с тобой? Не таись.
Алексей нервно сбросил с себя ее руку и отстранился.
— Кухта бригаду решил расформировать, вот что!
— Это почему? — строго спросила она, готовая заступиться.
— Откуда я знаю. Не угодил, вишь! Да не на того напал!
— А что он говорит?
— Его только слушай! У него всегда причины найдутся.
Предчувствуя неладное, Зося взяла мужа за плечи и повернула к себе лицом.
— Нет, Леша, ты расскажи все по порядку! Не мог же он так просто. Вашей бригадой гордились ведь.
— Гордились! — уже не сдерживаясь, с надсадой крикнул он. — Что ты пристаешь, как к подследственному? Я еще никого не убил!
Его крик насторожил уток, они перестали нырять и вытянули шеи, прислушиваясь. Алексей заметил это и, придержав Зосю, разминулся с нею на лаве и сошел на берег.
Теряясь в догадках, за ним пошла и Зося. Догнала и опять остановила.
— Что говорил Кухта?
Алексей знал: это был момент, когда он должен сказать ей правду. Должен! Иначе нечто натянутое, как струна, может оборваться. А тогда… Он не представлял, что было бы тогда, но предчувствовал — произошло бы почти непоправимое. Зося стояла перед ним с откинутой головою и напряженно вытянутыми руками.
— У него одна песня: так надо.
— Мне надо знать: почему?
— Говорит, скоро фабзайцы прибудут, их нужно на-практиковать.
— Так чего же ты взбунтовался?
Иных слов Алексей не ждал, но все равно они полоснули по сердцу.
— Затычка я им, что ли? Ему хорошо при его выгодах. А попробовал бы на нашем месте с кельмой. Опять садись на оклад. Не могу я!.. И думаешь уважение будет? На черепаху еще посадят… А Кравец? Ему плевать, кто со мной работает. Ему показатели давай. А может, он даже и знал, кого собираются подсунуть.
Гремя проволокой, по которой двигалось кольцо цепи, подбежала Пальма. Но Алексей цыкнул на нее и, схватив комок земли, швырнул в овчарку.
— Плохо ты. Леша, о других думаешь. А тебя ведь уважением окружили, славой.
— Недаром! Я горбом это заслужил! Сколько таких, как я?
— Есть вещи, которых ничем нельзя заслужить, если работаешь только за деньги.
— Этому ты учениц своих поучи.
— А возможно, хочешь, чтоб сказали — выбором ошиблись. Не оправдал, дескать. Или и того хуже… Станешь Алешкой, что будем делать? Стыд ведь какой! Чужой среди своих!
— Я и сейчас, оказывается, не больно близкий. Попробовал пикнуть, и вишь — неугодный уже.
— А ты что хотел? Чтобы потуряли всему.
Зося медленно прошла возле Алексея, но затем не выдержала и побежала к дому, где слышались голоса — во дворе ученицы играли: со Светланкой. А он остался стоять около молодой яблоньки. Гнев и обида душили его.
Опять все неладно пошло в семье Урбановичей. Правда, шумных катавасий не было. Но зато неожиданно там, где, казалось, все шло гладко, стали выявляться основания для самых неожиданных споров, и каждый такой случай, даже самый незначительный, бесил Алексея и убивал Зосю.
В то же время каждый жил надеждой, что будет так, как хочется ему. Алексей в душе не верил, что Кухта покончит с бригадой — в других-то городах иначе! — и по-прежнему работал, как зверь. Он и тут старался доказать свою правоту работой, надеясь, что все как-то уладится и дома. Важно было проявить твердость, не поддаться и не позволить, чтобы даже в мелочах Зосины капризы взяли верх. Он умышленно стал держать себя независимо, грубо, хотя его тянуло к жене и хотелось чувствовать ее всю как можно ближе.
Но если Алексей только упрямился, ждал, Зося кое-что предпринимала.
Искони утверждалась житейская мудрость — сора из дома не выносить. Плачь, стервеней, бейся головой о стену, но на суд людской неполадок и горя своего не неси. Неважно, что окружающие все равно знают о твоих слезах и домашней грызне, — ты должна молчать. Молчать и притворяться счастливой. Улыбайся, хотя лицо одеревенело от горя, — и все! И как, в самом деле, было поступать гордому человеку, если счастье замкнуто на семь замков? Зося же верила в свое и Алексеево счастье. Только к нему вело много дорог, и Зося, боясь кружных, выбрала, как казалось ей, самую короткую.
С Зимчуком она встретилась на крыльце горсовета.
— Чтобы не возвращаться, давай пройдемся, — предложил он, когда Зося с замирающим сердцем, словно бросаясь в холодную воду, стала рассказывать про новую беду.
Пошли по тротуару, стараясь оставаться в тени деревьев. Согретый асфальт был мягок, и Зосе казалось, что ее туфли оставляют следы.
Проехал грузовик. В кузове сидела пионерия — в белых рубашках и блузках, с красными галстуками, в тюбетейках, соломенных шляпах, пилотках, сделанных из газет. Ребята пели — звонко, как поют, когда едут на маевку или в лагерь. Навстречу прошли два ремесленника в обнимку. Потом ярко Одетая женщина со странной фигурой. Бедра у нее были широкие, а руки растопырены, словно у куклы. За нею шла группа строительниц в небрежно повязанных платках и спецодежде. У них, видимо, был обеденный перерыв, и они ходили в магазин. Каждая что-нибудь несла — бутылку кефира, булку, хлеб. Девушки бросали на женщину насмешливые взгляды, толкая друг друга локтями, передразнивали ее. Но поравнявшись с Зосею и Зимчуком, пошли как ни в чем не бывало.
— Эти уже освоились, — сказал Зимчук. — А знаешь, что с ними бывает, когда впервые в общежитие попадают? Некоторые даже умываться перестают, спать в одежде ложатся. Полная апатия от усталости. И так с месяц. Нелегко приходит к человеку самостоятельность. Тем более, если он до этого на всем готовом жил — в семье, в ремесленной школе…
— Да, конечно, — рассеянно подтвердила Зося, ожидавшая и упреков. — Что ему будет за это?
В сквере они сели на скамейку. Здесь было прохладнее и не так пыльно. Низко, почти над деревьями, с грохотом пронесся самолет. Отдаляясь, он словно что-то рассевал. Зимчук проводил его взглядом и посмотрел на Зосю. Она сидела прямо, с решительным лицом. Только над верхней губой проступали капельки пота.
— А что касается бригады, то ее, между нами, все разно лучше расформировать, — не ответил он на вопрос. — Она, говоря правду, передовой непотребностью становится. Светит, но никого, кроме себя, не греет. Между нею и остальными строителями ведь стена зависти растет.
— Я понимаю, — вытерла Зося скомканным платочком верхнюю губу. — Но что мне делать? Так и до беды-то недалеко.
— Тебе?.. Предупреди как следует!
— Поговорите хоть с ним…
Недавно ей тоже казалось, что упорство Алексея — это как у иного пьянство. Распустился и безобразничает. Придумывает причину выпить и пьет. Пьет потому, что ему тогда море по колено. И стоит встать против этого стеною, как все изменится. Вырви из рук такого пьяницы только что полученные деньги, пригрози скандалом его собутыльникам — компания распадется, а значит, все будет в порядке. И тогда бери своего миленького и веди куда надо. Но пьяница обычно чувствует свою вину и даже кается. Пока не напьется, он слушает и слушается. А Алексей? Нет, это другое!
Мало помог и Сымон. Когда Зося обратилась к нему за советом, тот сначала даже не понял, чего от него ожидали, и виновато стал уговаривать: "Главное, любить его надо, Зося. Чтоб знал…"
Назавтра вечером он сам заявился к Урбановичам и просидел, пока по радио не передали последних известий. Лукавить он не умел и больше молчал. А потом, совсем некстати, начал сетовать, что на стройку пришли неумеки и пора умельцев проходит. И только на прощание вдруг начал хвалить Зосю. Это было так наивно и искренне, что всем стало легче. Алексей, понуро мастеривший приспособления для проверки углов, улыбнулся, и улыбка долго не сходила с его лица. Украдкой наблюдая за ним, Зося тоже повеселела. Неизбывная любовь с новой силой охватила ее. Зосиному лицу стало жарко, и она, чтобы утаить это, закрыла его ладонями.
Сымона они провожали вдвоем и потом долго стояли на крыльце.
Ночь была теплая и ветреная. Сквозь высокие облака светила молодая луна, окруженная радужным сиянием. От нее на землю струился мерцающий свет. Недалекие деревья поблескивали и трепетали на ветру, и негустые сумерки, казалось, тоже плескались. И не из сада, не от трепещущих деревьев, а как раз оттуда, из тех сумерек, шел шелест-шорох. И, прислушиваясь к нему, Алексей и Зося никак не могли вернуться в дом, хотя там осталась Светланка, которая, возможно, еще и не спала.
Однако на следующий день все снова пошло вверх дном.
Алексей сразу почувствовал опасность, когда на стройку приехал Зимчук и стал интересоваться его бригадой. Что он заглянул сюда именно по его делу, можно было догадаться и по Алешке. Тот с независимым видом ходил следом и, размахивая руками, что-то объяснял. "Старается, — с неприязнью думал Алексей. — Разве у него болит? Если бы самого касалось, то так бы башку не задирал и руками разводил бы, а не размахивал. Может, даже доволен, что угробить собираются — мстит…"
Чтобы скрыть тревогу, Алексей надвинул кепку на лоб и углубился в работу.
И все-таки он еще надеялся. Понял же и поддержал его Зимчук тогда с домом. Не может быть, кабы не понял и теперь. Если, конечно, всякой всячины не наплели.
"Сейчас подойдет и примется уговаривать, — раздражаясь на всякий случай, думал он и чувствовал, как растет в нем упрямство. — Но ежели открыто на ноги вздумает наступать, то и мы можем ответить… Я ему скажу, если что!.." Но вдруг, как иногда бывает, Алексей почувствовал, что говорить-то ему, в сущности, нечего. Бывает же так: идет человек в амбулаторию больной, разбитый, а увидит белый халат — и словно поздоровел, не знает, на что и жаловаться. К тому же все, что было на душе, Алексей выложил перед Кухтой, Зосей, Прибытковым. И оно поблекло в спорах, потеряло свою убедительность. Пугал и вопрос: не зашел ли Алексей, действительно, слишком далеко?
Голос Зимчука он услышал неожиданно, хоть и прислушивался все время, не подходит ли тот.
Алексей вздрогнул и, медленно повернувшись, ответил на приветствие. Зимчук стоял перед ним без фуражки, с пыльником, перекинутым через руку. Лицо у него было по-незнакомому строгое. Но ветер ворошил волосы, и это впечатление скрадывалось.
— Как работаешь, строитель? — спросил он, внимательно глядя на его могучую фигуру.
— Ничего пока…
— А вот Костусь говорит, в бригаде что-то разладилось.
— Ему, наверно, виднее, — немного опешил Алексей, догадываясь, с какой стороны заходит Зимчук.
— Не наверное, а факт. Бригада, в сущности, не может уже держаться на том, на чем держалась. Выросла, брат… Правда? — обратился он к подручному.
Тот замялся, покраснел и стал оттягивать пальцы на левой руке — потянет и отпустит, — отчего они каждый раз щелкали.
— Ну, скажи!
— Правда, дядя Алексей, — продолжая щелкать пальцами, негромко подтвердил подручный.
— Вот видишь. Давай собери хлопцев в обеденный перерыв, побеседуем. На людях слова как-то по-другому звучат.
Когда он уехал и бригада принялась за работу, к Алексею подошел Алешка. Отправив в контору подручного, насмешливо сплюнул сквозь зубы и старательно затер плевок ногой.
— Да-а, — протянул он многозначительно, — де-е-ла, чорт бы их побрал! Завертелось, как в паводок. А ты молодец! Узнаю партизана. Лапки кверху всегда можно поднять, ха-ха!
Это было явное издевательство: все время, пока Зимчук беседовал с бригадой, Алексей сидел угрюмый и только иногда поднимал глаза на того, кто говорил.
— Чего ты пришел, мытарить меня? Уходи Христа ради, — устало попросил он прораба.
Алешка почесал затылок.
— Ого, море широкое! — будто удивился он. — Мне надо тебе еще кое-что сказать.
— Не хочу я теперь слушать!
— Так это же про Зосю, ха-ха! — захлебнулся Алешка злым смехом.
Алексей побледнел. Глубоко, как при взмахе топором, вздохнул и сделал шаг к Алешке.
— Ну, говори.
— Это она все Зимчуку сообщила.
— Брешешь, — отшатнулся Алексей и сжал кельму так, что пальцы побелели.
— Сам видел. В сквере, возле Доски почета. Знаешь, из мрамора, на которую передовые колхозы заносят.
— Зачем ты говоришь мне об этом, а?
— Нравится, значит. Хочется, чтобы не у одного меня болело. Может, людьми с Зимчуком станете. Не такими самодовольными.
— Все? — шепотом спросил Алексей.
— Все. Ежели не считать, что спросить хочу: неужели думаешь, если б с тобой не нянчились, ты б лучше меня был?..
Алексей едва дотянул до конца дня. Холодная злоба клокотала в нем, и руки сжимались в кулаки. "Дура! — мысленно костерил он жену и задыхался от ярости. — Кто же так делает? Где ты видела, негодница, чтобы так делали?!" Не попрощавшись ни с кем, он бросил там, где работал, инструменты и спустился вниз. Набыченный, с ненавидящими глазами, прошел по территории стройки, плохо помня себя и неся в себе бурю. Все обиды и муки минувшего месяца — все повернулось теперь против Зоси, словно она одна была в этом повинна.
По улице он почти бежал, не замечая, что толкает встречных. И если кто возмущался, не отвечал, а только обжигал бешеным взглядом и толкал уже нарочно.
Простить можно было все — и домашние дрязги, и Зосино несогласие, и ее попытки взять верх. Но это была измена — ему, семье, тому уюту, который он, Алексей, создавал, не жалея себя. Жена, которая пошла жаловаться на мужа, — уже не жена, а посторонний человек. И лихо с ними, с заработками, авторитетом, Кравцом и его бесспорной сейчас победой. Он, Алексей, если будет возможность, еще сумеет доказать свое! Но как примириться с изменой? Пусть бы это сделал Алешка — тот мстит за собственные неудачи, за Валю, которую взял под защиту Алексей. Пусть бы даже Сымон, который из-за своей любви к Зосе пойдет неизвестно на что. Их можно еще понять. Но как ты поймешь ее — жену, мать его дочери?.. Алексей представлял, как разговаривали о нем в сквере Зося и Зимчук, и все внутри ходило ходором. "Эх, дура, дура! — повторял он, почти обезумев от несогласия и протеста. — Со мной не считаешься, так пожалела бы хоть дочь…"
Дверь в сени была открыта. Не отряхнув, как обычно, на крыльце пыль с сапог и не сбросив в сенях рабочего пиджака, Алексей ринулся прямо в столовую.
С того памятного разговора в саду Зося вдруг пристрастилась к вышиванию, принималась за него с самого утра, забывая иногда убрать в комнатах, и Алексей, возвращаясь домой, заставал ее чаще всего в столовой. Сгорбленная, она сидела с иголкой в руке и старательно наносила крестики на полотно с канвой. Возле нее, на табуретке, лежала кучка разноцветных мулине — оранжевых, салатных, синих, красных, желтых, которые Алексей уже успел возненавидеть. Но Зоси в столовой не было.
— Это ты, Леша? — послышался ее голос из кухни.
Умышленно грохоча сапогами, опрокинув ногой табуретку, на которой лежали нитки и начатая вышивка, Алексей сорвал с себя пиджак и швырнул на диван.
— Кто там? — повторила Зося.
— Ступай сюда!
Зося медленно вошла в столовую, ведя Светланку за руку. По этой ее медлительности было видно, что она не ожидала ничего хорошего и готова ко всему. Лицо было серое, застывшее, уголки поблекших губ страдальчески опущены.
— Ты одна ходила к Зимчуку? — давая волю своим чувствам и сознательно разжигая их, спросил Алексей. Ему хотелось быть страшным, ужасно страшным, чтобы немного передать ей свое возмущение и то, что происходило у него на душе. И он повысил голос до предела.
— Отвечай! Чего молчишь?
Зося пожала плечами.
— Ну, одна, а что?
— Шлёнда! Я ввек не забуду!
— Постыдился бы.
— Убью!!
— Иди, Светик, погуляй, — велела она дочери, глади ее по голове. — Иди, доченька. Я сейчас, тоже приду. А потом, может, к тете Анте пойдем… — И видя, что Светланка не двигается с места и испуганно, большими глазами, смотрит на отца, повела ее во двор.
Вернувшись, приблизилась к Алексею почти вплотную и выпрямилась. И только теперь он увидел, как она похудела за последнее время. На щеках, под скулами, и вокруг глаз легли тени. Даже шея стала тоньше. А руки, которые Зося держала на груди!.. И вся она была как после болезни — по-детски слабая.
— Ну, убивай, — сказала, глядя ему в глаза. — Мордуй! Да, я ходила и, если понадобится, пойду опять. Я ни от тебя, ни от счастья нашего не отказываюсь. А это, знай, не одних нас касается…
Ее слова лишили Алексея силы. А возможно, не слова, а вид — знакомый, измученный, до отчаяния решительный. Алексей почувствовал слабость и жажду. Оттолкнув от себя Зосю, шатаясь, пошел в сени, дрожащей рукой взял кружку и зачерпнул из ведра воды. Жадно припал к холодному краю кружки и стал пить, не замечая, что вода стекает по подбородку на рубаху.
Этот день, конечно, пришел. При таких обстоятельствах он не мог не прийти. Правда, был еще один выход — перейти на работу в Автопромстрой, где его охотно приняли бы. Но для этого надо было бы идти ва-банк. Кинуть вызов даже такому, что могло наказать. И Алексей волей-неволей смирился, как мирятся с неизбежностью. Больше того — его стала тешить мстительная мысль. "Захотели работать самостоятельно, — думал он о членах бригады, — хорошо, давайте! Посмотрим, что выйдет. Не раз еще вспомните меня, да поздно будет…" Последние слова он адресовал и Кухте с Зимчуком. И все-таки, когда Алексей сегодня проснулся и вспомнил, что его ожидает, сердце заныло.
Зося догадывалась, что происходит с мужем, и встала раньше, чем обычно. Алексей любил молодую картошку с салом и огурцами, и Зося сходила в огород, накопала картошки, собрала росистых, один в один огурцов и принялась готовить завтрак. Ел он молча, чувствуя, что жена все это сделала обдуманно, а она стояла рядом, сама разрезала, как он любил, огурцы пополам и солила их.
Когда он пришел на стройку, там было еще пусто и по-утреннему тихо. Только у конторы толпилось несколько юношей в форме ремесленников. "Они!.." — догадался Алексей. Решил было пройти прямо на рабочее место, но выругал себя и направился к конторе.
Ремесленники, вероятно, уже знали своего бригадира, потому что, заметив его, перестали разговаривать и со скрытым любопытством уставились на Алексея. "Десять, — пересчитал он. — Они". И, нахмурившись, прошел в контору, чувствуя на себе взгляды.
Алешка, заложив руки за спину, мотался из угла в угол. Увидев Урбановича, оскалил зубы и показал головой на дверь:
— Хороший выводок! Понравились? Получай под расписку, ха-ха!
Понимая, что ребята во дворе прислушиваются к каждому их слову, Алексей не ответил. Тяжело сел на скамью за Алешкин стол, отодвинул от себя бумаги, оказавшиеся перед ним.
— Не тебе насмешки строить. Вместе, кажись, работать придется. Так что и расписываться будем вместе.
— Ну, извини! — захохотал Алешка. — Давай лучше по-прежнему; стройка одна, а слава пусть будет твоя. Не шибко ты делился ею раньше.
— А разве не на наших спинах ты нашармака выезжал?
— Меня с плакатов не приветствовали. Да и на кой черт оно мне? Мне, брат, хватало этого в войну, хоть отбавляй, вот так! — Алешка чиркнул себя по шее. — А теперь тоже хоть и подсекают, если бы захотел, жил бы и не кашлял.
Он как-то по-мальчишески, из-под уха, махнул рукой и расслабленно усмехнулся. Потом подошел к столу и сел на него, упираясь одной ногой в пол. Алексей внимательно присмотрелся к Алешке и заметил — тот под мухой. Глаза посоловели, губы увлажнились.
Обижаться, как известно, сразу на всех невозможно.
Одна обида заслоняет другую, и Алексей, понизив голос, предупредил:
— Доболтаешься ты когда-нибудь, Костусь… И к ребятам теперь не ходи. Лучше я уж сам. Нельзя, каб они с этого начали знакомство со стройкой. И вообще, умойся сейчас же, пока никого нет.
Во дворе послышался гудок автомашины. Алексей быстро вышел из конторы и узнал горсоветскую "Победу". "Неужто снова он? Знакомо…"
Из машины в самом деле вылез Зимчук.
— Ну как? — издалека осведомился он. — Встретились уже?
Алексей неловко подошел к нему и подал непослушную руку. Тоже повернулся лицом к ремесленникам, которые в своей черной, с блестящими пуговицами, форме вначале показались ему похожими друг на друга, и стал рассматривать их.
Внимание привлекли двое. Они стояли рядом и словно держались за руки. Старший из них, аккуратно подпоясанный, стройный юноша, в застегнутой на все пуговицы гимнастерке с чистым подворотничком, смотрел на Алексея настороженно, готовый ко всему. Он хмурил упрямо выгнутые брови и старался выдержать взгляд Алексея. Второй был коренастый, вихрастый и очень рыжий. Его круглое, с удивительно нежной кожей лицо усыпали веснушки — золотисто-желтые на лбу и щеках и золотисто-коричневые на задорном носу, И от этого создавалось впечатление, что все его лицо сияет. Но небольшие, тоже, казалось, рыжеватые глаза смотрели с вызовом.
— Вот это пополнение! — с веселой серьезностью сказал Зимчук. — Как на подбор. Принимай, Алексей, видишь какие!
Он тоже выделил из группы этих двоих, смутился и, подойдя, положил руки на плечи стройному юноше.
— Тимох? Ты? Вот, оказывается, как случается… Здравствуй! Вишь, вымахал! Усы уже намечаются. Насилу узнал… Комсомолец, полагаю?
— Комсомолец? Конечно, — краснея, подтвердил тот, и стало видно, как остро реагирует на все его натура.
— А еще есть комсомольцы?
Несколько ребят, как школьники, подняли руки.
— Это хорошо, — овладел собой Зимчук, — потому что учиться придется и здесь… Учиться, искать, находить. Такой ведь город выпало строить! — И, повернувшись к Алексею, спросил: Ты, надеюсь, прикинул, как и с чего начнешь?
Ни теперь, ни позже Алексей не мог понять, что именно во всей этой беседе сокрушило его глухое упорство.
Кажется, все было обычно, если не считать встречу Зимчука со знакомым парнишкой. Да вот на тебе — посмотрел на них, вспомнил больницу, Олечку под двумя одеялами, похудевшую, несчастную Зосю, и сердце екнуло. Нутром почувствовал — нельзя дальше упрямиться. Кто знает, может надо даже что-то отбросить, что-то принять и в чем-то покаяться.
— Н-нет пока, Иван Матвеевич… — хрипло признался он, облизывая пересохшие губы.
— А я все-таки надеялся. Ты же труженик, Алексей. Как же так? — с сожалением сказал Зимчук. — Придет Алешка — обсудите. И если не будешь занят завтра, приходи к нам на встречу с жильцами новых домов. Там и расскажешь, как начали. Неужели подведешь?..
Зимчук уехал.
Сердитый, недовольный собою, Алексей вернулся и контору. Алешка сидел за столом, подперев ладонями щеки. Его смуглое лицо было потным, кудри по-несчастному прилипли ко лбу.
— Митинговал? — попытался он быть прежним, но это ему не удалось, и вопрос прозвучал растерянно. — Спрашивал про меня?
— Говорил, когда придешь, чтобы наметили, с чего начинать.
Они оба чувствовали, что виноваты, и это сближало их.
— Там среди этих Тимка оказался, — сообщил Алексей.
— Ну?
Алешка рванулся, но, словно был привязан к лавке, только приподнялся и опять опустился на место.
Усевшись друг против друга, они неохотно начали прикидывать, как лучше организовать сегодня работу. Потом стали говорить, как быстрее выявить способных "гавриков", на которых можно опереться, пока Алешка, втянув в себя воздух, не спохватился?
— А он же видел открытую дверь в конторе!
Это снова вконец испортило настроение. Алексей с досадой махнул рукой и вышел к ребятам. Те стояли кучкой, но уже не молча, а оживленно жестикулируя и что-то друг другу доказывая. И верховодил ими Тимка.
"Ну и человек! — подумал Алексей про Зимчука. — Он же знал, что Алешка тут. Насквозь знал, а виду не подал. Значит, догадывался, что тот в чем-то опять провинился и прячется. Понимал: так крепче помучится… А может, нарочно не хотел вникать в это…"
Не было такой области городской жизни, которой бы не интересовался Зимчук. Но одновременно у него было и свое, заветное — строительство и благоустройство города. Ему он стал отдавать себя не только по долгу службы. Улица, двор, квартира, парк! Добавьте к этому предприятие или учреждение, театр, кино — и круг городского человека замкнется. Социализм, конечно, — это очень многое. Но ни по чему так непосредственно и повседневно ты не ощущаешь его, как по условиям труда и отдыха. Для человека, безусловно, важно, какой он купил себе костюм, пальто, перчатки. Но еще более важно, какую он получил квартиру. И это уже потому, что человек не меняет квартиры, как перчатки. Плохую кинокартину можно не смотреть. Идти же по улице и не смотреть вокруг себя нельзя. Так, по крайней мере, полагал Зимчук.
Была и еще одна причина: усилия давали плоды — город рос. А любит человек, если деятельность его оставляет следы. Приятно это ему, в этом как бы начинается его вторая жизнь.
И Зимчук часто посещал стройки, просиживал над планом-схемой, проверяя, удачно ли размещаются по городу школы, магазины, детские и культурно-бытовые учреждения, следил, чтобы в первую очередь застраивался центр. Он знал многих архитекторов, конструкторов, инженеров-строителей, передовиков строек и был в курсе их дел.
Зал заседаний в горсовете недавно отремонтировали и переоборудовали. Богатый лепной потолок, стены были ослепительно белые. Панель, пол блестели. Вообще, залитое мягким электрическим светом, здесь поблескивало все: и возвышение с массивным дубовым столом для президиума, с двумя такими же трибунами по обеим сторонам, и ряды узеньких, покрытых стеклом столов, которые ломаными линиями тянулись через весь зал к возвышению, и стулья, стоявшие по одному при каждом изломе стола. Даже графин с водой на столе президиума выглядел как совсем новая вещь.
Доклад делал Василий Петрович. Почему-то жалея его. Зимчук налил в стакан воды и, подойдя, поставил на трибуну. Вспомнил, как недавно, после спора на Центральной площади, зашел к нему в мастерскую, чтобы ознакомиться с новыми проектами. Василий Петрович, прижавшись лбом к стеклу, стоял у окна. Его явно что-то взволновало — это было видно даже по ссутуленной спине. Когда же он обернулся на скрип двери, Зимчук увидел на его глазах дрожащие светлые слезы — будто он только что пришел с мороза. Поняв, что надо как-то объяснить свое состояние, он виновато сказал: "Вот на них засмотрелся…" — и показал рукою в окно, потому что нижняя губа никак не слушалась его. Зимчук взглянул на улицу: по мостовой шли пионеры — шумная стройная колонна, во главе которой шагали знаменосец, горнист и барабанщик. Меньше всех ростом, совсем карапуз, горнист важно размахивал горном и смотрел прямо перед собой…
Кончив доклад, Василий Петрович собрал листочки с тезисами и только тогда догадавшись, взял стакан с водою, отпил несколько глотков и пошел к президиуму.
Еще раз осмотрел зал. Пришла мысль: вот стоял на трибуне, обращался к сидящим в зале, но почти никого не видел и все время глядел только на молодого, в сером костюме мужчину, который сидел в первом ряду и понравился за высокий лоб и детские васильковые глаза. Но, как выяснилось, его тоже видел плохо и лишь теперь заметил, что из-под пиджака у мужчины виднелась не рубашка, а майка, и на правой руке вытатуирован якорь. "Очевидно, водопроводчик", — почему-то решил Василий Петрович.
В зале кашляли — Минск охватила очередная эпидемия гриппа. Наблюдая за залом, стал искать знакомых. Нашел широко улыбающегося Кухту, Валю, склоненную над столом и что-то торопливо записывающую в блокнот, строгого от необычной для него обстановки, старательно причесанного Урбановича, обок — бородатого Прибыткова и злобно прищуренного Алешку. "Что они думают сейчас?" — шевельнулось любопытство.
Задумавшись, Василий Петрович не заметил, как "водопроводчик" попросил слово и встал.
— Я, товарищи, о том, что у меня вот тут сидит, — начал он и шлепнул себя по затылку. И, услышав скорее этот шлепок, чем слова, Василий Петрович заставил себя слушать. — Сталинградцы, когда приезжали, здорово говорили: "У минчан все как на параде". Построим дом, сдадим и тут же фотографируем. А потом? Поссорился я с женой — все соседи знают! Мне говорят, у меня две комнаты. Неправда! Все мы в одной комнате живем. А стены — видимость. Строители к тому же специальное слово придумали — стена не гвоздится. Картины и те на отопительных трубах приходится вешать.
В зале засмеялись. Кто-то захлопал в ладоши. И вся торжественная строгость, которая была сначала и еще более установилась во время доклада, вдруг рухнула. Все заговорили, поскрипывая стульями. Только выступавший — человек, видимо, склонный к юмору, — оставался серьезным и будто не понимал, почему другим смешно.
— А авоськи с продуктами на окнах, — продолжал он, не ожидая, пока затихнет зал, — на каждом доме красуются! Все кладовые напоказ выставлены!
Его веселая, но непримиримая ирония уколола Василия Петровича. Он захотел посмотреть на Кухту — как реагирует тот? — но встретился с презрительным взглядом вскочившего Алешки и сделал вид, что приготовился записывать.
— Плохое не испортишь! Оно отроду такое! — сразу на высокой ноте, как выступают неопытные ораторы, почти закричал он. — И строители тут ни при чем. Почему стена не гвоздится? Сухая штукатурка запроектирована. Почему авоськи на окнах? Холодных уголков в квартирах нет. Да и вообще, откуда что возьмется, если проектировщикам лишь бы пыль в глаза пустить…
— Я, видать, из-за этой пыли доселе в подвале живу, — вставил Прибытков.
Алешка метнул взгляд на Василия Петровича.
— А разве у них голова болит? На словах прыткие и добренькие. И на деле — как та лошадь — обязательно за сутки сорок раз вздохнет. Но будьте уверены, не от жалости к вам. Мы сейчас дом строим. Комнат много, коридоров хватает, а жить негде. В угловой секции в каждой квартире треугольная комната. Четырнадцать квадратных метров, а две кровати не поставишь. Я спрашивал у архитектора, что его толкнуло на такое. Отвечает: "Ансамбль". Он, видите ли, комнату к фасаду привязывал, а фасадом ему надо было откликнуться на что-то. Ну и откликнулся. А люди что им. Пускай их другие любят!
Знал ли все это Василий Петрович? Безусловно. В студенческих конспектах не раз же подчеркивал триаду Витрувия: каждое истинное детище архитектуры должно быть прочным, полезным и красивым. Но это были, видимо, залежные знания, похожие на те слова, которые человек понимает, когда, скажем, читает или слушает кого-нибудь, но которыми сам не пользуется.
И опять это слово "любить"! Зося тоже бросила ему с презрением: он не любит людей, хотя и заботится о них! Тогда в оправдание себя он сослался на будущее. Но вот оно приходит, а упрек можно кинуть снова. Так в чем же дело? В докладе, кажется, все было на месте — достижения и недостатки, критика и самокритика. Но он не почувствовал, чего от него ожидали, сам не сформулировал требования к себе. Полагал — хватит и того, что встряхнется сам, встряхнет строителей, заставит людей думать о городе. И все!..
Внезапно еще одна неприятная догадка поразила Василия Петровича. По лицу его пошли пятна. Ему вдруг показалось, что Алешка выступал не против просчетов архитекторов, а за что-то мстил ему лично. За что?.. И когда собрание окончилось, он не подошел к Вале, а, виновато улыбнувшись ей, стал пробираться к Зимчуку, возле которого уже стояли Прибытков и Урбанович.
Так, вчетвером, они и вышли на улицу, разговаривая о собрании, стройках, о конкурсе, который вскоре должен быть объявлен на вторую очередь Советского проспекта. Но мысли Василия Петровича все время настойчиво возвращались то к Алешке, то… к Понтусу с Барушкой. Становилось очевиднее — разногласия с ними глубже, чем казалось еще сегодня. Многое из того, что возмущает Василия Петровича в их проектах, живет в других работах. Оно наложило отпечаток на архитектуру города вообще и даже на его работу как главного архитектора.
Этими мыслями Василий Петрович жил и назавтра.
Вечером он должен был пойти в горком, к Зорину, который всегда работал очень поздно и, как правило, часть дел оставлял на ночное время. Василий Петрович догадывался, что вызов связан с проектами Понтуса, и предвидел — разговор будет нелегким. Это обстоятельство и заставило его после работы побродить по улицам: надо было все взвесить.
Когда он проходил мимо трамвайного парка, ему вдруг вспомнилась реплика, брошенная Прибытковым на собрании, и подмыло заглянуть к нему. Но зайти в квартиру почти незнакомого человека было не так просто, и Василий Петрович долго в нерешительности петлял около странного жилья, крыша которого заросла бурьяном, как заброшенный пустырь. Возможно, он вообще не решился бы зайти, не заметь, что из подслеповатого, наполовину вросшего в землю оконца Прибытковых за ним наблюдает подросток. Поглядывая то на предзакатное солнце, то себе под ноги, Василий Петрович подался к двери и, постучав, неуверенно открыл ее.
Семья Прибытковых ужинала. За маленьким, накрытым клеенкой столом сидели хозяин и три похожих друг на друга мальчика-крепыша. Четвертый, постарше, примостился на табуретке у окна и тоже хлебал борщ из тарелки, стоящей на подоконнике, заваленном тетрадями и книгами. Хозяйка возилась у печи, гремя чугунами. На кровати, спиной к двери, откинувшись немного назад и опираясь руками на постель, сидел Алешка.
Не оглянувшись на скрипнувшую дверь, но нарочно не понизив голос, он сказал:
— Ты, Змитрок, говоришь — работа. Это верно. Но от одной работы и одичать недолго. У человека не только голова да руки есть.
— Я хочу, чтобы хорошо было, милок. А ты, это самое, саправды дичаешь, — ответил Прибытков и спокойно пригласил Василия Петровича: — Заходите, товарищ Юркевич.
Алешка бросил через плечо быстрый взгляд на дверь и сел прямее.
В комнате было темновато, и поэтому теснота в ней показалась Василию Петровичу просто страшной — здесь негде было повернуться. Он взглянул на желтые, сырые подтеки на фанерном потолке и стенах, на бедную обстановку и подумал, что дети у Прибытковых спят на полу.
— Удивляетесь? — ответив на приветствие, спросил Прибытков. — Живя тут, разве чего купишь? Где ты тут что поставишь?
— Да, да, — согласился Василий Петрович, комкая в руках шляпу.
Мальчишки перестали есть, как птенцы вытянули шеи, не сводя глаз с незваного гостя, но, заметив, что отец сердится, снова принялись за еду.
— Может, поужинаете с нами? — смущенно пригласила хозяйка.
— Нет, спасибо. Я так, просто…
— Просто с моста, — с издевкой прокомментировал Алешка.
— Я хотел поговорить с вами относительно вчерашнего, товарищ Прибытков.
— А чего тут говорить? Оно и так все видно, — обвел тот взглядом комнату. — Вы бы хоть сели.
Старший мальчик, примостившийся у окна, пододвинул свою табуретку Юркевичу и отошел на прежнее место.
Хозяйка подала на стол миску тушеной картошки, отложила немного в тарелку старшему и, пристроившись рядом с самым маленьким, обняла его за плечи, чтобы удобней было сидеть.
Все опять принялись за еду.
— Я вот тоже в гостинице живу, — сказал Василий Петрович, разглядывая семью угрюмого каменщика.
Алешка, как норовистый конь, к которому подошел незнакомый человек, отвернул голову и, глядя на запыленное окно, посоветовал:
— А вы поменяйтесь. Вот и квит.
— Я сюда не ссориться пришел.
— Это правда, Костусь, — заступился Прибытков. — А вы, товарищ Юркевич, не обращайте внимания. Он сам не знает, что ему надобно.
— Ой ли? Одно, да знаю! — упрямо махнул головой Алешка. — Нельзя, чтоб так было.
— А как тогда?
— Это уж не моей головы дело…
— Вот видишь, — спокойно прервал его Прибытков. — А я, это самое, вот что хочу сказать. Не такие мы бедные, товарищ Юркевич, чтоб жить так… Мы можем жить лучше. Надо только, чтобы каждый не забывал о другом и сам был как все.
— Будет, жди! — ударил себя по колену кулаком Алешка. — Урбанович и тот мне вчерась на собрании твердил: "Пень, — говорит, — метит из земли вылезти, а битое стекло, обратно, в землю влезть". А на черта мне такое!
— Ты не злись, — и на этот раз успокоил его Прибытков. — Злость не советчик. Ты до конца послушай. Неужто плохо было бы, если бы в стране нашей, это самое, все люди были простыми? Я никуда не лезу — ни из земли, ни в землю. Но мне, может, не так обидно в подвале жить, как из него ходить к кому-нибудь…
"Страна простых людей! — подумал Василий Петрович. — Пусть это, быть может, и наивно, но тут есть определенный смысл. И его надо осознать душой…" Нет, не островок заветной земли будущего, окруженной прежней убогостью, видимо, нужен людям. Они жаждут иного и имеют право на большее. Этот островок, о котором когда-то мечтал он и который теперь почти создан, не может принести подлинной радости. Наоборот, он пробуждает обиду своим несоответствием тому, что осталось вокруг… Страна простых людей!.. Архитектору особенно много в ней работы, и самое трудное, вероятно, поиски красивого — красы, простой и близкой человеку…
Вечером Юркевичу повезло — посетителей в приемной у Зорина не было, и о нем сразу доложили. Сквозь двойную, обитую дерматином дверь Василий Петрович прошел в кабинет и увидел секретаря не за столом, а возле окна. Раздвинув тяжелую, в мягких складках портьеру, тот смотрел на улицу. Услышав покашливание Василия Петровича, наклонился к окну, будто заинтересовался чем-то происходившим снаружи. Но когда наконец повернулся, Василий Петрович увидел, что лицо у него сердитое, злое.
— Садись, — не скрывая своей враждебности, сказал он и, подойдя к столу, подвинул на его край какие-то бумаги. — Познакомься, пожалуйста.
Василий Петрович взял бумаги, сел в кожаное кресло и начал читать. Как он и ожидал, в них шла речь о злосчастных проектах. Но что более всего удивило его — бумаги были из Академии архитектуры.
— Что скажешь? — с досадой спросил Зорин, дождавшись, когда Василий Петрович кончил читать.
Стараясь быть спокойным, тот положил бумагу на стол и тоже встал.
— Я не могу согласиться и с этим. По-моему, высокий защитник — тоже Понтус.
— Глупости! — вскипел Зорин. — Доморощенные штучки! И причем знакомые.
Значит, Зорин связывал его борьбу против проектов Понтуса с позицией, занятой в отношении коттеджей на Круглой площади. Значит, как и раньше, решил бросить ему обвинение не в отдельных ошибках, а в системе порочных взглядов, в порочной линии поведения. И потому нужно было не только выяснить формулу обвинения, постараться разубедить Зорина, но и опровергнуть его собственные взгляды, показать их уязвимость.
— Извините, но, честное слово, не доходит… — схитрил Василий Петрович, выкраивая время.
— До меня тоже, собственно говоря, не доходит, против чего ты воюешь. Против того, чтобы была прославлена эпоха? Тебе не по вкусу торжественность наших дней? Или не нравится, что наши люди желают видеть искусство не на одних выставках? Для тебя не существует ни команд, ни авторитетов и тянет проповедовать уравниловку. На политическом языке ты знаешь, как это называется?
— Нет.
— Тем хуже для тебя.
Они стояли близко друг к другу, и Василий Петрович кожей лица ощущал возмущение Зорина. Но вместе с этим и чувствовал — тот в чем-то не уверен, мешкает и тоже ждет еще чего-то. Иначе он вел бы себя совсем по-другому. В двух случаях — это знали все — когда Зорин в духе или чувствует свое превосходство, он всегда распоясанно прост и несдержан. Хлопает собеседника по плечу или грозит под самым носом пальцем, толкает под бок или стучит кулаком по столу, хохочет и матерится, демонстрируя свое "народное нутро".
— Сперва насчет уравниловки, — помедлил Василий Петрович, опасаясь теперь одного — как бы не ляпнуть такого, за что ухватился бы Зорин.
— Ну-ну, роди!
— Город строится не на десятки лет. Умрут заслуженные ученые, герои, народные артисты — они также небось люди. Кто тогда останется в коттеджах? Конечно, их потомки. Но кто знает; может быть, самые обыкновенные, если не хуже. Так почему же они должны жить в каких-то особых квартирах и домах?
— Не выкручивайся!
— И не думаю, — возразил Василий Петрович, понимая, что Зорин видит убедительность его слов. — Ведь фактом будет: город пострадает и каста появится. А по-моему, если и передавать что-нибудь по наследству, то только не привилегии. Не к лицу это нам…
— Однако наглеешь ты понемножку… И спорить насобачился… — как и ожидал Василий Петрович, не полез на рожон Зорин и, смерив его взглядом, вновь отошел к окну, всем видом, однако, показывая, что свое сделал.
Глава шестая
С ожесточением, точно мстя себе, Валя взялась за книги, которые дал ей тогда Василий Петрович. Да это было и необходимо для нее: чужая мудрость стала как бы прибежищем от своих огорчений, она обогащала Валю, примиряла с собой. Дивная, неведомая область человеческих поисков и дел открылась перед нею. Древний Восток, Греция, Рим, Византия!..
Едва различимые во мгле столетий, предстали египетские города — странное сочетание бедности с богатством. Кривые, узкие улицы, в беспорядке разбросанные, с плоскими крышами дома из сырцового кирпича, роскошные царские резиденции и обок, на каменистых террасах, гордость Египта — города мертвых. "Какое глумление над простым человеком!"
Палило солнце. Над головой синело чистое небо. Желтым маревом дымилась пустыня. И, словно караван, в глубь нее уходили серо-желтые пирамиды. Будто провожая их, рядом застыли поминальные храмы и красноликие сфинксы… Но там, у древних египетских зодчих, невольников и полуневольников, родилось гордое стремление — связать то, что делали руки человека, с тем, что создала природа!
А дальше?
Пришли не более милостивые Ассирия и Вавилония. Там пугала сама красота. Обнесенные толстыми стенами, города замкнулись в прямоугольную форму. Главенствуя окрест, на высоко насыпанных террасах поднялись цитадели дворцов и громадные трехъярусные черно-краснобелые башни — зикураты, напоминавшие ступенчатые усеченные пирамиды. На их вершинах стояли голубые павильоны, а на ступенях росли деревья…
И все-таки это не было так просто!..
Валя как бы побывала на побережье Эгейского моря с его бухтами и скалистыми островами, в гористом Пелопоннесе, в холмистой Аттике, покрытых вековыми дубами, кедрами, пиниями, вечнозеленым лавром. Перед ней, чаще на склонах мреели обнесенные стенами белые города. Над жилыми кварталами, в центре, поднимались, тоже огражденные стенами, акрополи — чудесные ансамбли из храмов, сокровищниц, храмиков и монументов. Синело всегда безоблачное небо, на фоне его несказанно красиво светился мрамор колонн и статуй. Связывая главные храмы акрополя с пейзажем, зодчие ставили их параллельно господствующему над окрестностью склону или морскому побережью. Но зато, чтобы обогатить эту упрощенную композицию, живописно размещали второстепенные строения и делали входы с углов. Перед тем, кто входил, акрополь открывался картина за картиной, в которой господствовало всегда одно какое-нибудь здание. Здесь родилась и агора — первая в мире городская площадь.
Это было проявление осознанных сил, человеческого таланта, почувствовавшего дыхание свободы. Город принадлежал человеку и богам, сотворенным по его образу и подобию.
Здесь было доказано — красота, созданная руками человека, может быть такой же чудесной, как и красота природы. И отсюда в города последующих времен, как завет и наследство, перешли театры, стадионы, гимназии.
А римские города!
Они были военными, административными, торговыми, портовыми и даже курортными. Их основание начинали с торжественного этрусского обряда. Вокруг будущего города бронзовым плугом проводили борозду. Она считалась священной, и на ней потом воздвигались городские стены. По легенде, так был заложен и Рим.
Его архитектурный центр образовали дворцы цезарей на Палатине, известный всему миру Колизей — четырехъярусный амфитеатр, возвышающийся даже над вершинами окрестных холмов, группа капитолийских храмов и система форумов с базиликами, портиками, храмами. Валя как бы наведала Колизей, видела, как насмерть дрались гладиаторы, как рвали друг друга звери. Огромная его арена иногда наполнялась водою, и тогда можно было стать свидетелем настоящих морских сражений, происходивших на арене. В редкие пасмурные дни над амфитеатром натягивали золотистый шелк, и он создавал иллюзию солнечного света. Так римские императоры покупали себе популярность и поддержку простолюдинов.
"Все дороги ведут в Рим!" И действительно, с разных сторон бежали к нему дороги, вливаясь в замощенные улицы. Так стихийно возникали улицы радиального направления, которые стремились к центру, к Римскому форуму. С отдаленных гор высокие акведуки подводили воду к большим резервуарам, откуда она по свинцовым трубам шла в жилые дома. Воды было много. Вода била из многочисленных фонтанов. Вода питала огромные бани и цирки. Зеленели сады и парки. По Марсову полю тянулись лавровые и платановые аллеи. В колоннадах портиков вились плющ; виноград. Пышный многоэтажный Рим вобрал в себя отшумевшую славу греков и соединил ее с жестоким величием древнего Востока.
Валя представляла это, и ее полнила горьковатая, но зато двойная радость. Горьковатая потому, что, оказалось, она до сих пор не знала того, чего нельзя не знать. Двойная потому, что познанное утверждало и других и ее. Перед Валей раскрывались пути истории, процесс накопления опыта человечеством, его отнюдь не легкий полет все выше, и это сулило пригодиться. Даже очень, В античном градостроительстве Валя видела и такое, что непосредственно пришло в ее родной город, помогая и мешая ему, А Валя уже чувствовала — без пера ей не жить.
Она как бы совершила путешествие в торговую Фло-ренцию с ее суровыми палаццо и строгими площадями, в ажурную Венецию — город каналов, дворцов, мостов и лучезарного неба, в папский Рим, где расцвело неспокойное, чувственное искусство — барокко, в пышный, парадный Версаль.
Эпохи проходили перед ней и, знакомясь с ними, она как-то внутренне, существом убеждалась — мир значительно богаче, чем думалось прежде. Но в то же время в ней родились и начали жить противоречивые чувства. Ее восхищала красота, созданная человеком, и возмущало, во имя чего эта красота создавалась и каких жертв стоила. И еще — чем величественней была красота, тем большие жертвы стояли за ней. И, может быть, никогда так сильно Валя не чувствовала прошлого. Человек мог им гордиться, но совесть заставляла проклинать его. Обижало, вызывало недоумение и отношение к нему.
Валя знала о судьбе забытого Версаля, и ей становилось до боли жаль его. Забыть о Версале, который так дорого стоит народу и в котором проявился его творческий гений! Версальские дворцы не ремонтировались уже больше столетия. Ленотровские сады зарастали, превращаясь в непроходимые чащи. И только когда рухнула одна из стен Великого Трианона, Франция вспомнила о чуде национального искусства. Вспомнила! Но, как оказалось, это было чересчур накладно — для ремонта Версаля требовалось шесть миллиардов франков. Откуда их взять? Одни утверждали, что как раз на эту сумму французы в месяц выкуривают табака, и предлагали курящим объявить месячный пост. Другие призывали женщин пожертвовать драгоценности. Департамент искусства выдвинул проект провести сбор средств среди художников, коллекционеров и торговцев картинами. Прогрессивная печать произвела свои подсчеты, из которых следовало, что трехдневных военных расходов Франции тоже хватило бы, чтоб спасти Версаль… А Версаль разрушался…
С ревнивым любопытством стала Валя знакомиться с русским градостроительством, с его взлетом в эпоху Петра. Сколько важнейших градостроительных проблем было поставлено при решении плана Петербурга! Знаменитые "стипендиаты" — Еропкин, Коробов, Земцов — использовали и развили систему трех лучевых проспектов. Они связали эти проспекты с каналами, а радиальные и кольцевые магистрали — с кольцами парков. При смене стилей они смогли создать архитектурно целостный образ величественного Петербурга, соответствующий тогдашнему представлению о столице могучей державы. Грандиозный ансамбль Адмиралтейства, на который направлены проспекты, Казанский собор со своей полукруглой колоннадой, повернутой к Невскому проспекту, завершенный архитектурный центр Петербурга с Дворцовой и Сенатской площадями поражали величием замыслов.
Хорошую гордость вызывали творения великих мастеров ансамблей XVIII–XIX столетий — Растрелли, Казакова, Баженова, Старова, Захарова, Воронихина, Росси, которые смогли не только создать национальную русскую, архитектуру нового направления, но и поднять ее до лучших образцов мировой архитектуры. Но снова — как много, ох как много стоило все это народу!..
Чем ближе подходила Валя к современности, тем больше встречала знакомого. Однако и оно представало теперь в ином свете.
И интересно: проникаясь уважением к творческому гению человека, Валя иначе начинала смотреть на самого Василия Петровича. Малопонятный и потому немного странный, он как бы воплощал теперь в ее глазах этот величайший опыт народов далеких и близких времен. Он стал носителем, защитником и продолжателем этого веками накопленного опыта. И Валя опять и опять в эти дни чувствовала неловкость за свое легкомысленное отношение к нему, за то, что раньше не смогла оценить его преданность делу, которому он служил.
Вообще Валя до этого мало думала о нем. Ну живет умный, скромный человек, работает честно, преданно. Ну и что в этом особенного? Пусть! С ним приятно побеседовать, поспорить. Тем более, что на общественной лестнице он стоит выше тебя. Но в беседе и спорах тебя интересует не этот человек сам по себе (он же пороху даже не нюхал!), а то, о чем ты говоришь с ним, и еще разве — собственные остроумие и правота. И вот, узнавая, чему служил Василий Петрович, Валя невольно начинала думать о нем самом. "Кто он? Действительно ли способен на большое? Что у него заветное?.." Но одно становилось бесспорным — Василий Петрович делал все от него зависящее, чтобы в ряд этих замечательных городов, о которых она читала, стал и Минск. Ее Минск! В Вале просыпалось любопытство и уважение, а на Василия Петровича ложился отблеск великих деяний его предшественников.
На этот раз она нашла Василия Петровича в мастерской. Сидя на табуретке у мольберта, он рисовал перспективу — поворот Советского проспекта у Академии наук. Рядом, тоже на табуретке, лежали акварельные краски, кисточки, стояли баночки с водой. Василий Петрович не услышал, как Валя вошла в мастерскую. Наоборот, как это бывает с человеком, который убежден — он один, по-сумасшедшему пробормотал что-то себе под нос и сделал удивленно-испуганную гримасу. Затем откинулся назад, свистнул и стал рассматривать перспективу.
Держа перед собой книги, Валя, однако, не окликнула его, а осталась посредине мастерской, не зная, что делать. Книги можно вернуть и в другой раз, но как выйти, ничего не сказав?
Заинтересовала и перспектива.
Чистый-чистый, какими могут быть предметы только на акварелях, Советский проспект уходил вдаль, свободно поворачивая где-то возле здания Академии наук с его полукруглой колоннадой и пока еще не существующей чугунной оградою, с липами и серебристыми фонарями вдоль тротуаров. На противоположной стороне проспекта, создавая такой же свободный, только больший полукруг, возвышались четырех-, пятиэтажные дома. Один из них увенчивала башня, которая завершала перспективу проспекта и придавала картине законченный вид. Валю поразило именно то, что будущий проспект уже теперь угадывался в натуре. Кое-что тут уже существовало, было дорогим. Но вообще это был вовсе новый проспект нового города, поднимающегося из руин… Василий Петрович как раз накладывал на тротуары тени от лип, и Валя подумала, что сейчас он живет в этом созданном его фантазией городе и верит в него как в действительность. Да и рисует будто не то, что ему представляется, а то, что вспоминает — уже виденное. "Архитектор вообще счастливее многих, — пришла мысль, — он в завтрашнем дне".
Неслышно вошел Дымок и, молча пожав Валину пуку, кивнул на Василия Петровича. Появилось такое ощущение, что они как бы подсматривают за ним.
— К нам гостья, Василь, — постарался поправиться Дымок, видя, что тот продолжает работать.
Василий Петрович вздрогнул, оторвался от работы.
— Вы? — удивился он, заметив Валю, вроде боясь своего удивления. — Прочли?.. Говоря откровенно, когда у меня незадача, я обращаюсь к ним… Раскрываю наугад и читаю. И, надо сказать, помогает.
Он взял книги, заглянул Вале в глаза, проверяя, согласна ли она, и бережно положил книги на табуретку.
— Может, взглянете и на нашу работу?
Только теперь Валя заметила развешанные по стенам проекты. И опять удивилась: как отчетливо представляли себе несуществующее Василий Петрович и его друг.
— У нас как классику воспринимают? — неожиданно разговорился Дымок. — По каким-то признакам частным. А она — мудрость, простота, целесообразность. Ее не копировать надо, а проникать в открытые ею законы, по которым создается красота. А то что выходит? Высотное здание на Привокзальной площади в кирпиче выглядело красивее, чем сейчас, когда его украсили разными классическими штучками.
— Это верно, — согласилась Валя.
— Заметили? — обрадовался поддержке Дымок, как радуются люди, которые редко находят ее у других. — Отсюда однообразие…
Не хвались, идучи на рать, — не дал ему говорить дальше Василий Петрович. — Эти вопросы, как известно, легче всего языком решать.
— Глуп тот человек, Василь, который все двадцать четыре часа в сутки скромным да умным бывает…
Валя вышла из мастерской с чувством зависти. Хорошо думалось о Юркевиче, Дымке. Она слышала — последний оставался в оккупации, работал чуть ли не сторожем, пережил семейную драму. Это как-никак определяло отношение к нему. Да и честность его была своеобразна: когда у него о чем-нибудь спрашивали, — отвечал, если же не спрашивали, — молчал. Но до сих пор из поля зрения выпадала его работа. А в ней и скрывалось главное — он трудом утверждал свои идеалы и боролся за них. У Василия Петровича тоже было нечто от Дымка, хотя он и не был таким пассивным. Но его работа!.. Валю потянуло на проспект.
Доехав по дороге в редакцию до Комаровки, она вышла из автобуса. Будто никогда раньше не видев этого уголка старого Минска, стала рассматривать убогие, вросшие в землю халупы. Особенно бедно выглядели седлообразные кровли. Чем они когда-то были накрыты? Дранкой, черепицей, толем, жестью? Кто их знает. Дырявые, почерневшие, заплата на заплате, они кренились набок и угрожали рухнуть. А над ними чернели задымленные, щербатые трубы. Но за этим деревянным убожеством поднимались, правда еще редкие, каменные дома. И если, рассматривая проекты в мастерской, Валя чувствовала и видела, как из того, что есть, вырастает будущее, то теперь она наблюдала совсем иное — как прошлое уходит в небытие.
Вскоре эти домишки будут снесены. Стены некоторых из них, еще не совсем сгнивших, пометят мелом или краской, чтобы потом, заменив негодные венцы новыми, поставить в другом месте. Большинство же разберут на дрова. Валя подумала: надо сделать что-нибудь, чтобы в памяти остался от них след. Вынув из сумочки записную книжку и авторучку, она с чувством непонятной жалости стала записывать номера домишек, "Пусть останется хоть это…"
У таких девушек, как Валя, почему-то живет убеждение, что они легко могут приносить счастье другим. Достаточно захотеть стать добрее, чем-то поступиться, и они осчастливят любого. Особенно, если они благодарны кому-нибудь.
Встретив через несколько дней Василия Петровича около своего дома, чувствуя, что он устал и озабочен, Валя решительно предложила:
— Давайте-ка катанем на озеро. Нельзя же без конца работать…
Она сбегала домой, наспех переплела косы и, захватив кулек с хлебом и салом, потянула Василия Петровича к трамвайной остановке.
В вагоне было жарко, душно. Но Василий Петрович, который, пока шли к остановке, словно прислушивался к себе, оживился. Поддерживая Валю за локоть, с удовольствием впитывал в себя все, что видел и слышал вокруг.
На скамье, справа от него, сидел бородатый мудреный старичок с корзиной на коленях и, чем-то возбужденный, разговаривал с загорелым мужчиной в белой расстегнутой рубахе с короткими рукавами.
— Значит, вы из Заречья? — радостно спрашивал он. — То-то же, я смотрю… А я из Семкова. Хата моя с краю. Сад у меня, ульи… А зовут меня Мокей.
— Давно не был там, — с сожалением признался загорелый мужчина.
— Эге, товарищ! Вас же выселять по плану намечено. Там море будет…
— Нет, ты скажи, — гудел густой бас за спиной Василия Петровича, — ты вот инженер. А он что ни на есть обычный рабочий. Так почему же не ты, а он изобрел это?
— Ты спрашиваешь?
— Как видишь.
— Да потому, что это, брат ты мой, очень просто.
— Вы слышите, Валя? — наклонился к ее уху Василий Петрович.
Проехали площадь Свободы. По узкой, зажатой среди монастырских стен улице Бакунина, где ветки старых плакучих берез чуть ли не касались трамвая, спустились к Свислочи. Поскрипывая тормозами, трамвай взошел на мост, и в вагоне посветлело. На потолке заиграли живые, мягкие отблески.
Близоруко щурясь, Василий Петрович опять вспомнил об услышанном:
— А между прочим, это верно. Иногда ищем, ищем, а решение — вот оно, рядом…
На озеро они пришли немного смущенные. Но в этом было что-то и приятное: смущение сближало их, обещало обоим хорошее.
Калило. Озеро лежало усталое. Несколько лодок скользило по нему, но поверхность его оставалась зеркалькой. Даже моторка, которая направлялась к заросшим лозою островкам, вздымая волны, не нарушала этого покоя, а только всколыхнула отражения в воде.
Вдоль всего берега в купальниках, трусах, в соломенных шляпах, ярких косынках, с головами, повязанными носовыми платками или обмотанными, как чалмою, полотенцами, сидели и лежали отдыхающие. Возле них, по дорожке, посыпанной песком, двигался нескончаемый поток людей. Чудом лавируя между ними, проносились велосипедисты, шныряли подростки. Тут же, при дорожке, под большими полотняными зонтами или просто так, под открытым небом, стояли в ряд беленькие столики-буфеты с пирамидами ящиков возле каждого, голубые колясочки мороженщиц, пузатые, обложенные кусками льда пивные бочки с насосами, похожими на старинные водоразборные колонки. Немного на отшибе, вокруг разостланных прямо на траве скатертей с питьем и снедью сидели более солидные. Любители волейбола играли в мяч. От моста доносился ровный шум падающей воды. Невзирая на жару, с противоположной стороны озера долетала музыка — там танцевали;
Василий Петрович с Валей взобрались на крутой откос и по пыльной дорожке, которая тут не вилась, а прямо бежала к далекому пригорку, скрываясь только в низинках, вошли в золотой ржаной разлив.
Рожь стояла, объятая особенным полевым зноем. Колосья, налитые и склоненные, не шевелились и были теплыми.
В суходоле, поросшем кустиками, травою и цветами, Валя, боясь быть манерной, потянула Василия Петровича за собой. С увлечением стала объяснять, как называются цветы, когда и как начинают они цвести, какие травы лекарственные.
— Это аистов клюв, — говорила она, срывая лиловый цветок. — Когда лепестки опадают, из него вырастает стручочек, тютелька в тютельку клюв аиста. И такой же красный. А это черничник. У нас когда-то черничником полотно красили. Напарят, добавят болотной грязи, такой жирной, липкой, и красят… Вам не наскучило?
— Нет…
Костер они решили разложить в лощинке. Валя побежала собрать сухой травы и хвороста. Василий Петрович побрел за нею, но вскоре отстал. Когда он вернулся почти с пустыми руками, Валя уже, склонившись над кучкой прошлогодней хвои, раздувала огонь. Рядом лежали хворост и похожий на омара пень.
Она попросила достать кулек. Разостлала газету, вынула из сумочки ножик. Ловко заострив прутик, насадила на заостренный конец ломтик сала и передала его Василию Петровичу. Потом, сделав то же самое для себя, деловито принялась жарить сало на веселом, бледном на солнце огне.
Ломтик пухнул, затягивался румяной корочкой, сердито шипел. Повертывай сало, Валя незаметно глотала слюну. Когда на ломтик набегала янтарная капля, подносила его к хлебу и осторожно снимала каплю. И Василий Петрович, как прилежный ученик, повторял все, что делала она.
Ели с аппетитом, кусая так, чтобы не коснуться губами горячего сала.
— Расскажите еще что-нибудь, Валя.
Она воткнула свой рожончик в костер, вытерла губы и украдкой взглянула на Василия Петровича. Она была уверена — сейчас увидит в нем что-то новое, не замечаемое раньше. Захотелось узнать, что он думает, чувствует.
Бледный от усталости, в мешковатом костюме, Василий Петрович выглядел буднично, неинтересно. Только прищур глаз, высокий, открытый лоб и волнистые, зачесанные назад волосы придавали его лицу какую-то стремительность. Нет, Вале хотелось, чтобы он был иным. Каким? Более ярким, необычным. Но… чтобы ярким и необычным был именно он — Василий Петрович…
Она сидела, обхватив колени руками, склонив голову. В такой позе выглядела маленькой. На коленях, спущенные с плеч, лежали косы, Их хотелось погладить, взять на ладонь.
Василия Петровича обдало одиночеством, и он лёг на спину.
Над ним синело небо. Высоко крылатым комочком трепетал жаворонок. Его песня звенела, лилась с высоты. Вокруг мирно стрекотали кузнечики. Пахло чебрецом, сырой землей, корнями. И от всего этого Василию Петровичу стало еще более одиноко.
Неподалеку из борка вышла девушка в цветастом платье. Приложив рупором ко рту руки, громко позвала: "Во-ло-о-дя!"" — и так стояла, пока от дальней гривки борка не вернулся ее оклик: "ло-о-дя!"
Валя встрепенулась.
— Какое у вас самое заветное желание, Василий Петрович? — спросила она.
— Мое заветное?
— Ага.
— У архитекторов, как говорят, одно только есть, — стараясь отделаться от щемящего чувства, ответил он шуткой. — Построить себе памятник, но не лечь под ним. Хоть это очень сложно, Валя…
Вера не чувствовала вины перед мужем. "Пусть он и так благодарит", — говорила она Понтусу, хотя, за что и почему Василий Петрович должен быть ей благодарен, не объясняла.
Для себя она выдумала — а может, и была в этом доля правды — оригинальное оправдание и с течением времени поверила в него. Что поделаешь, ежели Василий Петрович чудак-идеалист. Ему не хватает ни практичности, ни желания заботиться о семье. Он витает в облаках и способен на глупости, особенно если дело касается службы. Поэтому ей самой приходится принимать меры. Все, что она делает, делает не только ради себя. Ее забота — сын и, если хотите, сам Василий Петрович. И это она, наверное, имела в виду, говоря, чтобы муж благодарил ее.
Но дело все-таки обстояло несколько проще. Вера говорила: "Пусть он и так благодарит". И в этом "и так", очевидно, была более достоверная причина ее сближения с Понтусом. В душе Вера считала, что муж не дает ей всего, на что она имеет право. Она хотела жить. Как? Лучше, полнее, чувствуя, что ты живешь. Ее тогдашний отъезд в Москву был не только бегством из Минска. К тому же шли годы, и это тревожило Веру, Она все пристальнее рассматривала себя в зеркало, словно не веря, проводила ладонью по лбу, по щекам, разглаживала кожу под глазами. И успокаивалась, лишь, когда глядела на свое тело, — оно оставалось молодым, годы его щадили. Война подсознательно обострила жажду жизни. Смертями напомнила: "Ты тоже смертная, и не так уж много нужно, чтобы вот ты была — и тебя не стало. В жизни все проще, чем об этом говорят!"
Скорей всего, Понтус был первый. Каждый приезд его в Москву приносил Вере какую-то радость, — ресторан, театр, необыкновенно проведенный вечер. Понтус выглядел солидно, с ним нигде не стыдно было показаться. Он умел, когда надо, молчать и на многое не претендовал. К тому же от него в какой-то мере зависела судьба мужа, а значит, и ее с сыном. Понтус же вообще мало задумывался при таких обстоятельствах. Попадалась возможность — и он ее использовал. Победа льстила самолюбию, возвышала в собственных глазах, да и сама жизнь становилась приподнятой.
К тому же люди, которые зависели бы от него, были для Понтуса не лишними. За годы руководящей работы он приобрел определенные знания, ориентировался в обстановке, научился комбинировать, мог подать идею, умел подметить отрицательное, с помпой раскритиковать неугодный проект. Но он понимал — стоит ему потерять должность, как авторитет его рухнет и все собственные работы будут проваливаться в первой же инстанции. С другой стороны, чтобы удержаться в должности, необходимо было во чтобы то ни стало укреплять мнение, что он человек творческий. С этой целью Понтус даже отказался от половины ставки, которую имел право получать за проектную работу в Белгоспроекте, но зато работал дома, был свободен от обязательных заданий и имел под руками Барушку, которому добился оплаты за сверхурочный труд.
Веру, как и многих, вводили в заблуждение выдержка, опытность Понтуса, и она верила в него. Вопреки своему намерению порвать с ним, приехав в Минск, она не переставала встречаться с Понтусом. Встречи были короткие, оскорбительные, но отказаться от них мешала не только личная слабость, но и авторитет Понтуса. Он лишал Веру воли; зная его хватку, она даже стала его побаиваться. Да и трудно остановиться камню, если он покатился с горы.
Сегодня она долго думала о себе. Думала, чувствуя себя несчастной, и мысли ее все время возвращались к одному: надо что-то предпринять. Но и в этом таилось двойственное и лицемерное: она не так искала выхода, как хотела при любых обстоятельствах иметь его. Василий Петрович все больше замыкался в себе и, отдаляясь, становился чужим. Когда утром она пожаловалась ему: "Ты, Вася, хотя купил бы мне помаду, а то все губы жестянкою поцарапала", — он взглянул на нее так, словно увидел впервые: "Сходи и купи, коль приспичило""
Это было просто не похоже на него.
Она отправила Юрика гулять. Сбегала на рынок, купила у приезжих молдаван яблок и груш, старательно вымыла фрукты, положила на блюдо и поставила на стол возле хрустальной вазочки с цветами. Потом заставила себя сесть штопать носки Василию Петровичу — их набралась целая груда. "Я в самом деле мало слежу за ним".
В дверь постучали.
— Можно, — разрешила Вера, думая, что это кто-нибудь из работников гостиницы.
Но вошел Понтус.
— Чего тебе? — вместо ответа на приветствие шепотом осведомилась она, не догадавшись даже спрятать носки.
— Ты не рада?
— С ума сошел!
Он поцеловал ее бессильную руку и, не ожидая приглашения, сел на стул рядом, подтянув на коленях, чтобы не помялись, аккуратно отутюженные брюки.
Обычно, когда Вера оставалась с Понтусом наедине, все, что беспокоило ее, незаметно начинало терять значение, сдаваться не стоящим внимания. Значение приобретало иное. Понтус сидел обок и оглядывал ее. Охватывало трепетное бездумье, когда все — хоть трава не расти, когда совсем не жалко себя и сердце готово сорваться в бездну. Так и сейчас — Вера расслабла и послушно положила руки на колени. Действительно, будь что будет, однако втайне уверенная — все равно ничего страшного не случится. Самое дурное — сплетни. Но, во-первых, они не дойдут до мужа, а во-вторых, плевала она на них. Даже если б — не приведи господи! — они все-таки дошли до Василия Петровича, она бы выцарапала ему глаза, но доказала, что черное это белое.
Понтус потрепал ее по щеке, взял за подбородок. Вера смежила веки и слегка придвинулась к нему. Бледное лицо ее осунулось, под глазами проступила синева. Так неподвижно, прислушиваясь к самой себе, она просидела с минуту. Но потом раскрыла наполненные нездоровым светом глаза и метнула взгляд на Понтуса.
— Мне придется тебя огорчить, — сказал тот, сочувственно усмехаясь. — По телефону про такое не расскажешь…
Вера вскинула голову и поднялась с оттоманки.
— Нет, ты сиди. Когда человек сидит, он более рассудителен.
— Ну, говори! — крикнула она, раздражаясь медлительностью Понтуса.
В ее выкрике были отчаяние, приказ.
— Я хотел сказать, — заторопился он, — что безгрешных люден нет. Человека тянет на запретную снежнику. Даже Василия Петровича. Не смотри так! Вчера ого видели с одной на озеро. Говорят, не впервой. Они встречаются и в служебное время, и в мастерской…
— Кто видел? — сорвался голос у Веры.
— Все… Барушка, Алла, Шурупов…
Что руководило Понтусом? Задатки падкого на сенсации сплетника? Желание поднажать и с этой стороны? Месть и злая радость? Приятно видеть свои пороки в человеке, который в моральном отношении выше, чем ты. Это ведь оправдывает тебя самого. Все может быть. Но главная причина, скорей всего, была в какой-то ехидной ревности, в желании сильнее привязать к себе Веру Антоновну, которая становилась ему все более необходимой. Он шел как бы от противного и, надо сказать, мало в чем ошибался. Были, конечно, и свои корыстные расчеты…
Вера встретила мужа холодным, испытующим взглядом. С подчеркнутой независимостью и вызовом прошлась по комнате, умышленно задев его локтем. План, как действовать, у нее еще не созрел. Пока она решила только, что сегодня говорить об услышанном не может — сослаться на Понтуса как на свидетеля было нельзя. Но в ней все кипело, и Вера жаждала скандала. Обязательно надо было оскорбить мужа, наговорить ему обидных слов, хотя не совсем верилось в серьезность его ухаживаний.
Она знала, чем рассердить его, и потому, сделав невинное лицо, солгала:
— Сегодня я встретила Аллочку. Она передавала, что Илья Гаврилович окончательно недоволен тобою. Когда ты, наконец, станешь человеком?
— Я не хочу об этом говорить, — устало сказал Василий Петрович.
— А я хочу, потому что еще, слава богу, чувствую ответственность за семью. Посмотри на себя! Какой ты отец, муж! — Вера держала в руке носок и после каждой фразы тыкала им в сторону Василия Петровича.
Он посмотрел на нее, остерегаясь, что не выдержит, стукнет кулаком по столу и дико закричит. А она, разжигаясь, подступала все ближе и повышала голос.
— Ты хоть потише, — все же попросил он. — В коридоре слышно.
— А мне плевать на них! — завизжала она, будто только и ждала этих слов. — Начхать! Пускай слушают, Мне нечего скрывать от других!
— Да успокойся же!
— Ага, боишься? Я, Василий, загодя тебе говорю: если что, так знай — я себя не пожалею. Я опозорю тебя, руки на себя наложу. Попробуй тогда поживи… Отольются тебе мои слезы… И скажи мне все-таки, кто такая Верас…
Кто такая Верас?..
Был обеденный перерыв, и в редакции стояла тишина. На своем столе Валя нашла записку от Лочмеля. Тот писал — поехал на автомобильный завод. Сообщал, что материал в машинном бюро, и просил особенно внимательно вычитать сталинградскую подборку, которую переводили сами машинистки. "С придирками прочитай и мою статью, где защищаю Юркевича. Если есть острые формулировки, по возможности смягчи…"
Только Валя собралась сходить в машинное бюро, как в дверь постучали и в комнату боком, точно нельзя было шире открыть дверь, вошел юноша в новых кордовых брюках, в ковбойке на молниях, с фуражкой в руке. Недоброжелательно оглядев комнату и не увидев никого, кроме Вали, он шагнул к ее столу.
— Заметку принес, — сказал ломким баском. — Решили вот напечатать у вас.
— Кто это решил? — не улыбаясь, спросила Валя.
Юноша переступил с ноги на ногу и нахмурился, брови его почти сошлись на переносице.
— Кто решил? Мы, — с открытым вызовом ответил он. Потом потянул за замочек "молнии" и вынул из бокового кармана аккуратно сложенный лист бумаги.
— Погоди, погоди! — быстро проговорила Валя, приподнявшись. Что-то до боли знакомое угадывалось в его лице, высоком чистом лбу и особенно нахмуренных бровях. — Постой! Ты, случайно, не Тимка?
Паренек смутился, и то, что он скрывал под напускной серьезностью, вдруг вырвалось наружу — он мучительно покраснел, по-мальчишечьи, до пота.
— Ну, и что с того? Тимка, — сбитый с толку, сказал он и спрятал бумажку назад в карман.
— Как что? — Валя наклонилась к нему через стол и, схватив за плечи, встряхнула. — Я же Валя! Неужели не помнишь?
Да, это был он, упрямый, ершистый подросток, которого Валя видела всего два раза — в больнице, у кровати Олечки, и тогда, ночью, около руин кинотеатра.
— Где это ты пропадал? А? Рассказывай, — попросила она. — Столько воды утекло…
— Как жил? По-разному. Хотя вся автобиография тут. — Тимка показал на фуражку со значком ФЗО. — Учился, окончил, теперь работаю. А вы?
— И я тоже: училась, окончила… и вот работаю, — ответила Валя, догадываясь, что Тимка не хочет говорить о себе.
Она почти силой усадила его на стул и все же заставила ответить на вопросы — встречался ли с Олечкой, где живет, сколько зарабатывает, что думает делать дальше.
Встречался ли он с Олечкой? Тимке представилась первая после разлуки встреча с сестрой. Моргая большими от испуга глазами, она с минуту не могла ни говорить, ни решиться на что-нибудь. Ошарашенная девочка стояла, теряя силы. Когда же он протянул ей, как взрослой, руку, рванулась к нему и, обняв, затряслась на плече. "Ты, Тимка, ты вырос! — всхлипывая, заговорила она торопливо. — Какой ты большой, Тим!" И он, страдая от жалости и любви к дорогой, но уже не совсем знакомой сестренке, никак не мог чего-то простить Зимчуку, который стоял в отдалении.
Что думает он делать дальше? Да разве скажешь об этом вот так сразу… Много, очень много думает он делать.
— Мамочки! — внезапно спохватился Тимка. — Заговорились мы. Меня ведь у подъезда товарищ ждет. А это, — он опять вынул из кармана бумажку, — про нашего бригадира. Мы понимаем… Нас ведь, вот те слово, аж температурило первый день. Другому скажи — смеяться будет: от работы температурило. А он догадывался. Поставит в одну причалку с собою и учит. Сначала небольшую часть захватки давал, а потом прибавлял по кирпичу, чтоб не лотошились. В темп, значит, вводил…
— А нормы? — в чем-то подражая Лочмелю, спросила Валя, пробегая глазами заметку.
— Нормы? — шевельнул Тимка крутой, бровью. — Вот это да! Дилемма. Но они, товарищ Валя, никуда не денутся.
— Значит, не выполняете?
— Нет, конечно.
— В таком случае, с заметкой придется подождать. Славу, видишь ли, авансом не дают. Правда? Дела нужны.
— Дела? — обиженно повторил Тимка и замкнулся. — Что ж, может, вы и правы. Но и каменщиков сделать из нас тоже дело не пустяковое.
— А кто же этот ваш бригадир? В заметке ведь фамилия не указана, — чтобы чем-нибудь сгладить неловкость, сказала Валя.
— Кто бригадир?.. Всегда затокуюсь, Урбанрвич его фамилия. Слышали?
Не заметив Валиного удивления и пообещав зайти в другой раз, Тимка вышел, а Валя снова, не сразу сообразив, что нельзя его было так отпускать, осталась одна с разбуженными воспоминаниями.
— Как летит время! Прошлое надо вспоминать, точно давно прочитанную книгу…
Валино прошлое, как оно представлялось ей самой, начиналось с войны. До этого были детство и первые годы юности, что, как казалось Вале, смешно считать той зрелой и определенной порой, какой является прошлое человека. Таким образом, получалось, что Валиным прошлым была война и то, что пришло за ней. Это и определяло отношение Вали к своему прошлому. Она прежде всего чувствовала его значительность. И действительно, сами масштабы событий того времени были необыкновенны. Война охватила мир, уничтожала государства и города, цветущие края превращала в зону пустынь и тлена. В ее буре погибали миллионы жизней — от пуль и города, от бессилия и огня. В то же время это были героические годы. Война привела в движение народы всей планеты, и сквозь кров и смерть поднялись к жизни новые свободные страны. Она утвердила непо бедимость родины. И, несмотря на то, что страна лежала в руинах, что обессилели не только люди, но и металл, родина, как казалось, была ближе к коммунизму, чем до того.
Кто знает, может, это чувство, живущее в Вале, тоже клонило ее к Василию Петровичу. Он как бы приходился в масть. Из окружающих людей в нем наиболее ярко, сдавалось, горел тот огонь, что вспыхнул в людях с победой. Он упорно шел к своей цели. И цель его была высокой, достойной этой победы. Как было бы хорошо стать рядом с ним, взглянуть на вещи его глазами и написать бы об этом… Ведь у него мужественный характер, красивый, стремительный профиль, особенно, когда Василий Петрович щурится, решившись что-то сказать…
На столе у Лочмеля заверещал телефон.
В первое мгновение Вале показалось, что звонит именно он, Василий Петрович. Но это скорее испугало, чем обрадовало ее, и она не сразу взяла трубку.
Однако звонил Зимчук.
— Ты? — спросил он, точно не доверяя. — Здравствуй. Я с тобой еще на собрании в горсовете хотел поговорить, да не выпало. Знаешь, Тимка нашелся! У нашего Урбановича теперь. Прояви, пожалуйста, инициативу. Поддержи пером. Добро?..
Валя осторожно положила трубку и, смущенная, выбежала из комнаты. Но ни в коридоре, ни у подъезда Тимки уже не было.
Алексей с первого взгляда заметил, что бригада не старалась так отроду. Правда, взятый темп ребята едва удерживали. И хотя было холодновато, Тимка вскоре стал вытирать пот со лба и, беря кирпич, покашливал, чтобы восстановить дыхание. Он явно надсаживался, Кирпичи у него ложились не совсем ровно, раствор вылезал из пазов.
Здание поднялось уже на пять этажей, улица с подмостков была видна как на ладони, и обычно Тимку интересовало все, что происходило внизу, на проспекте. Сегодня там сажали липы. Это было любопытно. Липы привозили на грузовиках по одной, с корнями, старательно упакованными в огромные ящики. Самоходный кран поднимал их и бережно ставил на землю, возле подготовленных ям. Опущенные на землю липы почему-то становились меньше, в глаза бросались, точно прихваченные огнем, но все еще зеленые листья, трепетавшие на ветру. Но вот грузовик отъезжал, возле лип начинали хлопотать рабочие, снова их поднимал цепкий кран, и вскоре уже казалось, что деревца росли тут давно. И так, выстраиваясь в ряд, липы все дальше уходили к Центральной площади, придавая обжитый вид проспекту.
Однако Тимке было не до этого. Он работал, охваченный одним желанием — доказать свое. Думалось, что встречи с Валей всегда приносили перемены в его жизнь. В самом деле! Как только за Валей тогда закрылась дверь в палату, он хмуро попрощался с Олечкой и, точно за ним гнались, побежал между кроватями по больничному коридору. Куда? Зачем? Вряд ли понимал он и сам. Но хорошо знал — убегает и должен убежать от того, что готовил для него Зимчук. Валино сочувствие подхлестнуло его упрямую решимость. Детский дом сдавался неволей — где все чужое, однообразно серое, где даже девчонок подстригают, как мальчишек. Пусть уж лучше колеют от холода руки, пусть лучше голод, чем эта поднадзорная жизнь. "Жил в войну, проживу и теперь! Зато делай что хочется, иди куда душа желает. Сам себе командир и председатель горсовета".
Так попал Тимка к беспризорным. Раздобывал еду на рынках, отогревался на вокзале, спал где придется. Везло, когда был настойчивым и проворным. Мыкал горе, когда колебался и не хватало веры в себя. И постепенно укоренялось убеждение, что на свете все решает изворотливость и что она — мера цены твоей и твоих "корешов". Все хорошо, что хорошо сделано. И все плохо, что плохо кончается. А что будет завтра? Пусть об этом думают лошади — у них головы большие. Вместе с тем рождался азарт. А главное — независимость и свобода! Надеялся, так будет всегда. Но вот вышел на серьезную "операцию" — и на тебе, все пошло вверх тормашками. Наблюдая за улицей и охраняя сообщников, приближавшихся к своей добыче, он узнал Валю. Кровь ударила в виски. Он ужаснулся тому, что делал.
В "товариществе" были свои законы, и горе тому, кто нарушал их. Особенно безжалостно карали "ссучившихся". Но он нашел в себе решимость порвать со всем и уехал из Минска. Около полугода разъезжал по другим городам, нищенствовал, одурачивал доверчивых, соблазняя играть "в три листика". И лишь глубокой осенью попал в… детский дом. И получилось так, что рядом с образом Олечки он стал хранить в памяти и образ Вали.
Вчера, ложась спать, Тимка сказал своему закадычному рыжему дружку, кровать которого стояла рядом:
— Знаешь, Витя, кто нас отчитал в редакции? Верас. Помнишь, рассказывал? Завтра рвануть надо. С инициативой. Ты тоже поговори с хлопцами.
— Ладно, рванем, — согласился Виктор, натягивая на голову одеяло…
Тимка чувствовал, как неприятно дрожат руки и постепенно затекает спина. Хотелось разогнуться, распрямить плечи. Но он скорее дал бы себя распять, чем показал свою слабость.
Алексей выждал, когда паренек выбился из сил, подошел к нему. Было жалко его и в то же время обидно за себя. "За няньку поставили. Сгори ты, такая работа, огнем…"
Но, чтобы дать Тимке отдохнуть, Алексей, будто собираясь что-то показать, взял из его рук кельму и сразу наметанным глазом заметил, что последние ряды кладки искривлены, а раствор до краев заполняет пазы в наружном ряду.
— А ну, проверь ватерпасом, — оскорбленный, велел он.
Тимка взял рейку с ватерпасом, приложил к стене и чуть не выпустил. Три верхних ряда нависали над нижними.
— А пазы где? — уже обрушился на него Алексей. — Разобрать, неумека!
Остальные ребята тоже прекратили работу и стала прислушиваться.
Откуда-то прямо перед Алексеем вырос Виктор, взъерошенный, смешной в своем самоотверженном желании защищать товарища. Он со сжатыми кулаками остановился перед бригадиром, готовый и заплакать и броситься в драку. В его рыжеватых глазах полыхало отчаяние. Веснушчатое лицо угрожающе посерело.
— Вы не кричите! — сказал он. И оттого, что горло перехватила спазма, голос у Виктора сорвался. Он даже поднялся на цыпочки. — Вы не имеете права! Что он отлынивал? Надуть хотел? Или нарочно так сделал? Чего ты молчишь, Тима? Скажи ему.
Их окружила вся бригада. Алексей возвышался среди юношей на целую башку, и они смотрели на него снизу вверх. Это почему-то смягчило его. Он смущенно нахмурился и, догадываясь о намерении ребят, согласился:
— Нехай по-твоему будет. Только ты сам на меня не кричи. Лучше помоги разобрать.
Воинственность Виктора мгновенно погасла. Он переступил с ноги на ногу, шмыгнул носом и пригладил рукою свои огнисто-рыжие волосы.
В этот момент Алексей увидел жену с Валей, которые, улыбаясь, поднимались на подмостки.
Он взглянул на оторопевшего Тимку, Виктора, о чем-то шепотом спрашивающего своего друга, и, нахмуренный, пошел навстречу. "Чего это она? — злой от смущения, подумал про Зосю. — Этого еще не хватало! Неужели и тут начнет учить?"
— А хорошо здесь у вас. Весь город, как с парохода, виден, — обвела рукой Валя, удивленная, однако, отчужденностью и враждебностью Алексея. — Говорят, у тебя тут целый учебный комбинат. Правда?
Алексей уже знал, как гасить корреспондентское любопытство и энтузиазм.
— Это кто-то по злобе наговорил, демонстративно не замечая Зоси, ответил он. — Мы, кроме брака, пока делать ничего не умеем. Вон, коли ласка, полюбуйся на мороку. Все верхние ряды разбирать придется. — И чтобы окончательно ошеломить Валю, отрезал:
— А ну, молодцы, починай!.. А ты, Зось, чего?
— Валю встретила и ребят твоих заодно пришла посмотреть. Может, помогу чем.
— У них сейчас не твоя наука, — отвернулся от нее Алексей и опять крикнул. — Починай, говорю!
Ребята не шевельнулись. Тимка стоял понуро, с безвольно опущенными руками, готовый провалиться, И только упрямая гримаса, застывшая на лице, выдавала, какой огонь бушует в нем.
— Чего ты так с ними? — осторожно спросила Валя. — Ну, чего? Я ведь все равно понимаю, что это бунт. Давай лучше рассказывай.
— Я же тебе сказал: мы, кроме как брак давать, мало в чем понаторели. Да и тебе не стоит тут особо задерживаться. Алешка говорит, даже Юркевича на мушку взял…
— Не упрямься, Леша!
— Что значит "не упрямься"? А?
Но его упорство уже шло на убыль. Алексей взглянул на ребят, и Валя заметила, как подобрели его глаза. Тимка тоже почувствовал это. Он вскинул голову, словно отбрасывая назад волосы, взял лопату и подковырнул верхний ряд.
Часть четвертая
Глава первая
Зима началась звонкими морозными утренниками.
Потом выпал снег. Он лёг сразу на скованную землю, и уже в середине декабря, как сказала Василию Петровичу Валя, тетеревам приходилось питаться березовыми почками. После редких декабрьских оттепелей липы на проспекте покрывались лохматым инеем или тонким льдом. Я тогда их ветки свисали, словно стеклянные, и, покачиваясь, мелодично звенели. Ледяная корочка поблескивала, искрилась, и воздух казался необычайно чистым.
В январе снегу прибавило. Небо опустилось ниже, улицы поузели. Почти ежедневно гуляли метели, наметая сугробы поперек тротуаров и около строительных заборов, на которых были наклеены яркие предвыборные плакаты. Дворники проклинали эту щедрость природы. Грузовики и самосвалы не успевали вывозить снег. На бульварах он лежал огромными кучами. По утрам, когда всходило солнце, мороз крепчал, туман не только не рассеивался, а густел, становился седым. Дым из труб не поднимался вверх, а висел над крышами, смешивался с туманом. Солнце тогда напоминало медный диск. Холодное, оно не слепило и не бросало лучей. А потом снова начинал сыпаться мелкий снежок.
Василий Петрович проснулся, как просыпался уже который день, от скрежета лопаты — дворник гостиницы чистил улицу. Осторожно, чтобы не разбудить сына и жену, встал, оделся и подошел к окну. На улице было пусто и бело. Окна с осени заклеили плохо, и в них дуло. Василий Петрович почувствовал запах свежего снега. Быть может, это был и не запах, а только ощущение свежести, но он с удовольствием несколько раз втянул воздух через нос. Нет, снег все-таки пахнул.
Укрывшись с головой и свернувшись калачиком, на оттоманке спал Юра. Одеяло в ногах сбилось, и из-под него виднелась розовая пятка. Рядом, на спинке стула, висела одежда — недавно купленные брючки с ремешком, клетчатая ковбойка, джемпер и чулки с подвязками. Василий Петрович подошел к оттоманке, поправил одеяло и взглянул на жену. Та спала спокойно, с гордо откинутой головой. Под новый год она подстриглась я сделала завивку, что молодило ее и было к лицу. Но одновременно в ее облике появилось нечто незнакомое, чужое. И это раздражало.
Боже мой, неужели когда-то он не чаял в ней души? Неужели ее капризы, эгоизм, презрение к другим могли казаться ему милыми странностями? Ведь достаточно было раскинуть умом, вглядеться… Даже в овале лба, в очертании губ проступает холодное самолюбие… Так что же делать? И впредь насиловать волю, желания? Притворяться, лгать? Но ради чего?..
И все-таки Василий Петрович чувствовал — он бессилен что-либо изменить в этом. Бессилен, ибо семья — святое. Ее охраняют закон, мнение окружающих, партийный долг. Тем паче, что тебе вообще не везет, и каждый день — самые неожиданные передряги…
Василий Петрович опять подошел к окну и приник лбом к холодной раме.
Он помнил замечание Михайлова о резервных территориях, знал, что придется увеличивать район капитальной застройки, и по-прежнему со скрипом выделял участки для индивидуальных застройщиков. "Все равно когда-нибудь придется сносить эти халупы!.." Руководствуясь какими-то своими соображениями, Шурупов подал мысль выкраивать такие участки из больших усадеб домовладельцев — садов, огородов. Василий Петрович, понятно, согласился. Но как только опасность нависла над многими, посыпались жалобы.
"Придется поехать и посмотреть самому. Особенно сады…" — решил вчера Василий Петрович.
Однако нежданно-негаданно заявился Понтус и перепутал все планы. В заиндевелой енотовой шубе, про которую ходили целые истории, он ввалился в кабинет и, стоя перед дверью, как в рамке, приветственно поднял руку.
— Я к вам, — сообщил он, будто здесь кроме Василия Петровича был еще кто-то.
Не торопясь, подошел к столу и стал рассматривать рисунки архитектурных деталей, расставленные на полу вдоль стены. Потом расстегнул шубу и присел на подлокотник кресла, откинув полу.
Василий Петрович всегда несколько тушевался перед апломбом и только позже, ругая себя, находил нужную линию поведения. Понтус знал эту черту его характера. Взяв со стола несколько заявлении о садах, пробежал их, повертел в руках и бросил назад.
— Жалобы, жа-а-лобы… — протянул он с брезгливым сожалением и без обычного вступления начал просить подыскать участок для особнячка, который собрался строить управляющий рыбтрестом. — Помните по Гомелю? Партизан, душа нараспашку. Несколько танков подорвал. Он нам такой дворец отгрохает, что целый квартал украсит! Герой!
"Очередное протеже или Зорин поручил еще раз прозондировать", — подумал Василий Петрович и угрюмо предупредил:
— Могу только на Белорусской. А о Круглой пускай и не заикается, — полагая, что обо всем, конечно, будет доложено Зорину.
— Дело хозяйское, — иронически скривился Понтус. — Пойдемте за одним скрипом. Он ждет вас…
Одевшись, Василий Петрович неохотно вышел на улицу. У подъезда стояла темно-синяя "Победа". Конопатый мужчина, сидевший за рулем, молча открыл заднюю дверцу.
Он был в желтой кожанке с меховым, как у летчиков, воротником и в такой же шапке, надетой слегка набекрень. Изрытое оспой лицо его с острым носом, какой часто встречается у рябых, было желчное.
— Если на Круглой нельзя, прошу вот здесь, рядом, — сказал он, остановив машину на Белорусской улице, на углу которой пока стоял всего один, огороженный высоким забором, белокаменный коттедж с ярко-зеленой крышей.
— На этот участок уже есть заявка, — возразил Василий Петрович. — Можно только около развалин. Но имейте в виду, и там нужен проект.
Мужчина, видимо, не придав значения его словам, вылез из "Победы" и начал закуривать. Одному оставаться в машине было неловко, Василий Петрович вылез тоже.
— Скоро здесь вырастет тихая зеленая улица, — проговорил он, щурясь от света. — Проектировщик, если согласитесь, пусть обязательно придет сюда и посмотрит. Я тоже могу кое-что подсказать.
— Благодарю, но я хотел бы именно тут, рядом, — настойчиво сказал мужчина и, морщась от дыма, кривя тонкие губы, полез во внутренний карман кожанки.
Он вытащил какую-то пачку, завернутую в газету, подбросил ее в руке и протянул Василию Петровичу.
— Что это? — поразился тот.
— Посчитаете дома, — осклабился мужчина, — думаю, не обидитесь…
Василий Петрович ворвался к Понтусу, лишенный способности говорить. Стены кабинета, массивный письменный стол, за которым сидел Понтус, окруженный для солидности справочниками, томами энциклопедии и книгами в переплетах с золотым тиснением, — все колебалось, словно в зыбком тумане.
— Вы… Кого вы мне подсунули? — выдохнул Василий Петрович, единым махом проскочив расстояние от двери до письменного стола.
В расстегнутом пальто, с кашне, которое тянулось по полу, он выглядел и страшным и жалким. Сейчас он мог изо всех сил ударить кулаком по столу и начать жаловаться, мог дать пощечину и мог заплакать, как обиженный ребенок.
Понтус побледнел, но, стараясь не терять достоинства, поднялся с кресла и отступил на шаг.
— Я вас не понимаю, — развел он руками.
Так они стояли несколько секунд, и каждый старался решить для себя, что делать дальше. Понтусу было важно перевести разговор в мирное русло. И время работало на него. Василий же Петрович жаждал мести и бежал сюда, чтобы излить свое возмущение. Но он не знал меры Понтусовой вины и даже не был убежден, есть ли она за ним вообще, и потому время гасило ею порыв.
— Вы хорошо знаете этого человека? — все еще не своим голосом спросил он.
— Да объясните же наконец, что случилось!
— Он мне собирался вручить… деньги!
— Значит, вы не взяли их?
— Конечно!..
— В таком случае, чего же вы хотите? — приблизился к столу Понтус. — Он приходил в норму и, грузно опершись на сгонку книг, уже смело наклонился к Василию Петровичу. — Надо быть философом и смотреть на вещи трезво. Кто вам поверит, если нет вещественных доказательств? Да вряд ли помогли бы даже деньги. Свидетелей ведь не было. Не помогу, конечно, и я…
Он не старался оцепить самый факт или нарочно уходил от этого. Не стремился найти возможность наказать негодяя. Почему? Он утверждал одно: нельзя этого сделать. Нельзя потому, что нет доказательств, нет свидетелей. Да и вообще получилось, что само преступление существует только в том случае, если делу можно и стоит давать ход.
Демонстративно нажав кнопку звонка, давая понять, что разговаривать больше не о чем, Понтус подождал, пока вошла секретарша, и озабоченно попросил ее:
— Товарищ Мокрицкая, вот шестьдесят рублен, заплатите, пожалуйста, мои профвзносы. А то все забываю. И еще раз напомните аппарату о предвыборном собрании…
И теперь, глядя в окно на пустую белую улицу, Василий Петрович страдал от омерзения и неуверенности. Скрежет лопаты мешал ему сосредоточиться. Но одно становилось все более очевидным: Понтус — это опасность, и если он даже не виноват, он и только он сделал, что преступление стало возможным.
До этого случая Василий Петрович думал — рядом с Понтусом можно работать. Было принято считать — и Василий Петрович соглашался с этим — Понтус проверенный, искушенный работник. У него простая натура. И хотя он бездарь, да и не особо вообще горит на работе, все же та не мыслилась без него: дисциплина, порядок связывались обычно с ним. Значит, работать под его началом было можно. Стоило лишь не уступать ему там, где он был не прав, и делать это по-своему. А вот получалось — нельзя. Уже от одного, что он будет рядом, тебе и твоему делу угрожает опасность. Тем более, что у тебя есть ошибки и слабости.
Как-то Барушка высказал мнение о праве человека на ошибки. Нельзя сказать, чтобы Василий Петрович согласился с ним, но ничего порочного в этом не нашел и даже не понял, почему Зимчук возмутился, когда он передал ему разговор с Барушкой. Действительно, кто может отрицать, что всяким поискам почти неизбежно сопутствуют ошибки и промахи? Никто! И потому запретить человеку ошибаться — то же самое, что запретить искать и рисковать. Василий Петрович не улавливал предательской разницы в понятиях "дать право на ошибки" и "запретить ошибаться".
И вот теперь, после случая с управляющим рыбтрестом, Василий Петрович невольно вспомнил об этом и как бы заново рассердился и на Барушку и на себя. Нет, пока живут рядом такие типы, ошибаться нельзя! А если все же ошибся, постарайся осознать это и как можно скорее исправить оплошность. Иначе тебя опутают и из ошибки вырастет преступление, которое насмерть запятнает твое дело.
В тот же день Василий Петрович добился приема у Ковалевского и рассказал ему про случай со взяткой.
Правда, от беседы с ним он вынес двойственное впечатление. С одной стороны, было видно — Ковалевский не против помочь и симпатизирует ему. Даже сообщил, что горком рекомендует его кандидатуру в депутаты горсовета. И сделал это в прямой зависимости с жалобой Василия Петровича. Но в то же время создавалось впечатление, что Ковалевский воздерживается от открытой поддержки и склонен к тому, чтобы она оставалась косвенной. Безусловно, это тоже значило многое. Предупреждало: противников — особо не распоясываться, выжидающих в всегда готовых кинуться в бой — что особой нужды в этом нет, и т. д. Однако такая позиция оставляла в напряжении и самого Василия Петровича. Предостерегала: ты замахнулся на серьезное, у тебя сильные противники, да и прав-то ты не во всем. Давай повоюй, тогда станет яснее…
Это было в субботу, а в понедельник, как только схлынул первый прилив телефонных звонков, Василий Петрович пошел в сектор отвода земель: медлить было нельзя.
Шурупов сидел за столом и перебирал бумаги. Увидев главного архитектора, быстро отодвинул их от себя, смахнул со счетов отложенные косточки и встал.
— Я вас слушаю!
— Вы найдете для меня свободный часик?
— А как же! Пожалуйста, — услужливо сказал Шурупов и поднял на лоб очки.
— Вы, возможно, спросите сперва, зачем мне этот час понадобился?
— Если не секрет.
— Поедем исправлять ошибки.
— Какие? — сделал удивленное выражение Шурупов и, опустив очки на нос, взглянул на сотрудников, рассчитывая, что шеф воздержится от дальнейшего разговора.
Василий Петрович застегнул пальто на все пуговицы и стал надевать кожаные перчатки.
— Кажется, формальный подход к делу, — громко сказал он. — Однако посмотрим…
"Москвич" остановился в узенькой улочке, какой, сдавалось, и не могло быть в городе. Улочка тонула в снегу и выглядела заброшенной. На снежной целине не было следов ни от машин, ни от саней. Только вдоль заборов и редких домиков вилась извилистая тропинка. Снег шапками лежал на заборах, на воротах, свисал, как со сказочных избушек, с крыш домов.
— Здесь, — сказал Шурупов и, выйдя из машины, направился к большому заснеженному саду, отгороженному от улицы частоколом.
Сад, как и все вокруг, стоял завороженный. Покрытые инеем яблони, увязшие в снегу по колено, были словно в белом весеннем цвету.
— Десять соток, — приготовил карандаш и блокнот Шурупов, — принадлежат инвалиду. Но для города это много и вполне можно обрезать.
— Где у вас еще?..
— Тут, недалеко.
По тропинке они молча двинулись в другой конец улицы. Отсюда была видна железная дорога, за ней лента шоссе и новый поселок — желтые игрушечные домики. Еще дальше — поле и синий лес. Гордо пыхтя паром, промчался поезд. Из окон вагонов смотрели любопытные пассажиры.
— Видите? — взволнованно показал Василий Петрович. — Смотрят! На кого? Думаете, на нас с вами? Вряд ли. Вы мне вот сейчас скажите: неужели мы решили уничтожить эту прелесть?
— Будто вы не знаете, Василий Петрович!
Из ближайшего дома вышла старушка в валенках, полушубке и большом суконном платке. Вероятно, она догадалась, кто это, ибо сразу подошла и, вздыхая, стала объяснять: коль уж так, то согласна, пускай половину ее сада отрежут под усадьбу племянника.
— А яблони? — жалея ее, насупился Василий Петрович.
Старушка вытерла слезу, набежавшую на правый глаз, и вздохнула.
— Может быть, Василий Петрович, мы решим это камерально? — с несвойственной ему настойчивостью вмешался в разговор Шурупов.
— Почему камерально? Разве не ясно?.. А если понадобится, запроектируем здесь такое, что будет тешить не меньше, чем этот сад…
С чувством обиды на себя вошел Василий Петрович во двор Урбановичей. Проходя по ночным улицам и поглядывая на манящие светлые окна домов, он часто думал, что за каждым из них своя судьба, свои заботы, свой уют. Но мало где так проявлялся характер хозяев, как тут, во дворе Урбановичей. Старательно досмотренный дом, недавно покрашен в салатный колер. На окнах — цветы. У дома — палисадник — запорошенные снегом кусты крыжовника и две рябины, сиротливые и печальные. К крыльцу и маленькому сараю расчищены тропинки. У сарая сажень по-хозяйски уложенных дров, самодельный верстак и новая пристройка с железным баком наверху — душ. А дальше — молодой в инее сад. Уют здесь только рождался. Простой, нехитрый. Несчастливому в семейной жизни и потому часто одинокому, Василию Петровичу все это вдруг показалось таким нужным и привлекательным, что глаза его стали влажными. Неожиданно понравился и сам домик — аккуратный, с высокой острой крышей. Увитый диким виноградом, обсаженный деревьями, он мог бы украсить любую зеленую улицу. Возможно, только вместо сеней следовало бы построить веранду, немного расширить окна и иначе спланировать двор. Архитектура таких домиков, как ни странно, почти не разрабатывается. Памятники монументальной национальной архитектуры погибли. Но дате в строительстве деревянных домов есть богатые традиции. Почему бы не использовать их?
Стало ясно, зачем ехал сюда. Не осматривать сад, по успокаивать Алексея. Нет! Ему необходимо было побывать у Урбановичей. Он знал, что, невзирая ни на что, как когда-то у Прибытковых, обязательно нечто глубже осознает здесь и убедится в чем-то очень нужном. И, кажется, он не ошибся…
На крыльце их встретила Зося. Крикнув на Пальму, высунувшуюся из будки, она пригласила Юркевича и Шурупова зайти в дом, Василий Петрович давно не видел Зосю, но почти не заметил в ней особых перемен, Посолиднело лицо, фигура, более спокойным стал взгляд милых, чуть раскосых глаз. Время берегло ее, и она, оставаясь такой, какой была раньше, только ярче расцвела. Сунув руки под фартук, Зося обождала, пока гости входили в сени, и потом зашла вслед за ними.
Алексей в кухне, стоя на одном колене, глиной замазывал щели в плите.
— Ну что, резать пожаловали? — колко спросил он, расправил плечи и начал мыть руки, поливая над газом сам себе из кружки. Ссориться с чужими людьми в своем доме было не с руки, но других слов у него пока не находилось.
Помогла Зося.
— Проходите, — пригласила она и с независимым видом прошла в столовую. Там встала возле печи, прислонившись к ней спиной, и опять спрятала руки под фартук. И тогда сделалось заметно, что фартук завязай на ней немного выше, чем надо, и руки Зося держала под ним не так себе.
Это почему-то вызвало в памяти Валю.
Внимательный взгляд ее серых глаз уже как бы преследовал Василия Петровича. Он иногда даже оглядывался, ожидая, что увидит Валю, и часто принимал за нее других. Недавно, будучи в Москве, он оказался у Манежа и смотрел на голубей. Голуби доверчиво бегали по снегу и подбирали брошенные им кусочки хлеба, мирясь с наглостью воробьев, которые нет-нет да и выхватывали у них из-под самого клюва добычу. И вдруг Василий Петрович увидел на снегу рядом со своей тенью тень девушки. Увидел и долго стоял, прежде чем посмел взглянуть на соседку…
Ему и сейчас показалось, что где-то, о соседней комнате, непременно находится Валя. Спряталась и следит за тем, что происходит здесь. Он даже огляделся. "Нет, нет, — подумал он, — пора кончать и с этим…"
Чтобы смягчить грубость мужа, Зося сказала:
— Сегодня мы в школе, Василий Петрович, выдвинули вашу кандидатуру в горсовет. Будете нашим депутатом.
— Ежели не забаллотируют, — откликнулся из кухни Алексей.
— Благодарю, — склонил перед Зосей голову Василий Петрович и, хотя уже знал об этом, — поздравил по телефону Зимчук — заново пережил радость.
— Его тоже строители в райсовет выдвигают, — кивнула Зося в сторону кухни.
— Поздравляю.
— Тоже рано, — опять отозвался Алексей и вошел в столовую. — А ежели и выберут, то, может, не до поздравлений будет. Я, например, о садах обратно думаю. Их не только зничтожать, а загодя растить надобно. Чтобы сад уже цвел, пока дом строят.
То, что сказала Зося, а потом и Алексей, запало в душу. И хотя их слова были разные, они приближали Зосю и Алексея к Василию Петровичу, связывали общими делами и заботами.
— Мы, Урбанович, вырубать сады, наверно, и не будем, — примирительно сказал он. — Только и вам теперь придется думать не об одном себе…
Шурупов, все время стоявший за спиной, откашлялся в кулак, сделал шаг вперед и приглушенным голосом сказал:
— Это невозможно, Василий Петрович. Во многих случаях новые участки уже оформлены.
Василий Петрович удивленно взглянул на него, будто только сейчас вспомнил, что тот здесь.
— И все-таки ничего не попишешь. Решать градостроительные проблемы за счет кого-то — не лучший выход. Кстати, вот вам и определение того, о чем вы спрашивали. Чувствуете, Федор Иванович, что за криминал?
— Недовольные будут всегда…
— Да снимите вы пальто, пожалуйста, — попросила Зося, глазами говоря мужу, что и ему неприлично молчать.
— А может, и самом деле разденетесь, — предложил Алексей, помедлив.
Надо было ехать — ожидали дела, но уходить не хотелось.
— А что если, действительно, посидеть немного? — расстегивая пальто, спросил Василий Петрович у Шурупова.
Но тот замялся, держа под мышкой тапку, и Василий Петрович так и не понял, что это значило, — протест, неуважение к хозяевам или покорность перед начальством.
Они встретились по время перерыва на предвыборном собрании. Василий Петрович всего третий раз в жизни вот так рассказывал о себе — когда принимали в комсомол, потом в партию и вот теперь, — и поэтому сошел со сцены взволнованным.
Агитпункт находился в школе, и собрание проводили в небольшом актовом зале. Сцена была украшена лозунгами и разноцветными флажками. На стенах висели портреты писателей, ученых. От углов к люстре тоже тянулись гирлянды флажков. Все это настраивало на определенный лад и сказывалось на отношениях между присутствующими.
Вытирая платком шею, Василий Петрович пошел по проходу, улыбкой отвечая тем, кто обращался к нему. Только что некоторые из них упрекали его за недосмотры, но Василий Петрович никогда не чувствовал такого желания служить людям, как теперь. Он увидел Валю, сидевшую в предпоследнем ряду, свободное место обок и, хотя внутренний голос предупредил: "Не надо. Что ты делаешь?!" — пошел к ней.
— Вот как прочистили, — сказал он, усаживаясь рядом. — Вы, надеюсь, в отчете не шибко будете меня избивать?
На них смотрели, к ним прислушивались, и это смущало еще больше.
Валя сидела непривычно строгая и редко поднимала глаза, хотя румянец выдавал ее: она была обрадована встречей. Записывая речь доверенного, выступления избирателей, часто возвращалась к мысли: заметит ее Василии Петрович или нет, и если заметит, подойдет ли? Она хотела, чтоб он подошел, и боялась этого, хорошо зная, что сама подойти к нему не сможет и уйдет отсюда одна, унося обиду и на себя и на него.
С той прогулки на озеро прошло много времени, но после этого они встречались всего несколько раз. И каждый раз сердце томилось в бессилии что-либо изменить: не переступать же через чужое страдание.
Свет погас, и началась художественная часть. Под звуки марша на сцену в спортивных костюмах вышли девочки. Их встретили аплодисментами, шумом. И в зале сразу воцарилось приподнятое настроение. Девочки с самой серьезной верой в успех промаршировали по сцене, потом рассыпались по ней и дружно, как по команде, остановились. Только одна, остроносенькая, с радостным худеньким лицом и большим бантом на голове, не переставала шагать на месте, восторженными глазами разыскивая кого-то в зале.
— Оля, стой! — донеслось, из-за сцены.
Девочка удивленно огляделась, поняла, чего от нее требуют, и важно стала. Зал снова откликнулся веселыми хлопками…
Это тронуло Василия Петровича. Он посмотрел на Валю и тоже зааплодировал.
— Делай — раз! — послышалось из-за кулис.
Василий Петрович перевел туда взгляд и увидел Зосю. Она стояла, держась рукой за полотнище, и пристально, вроде ее ученицам угрожала опасность, как бы гипнотизировала их. Причесанная на прямой пробор, в простом темном платье с буфами и высоким воротничком, Зося чем-то напоминала учительницу-народоволку.
Девочки построили пирамиду и звонко выкрикнули лозунг.
Занавеса не было, и все видели, как они под аплодисменты в ногу шли со сцены и горящими глазенками смотрели на учительницу, ожидая похвалы, как Зося обняла последнюю, Олечку, и вышла в боковые двери, что-то говоря ей, словно подруге, на ухо.
"Ей, небось, все легко и просто", — с завистью подумал Василий Петрович о Зосе, остро ощущая и страдая от того, что при прикосновении к Валиному плечу оно обжигает его, хотя теплоты он и не чувствует. "Какая злая ирония судьбы! Вот бесконечно желанный человек, а ему нельзя даже сказать, что он тебе нравится, Вот он, рядом, а его можно обожать только издалека. В пом все тебе дорого, а ты должен притворяться и делать вид, что он для тебя не лучше всех…"
Как человек, очутившийся перед препятствием, Василии Петрович стал мысленно искать выхода. В таких случаях говорят: "Нет худа без добра". У Василия же Петровича мысль сработала несколько в ином направлении. Ему неожиданно показалось, что худо тоже добро. Разве он не счастлив уже тем, что обожает Валю, что имеет возможность видеть ее, сидеть вот так, рядом, чувствовать ее дыхание? Пусть только она не догадывается ни о чем, ему довольно и того, что она есть, что ее можно видеть.
Наивный человек! Он думал, что Валя ребенок и что страдает и ищет выхода он один.
Досмотреть программу не удалось: отчет о собрании был нужен для завтрашнего номера газеты. Неловко поднявшись, Василий Петрович пошел следом за Валей и услышал, как в последнем ряду кто-то насмешливо бросил: "А он, видно, не только город строит… Ничего себе отхватил…"
На улице кружила поземка. Ветер гнал по тротуарам снег, свистел в проводах и покачивал на столбах электрические фонари. Они мигали, и свет от них бросался то в одну, то в другую сторону. Но небо было чистое, усыпанное холодными звездами, с несметным Млечным Путем, похожим на снежную россыпь.
Ветер дул в лицо, снегом порошило глаза. Идти было тяжело. Валя куталась в пальто и придерживала поднятый воротник рукой. Василий Петрович хотел было взять ее под руку, но, вспомнив, как летом, после дождя, Валю уводил Алешка, раздумал… Валя и Алешка? Он, конечно, держал ее за плечи, обнимал и, наверное, целовал. Он говорил ей нежные слова, называл своей. И как ты будешь обожать ее, если знаешь, что кто-то обнимает и целует ее! Возможно ли это? Под силу ли человеку? Даже дружба — это прежде всего чистота и взаимная верность.
Захлебываясь от ветра, Валя крикнула, повернувшись к Василию Петровичу:
— Какие вы созвездия знаете? Перечислите, пожалуйста!
Он уныло махнул рукой.
— Медведицы, Стожары… Кажется, все.
— Этого мало.
— Почему?
— Люди ведь полетят когда-нибудь к ним.
— Когда-нибудь — возможно. А пока пусть разберутся с делами на земле… Вот, например, один подлец недавно мне взятку предлагал. Но самым удивительным в этом было то, что вся затея с ней была кем-то предпринята для проверки. Не клюну ли? Честно ли работаю?
— Не верю! — почти крикнула Валя.
— Ну и хорошо, что не верите.
— Хотя… У нас в редакции тоже есть один хороший человек. В нем тоже некоторые не прочь бог весть что увидеть… Обмолвился как-то, что в войне погибло людей больше, чем нужно, и — все. Если раньше сторонились, сейчас прислушиваются.
— Это не Лочмель ли?
— А вы откуда его знаете?
— На совещании познакомились. Да и статьи его читал. Правда, больше обтекаемые все.
— Он поклонник ваш.
— Ну? Значит, тайный.
— А вчера наконец свое стихотворение мне прочел. О шапке. Что носит ее и набекрень, и на затылке, и ссунутой на лоб. В общем, как хочу ношу я шапку.
— Тоже не шибко смело… Но не в этом дело… Не знаю, как насчет войны… Вряд ли кто может определить — какие жертвы в ней целесообразны, а какие нет… Но вы сказали "тоже хороший"?
— Ага.
— Вот за это спасибо…
На улице Карла Маркса фонари висели на натянутой проволоке посредине улицы. Они светлым пунктиром уходили вдаль, и по ним можно было проследить, как идет улица — где ровно, а где взбегает на пригорок. Шары-фонари раскачивались, и ближайшие из них чем-то напоминали костельные колокола — в них били словно в набат. Рядом — с жестяным скрипом — мотались круглые дорожные знаки: то перечеркнутое "Р", то голова лошади. А под ними вихрилась поземка. Только окна домов светились ярко и мирно, и отсюда, где гулял ветер, казалось, что за ними обязательно счастье, его приют.
С таким ощущением, попрощавшись с Валей у автобусной остановки, Василий Петрович подошел к гостинице. На свои окна не посмотрел. В вестибюле с непонятным сожалением стряхнул с пальто и шапки снег и нехотя поднялся в номер.
В комнате был один сын. Он сидел за обеденным столом и решал задачи. Увидев отца, шмыгнул носом и опять стал смотреть в тетрадь.
— Где мама? — спросил Василий Петрович, раздеваясь.
Юрик воткнул ручку в чернильницу-невыливайку и промокнул написанное в тетради. Лицо его стало презрительно-насмешливым, как у взрослого.
— Ты слышишь?
— Слышу, — ответил он, совсем замыкаясь.
Но его что-то мучило. Он не выдержал, и из глаз брызнули злые слезы.
— Не хочу я вас, не хочу! — надрывно выкрикнул он. — Вы не нужны мне! Отстаньте от меня! Вот умру, тогда узнаете!..
Василий Петрович подбежал к сыну, тряхнул его. Но тот вырвался, закрыл, будто его били по лицу, глаза руками и вслепую кинулся к кровати. Это явно был протест, невольный, но выношенный, с детской угрозой умереть, чтобы потом каялись и жалели его. Василий Петрович погладил сына по голове и стал успокаивать:
— Кто, сынок, тебя обидел, расскажи.
Юрик поднял с подушки стриженую, с аккуратной челкой голову и стал боком к отцу. На его заплаканном лице застыло упрямство.
— Не любите вы меня, — сказал он, едва шевеля припухшими губами.
— Что ты! — ужаснулся Василий Петрович и, прижав к себе, начал целовать в челку, в лоб.
В эту минуту в комнату вошла Вера. Она очень торопилась. Модная велюровая шляпка с белым пушком сбилась набок, к мокрой розовой щеке прилипла прядь волос. И вся она была будто после полета — стремительная, взволнованная.
— Что такое? — крикнула она на ходу и с большими, округлившимися глазами подбежала к Василию Петровичу, но Юрик вцепился в отца и затопал ногами.
— Не хочу я тебя! Не хочу, — завопил он. — Отойди.
Вера побледнела и, ошеломленная, отступила на шаг. Но тут же по лицу ее пошли красные пятна. Она бросила на мужа уничтожающий взгляд и, схватив сына под мышки, рванула к себе.
— Я тебе дам "отойди", паршивец! Ты кому это говоришь?
— Отпусти его! — приказал Василий Петрович, чувствуя, что ему становится противным все: и Вера, и старательно убранная ею комната, и хрустальная вазочка с восковыми цветами на столе, и, может, даже… сын. "Вот семьи и нет, — подумал он устало. — Была и нет…"
Как и раньше, мерзкое настроение Василий Петрович преодолевал работой. Он днями пропадал в управлении или в мастерской, участвовал а совещаниях, во встречах с избирателями. Домой возвращался поздно, ставил себе посреди комнаты раскладушку и, уставший, мгновенно засыпал. Утром вставал первым и, когда сын и Вера еще спали, уходил в мастерскую. Завтракал в буфете, обедал в столовой, ужинал вообще редко — чаше всего в мастерской. От маеты он осунулся, на висках засеребрилась седина.
Он словно горел и сгорал. Его побаивались и раньше. Но только когда шли к нему по делу. За глаза же подтрунивали как над странным, непрактичным человеком. Теперь же, замечая его безжалостность к себе, окружающие невольно проникались сочувствием. С другой стороны, сам Василий Петрович стал более внимательным. С людьми надо было считаться. И даже не считаться, а жить ими. А он? Он служил городу, а не им. Стоял на страже красоты города, а не красоты человеческой жизни. А города вообще, выдуманного тобою, строить нельзя! Его строят вот эти люди, строят вот в этих условиях, со своими определенными задачами. Красоты "вообще" тоже нет. Потому что она может быть красотой только тогда, когда впитает в себя представления многих людей о совершенном и будет отвечать времени. Служа народу, смешно приказывать ему: "Ты должен меня понять". Нет, ты, как слуга народа, сам обязан найти такое, чтобы тебя поняли! Надо не только объяснять свое, а стремиться понять и других. Человек-труженик не только кормит, одевает тебя, дает иные жизненные блага, он помогает тебе создавать ценности, которые ты способен создать.
Если ты брезгуешь им, сердцем не прислушиваешься к нему, ты никчемный фокусник, пусть и не глупый, но все равно ничтожный. Только беззаветная любовь, преданность ему могут сделать тебя счастливым, а труд твой плодотворным. Только он способен осветить твою жизнь великой целью и дать тебе силу. Родину некоторые представляют зеленым краем, где они родились, с его холмами или равнинами, с его реками и полями, с золотой осенью и склоненной под тяжестью гроздей рябиной у окна отцовского дома. Все это так. Но родина — это прежде всего люди, которые воспитали тебя и сказали: "Трудись!" А чего ты стоишь без родины?..
И, как ни странно, в эти трудные дни Василий Петрович был по-своему счастлив. Он много ходил по городу, беседовал с жильцами новых домов, заглядывал в бараки. И почти в каждом разговоре находил что-нибудь нужное для себя.
Это не укрылось от Зимчука, радовало и тревожило. Радовало потому, что всегда приятно видеть человека, работающего до самозабвения., Тревожило, ибо в поспешности, с которой Василий Петрович все делал, чувствовался надрыв. Иногда он умолкал на полуслове, становился глухим и в его глазах открывалась пустота.
В день выборов, созвонившись, они пошли голосовать вместе. К тому же Катерина Борисовна как член избирательной комиссии ушла из дому еще затемно. Олечка должна была выступать с ученическим хором на избирательном участке и тоже рано убежала в школу.
Выпал солнечный морозный денек. Сверху лилось столько света, что на небо можно было смотреть, разве затенив глаза рукой. Даже трудно было определить, какого оно цвета — то ли светло-голубое, то ли светло-розовое. Снег на крышах и на земле искрился, блестел.
Лома, улица, уходящая куда-то в сияющий простор, выглядели очень чистыми, а липы вдоль тротуаров — прозрачными.
На проспекте они попали в людской поток. Сюда словно вышел весь город. Шли группами. Вели за руки детей с красными флажками, самых маленьких везли на саночках.
— Благодать, — сказал Василий Петрович, поглядывая по сторонам. — Не за горами, когда на Центральной площади свой Парфенон воздвигнем.
Зимчук осклабился.
— Не смейся. Конечно, надо знать, для кого строишь. Но обидно, Иван, что ты примерно так же рассуждал, когда взрывали коробки.
— А что в принципе изменилось? Разве побогатели малость.
— Ну, извини! — осерчал Василий Петрович. — Изменилось хотя бы то, что ты уже не больно блокируешься с Понтусом.
— У тебя с ним тоже не все врозь было.
— Не бойся, я накостыляю ему скоро. В последнем и решительном. Хоть мне, как нашим спортсменам за границей, нужна чистая победа. А то все равно пока не зачтут…
— Однако не думай, что ты сейчас во всем прав и на вашего брата с фантазиями Понтусы не потребны.
— Вот видишь… Даже ты думаешь, что мы не исключаем друг друга. А здесь сложное дело, Иван, хотя я лишь на одни его проекты поднял руку…
— Тогда голоса вербуй.
— И этого делать не буду. Не привык и не умею… Борьба в открытую должна идти…
Подошли к библиотеке имени Ленина, где помешался избирательный участок. На полукруглом крыльце, между четырехугольными колоннами, толпились люди. Из кузова грузовика, через борт, на тротуар спрыгивали раскрасневшиеся девушки и юноши. Соскочив, они разглаживали складки на черных шинелях, подтягивали ремни и, совсем как солдаты, обеими руками поправляли шапки. Некоторых былых ремесленников Зимчук узнал. Увидел Тимку. Тот деловито свернул знамя и соскочил последним. Заметив Зимчука, чаще заморгал заиндевелыми ресницами и, поправив ремень, подошел.
— Мы прямо из общежития сюда. Скопом, — объяснил он. — Как там Олечка, здорова?
— Почему сам редко заходишь?
— Почему редко? — как всегда, переспросил Тимка, поглядывая на носки своих ботинок и ковыряя ими снег. — Времени нет.
— Олечка шибко скучает.
— Чувствую.
Зимчуку захотелось тряхнуть паренька за плечи, сказать, что хватит обижаться и на него и на себя. В жизни и так всякой всячины довольно, чтоб еще усложнять ее. Но он знал — у Тимки и его товарищей свое понимание дозволенного и приличного. Тому будет стыдно, это лишь отдалит окончательное примирение, и Зимчук сдержался. Но Тимка уловил его порыв.
— Мы к трудовой вахте готовимся. Вот после разве приду… — пообещал он и поднял руку: — Айда, хлопцы!
Юноши и девушки, с любопытством наблюдавшие за Зимчуком и Тимкой, последовали за ним, словно в атаку, и затопали по полукруглым ступеням, штурмуя вход.
Грузовик развернулся и остановился на противоположной стороне улицы. На дверцах его кабины было написано: "За стотысячекилометровый пробег" и нарисовано восемь белых звездочек.
— Хочет победителем заявиться, — сказал про Тимку Зимчук. — Двинулись, Василь, и мы…
В вестибюле тоже стояли люди и негромко разговаривали. Откуда-то плыла тихая музыка.
"Как там, на моем участке?" — подумал Василий Петрович, которого утром очень подмывало сходить туда.
Зайдя в зал голосования, он стал искать стол с буквой "Ю". Нашел в самом конце и невольно смутился: за столом сидела Зося. Сзади нее было огромное, под самый потолок, окно с разрисованными морозом стеклами. Окно пронизывал искристый свет, и в нем склоненная фигура Зоси казалась легкой. Людей у стола не было, и она что-то подсчитывала в списках избирателей, как ученица шевеля при этом губами. Василию Петровичу сдалось, что и Валя обязательно должна быть здесь, и он, затаив дыхание, оглянулся. А когда снова посмотрел на Зосю, то встретился с нею взглядом. Она поправила волосы, улыбнувшись, взяла его паспорт и аккуратно поставила отметку в списке.
— Поздновато, — упрекнула, выдавая бюллетени и продолжая улыбаться. — За вас, очевидно, активнее голосуют… Правда?..
Не заходя в кабинку, он опустил бюллетени в урну, над которой свешивались тяжелые бархатные знамена, и стал ждать замешкавшегося Зимчука.
В буфете также царила сдержанная тишина. Они нашли свободный столик, заказали по бутылке пива, соленой соломки и, чокнувшись бокалами, выпили.
За соседним столиком спорили двое: грузный, круглолицый, с отвисшими украинскими усами, и щуплый, узкоплечий, сидевший к Василию Петровичу спиной, так что был виден только его каракулевый воротник и голова с ранней лысиной, что в народе называют "ксендзовской плешью". Редкие волосы у него на макушке стояли дыбом, как от страха, и, зная это, он часто приглаживал их.
Вытерев бумажной салфеточкой губы и взяв соломку, Зимчук посоветовал:
— Ты, Василь, все-таки скажи мне, что тебя мучает. А то гнем свое втихомолку, и бог знает, что получается… Недавно заходила Валя. Десять раз норовила говорить о тебе, но так тоже ничего и не смогла рассказать. В чем дело?
"Валя!"
Из-за него страдает Валя! Ему стало очень больно.
Только однажды Василий Петрович чувствовал такую боль в сердце, когда был болен. Тогда в нем все млело, и становилось нестерпимо даже оттого, что над гостиницей пролетал самолет. Превозмогая боль, он признался:
— Мм… Слишком мы оглядываемся на ханжей, Иван? Ты прости меня, я, кажется… люблю ее!.. — И чтобы не показалось — раскис, стал рассказывать о Вале, о своих сомнениях, жене, Понтусе — о чем раньше боялся даже думать и что вдруг сделалось очевидным. Но по его словам все еще получалось — почти во всем виноват он сам. Да, Понтус страшный человек. Жена — неверная и, может быть, даже жадная на удовольствия. Да, он любит Валю, без нее не может оставаться уже самим собою. Но как быть с сыном? Правда, семьи нет, но как ты объяснишь другим, что коммунист не сберег ее и не хочет, чтоб у сына была мать?.. А Валя? Она ведь далекая, как звезда… А тут еще Зорин. Правда, он уже не навязывает своей идеи. Но затаил неприязнь и не спускает с глаз. Ходишь, как по канату, и знаешь: сделал неверный шаг — и беда!.. Ведь с тобой скомпрометируют и твое дело…
Зимчук слушал его и мучился сам: трудно советовать в таких случаях. Но Валя, скорее всего, сделала выбор. Так, по крайней мере, ему почудилось… Сказать ли хоть про это? И, чувствуя, что начинает сердиться на себя, Зимчук все же стал говорить, и выходило как-то так — этот торжественный день становился для него укором.
Глава вторая
Поздно ночью Алексей пришел за Зосей, Комиссия еще подсчитывала голоса, и он долго мыкался по пустым коридорам библиотеки. Читая и перечитывая таблички на дверях, с грустью думал, как много, наверно, здесь книг и как мало он их знает. Техническую литературу Алексей читал, — правда, в основном брошюры из серии "Библиотека новатора", к художественной же относился скептически. Но книгу вообще уважал: сколько надо ума, чтобы написать ее! И когда Зося читала вслух, внимательно слушал. Теперь, представляя, какое множество книг — на полках, в шкафах, на столах, в кипах — лежит рядом, за стеной, он хотел заглянуть в эти книжные хранилища. Это напоминало бы страшноватый сон: он один, а книг тысячи, в комнате он, книги и — больше никого. Книги поблескивают корешками и, зная свое, молчат. Алексей даже взялся за ручку одной из дверей и проверил, заперта ли она.
— Что заскучал? — наконец подошла к нему Зося, держа в руках платок, бахрома которого до этого мела пол. — Подожди, я сейчас возьму пальто.
Она пошла в конец коридора и вернулась обратно с Валей.
— Проголосовал за Юркевича, — сказал Алексей, к чему-то ревнуя жену. — Вот как иногда получается. А?
Хотел было написать на бюллетене, чтоб знал, да лихо с ним.
— Тяжелый ты человек, — вздохнула Валя, освобождаясь от Зосиных объятий, и, взяв вышитые зеленые рукавички в зубы, стала надевать вязаный, такого же цвета капор. — А что ты, интересно, мог написать?
— Мог, — упрямо повторил Алексей. — Голосую, дескать, не за тебя, тип, а за партию, помни об этом!
— И тебе не было бы совестно?
— Просто были бы квиты. Я, кажись, от него добра не видел… И чего ты, вообще, хай поднимаешь? Не написал же я, — неожиданно смягчился Алексей и только тогда заметил, что Зося делает ему знаки.
— Так у тебя рука и на Ивана Матвеевича поднимется.
— А что ты думаешь. Он тоже того… Пробует и не может переступить через что-то. Да ладно. Пойдемте-ка лучше отсюда. Пора и сторожам отдыхать.
Валя незаметно вытерла концом капора глаза, подняла воротник и взяла Зосю под руку. Прижимаясь к Зосе как к человеку, догадавшемуся о ее тайне, она засеменила вслед за Алексеем, который ступал метровыми шагами.
Проводив Валю, они пешком пошли домой, хотя над Первомайской улицей уже вспыхивали голубые сполохи и позванивали трамваи.
И Алексей, и Зося прожили памятный день: она — в деятельности, среди людей, он — в незнакомом волнении. И это роднило их. Давно он не шел с ней вот так мирно. Время приглушило обиду. От прежнего возмущения осталось только обостренное внимание да некоторая настороженность.
В начале зимы Зося болела. Как-то раз он остановился в дверях спальни и увидел — она лежит с закрытыми глазами. На табуретке возле кровати стоят бутылочки с лекарствами и электрическая лампа-грибок. Свет не падал на Зосино лицо, и оно в полумраке было серым. И тогда Алексею на миг почудилось, что жена не дышит. Он похолодел. Потерять Зосю? Боже ты мой! Потерять Зосю? Как же тогда жить? Одному! Без нее! Теперь и то тошно было коротать минуты добровольного одиночества.
Даже в разгар семейных дрязг он по утрам наблюдал за ней. Зося не догадывалась об этом и держала себя, будто была одна в комнате. В короткой сорочке подходила к зеркалу, каким-то естественным движением собирала рассыпанные волосы и ловко завязывала их в узел на затылке. Потом придирчиво осматривала себя, проводила руками по груди, по бедрам и несколько секунд стояла с опущенными руками. А он вдыхал ее теплоту и с замиранием смотрел на сильную Зосину фигуру, на округлые голые плечи и красивую голову. И непременно с неутолимой жаждой.
Теперь они ждали второго ребенка — сына. Алексей даже решил: даст ему свое имя. Пусть несет дальше не только фамилию. Когда родилась Светланка, чувство отцовства наполнило его. Появилась неведомая ранее цель — охранять завтрашний день дочери, И если надвигалась какая беда, он прежде всего беспокоился: а не затронет ли она его Светланку? Что тогда будет со Светланкой? И был готов пойти на страдания, только бы ничего не случилось с нею И снова это чувство как-то связывалось с Зосей, делало ее еще более необходимой. Скорее всего оно помогло Алексею и подавить неприязнь к бывшим ремесленникам. "Дети горькие", — повторял он, и начал с того, что стал опекать их.
Что же касается Зоси, то она души не чаяла в детях. С учениками, со Светланкой она не замечала, как бежит время. Говорят, человек, любящий детей, — хороший человек, и с ним хорошо другим. Вероятно, это так. Наблюдая, как играет жена с дочерью, Алексей отдыхал душой. И это сближало их.
— Как там Светик без нас? — спросила Зося, когда они прошли мост через Свислочь.
— Спит — и все, вот как, — посмеиваясь, ответил он, довольный тем, что они думают об одном. — Ты давай лучше обо мне спроси. Я, может, уже депутат, а?
— Не волнуешься?
— А чего там… Не было еще случая, чтобы забаллотировали. Да меня и стоит выбрать. Я, Зось, оправдаю.
— Ой, оправдай, Леша!
Это не понравилось Алексею.
— А ты как думаешь? Зимчук намедни и тот говорил, что верит в меня. Закваска, говорит, крутая, но человеческая. Вишь какие слова!
— Я тоже верю.
— Ну и правильно. Мы же родные. А что часом срываюсь, это значит опять же — есть откуда срываться. Да и ты ведь за что-то любишь, а?
— Неужели не люблю? — прижалась к нему плечом Зося.
Дверь им открыла тетка Антя, которая со вчерашнего утра хозяйничала у них и присматривала за Светланкой. Старуха, как гостей, пропустила Зосю и Алексея вперед, заперла за ними дверь и зашла в дом последней, шлепая калошами, надетыми на босу ногу.
— Позже не могли прийти? Остыло все, холодное, — ворчала она. — Неужто до сих пор нельзя было наголо-соваться?
Почему нет, тетенька, — радуясь, что она наконец дома и что Антя бранится, как всегда беззлобно, ответила Зося. — Но я же в комиссии. Надо было все подсчитать.
Она так устала, что бросила пальто на диван и села с закрытыми глазами рядом, не сняв с головы платка и блаженно улыбаясь. Алексей снял с нее платок, взял брошенное пальто и унес их в переднюю. Когда он вернулся, Зося притворилась, что спит, и в самом деле чуть не заснула, только звон посуды — Антя ставила ее на стол — отгонял от Зоси сладкое забытье, от которого слипались веки.
— Вы кушайте, а я малость полежу… Погляжу ка вас, — попросила она. — Ешь, Леша, ешь… Тебе же на работу сегодня. Правда?.. И не бойся… я не засну… А наша школа не работает… Участок избирательный… пока уберут…
Ее словам не хватало ясности. Зося чувствовала это, но уже ничего не могла поделать. Собственные слова доходили до нее как чужие, и она, еще что-то пробормотав, заснула.
Алексей постлал постель, потом, как девочку, взял Зосю на руки и отнес в спальню.
— Спасибо, Лешенька, — только и смогла произнести она.
Алексея ко сну не клонило. За окнами начинало, синеть, и вскоре нужно было идти на работу. Вспомнилось, как во время карательной экспедиции, заминировав остров, где размещался госпиталь, он, покойный Рунец и Зося брели на соединение с отрядом. Миновали болото, пошли лесом и наткнулись на ручей; и хотя этого можно было не делать — они уже месили болотную трясину и вымокли по пояс, — Алексей взял Зосю на руки и понес, сожалея, что ручей не широк и ее придется скоро отпустить. Невдалеке гремел бой, слышались оружейно-пулеметная стрельба и разрывы мин. За каждым кустом таилась опасность, а он, бережно неся на руках дорогую ношу, ни мало ни много считал себя счастливейшим человеком…
Алексей сел на согретый Зосей диван и задумался.
— Ты хоть когда-нибудь проведал бы нас, — сказала тетка Антя, хлопоча с закатанными рукавами у стола. — А то и глаз не кажете. Будто мы и не свои. Мой говорит: "Нынче уж так повелось, свой ли, чужой ли — одинаково". Но это же плохо. Так, поди, и от матери можно отречься.
— Неправда, мы вас не чураемся, — возразил Алексей, постепенно входя в хлопоты наступающего дня и думая о том, что будет делать сегодня на стройке.
— Не больно заметно. — Антя вытерла клеенку на столе мокрой ветошкой, отнесла ее на кухню и, вернувшись, застлала стол скатертью. — Разве ты, к примеру, знаешь, что теперича тревожит Сымона или чем его голова занята? А он ведь любит и тебя и Зосю. Он вам свой…
— Ладно, приду, — пообещал Алексей, начиная о чем-то немного беспокоиться.
— А это как тебе заугодно! Мы канючить не будем…
В окна заглядывал рассвет.
Алексей сразу забыл о своем разговоре с теткой Антеи. Да и, правду говоря, не придал ее словам особого значения: "Э, стареет, — вот и тревожится. Всем, к кому подступает старость, сдается, что ими интересуются мало, о них забывают. Старость всегда ревнива и обидчива…" Но через день в какой-то связи все-таки вспомнил упрек и забеспокоился: "А что, ежели в самом деле что-нибудь случилось?.." И как только нашлось свободное время, собрался и пошел наведаться.
Домик с белыми ставнями, казалось, стал меньше. Алексеи осмотрел его и осторожно, будто калитка могла сорваться с петель, открыл ее.
Сымон сидел на колодке возле кафельной голландки, в которой весело трепетало пламя, и ладил мастерок.
— Вот какие дела, Лексей. Не куется, а плещется, — пожаловался он.
— Чего это? — заулыбался Алексей, зная, что старик иногда может с самым серьезным видом говорить и о пустяках.
— Я, брат Лексей, всякого навиделся на веку, — повертел он перед собой мастерок, словно собирался что-то прочитать если не на этой, то определенно на другой его стороне, и ударил плашмя по ладони. — Веришь?
— Почему же нет?
— Разные довелось повороты переживать. Был и на коне и под конем — всяко. Мне, брат, с батькой ремонтировать дворец графа Чапского приходилось. И на фасаде Дома правительства работал. Побывал и на Урале и в Запорожье. Если бы мои марш-ру-ты на карту нанести, всю карту пришлось бы покреслить.
Слышно было, как тетка Антя в соседней комнате передвигала какие-то вещи. Алексей подумал, что вот сейчас послышится ее: "Хватит тебе!" — но ошибся.
— Правда, Алексей, правда! — поддержала она из-за стены и перестала двигать вещи.
— Вот видишь, даже моя соглашается, — кивнул в ее сторону Сымон, оставаясь, однако, серьезным. — А у нас редко мир. Все больше по-ле-ми-ку разводим.
— Начал уже!
— Так вот я и говорю — каких только людей не приходилось видеть. Знал и подрядчиков, и десятников, и бригадиров. А в двадцатом печколепом по деревням ходил. Так что и кулаков, и хуторянцев, и шляхтюков — всех повидал. Но вот что, Лексей, я хочу сказать. Где, у кого бы ни работал, всегда меня уважали за руки.
— А я что говорю, — охотно согласился Алексей.
Старик встал, положил мастерок на комод. Держа на солдатский манер кисет под мышкой, стал свертывать самокрутку.
— А некоторые иначе думают. У нас и так бывает: захотелось человеку проявить себя, а на работу не больно уж горазд — ну и давай мудрить. Приятно ведь, когда про тебя говорят. Да и знает товарищ, что на новое… не надышатся, поднимать начнут…
— А я думаю, что не всегда так легко этому новому, — заперечил Алексей, хотя видел, что Сымон начинает сердиться. — Вон у нас в тресте и то чаще всего наобум лазаря делается. Или так, как кому-либо захочется.
Жадно затянувшись, Сымон, который в это время стоял у комода, и курил, натужно закашлялся.
— Ты послышан, Алексей, послушай, — отозвалась тетка Антя и сразу же появилась в дверях.
— Ступай отсюда, богом прошу! — напал на нее Сымон, будто в поддержке жены было что-то зазорное. — Мы уж как-нибудь сами разберемся, без руководящих указаний.
Он смотрел на жену, пока та не прикрыла за собою дверь, потом отошел к столу и сел на стул.
— Вот, скажем, растворомет, — начал он с раздражение. — Всего и хитрости, что к форсунке лейку прикрепили. Оно, известно, для неумек заманчиво: накинуть ровно раствор на стену слабо, а тут, думает, взял эту самую штуковину в руки — и давай. А что половина на полу будет, не его забота. Кому это нужно? Разве что дяде с хронометром, который сейчас же заявится.
В голосе Сымона слышалась обида.
— Ты видел когда слуцкие пояса? — спросил он, недовольный, что Алексей молчит. — Попробуй сделай их на какой-нибудь штуковине… Так и у каменщика, у штукатур тоже главный инструмент — руки да глаз. А у нас — бы тяп-ляп да с плеч. Стены еще не высохли, а маляры уже накаты делают, золотом расписывают. А поселились жильцы — углы сырые, побелка, золото коростой лупятся. А мы ведь вон что строим!
Теперь Алексею стало ясно, что беспокоит Сымона. Предвзятость мешает старику поверить в то, что приходит на стройку. Возмущает уже сам факт, что он, мастер, который годы шел к познанию тайн любимой профессии, потеряет свое высокое место и незаменимость. Пошатнется слава золотых рук, и их заменит "штуковина" — нехитрая вещь, доступная всем. Беспокоят и нормы.
Не впервые узнавал себя Алексей в других. Что-то от себя увидел он и теперь в переживаниях Сымона. Но признаться в этом было стыдно, и он возразил:
— Вы напрасно так тревожитесь: руки всегда будут руками, хотя и растворомет будет.
Сымон покачал головой, ухмыльнулся и даже засмеялся.
— А вот Кухта иначе рассудил. Ты, Лексей, хитрый, тебя недаром депутатом сделали, а он еще хитрее. Он, брат ты мой, такую штуку предложил, что ай-яй…
Кухта, право, сделал Сымону не совсем обычное предложение.
План строительства из года в год увеличивался, и выполнять его становилось все труднее. Да и сами трудности стали иными. Раньше не хватало кирпича, строительных деталей, металла. Теперь же не материалы, а люди стали больше беспокоить Кухту Половину рабочих Главминскстроя составляла молодежь. Нужна была более совершенная организация труда, механизация строительных работ. И вот тут, как ни странно воевать пришлось с теми, на которых обычно опирался Кухта, — с заслуженными мастерами, с умельцами. Но он слишком уважал этих мастаков своего дела, чтобы ломать их волю с кондачка. Да и сломал ли бы?.. Тогда Кухта и предложил это странное соревнование.
Предложение обескуражило Сымона, но он не подал виду, даже притворился, что не понимает скрытого во всем этом смысла.
— Ну что ж, можно, поконаемся, — согласился он. — Говорите, мне с мастерком и соколом, Василию с ковшом и другими причиндалами, а этому…
— Зуеву, — подсказал Кухта, понимая, что Сымон умышленно забыл фамилию третьего.
— А… Зуеву с растворометом? Ну что ж, давайте! Интересный спектакль получится. — И вдруг, чтоб тревожился не только он сам, спросил. — А что, Павел Игнатович, если я в победители выйду? Я же, ей-богу, постараюсь. Возьму и выйду. И по количеству и по качеству. Что тогда? Мы ведь тоже с норовом.
Как и угадал Сымон, Кухта о таком варианте не думал и немного смутился.
Соревнование должно было проходить в здании школы, в будущих классах. В коридоре уже собралось человек двадцать. Они стояли компаниями около широких окон и что-то оживленно обсуждали. В самой большой группе Алексей заметил Сымона. Тот полусидел на подоконнике и внимательно слушал, что ему говорили.
— Наше вам!.. Все готово? — подходя, спросил Алексей.
Перед ним расступились.
— А как же! Вот, погляди, — Сымон показал свои руки. Сделал это с вызовом, как бы мстя ка всякий случай за возможное поражение.
— Дядька скажет! — засмеялись вокруг.
— Будь уверен!
— А куда, дядька Сымон, мотор подключать будем?
Алексей волновался чуть ли не больше самого Сымона. Правда, он сердился на старика за его упорство, что поставил под такой риск достоинство и авторитет мастера. И все же победы желал только ему.
Сымон сидел с опущенными плечами, немного ссутуленный, положив на колени сильные, еще не старые руки. Свет не падал на его озабоченное лицо. Но Алексею казалось, оно озарено. Он даже удивился: как раньше не обращал внимания на эти большие, умные глаза, на правильные, выразительные, как на гравюре, черты лица?
— Начнем, — сказал Кухта, взглянув под рукав, на часы.
Сымон соскочил с подоконника, неизвестно для чего отряхнул брюки и пошел в "свой класс". За ним тронулись остальные. Походка старика опять показалась Алексею почти незнакомой: ступал он твердо, как ходят очень сильные люди, как ходил сам Алексей.
Донесся звонкий удар о рельс. Один, второй, третий.
— Ни пуха ни пера, — пожелал Кухта.
— Иди к черту, — буркнул довольный Сымон, влез на подмостки и взял мастерок.
Легким, красивым движением он кинул на стену первую лопатку раствора, потом вторую и весь отдался работе. Алексею было приятно смотреть на него, и он на какой-то момент забыл, что в соседних "классах" работают соперники. А вспомнив, незаметно пошел туда.
Штукатур, работавший ковшом, был коренастый, широкоплечий здоровяк. Одетый в комбинезон, он показался Алексею грузноватым, неповоротливым. Зачерпнув из ящика раствор и вроде замахнувшись, он подносил к стене ковш и поворачивал его. Потом, сразу же немного отнеся в сторону, словно коснувшись чего-то горячего, отдергивал руку, и раствор послушно ложился на стену. Но в этом неторопливом, размеренном ритме Алексей и почувствовал угрозу. "Туго придется старому", — подумал Алексей и, не удержавшись, пошел взглянуть на Зуева, которого тоже почти не знал.
Зрителей здесь толпилось больше, чем у остальных "классов". Задние, стоявшие далеко от раскрытой двери, вытягивали шеи и поднимались на цыпочки. Но Алексей, который был на голову выше других, сразу увидел Зуева. В новом комбинезоне, подогнанном по фигуре, брезентовых рукавицах, в кепке, надетой козырьком назад, в защитных очках, как маска закрывавших его лицо, Зуев напоминал мотоциклиста-гонщика. Это впечатление усиливалось еще тем, что растворомет вздрагивал и дрожание передавалось рукам. Раствор с силой, как вода из брандспойта, вырывался из растворомета и ложился на стену. Зуев, уверенно водя им, то наступал, то делал короткий шаг назад. Это была простая операция. В ней не было легкой, почти артистической красоты, как у Сымона, не было и строгой ритмичности, как в работе штукатура с ковшом. И все-таки она овладела вниманием присутствующих. Почти каждый раньше встречался с Зуевым — малозаметным, застенчивым мужчиной. А вот стал он на помосте, слегка расставил ноги, взял в руки растворомет и сразу показался сильнее. И это теперь уже был не Зуев, а богатырь, которому многое по плечу.
— Ну как? — услышал Алексей у самого уха насмешливый голос Кухты.
— Неплохо, — похвалил Алексей. — А будь растворомет полегче, было бы совсем лафа. Видно, надо, чтобы раствор тоже подавался по шлангу.
— Правильно, — подтвердил Кухта. — Инженеры колдуют и над этим.
С недобрым, раздвоенным чувством вернулся Алексей к двери "класса", где работал Сымон. Но старик творил чудеса.
Грунт уже был нанесен на половину стены, и Сымон разравнивал его правилом. Как казалось со стороны, делал он это безо всякого напряжения, красиво проводя замысловатые зигзаги то снизу вверх, то слева направо. Под правилом будто проступала влага, грунт темнел, но быстро опять серел, высыхая…
Так проходил Алекрей от двери до двери несколько часов, восхищаясь Сымоном, жалея его и уже не зная, за кого он больше болеет… Когда же Сымон первым вышел из "класса", когда его окружили и посрамленный Кухта стал поздравлять, Алексей почти не обрадовался, хотя облапил старика и поцеловал. Было что-то несправедливое в этой победе и потому обидное. От нее выигрывал только Сымон, только он один. Даже больше — она вредила делу: за нее, как за щит, могли прятаться зубоскалы и нерадивые. И потому, когда Алексей пошел провожать старика домой, он не выдержал:
— Кухте не следовало бы вас ставить по одному. Кто теперь так работает?
— Что, недоволен? Крутишь? — ухмыльнулся Сымон.
— Нет, почему… Но ежели б работали бригадами, получилось бы иначе…
Он ждал, что старик осерчает, вскипит, но тот только устало отвернулся и промолчал, — видимо, и сам думал о чем-то невеселом. Шел он будто нехотя, отставал, и Алексею приходилось часто замедлять шаги. В трамвае же, сев на скамью, неожиданно вернулся к начатому разговору и, виновато отводя глаза, сказал:
— Ты погоди маленько, Лексей, это еще не все…
Тетка Антя, встретившая их у калитки, помогла Сымону в передней снять пиджак, налила в рукомойник воды и тут же принялась разжигать примус. Примус мгновенно зашипел, и, прислушиваясь к его привычному, домашнему шипению, Сымон только теперь закончил свою мысль:
— Пойду, Лексей, к фабзайцам. Каюк. Буду учить… Мы и на такие заработки проживем. Моя умеет. Не привыкать… Так что позвони Кухте и передай ему, что завтра я, мабыть, не смогу выйти на работу: руки и спина болят. И с премией пускай повременит. Отказываюсь я…
Нет, вероятно, не всякая победа люба-дорога.
Назавтра Алексей позвонил Кухте и передал слова Сымона. Услышал в ответ почти ликующее "так, так", улыбнулся про себя, а когда повесил трубку, с удовольствием почувствовал — этот короткий разговор вернул прежние доверительные отношения между ним и Кухтой.
Еще накануне Октябрьских праздников передовые строители Минска по радиотелефону разговаривали со сталинградскими строителями. Обменявшись приветствиями, пожелав друг другу новых успехов, они стали делиться опытом работы. С ощущением, что собеседники твои бог знает как далеко, может, за звездными высотами, слушал Алексей сталинградцев, и ему казалось, что голоса их пробиваются сквозь свист и завывание ветра. Он даже никак не мог представить себе человека, с которым разговаривал, — тот упорно оставался далекой точкой.
Но так было, пока не заговорил Кравец. В динамике щелкнуло, и голос Кравца вдруг отчетливо произнес: "Здорово, друже Лёкса! Привет!" И Алексею мгновенно представилось, как, вытянув шею и подавшись к микрофону, недоверчиво усмехается Кравец. "Здравствуй, Микола, — чего-то пугаясь, ответил Алексей, но ощущение бесконечности расстояния и звездных высот исчезло. — Благодарю за телеграмму… И должен сказать, что у меня пока того… хуже. Так что, прием…" Он дал возможность больше говорить Кравцу, не в силах подавить в себе обидное подозрение, что и выделили его разговаривать со сталинградцами ради Кравца, которому надо рассказать о своей работе.
"Но ничего, — упрямо думал тогда Алексей, — ничего!" Только на что сделать ставку? Хлопцы овладевают мастерством. Но тут нахрапом не возьмешь. Лишь время делает человека мастером. Мастер — это золотые руки, А чтобы они стали золотыми, нужно время. Нет у ребят и настоящей закалки. Нажмешь — получится еще хуже. Выше себя не прыгнешь. Одного желания мало. Надо уметь и иметь. А когда это еще будет?
Вскоре место Кравца занял известный прораб Дедаев, Он советовал применять метод низового производственного планирования. "Пусть бы Алешка послушал. Может, ума немного набрался бы, будь он неладен…" — возмущался Алексей и вздыхал: советы Дедаева могли пригодиться и ему самому.
Правда, все это оставалось неясной догадкой, хоть и завладело Алексеем.
Зося, привыкшая видеть мужа всегда за работой, замечая, как он с отсутствующим взглядом подолгу просиживал на диване, а ночью ворочался и кряхтел в постели, даже начала беспокоиться…
И вот это смутное, неуловимое, что никак не давалось ухватить, вдруг сегодня стало идеей. "Ежели б работали бригадами, получилось бы иначе…" Конечно!.. Дело ведь не только в том, чтобы каждый хорошо работал. Не менее важна и слаженность.
Как ни странно, заручиться поддержкой Алешки ему удалось довольно легко. Правда, слушая, тот смотрел больше в пол, и его небритое лицо с мешками под глазами оставалось чужим, будто слова Алексея почти не доходили до сознания.
— Ну что ж, постарайся, — бросил он через минуту, заставляя себя зевнуть. — Я тоже еще раз попробую. Давай…
Но потом неожиданно загорелся.
— Говоришь, обставил? Ай да дядька Сымон! С мозгом и характером старик. Взял и доказал. Знай наших, и баста!..
Часа два он летал по стройке, покрикивал на всех и весело размахивал блокнотом. Но на стройку заехал кто-то грозный из треста, выяснил, что не подвезли щитов для подмостков, накричал, и Алешка на глазах стал остывать и меркнуть.
Алексей занервничал: "Ну и мымра! Что он думает себе! Все как горохом в стену. Обещал же, кажись…" И, чувствуя, что не может удержаться, чтобы не поссориться в пух и прах, пошел искать Алешку.
Он видел — Алешка опускался, с ним творилось неладное. И хотя на стройке, стесняясь ребят, особенно Тимки, навеселе уже не появлялся, часто был с похмелья. О нем пошла недобрая слава: бил уличные фонари, бузил в "забегаловке", задирался с военными и, пугая всех, что у него есть пистолет, хватался за задний карман. У него появилась мания выдавать себя за героя. Он приставал к незнакомым с рассказами о войне, хамил, хвастался, возможно, и сам веря в то, чем хвастался. Поведение Алешки обсуждалось на постройкоме. Однако и вразумляли-то его как-то вяло: не хочешь — не надо, лихо с тобой. Небольшая потеря, есть и без тебя за кого, более стоящего, бороться…
Несмотря на то, что их сближало прошлое, Алексей не понимал Алешки. Своим безразличием к стройке тот оскорблял в Алексее чувство мастера. Ему непонятны были беспредметный Алешкин бунт, распущенность, и в голову не приходило, что Алешка мучается, оскорбляясь и тем, что его не наказывают, как других.
Нашел его Алексей у самосвалов, сгружавших песок. Размахивая руками, прораб ругался с шоферами. Подождав, пока машины уехали, и поглядывая, нет ли кого поблизости, Алексей взял его за уголок воротника и придержал. Со стороны это выглядело почти деликатно, только немного по-панибратски, но Алешка почувствовал всю лютую цепкость бригадировой руки.
— Чего тебе? — хищно раздул он ноздри.
— Ты это нарочно или саправды из-за угла мешком ударенный? — тихо спросил Алексей. — Если нарочно, лучше слезай с колокольни и не мешай. Ты тут не для мебели. Понятно?
— Это мое дело, — рванулся Алешка, но Алексей не выпустил его воротник. — И никого, даже депутатов новоиспеченных не касается. Ха-ха! Иди, если хочешь, клепи. Сейчас тебе больше поверят.
— Жаловаться я пока не пойду. Гляди, кабы сам не пошел! Ребята не жалеют себя. Завтра "боевой листок" начнут выпускать, о трудовой вахте мечтают, а ты…
Откуда-то появился Тимка. Он, вероятно, что-то заметил и с решительным лицом стал рядом с бригадиром, сунув руки в карманы.
— Так ты того… — будто ничего не случилось, заговорил Алексей. — Срочно спланируй на неделю. Да не скупись. Рассчитывай не меньше как на две нормы, Понятно?
— Иди ты! — жаждая уже мученичества, опять огрызнулся Алешка.
— Что значит, иди? Тоже мне вагоновожатый! — еще смешной в своем серьезном протесте, баском сказал Тимка.
— Тебя тут еще не хватало, Брысь!
— Пускай, Но я давно вам сказать собирался. Мы же все видим. Зачем вы так делаете? Я ведь в войну молился на вас, похожим старался быть. Как вам не совестно?
Его слова огорошили Алешку.
— Ладно, ладно, прикину, — неожиданно сдался он, и угол рта у него дернулся. — Если, конечно, какие-нибудь новые шишки на голову не посыплются. Любят они меня, товарищи-добродеи…
Когда было тепло, в обеденный перерыв ребята чаще всего отдыхали вместе, прямо на лесах, на солнце. Неторопливо, как это обычно бывает во время отдыха, обсуждали события дня, интернатские дела, дружно смеялись над кем-нибудь из новоиспеченных ухажеров, договаривались, как провести вечер. Иногда Тимка громко читал газету. Заядлый игрок Виктор Мартинович приносил с собой шашки, и тогда в центре всего была шашечная доска. В мокрядь и стужу стало хуже. Рабочее место было открыто всем ветрам. Кирпич, казалось, набряк холодом. Мерзли плечи, ноги, стыло лицо. Тянуло куда-нибудь под крышу, к теплу. Однако и сейчас, наспех перекусив, ребята часто собирались в затишном уголке.
Алексей уважал эти традиции и всячески поддерживал их.
Сегодня он, как и всегда, подошел к собравшимся, зная, что его присутствие заметят и что оно будет приятно ребятам. Хлопцы сидели тесной группкой, курили. Стоял только Тимка.
— Вы думаете, у нас лучше? — потрясал он газетой. — Он же работы в конце дня даже не принимает, а все на глазок: "Слушай, море широкое, проверь наряд, — может, я чего не учел". Либерал какой-то! Про график вообще не спрашивай. Тьма сплошная!
— Сколько раз обещал, — вставил Виктор, который пришел сюда, не успев поесть, и теперь пил чай из жестяной кружки. — А пользы? По нему — хоть волк траву ешь. Наобум все.
— Отлынивает от чего можно и не можно.
— Помните, как давеча не те размеры окон дал!
— Ходит по стройке и зевает, как собака в коноплях. Чего нянчатся и повадку дают?
Не понимая, почему именно сегодня вспыхнул этот бунт и каждый, ополчившись, наперебой старается высказать свое возмущение, Алексей сдержанно спросил:
— С какой это вы стати вдруг? А?
В самом деле было странно: отчего? Смена началась в общем-то хорошо. До обеденного перерыва даже сделали больше, чем раньше за день.
— Мало что баклуши бьет, так оскорблять начинает еще, — вылив из кружки недопитый чай, надул губы и сердито почесал ухо о плечо Виктор. — Что мы, ему дачу строим? Я как человеку заметку показал. А он, как увидел, что ее Верас написала, так и взбеленился. Глотка ведь луженая. Выгнал даже!
Виктор вскочил и затоптался на месте, красный и задыхающийся от возмущения.
— Пойдем, — сказал Алексей, загораясь сам.
Они вошли в контору втроем — Урбанович, Виктор и Тимка. Алешка стоял у окна, грыз семечки и плевался шелухой прямо в стекла. В окно лился белый свет, и лицо у Алешки выглядело словно вымоченным. Он догадался, зачем пришли каменщики, и, не взглянув на них, сразу заиграл желваками.
— Кто тебе разрешил оскорблять ребят? — глухо спросил Алексей.
Алешка повернулся всем корпусом. Глаза его стали дичать, и казалось, что на них от носа, как у курицы, наплывает сероватая пленка.
— А надо мной кто разрешил издеваться?
— Я только помочь хотел… — бросил Виктор.
— Помогал рак жабе, что и глаза выел, ха-ха-ха!
Его бессмысленный смех вызвал у Алексея не столько гнев, сколько жалость.
— У тебя, Костусь, мозги набекрень, — сказал он, отгоняя непрошенное сочувствие и немного пугаясь за такого Алешку. — По как бы ни переворачивалось в твоих глазах, брось! Чтобы эти выходки были в последний раз! У людей кроме твоих переживаний свои есть.
Алексей взял у Виктора газету, швырнул ее на стол и сделал ребятам знак, чтобы они шли следом.
После полудня мороз усилился. Повернул и ветер — стал дуть резкий, холодный. Но бригада работала споро, зло, будто стычка с Алешкой придала хлопцам силы.
Вдруг все заметили — перестал поскрипывать подъемник.
Выйдя из себя, Алексей чертыхнулся и побежал туда, где с пустыми тачками, ожидая очередного ковша с раствором, сидели подсобники.
— Что там, швагер, у тебя? — крикнул вниз, заметив, что и растворомешалка не работает. — Опять току нет?
— Толку нет! — откликнулся снизу моторист. — Песок кончился.
Это было ни на что не похоже! Могло не хватить кирпича, извести, цемента, но чтобы не хватило песку? "Все, крышка, до ручки дошел, — подумал Алексей. — К черту! Пойду завтра в постройкой и поставлю вопрос ребром. Хватит!"
Тяжело ступая, он спустился вниз, догадываясь, что за ним следуют его ребята.
Они остановили Алешку у ворот стройки и окружили его.
— Знаю, снова неуправка, — заторопился тот, не скрывая своей враждебной растерянности. — Не поднимайте только бучу. Вот бегу. Сейчас будет… — И намерился было пойти, но Тимка преградил ему дорогу.
— А почему все-таки до этого не было?
— Потому, что кончается на "у".
— Нет, ты ответь, Костусь! — выступил вперед и Алексей. — Я тебя уже официально спрашиваю.
— Вот так-то лучше. А то все кругом да около… Будь тут не Урбанович, не Тимка, возможно, этого и не случилось бы. Подбородок у Алешки дрогнул, и чтобы не дать волю слабости, он втянул в себя воздух и сжал зубы. Потом схватил Алексея за рукав и, не в силах больше говорить, потянул из круга.
— Свет не мил. Матери моей, Леша, плохо. Очень плохо… Погибаю, браток, — приглушенно признался он. — Неужто думаешь, сам ничего не вижу?..
Вечером к нему зашли Ковшов с Прудником, И хотя Алешка дал себе слово никуда сегодня не ходить, не выдержал — вызвался проводить их.
Было холодно. По улицам носился ветер. И, как следовало ожидать, они вскоре свернули в ближайший шалман. Трудно было сказать, кто повернул первый. Просто колобродили, увидели освещенное окно, в нем — знакомую, накрытую клеенкой стойку, продавщицу в белом халате, ловко накачивающую пиво, — и, не переставая балагурить, зашли огулом.
В пивной было людно, накурено. В нос шибало солодовым запахом разлитого пива, поджаренной на подсолнечном масле рыбы и чем-то острым, что дурманило и вызывало легкую тошноту. Подув на пену, Алешка залпом осушил кружку и сразу почувствовал, что здесь не так уж плохо.
— Угощай кто-нибудь! — вскинул он руку с пустой кружкой. — Я через три дня тоже князь, ха-ха-ха! А тут, если попросить, найдется и сто с прицепом…
Однако, когда в полночь Алешка, шатаясь, поднялся ка свою площадку и, вынув из кармана ключ, вспомнил о происшедшем на стройке, сердце его заныло от безысходности. Как можно осторожней он открыл дверь и, вопреки привычке, на цыпочках подался в свою комнату. Но мать не спала.
— Иди сюда, Костик, — слабым голосом позвала она.
Глуповато ухмыляясь, он погрозил себе в зеркало кулаком и, пытаясь ступать твердо, подошел к кровати.
— Садись, — попросила она, бессильно шевельнув пальцами.
Костусь послушно пододвинул табуретку, на которой в пьяном забытьи всегда исповедовался, и, терзаясь, сел.
Мать лежала спокойная, словно прислушиваясь к самой себе. Ее худое, заострившееся лицо было застывшим, морщины на лбу разгладились, и она казалась помолодевшей. Но руки… Старческие, видевшие всякую работу, они бессильно лежали поверх одеяла, и пальцы на них тревожно шевелились, словно мать пыталась за что-то ухватиться, но не могла — они не слушались.
Заметив это и глядя уже только на руки, Алешка спросил:
— Вам плохо, мама? Может, послать за доктором?
— Не надо, сынок. Побудь со мной…
Однако ее слова, которые должны были успокоить, неожиданно взволновали Костуся. Он догадался, что спокойствие матери внешнее, а сама она в смятении. Боится остаться одна, и это, возможно, страшнее для нее, чем неизвестность, чем ожидание наихудшего. Или, наоборот, любя его, она верит, что при нем с ней ничего плохого не случится. Костуся охватила жалость. Как она жаждет, чтобы он был с ней, и как в то же время старается не беспокоить его! Бедная мать! Она долго не признавалась, что начинает слепнуть. И об этом он узнал случайно. Мать однажды попросила зажечь свет, когда он только что включил его. Она не могла согласиться с тем, что окружающий мир навсегда отходит от нее во тьму, надеялась — обойдется, а главное, считала: не надо раньше времени огорчать его. Живя им, она охраняла его покой. Всю свою жизнь мать посвятила ему — служила, делала так, чтобы было хорошо. А он? Чем он отблагодарил ее? Затаив дыхание, чтобы не дышать перегаром, Костусь склонился над матерью.
Хмель отшибало, но хмельная чувствительность оставалась, и Алешку все сильнее охватывали сочувствие и раскаяние. Он всхлипнул и закрыл кулаком глаза, готовый казнить себя.
— Что с тобой, Костик? — забеспокоилась мать. — Чего ты? Все будет хорошо. Ты не думай. Ты у меня хороший, здольный, сынок. У тебя все впереди…
За синим, искристым от морозных лапок окном завывал ветер. Его тугие порывы ударяли в стекла, и вместе с ними по стеклам била снежная крупа.
От слез полегчало. Костусь перестал плакать и, прислушиваясь к порывистому дыханию матери и завыванию ветра за окном, притих в оцепенении. Но когда она сказала, что ей легче и пусть он ложится спать, постлал постель возле ее кровати, на полу, и, не гася электричества, виновато лёг. А как только лёг, почти сразу провалился в мягкую темноту.
Проснулся он от нестерпимой тоски. Голову ломило, на грудь давила тяжесть. Костусь с трудом раскрыл глаза и, не догадываясь, где он, растерянно огляделся по сторонам. И только когда взгляд остановился на кровати, на материнской руке, которая, казалось, так и не шевельнулась с того времени, быстро вскочил.
Сначала ему сдалось, что мать спит. Он хотел было выключить электричество, но, заметив, что по лицу матери пробежала гримаса боли, застыл с протянутой к выключателю рукой.
— Костик! — окликнула она, едва шевеля бескровными губами.
Ему показалось, что голос до него дошел издалека, а в комнате было слишком светло и сама комната, белая, аккуратная, выглядела некстати праздничной.
Прошло, вероятно, всего несколько часов, как он разговаривал с матерью, но как та изменилась, как похудела! Большим, незнакомо строгим стал лоб, и вся она стала иной, более строгой, с чем-то примирившейся. Руки лежали неподвижно: сделали все, что могли, и успокоились… нуждаясь сейчас только в одном — отдыхе. Но это как раз и испугало Алешку.
— Я, мама, воды холодненькой принесу, — предложил он, хватаясь за эту мысль как за спасение.
Мать отрицательно покачала головой.
— Не хочу… Не надо… Охти, Костик, живой воды все равно нет… Нет, сынок, и не было…
Он ужаснулся и онемел. Ужаснулся тому, что она сказала, и онемел оттого, что никогда она не разговаривала с ним так безжалостно и открыто. Неужели действительно — все, и ничто не поможет?
Возможно, впервые Алешка подумал о ней и только о ней. Раньше всегда как-то получалось, что в своих отношениях с другими он считался лишь с самим собой.
И другие часто были дорогими или ненавистными ому потому, что они оказывались нужными для него или мешали ему. Так было с матерью, с Валей, с Зимчуком, Урбановичем. Они почти не интересовали его сами по себе, он не стремился понять их. И если бы заботился о матери, берег ее здоровье и покой, как она берегла его, разве пришлось бы теперь слышать страшные слова? Ей бы жить да жить. А вот потеряв Валю, он может потерять и мать, которая отдавала ему себя… Но он еще надеялся, что лаской, нежными словами любви и преданности — тем, чего раньше не знала и жаждала мать, — можно вернуть ей силы.
— Не говорите так, мама, — попросил он, не решившись, однако, прикоснуться к ней. — Мы еще поживем с вами…
— Вот и добро, Костик, — сказала она и будто забыла о нем.
Но надежда все еще жила в Костусе, жила и вера в свои слова.
— Простите меня, мама, — заговорил он, точно боясь, что мать не захочет его выслушать. — Я обещаю вам… И не думайте, что мне легко было. Я страдал, мама. Люди видели во мне ветрогона, не доверяли, и хотелось из-за этого делать все назло… Нельзя жить, если не верят и не прощают. Меня все учили, а я хотел, чтобы меня поняли, чтобы пожалели даже виноватого… Мне воздух, мама, нужен! А я и теперь готов себя отдать, чему отдавал. Я ведь до смерти город люблю…
Мать не ответила.
Почти не дыша, Костусь замер у кровати, не зная, что делать дальше, хотя в окнах уже светало и это почему-то укрепляло его надежду. Мысли беспорядочно сновали в голове. Наконец он остановился на одной — надо все же бежать в амбулаторию и позвать врача. Костусь вышел в прихожую и, не попадая в рукава, начал одеваться. Но что-то властно приказывало ему вернуться и еще раз взглянуть на мать. Он вернулся к двери и затрепетал от радости. Приподнявшись на локтях, мать смотрела прямо на него, и глаза ее были полны давно неведомого света.
— Я вижу, Костик, — удивленно прошептала она, но тут же в изнеможении упала на подушку. — Конец, Костя… Отмаялась…
Она вздрогнула, как вздрагивает человек во сне, когда говорят, он растет, и выпрямилась. Из левого глаза, прорвавшись сквозь ресницы, выкатилась слеза.
Алешка застонал и, как безумный, бросился к глухой стене. Прижавшись к ней грудью и щекою, он в отчаянии застучал кулаками в стену, клича соседей на помощь.
Глава третья
С похорон его, Прибыткова и Зимчука Алексей потянул к себе. В квартире Алешки два дня не топили, и в комнатах настыло — стало, как на улице. Да его и нельзя было оставлять одного. В своем безучастии ко всему он мог делать теперь только то, что ему подсказывали.
Похороны были малолюдными. Кроме Алексея, пришли ребята из его бригады, Сурнач, Зимчук, Прибытков с женою и несколько старушек, которые и руководили всем.
Стройтрест прислал два грузовика. На один поставили гроб, скамейки у бортов и красную пирамидку, положили на кабину венок из искусственных цветов да сосновых лапок и молчаливо, с непокрытыми головами, тронулись за грузовиком, который почему-то все стрелял из выхлопной трубы. Когда повернули на Советский проспект, к процессии присоединилась Валя. Она, вероятно, ожидала тут или шла вслед незамеченной, не осмеливаясь подойти. Убитая, она побрела рядом с Тимкой, не имея сил стать незаметной, как все. Тимка же, наоборот, оживился. Ему вообще трудно было быть печальным, потому что печали не было и все казалось естественным, таким, как должно быть. По проспекту, сигналя, проносились автомашины, на перекрестках, красиво махая полосатыми, похожими на восклицательные знаки жезлами, стояли подтянутые милиционеры, из репродукторов лилась бравурная музыка, и Тимка шагал почти как на демонстрации.
На Круглой площади работала снегоочистительная машина. Заглядевшись на нее, он пошел тише и даже остановился бы, не подтолкни его сзади Прибытков. Прямой, торжественный, каменщик шествовал, всем видом показывая, что исполняет необходимый долг перед человеком, которого уважал и с которым никогда уж не встретится, долг, который когда-нибудь отдадут и ему.
Алексей шел рядом с Алешкой и, погруженный в свои заботы, поддерживал его под руку, не особенно обращая внимание на убитого горем товарища. "Старуха умерла, и ее не вернешь, — думал он. — Человек родится, живет и, свершив свое, уступает место другим. Важно только оставить после себя добрую память. И хорошо, если каждый проживет столько, сколько она. Поймет ли это Костусь? Запьет, бродяга, задурит и может свихнуться совсем. Нехорошо…" И мысли его обращались к стройке, к бригаде.
Все ближайшие кладбища были закрыты: одни собирались переносить, другие, оставляя как есть, благоустраивали, и хоронить можно было только на дальнем — "за городом, у обсерватории. Поэтому, дойдя до Комаровки, остановились и начали садиться в грузовики. Получилось так, что Валя попала в первый и села между Алексеем и Тимкой, как раз против Алешки. Тот все время шел, глядя в землю, и заметил ее, лишь когда она села напротив. Он мгновенно отвел в сторону глаза, которым от гнева сделалось жарко, и они стали сухими, колючими. Баля потупилась и начала смотреть на покойницу, которая в гробу, в веночке из бумажных цветов, с руками, сложенными на груди, выглядела обиженной и меньшей, чем при жизни.
Смерть близкого заставляет задуматься над собственной жизнью. Валя шла на похороны с сильным желанием стать лучше, возможно даже помириться с Алешкой, предложить ему дружбу. Но, как оказалось, это было невозможным и теперь…
Кладбище напоминало деревенское. Могила была вырыта под старой плакучей березой. Зимчук, Прибытков, Алексей и Тимка взяли на плечи гроб и, выбирая дорогу среди заснеженных могильных холмиков, пошли за могильщиком, который показывал, куда идти. Следом побрел Алешка, один, как и раньше, отрешенно глядя себе под ноги. Остановясь у выкопанной ямы, он осмотрелся и вскинул взгляд на вершину березы, плакучие ветви которой едва покачивались. По небу плыли по-зимнему рваные, как куски ваты, облака, и ему на миг показалось, что береза падает. Алешка отступил назад и, стараясь не слушать жалостливых причитаний и пришептываний старушек, с холодной ясностью ощутил, что остался один, совсем один. Наклонившись, почти механически, он взял комок замерзшей глины и бросил в могилу. Комок ударился о крышку гроба, и этот удар эхом отозвался в Алешкиной груди: надо было начинать жизнь заново. Как?.. А в могилу уже сыпалась и сыпалась земля, и чем больше ее становилось в яме, тем свободнее и проще становились люди.
Орудуя лопатой, Зимчук с тоской думал об извечном, непрерывном процессе обновления, без которого нет жизни и который не может быть без смерти. Правда, в природе он более естественен и справедлив. Там, если смерть не насильственная, умирает то, что изжило себя, и само постепенно превращается в ничто. Человек же, умирая, уносит с собой накопленный опыт, знания, неповторимые качества. К тому же его любят. Отсюда обида и печаль… Однако человеку не дано право на бессмертие. И задача в том, чтобы исчерпать себя до конца, передать накопленное тобою другим и таким образом остаться жить в них.
Зимчуку становилось жарко. И хотя земля подмерзла только сверху, работать лопатой без привычки было нелегко. Но он работал, пока над могилой не вырос холмик. Он видел, как тяжело Алешка переживает смерть матери, замечал его озлобленную непримиримость к Вале и понимал, что самое главное сейчас для него — не совершить новой глупости, которая может стать гибельной. И потому, услышав, как Алешка бросил Вале, принявшейся было помогать устанавливать пирамидку: "Ты лучше уходи отсюда!" — подошел к нему и уж не отходил. И чем дольше Зимчук наблюдал — за ним, тем все отчетливее чувствовал… вину. Свою вину. И не только перед ним… Как, действительно, мог он усомниться в Алешкиной честности, а потом уверовать в его необратимость? Как мог позволить другим в чем-то подозревать его? Да и усомнился ли? Просто посчитал за благо не вмешиваться в это накладное, не твоей компетенции дело. Непростительно черствым оказался он к этому парию. На все, что делал тот, смотрел предвзято и даже в душе одобрял себя за это. Формально он, может быть, имел основание — Алешка относился ко всему безответственно, болтал и допускал лишнее. Работал как вздумается. Но заставив себя видеть в Алешке забубенную сорвиголову, которая могла в прошлом где-то и оступиться, он начисто игнорировал в нем человека. А человек — сложное существо. Его не только стоит жалеть или поносить, как это делал он, с ним необходимо считаться. Надо, даже наперекор всему, верить в него, и человек оправдает твою веру, твои заботы. Вон Урбанович растет… Почему? Лишь только потому, что на него обратили внимание, поверили. А иначе что было бы?..
Алексей, как больного, усадил Алешку на диван, не зная, как вести себя и о чем начать разговор. Но выручил сам Алешка. Глядя перед собой широко раскрытыми глазами, он заговорил:
— Когда потеряешь, тогда и спохватишься. Она же все время со мною была, как себя помню… И все волновалась, переживала. Заножу ногу, синяк принесу — охает-ахает. Не удержусь на трамвайной колбасе, побьют ребята с соседней улицы — опять беда! И страхи, страхи. Не спит, вздыхает. И чем дальше, тем больше…
Это было не причитание, не рассказ человека, которой в словах изливает лишек боли, а скорее исповедь. Алешка находился в том состоянии, когда все видится острее и все трогает. Да и говорил он как бы для того, чтобы глубже осмыслить это самому, чтоб осознать меру своей потери и вины.
— Тебе сейчас, это самое, мужчиной надо быть, работать много, — вставил Прибытков.
— Конечно надо, — согласился Алешка. — Но я говорил уже тебе, что человек не дерево…
— На Валю ты не больно злись, — сказал Зимчук, который стоял у дверей, прислонившись спиной к косяку, и подумал: "Обязательно нужно что-то придумать… Для окружающих, для него самого".
— Вы, Иван Матвеевич, знаете сентябрьский провал сорок второго, — не принял предложенного им разговора Алешка. — Тогда за день сто семьдесят два человека повесили. Помните? В Театральном сквере на одном суку обрывок веревки до самого освобождения болтался… Пришлось тогда и квартиры и паспорта менять. Чтобы жить, мать стала на базаре торговать пирожками с ливерной начинкой. Ну, заодно и меня связывала со своими… Так вот она этой вкуснотой тоже старалась ото всех огорчений спасать. Пока саму не привезли без сознания: полицаи избили…
Алешка говорил и говорил, не решаясь замолчать. А всем — они и сами не могли бы сказать почему — становилось нестерпимо грустно.
Домой Валя вернулась тоже вконец расстроенная. Комнатка, которую она с помощью редакции недавно получила в новом доме, была на третьем этаже. Стены лестничной клетки пахли краской, и, поднимаясь к себе, Валя вдыхала этот запах с очень тяжелым чувством — так же пахла пирамидка, поставленная на могиле Алешкиной матери.
Неохотно раздевшись, она бросила пальто на спинку стула и долго не знала, за что приняться. Болела голова. Но все же надо было что-то делать. Валя взяла полотенце и пошла в ванную.
Услышав шум воды, в коридор вышла соседка — полная, взлохмаченная, с безразличным, заспанным лицом.
— Я думала, опять кран не закрутили, — упрекнула она неизвестно кого.
Город все еще обслуживала восстановленная в первые дни освобождения старенькая, довоенная водокачка, и воды, особенно днем, когда работали предприятия, не хватало. Это часто приводило к самым неожиданным недоразумениям. То, хлынув вдруг, она будила всех среди ночи, то, переполнив раковину, заливала кухню, и со второго этажа прибегали возмущенные жильцы, то начинала капать с потолка, и приходилось звонить на службу работнику городской прокуратуры, который жил на четвертом этаже и чья квартира была почти всегда запертой. Валя относилась ко всему этому с юмором, и это портило ее отношения с соседкой, взявшей на себя заботу следить за водой.
— Нет, это я, Татьяна Тимофеевна, — ответила Валя, хотя дверь в ванную была открыта и соседка видела ее.
Та внимательно оглядела девушку с головы до ног и молча пошла к себе, а Валя, потому что была обиженной и расстроенной, вспомнила, как однажды, сложив губы трубочкой, словно насвистывая, эта дебелая женщина танцевала на своих именинах, а потом, уже за столом, несколько раз, вкладывая в слова свой смысл и считая их остроумными, повторяла, что из мужских рук даже чай кажется вкуснее.
Валя быстренько умылась и, на ходу вытирая лицо полотенцем, вернулась в свою комнату. Из головы не выходили похороны, Алешка.
Почему отношения между людьми так сложны? Почему они часто зависят от таких условностей, над которыми обязательно надо было бы подняться? Почему человек часто становится невольником самого себя? Неужели они с Алешкой не могут остаться друзьями? Ну пусть любовь у них не получилась, но это совсем не означает, что они должны быть врагами и ненавидеть друг друга. А выходит — враги?! И вряд ли этого избежишь.
Как он взглянул на нее! С какой лютой ненавистью пробормотал: "Уходи лучше отсюда!" Он, конечно, считает, что она виновница не только его страданий, но и смерти матери. Чтоб оправдать себя, люди любят иногда проделывать подобные манипуляции. Но это же несправедливо. Она, если и виновата, то только в одном — не смогла навсегда полюбить его. Полюбить так, чтоб сделать каким хочется… Но тут же приходили сомнения — а только ли в этом? Не ловила ли она себя на том, что рада своему разрыву с Алешкой, рада, что нашелся и повод? Разве встала она на его защиту? Ей вообще не хватает вдумчивого отношения к жизни, убежденности. Она мало думает о жизни, слишком легко и беззаботно относится к ней, и все ей кажется словно специально сделанным для нее. Видимо, виновата и опека Зимчука, как будто ставившая задачу упрощать жизнь и затушевывать в ней негативное. Нет, Зимчук не обманывал ни себя, ни Вали. Но его правда была какой-то суженной и "работала" на злобу дня, а не жила самостоятельно и независимо, как только и может жить правда. А главное, — подчиняясь сам некой высшей воле и мудрости, которые, как верил, стояли над ним и окружающими людьми, он незаметно навязывал ей свое понимание добра и зла, во многом примитивное и уже потому несколько жестокое. И еще. Валя воспринимала окружающее внешне. О людях судила по их поведению, на собраниях, о процессах в жизни — по кино и книгам. Отсюда в ее представлениях было очень много иллюзорного. Потому она вообще вряд ли может давать счастье другим в даже быть по-настоящему счастливой сама.
Вале захотелось плакать. Навзрыд.
Из этого состояния ее вывел стук в дверь. Удивленная, что кто-то пришел к ней в такое время, она тем не менее разрешила войти.
Дверь открылась, и на пороге появилась… Вера Антоновна. За нею Валя заметила вытянутое от любопытства лицо соседки. У Вали похолодела спина.
Вера Антоновна приподняла со лба вуальку с мушками, оценивающе окинула комнату и бесцеремонно уставилась на Валю.
— Простите, я хочу представиться, — громко проговорила она. — Или вы уже знаете меня? Я жена вашего любовника…
Валя отшатнулась и, чувствуя, как дрожат и слабеют ноги, отступила к столу. Ухватившись за его край, застыла, не в силах осознать, что происходит.
— Да, да, я жена вашего любовника, — повторила Вера Антоновна.
О ней Валя, к стыду сказать, думала редко. И ско рее всего потому, что не заглядывала в завтрашний день своих отношений с Василием Петровичем. Они представлялись непорочными, никого не касающимися и никому не мешающими. Как-то получалось, что Василий Петрович существовал для Вали сам по себе, а его жена, — как говорила Зося, чванная, несносная особа, — сама по себе… Теперь же они — и это Валя вдруг поняла — встретились как соперницы. Как это опрометчиво, пошло и непристойно! Сгорая от стыда, Валя, однако, усилием воли взяла себя в руки и резко, чтобы сразу положить конец позорному разговору, спросила:
— Которого любовника? У меня их много.
— Вы шутите?
— Ничуть.
Это было так неожиданно, что Вера Антоновна растерялась.
— Вы должны меня знать…
— Ну хорошо, пусть должна. Что вам угодно?
— Мужа! Я пришла предупредить, что не разрешу никому отнять у моего сына отца. А если все же кто осмелится отбивать, я…
— Про это вы скажите ему… мужу.
Первоначальный план Веры Антоновны срывался.
Расчет на то, что Валя тоже начнет кричать или оправдываться, не осуществился. Побледнев, Валя стояла, опираясь на стол, и строго смотрела на Веру Антоновну, напрасно старавшуюся навязать скандал. Она даже приняла вызов, чтобы разговор происходил при свидетеле, который за дверью, вероятно, ловит каждое их слово, и отвечала громко, не желая делать из разговора секрет. Нужны были новые меры.
— Мне тяжело поносить своего мужа, — как бы с другой стороны подступила к ней Вера Антоновна. — Но вы умная и знаете его, видимо, немного хуже, чем я. У него непостоянный характер. Он поддается чужому влиянию, его нетрудно опутать и повести за собой. Но надолго ли? Он легкомысленный. Живя с вами, он живет и со мной.
— Вы злая, возмутительная и ничтожная, — оборвала ее Валя, — и мне жаль Василия Петровича.
Сердце у Вали в самом деле разрывалось от любви и жалости к Василию Петровичу, от сознания безысходности их отношений, от омерзения к этой женщине.
— Я еще раз спрашиваю: что вам нужно от меня?
— Не ломайте комедию! Оставьте его в покое. Муж мне рассказывает буквально все. Я знаю все, начиная со встреч в его кабинете до прогулки на озеро. Ваши имена склоняют сотрудники. Пошли сплетни. Работа валится у него из рук. Недавно он плакал над сыном и просил, чтобы мы ему простили. У него слабая воля…
Она клеветала, лгала. Ей важно было омрачить всё, что связано с Василием Петровичем. Чтоб одно упоминание о нем вызывало страх. Притворившись несчастной, Вера Антоновна терла платочком глаза и, улучив момент, присела рядом на стул, на спинке которого лежало Валино пальто.
Наступило молчание. Стало слышно, как в обогревательных батареях переливалась вода. В коридоре заскрипели половицы: вероятно, соседка, посчитав, что разговор окончен, позаботилась, чтоб ее не застали врасплох.
Не дождавшись и на этот раз слова от Вали, Вера Антоновна встала. Пора было поставить на кон последнее.
— Как я вижу, вы не хотите быть рассудительной, — угрожающе сказала она, гневно прищурясь. — Пусть! Но это для вас же хуже. Раньше распутным девкам мазали дегтем ворота, теперь тоже есть свои средства…
— Уйдите прочь!
— Смотрите, не стали бы каяться.
— Нам не о чем разговаривать.
— Хорошо! Но я предупредила вас. До свидания!..
Вера Антоновна вышла. Но Валя тоже больше не могла оставаться здесь. Эта женщина дышала воздухом ее комнаты, стояла вот здесь, возле повешенной на стену, покрытой простыней одежды, сидела вот на том стуле… Торопясь, Валя надела пальто, схватила капор, рукавички и выбежала. В коридоре, возле приоткрытой двери, стояла соседка. Увидев Валю, она презрительно фыркнула и отвернулась.
Жило такое ощущение, что Валя копалась в навозе. Даже мерзко было прикоснуться руками к лицу — руки казались грязными.
Валя дважды подходила к домику Урбановичей, прошлась мимо калитки Зимчуков, но так и не зашла ни к тем, ни к другим. Теперь ей не могли помочь и там, даже если бы хватило мужества рассказать обо всем. Ей была противна Вера Антоновна, ненавистен Василий Петрович, она к самой себе чувствовала отвращение.
Светило солнце, кучились облака, в воздухе ощущалась близкая весна. Шли люди, проезжали машины, на почерневших деревьях ошалело кричали галки. Но Вале они были не нужны, они не существовали для нее.
Пересекая площадь Свободы, Валя чуть не попала под легковую машину. Шофер, остановившись, опустил боковое стекло и сердито закричал на нее. Она извинилась, но не ускорила шаг.
Вернулась домой замерзшая, обессиленная. Подумав, что можно заболеть, чуть ли не обрадовалась — в этом был хоть какой-то выход.
С намерением сразу лечь в постель, она вошла к себе в комнату и остолбенела — у окна, повернувшись на скрип двери и глядя на Валю блестящими глазами, с книгой в руках стоял Василий Петрович.
— Вы? — испуганно прошептала Валя, не решаясь отпустить ручку двери.
— Прости, что так, без разрешения. Меня пригласила зайти соседка… — закрыв книгу, шагнул к Вале Василий Петрович. — Вчера раз пять звонил тебе в редакцию. И все зря.
— Я была в лектории, — растерянно ответила Валя, понимая, что говорит не то, что нужно и что хотела сказать сперва.
Еще недавно без душевного трепета не могла вспоминать о нем. Мечтала, мысленно разговаривала с ним, подбирая слова. Было желание сделать для него что-то очень значительное. Думалось: "Пусть даже случится что-нибудь плохое, лишь бы можно было потом проявить свою преданность, самоотверженным поступком отвести от него беду". Хотелось помогать ему во всем и насколько хватило бы сил… А вот теперь все это стало бессмысленным. Пусть даже то, что она услышала от Веры Антоновны, неправда, наветы, но ее слова раскрыли другую сторону отношений с Василием Петровичем, показали, какими они могут предстать в глазах других. "А еще писать мечтаешь!.."
Несколько дней назад забегала к Зосе — просто так, побеседовать, отвести душу. Там оказалась и тетка Антя. Помогая Зосе натягивать на пяльцы полотно, тетка рассказывала ей историю — одну из тех, что обычно кончаются страшным. "И надо же, чтобы она, девушка, согласилась пойти с женатым человеком! — говорила Антя, печально мотая головой. — Разве можно? У них же все свое…" Она видела непристойное и опасное уже в том, что девушка осталась наедине с женатым мужчиной. Зося старалась перевести разговор на другую тему, но старуха упорно возвращалась к поучительной истории и без конца повторяла: "У женатого отношение к женщине совсем другое и смотрит он на все значительно проще".
Валя тогда постаралась не придать значения рассказу Анти. Но слова — страшная сила, и теперь они легли на Валю тяжестью. И все же, сделав над собой усилие, желая в чем-то убедиться, она подняла на Василия Петровича настороженный, почти враждебный взгляд.
Однако тот не понял ее. Да и не знал, на что решиться в следующий миг. Ему нужна была определенность, и он уже не мог сдержаться, чтобы не идти к ней. Перед ним стояла девушка, в которой все было дорого. Все — от упрямого, по-детски крутого лба до легкой походки. Но сейчас сердце Василия Петровича жаждало не столько ее, сколько слова от нее, определенности. Беседа с Зимчуком пробудила надежду. Надежда — нетерпение, раскаяние, решимость. И хотя Василий Петрович видел, что Валю испугал и даже оскорбил его непрошенный приход, он уже ничего не мог поделать с собой.
— Вы меня простите! — исступленно чуть ли не крикнул он, почему-то переходя на "вы". — Я, небось, оскорбляю вас этим, но все равно скажу… мм… Я люблю вас, Валя!
— Нет, нет! Не надо! — запротестовала она, жестом руки запрещая ему приближаться и говорить дальше. — Вы не имеете права…
Он сразу обвял, горько усмехнулся.
— А Зимчук недавно упрекал в другом. На работе, мол, прыткий, а в жизни духу не хватает шаг человеческий сделать? Разве можно, чтобы две принципиальности было…
— Вы еще шутите!.. Я прошу вас…
Он все же подошел к ней.
Они стояли рядом. Валин капор, на котором поблескивали мелкие росинки от растаявших снежинок, чуть не касался щеки Василия Петровича, и он почувствовал его холодноватую свежесть. На Валю дохнуло тоже чем-то знакомым и дорогим.
— Вы должны сейчас же уйти, — умоляюще попросила она. — Я не могу. Мне трудно… Неужели вы не видите?
— Но скажите хоть, в чем дело?
— Об этом поговорим когда-нибудь потом…
Валя внешне успокаивалась, хотя внутри у нее все каменело и становилось будто не своим. Она устало сняла капор, пальто, повесила их на вешалку и, словно здесь, кроме нее, никого не было, принялась наводить порядок в комнатке… Делала это как во сне — медленно, не зная, для чего делает… И больше, как ни добивался Василий Петрович, не разжала губ. Только когда он вышел, забыв перчатки, схватила их и подбежала к окну. Комкая их в холодных руках, подождала, пока тот не появился на противоположной стороне улицы, хотела было — а она знала, что он обязательно оглянется, — показать ему их, но тут же отвернулась и заплакала.
Она не слышала, как в коридоре соседка на цыпочках приблизилась к ее двери и припала к ней ухом. Но если бы даже и слышала, вероятно, не обратила бы внимания: ни жить, ни доказывать свое не хотелось — не хватало сил.
Все-таки Василий Петрович, видимо, был сильным человеком. Эта размолвка — а скорее всего разрыв навсегда! — не убила его. Даже не прибила. Разве только, отняв надежду, как-то ожесточила, К себе, к другим. Пробудила особые — яростные силы.
Нет, то не было отчаяние, которое тоже может поднять человека на большое. Не было уже потому, что отчаяние способно сделать свое лишь на какой-то миг. Оно всегда почти слепое и мстительное. Это — вспышка, за которой гибель или прострация.
Правда, в отрешенности, что обуяла Василия Петровича, сквозило и отчаяние. Но эта же отрешенность как бы собирала силы в фокус. Его словно подхватил какой-то порыв, И точно стремясь по темному, узкому ущелью на огонек, он ничего не желал знать и ничего не знал, кроме этого огонька. И не было ни усталости, ни малодушия.
Даже наоборот. Только иногда пугала мысль: "Неужели так будет всегда?" Однако и ей он не давал укорениться, находил в себе силы гнать ее.
В его кабинете на этот раз было особенно тесно и шумно. Говорили сразу все. Шутили. Спорили о разном, хотя речь шла об одном — дома, улицы, город.
— Мудрить тут нечего, — громче других рассуждал говорливый Кухта, по плечи утонувший в мягком кожаном кресле. — Ансамбль — вещь понятная. Уважай своего предшественника и соседа — вот тебе и ансамбль. Что, нет? А выйди на перекресток Комсомольской и Карла Маркса, посмотри, как говорят, на все четыре стороны — и нечего греха таить, что ни сторона, то и новина.
— Это в точку! — одобрял начальник архитектурно-строительной конторы, примостившийся на подлокотнике кресла, розовощекий мужчина, чьи короткие ноги едва касались пола.
— А рецепт ведь простой: чаще в трамваях езди и таблички читай.
— Ну-ну!
— Да их все знают: не высовываться и не занимать передних мест, которые для пассажиров с детьми.
Начальник архитектурно-строительной конторы, забросив, словно аист, назад голову, заразительно захохотал и толкнул локтем Барушку, приглашая его тоже посмеяться.
Барушка с независимым видом стоял рядом, прислонившись спиной к стене. Переводя взгляд с одного на другого, он думал, кто из присутствующих будет соратником, кто противником. А что будут и те и другие, он не сомневался. Он даже продумал, как защищаться. Крайний метод доказывать правоту у него был испытан: давай сдачи, кричи как можно громче, обвиняй противников во всем, что придет в голову, дай понять — чтобы доказать свое, ты готов на все, и пускай лучше не связываются. Вот и теперь, ни с того ни с сего почувствовав в словах Кухты намек на собственные проекты, Барушка зло покраснел и выпучил глаза.
— Если человек в чем-нибудь ни бе, ни ме, — бросил он, — то обязательно начинает учить этому делу других. Хорошо было бы послушать, кто в вашем Главминскстрое высовывается и занимает передние места. Любители такие не вывелись и там.
— Это вы серьезно? — удивился Кухта.
— А как вы думали! Дрянь — она живучая…
Василий Петрович поглядывал на присутствующих — членов архитектурного совета, авторов проектов, рассматриваемых сегодня, представителей заинтересованных ведомств — и нетерпеливо дожидался, когда кончится перерыв и придется давать бой… Вера Антоновна сегодня тоже набралась смелости и стала на защиту Понтуса. Но просчиталась в своей игре: разозленная молчанием мужа, она пустила в ход последний козырь, издевательски сообщив, что ходила к "его крале". Это ошеломило Василия Петровича. Крикнув, чтобы она больше не ждала его, он хлопнул дверью и выбежал из номера. Шагая же в управление, обрушил ярость души почему-то не столько на Веру Антоновну, сколько на Понтуса.
С трудом владея собой, он провел обсуждение двух первых вопросов — проектов очистки и углубления Комсомольского озера и детальной застройки одной из новых улиц. Понтуса на обсуждении не было, и Василий Петрович уже с досадой думал, что тот, прислав Барушку, сам, как обычно, не придет. Но во время перерыва Понтус явился, вероятно предупрежденный кем-то по телефону, и с видом, что оказывает милость уже тем, что присутствует здесь, расселся на диване. Ему предлагали занять место ближе к столу, но он отказался.
Исполняющий обязанности ученого секретаря совета Шурупов принес новую кипу папок с проектной документацией, повесил в простенке между окнами листы с перспективой ансамбля, и это послужило своеобразным сигналом.
Шум затих, и присутствующие, пододвигая к столам стулья, начали занимать свои места. Только Барушка остался стоять, иронически поводя бровью и жуя губами.
— Продолжим работу, — сказал Василий Петрович.
Видимо, посчитав лучшим быть пока в тени или резерве, Понтус молча указал на Барушку и, сложив руки на животе, со скучным лицом закрутил большими пальцами.
Но меняя позы, Барушка вынул из бокового кармана очки с золотым ободком и неторопливо надел их. Заговорил уверенно, с обычным апломбом, для солидности заглядывая в записную книжечку, вдруг появившуюся у него в руках. Часто ссылался на опыт архитекторов Москвы, Ленинграда, Киева. Из его слов вытекало, что в своей работе Понтус и он, как и все лучшие архитекторы страны, исходили прежде всего из общей задачи — используя классическое и национальное наследство, раскрыть в архитектурных формах дух времени и увековечить наши дни.
— Вот так… — с ударением сказал он и снял очки, в которых его редко кто видел. — Хотя могу признаться еще в одном: несмотря на потуги некоторых корреспондентов, в своих поисках мы не могли обойти архитектуру итальянского Ренессанса, так высоко оцененную основоположниками марксизма.
Поднялся Шурупов и, причмокивая языком, будто сосал что-то кисло-сладкое, начал докладывать о заключении вертикальщика и подземщика, претензий у которых не оказалось, так как вертикальная посадка зданий и размещение входов, прокладка подземных коммуникаций их удовлетворяют. Удовлетворяют также и планы этажей…
Его выступление совсем вывело из себя Василия Петровича. И не только потому, что Шурупов мямлил и фразы его были плоски, давным-давно знакомы, но, главным образом, потому, что он, как межеумок, лебезил, то и дело преданно поглядывая на Понтуса, будто прося прощения, что хвалит его.
В кабинете накурили. Над головами плавал сизый дым, Василий Петрович встал, подошел к окну и открыл форточку. Дым заколыхался и прядями потянулся к форточке.
— У кого есть вопросы? Замечания?
— Думали ли вы о тех, кто будет жить тут? — показал Кухта на проекты.
— Денно и нощно, Павел Игнатович, — шевельнулся на диване Понтус.
— Почему же в домах, стоящих на углу, двухкомнатные квартиры обращены или на юг, или на север?
— Мы освещаем жилую площадь.
— Но живут ведь в квартирах…
— На здоровье!
— Это легко исправить, — вмешался начальник архитектурно-строительной конторы. — Надо только поменять крылья дома, потому что в другом крыле квартиры трехкомнатные.
Начав писать, Шурупов отложил ручку и выжидательно уставился на Понтуса.
Понтус кашлянул, поднялся и, с подтянутым животом, лавируя между стульями, стал пробираться к простенку с перспективой.
— Нельзя, товарищи, без волнения смотреть в будущее, — начал он на ходу. — И тем более, если оно, конечно, чудесное.
На замечание Кухты присутствующие реагировали по-разному. Одни делали вид, что недослышали его слов, другие — что отмежевываются от них, как от чего-то неприличного, третьи озабоченно разглядывали свои пальцы и старались не смотреть друг другу в глаза. Холодный же пафос Понтусовой речи как бы вернул им уверенность, что, ведя себя так, они не кривят душой. И когда Дымок добродушно заметил, что все-таки и тут "портик подпортил", на него зашикали. Однако как ни добивался Василий Петрович, выступать больше никто не захотел. Только Шурупов громко произнес:
— По-моему, ясно и так.
Это переполнило чашу терпения. Скомкав листок, на котором записывал мысли, Василий Петрович, уже не сдерживая себя, обрушился на него:
— Что ясно? Что вам ясно?
Шурупов растерянно заморгал глазами.
— Проект Ильи Гавриловича, Василий Петрович…
— А мне вот не ясно! Почему, скажите, нам понадобилось создавать свой, минский Ренессанс? Для чего вообще нужна эта мишура и мешанина всего на свете? Кому?
— Я протестую! — возмущенно крикнул Понтус, ударив ладонями по коленям и делая вид, что сейчас встанет и уйдет.
— Для чего вы тут нагородили лоджий? Мало, что половина квартир и так осталась без солнца?
— Прежде вы были более милостивы! А сейчас — как тот умник — поел, а потом спохватился: караул, посолить запамятовал!..
— Почему это неприемлемо? — не ответил Василий Петрович и ткнул пальцем в перспективу. — Да посмотрите же, пожалуйста! Ведь здесь все — и полезность и искусство — пришло в непримиримые противоречия. Разве эти разукрашенные фасады соответствуют тому, что нагорожено внутри? А коридоры?
— Как Кривоколенный переулок в Москве, — бросил Кухта.
— А почему? Да потому, что вам важно было одно — кому-то потрафить и как можно громче прокричать о себе. И я предлагаю не только отклонить проекты, но и указать на вредность подобных опусов.
В кабинете стало очень тихо. Но Василий Петрович, словно прося внимания, постучал карандашом по письменному прибору и с открыто мстительным чувством спросил:
— Есть другие предложения? Нет? — И, идя напролом, добавил: — В таком случае, я голосую свое. Кто за? Прошу.
Он первый поднял руку и оглядел членов архитектурного совета. Все сидели неподвижно, опустив глаза. Голосовал только тихий, незаметный Дымок. И тогда, внезапно о чем-то догадавшись, Василий Петрович предложил:
— Ну что ж, коль так, прошу проголосовать за одобрение проектов с внесенными изменениями.
Но и на этот раз никто не поднял руки.
— Запишите, — велел Василий Петрович Шурупову и с облегчением вздохнул.
Это, пожалуй, был провал. Пускай бы у проектов нашлось еще больше доморощенных противников. Пускай бы все эти Лочмели, Юркевичи, Кухты нашли еще больше недостатков. Это не страшно. Проекты отвечают духу времени, их хвалили в Академии архитектуры. Их можно с успехом пропустить через Совет при своем управлении. Можно, наконец, кое-что исправить, если появились новые веяния. Ибо, честно говоря, в свои проекты Понтус верил постольку, поскольку, как казалось ему, они соответствовали тем установкам, которые он, Понтус, получал, слышал или подхватывал на лету. К слову, в этом он вообще видел свою выдержанность и как-то утверждал себя в собственных глазах.
Правда, замечание Юркевича о несоответствии фасадов внутренней планировке насторожило: обвинение основывалось на нерушимом положении о форме и содержании. А это уже напоминало обстоятельство, при котором твои ошибки разоблачают цитатой из классиков. И все же тут можно еще спорить. Архитектура — искусство, и никому не придет в голову критиковать, ну, скажем, арку — вход на стадион — за высоту, хотя можно было, конечно, ее сделать в два раза ниже: люди все равно проходили бы под ней, не задевая о своды головами. А премии!.. И как он не догадался заставить Кухту, Юркевича перед всеми ответить, считают ли они проекты, получившие премии, лучшими? Пусть бы осмелились ответить!
Нет, то, что они открыто выступили против него, — полбеды. Беда в том, что присутствующие отказались высказать свое отношение к его работам. Значит, он, Понтус, зажимает критику! Вот это уже криминал!
Понтус понимал — ехать в машине с Барушкой не стоит: тот обязательно начнет горлопанить и наговорит неизвестно что при постороннем свидетеле — шофере. А есть вещи, предназначенные только для внутреннего употребления… Оставить же Барушку и уехать одному также не выпадало: это бросится в глаза, и его поступок объяснят как признание, что бороться дальше вообще бесполезно.
Отпустив машину, Понтус пошел пешком, кутаясь в шубу и все больше сердясь на то, что Барушка забегает вперед и, размахивая, как ветряная мельница, руками, говорит.
— Успокойтесь вы ради бога! — попросил он. — Слышно, вероятно, на той стороне улицы.
— А мне что! — ощерился Барушка. — Подумаешь, гений! Слишком мнит о себе. А что создал такого сам, чтобы иметь право перечеркивать работу других?
— Да потише вы…
— Миленькое дело, сам небось уже на вторую очередь проспекта лапу наложил, рад был бы всех остальных на типовые проекты посалить. Я, мол, творить буду, а над стандартными домиками корпейте вы. Знаем мы таких заступников народных! Сами с усами!
Было ясно: Барушка теперь будет только мешать. Нго прошлое, которое оценивай как хочешь, может бросить тень на все. Невыдержанность и навязчивость тоже навредят не меньше. Барушку не любят в среде архитекторов, настороженно относятся и там, в верхах. Не случайно же к тридцатилетию республики он ничего не получил. Да мало ли еще чего…
— Мне надо зайти в архитектурно-строительную контору, — сказал Понтус, протягивая руку.
Барушка остановился, фыркнул и попрощался. Когда же Понтус скрылся в подъезде, фыркнул снова и выругался. Он давно уже не верил во многое, в том числе и искренность людей. Юркевич и Понтус были для него почти одинаково чужими. Только обстоятельства сложились так, что с первым он воевал, а ко второму прижился. Но в поступках как одного, так и другого Барушка видел только предательские ходы людей, что-то выгадывающих для себя. А коль это так, значит, всегда надо иметь свой, более хитрый ход, и тогда все будет в порядке. Барушка понимал, что его прошлое, которое можно расценивать и так и этак, висит над ним и ему вряд ли взлететь. Это с каждым днем он ощущал острее. Видел, что люди менее талантливые, не запятнанные ошибками, чувствуют себя по-хозяйски просто и потому делают больше, чем он, а главное — лучше. Он же прозябает, превращается в неудачника, страшного в своей зависти. На кой черт понадобился бы ему Понтус, будь он свободен, как все! А так — прозябай. И потому, жалея и ненавидя себя, он делал все как человек, которому нечего терять. "Холуй, понтусовский холуй! — костил он себя. — Видишь, и этот на всякий случай хочет в кусты, чтобы подальше быть. Так тебе и надо, холуй!.."
В кабинете начальника конторы, как Понтус и рассчитывал, никого еще не было. Поглядывая на дверь, он снял телефонную трубку и поспешно набрал номер гостиницы. Когда в трубке послышался голос Веры Антоновны, назвал себя. Но та испуганно ахнула и, наверное, нажала на рычаг. В трубке опять загудело, только отрывисто, торопливо.
— Ну и леший с тобой! — возмутился Понтус, чувствуя, что захлебывающиеся от поспешности гудки как бы входят в него.
Забыв надеть шапку, он вышел из конторы и спохватился только на крыльце. Наглухо застегнув шубу, и уже важно, не торопясь, зашагал к себе в управление.
Выход надо было найти без никаких. Иначе — несдобровать. Кто-кто, а он хорошо знал, что в таких делах достаточно начать, дать им огласку, а там все пойдет своим чередом: посыплется, как из короба, только озирайся. К черту полетят и благополучие и людское уважение, к которому ты уже успел привыкнуть как к необходимой вещи.
Что значит с треском снятый работник? Ничто. Ему не отвечают на приветствия, на него не смотрят, даже разговаривая с ним. Это — неприятное воспоминание, препятствие, которое переступили.
Хорошо, конечно, если снимают с дипломатической формулировкой: "В связи с переходом на другую работу". Вина остается известной немногим. А это очень важно, если окружающие не знают твоей конкретной вины. Важны и слова "с переходом на другую работу". Какую? Конечно, не самую низовую. На нее не переводят, а ты устраиваешься сам. Хуже, когда говорится, что "тов. Н. не справился с порученной работой". Хуже, ибо тогда тень ложится на твою деловую репутацию. Но зато ты все-таки остаешься незапятнанным в других отношениях. К тому же в этом нет ничего такого, что говорило бы, будто ты не справишься с другой и даже ответственной работой. Но гроб с музыкой, если записано: "За вредную политику в такой-то области, за зажим критики, за… снять с работы…" В этом случае могут даже припомнить, что семья была в оккупации, и перед фамилией не будет стоять обычно незаметное, но очень важное в таких документах, сокращенное слово "тов." или просто "т.". Нет, этого допустить было нельзя… Да, собственно говоря, в чем его вина? Зажим критики?
Вдруг он даже споткнулся, огляделся по сторонам.
Стоял серенький денек, так характерный для кануна весны. Не светило солнце, не было ярких красок, улицы, дома, небо затянуло сизой дымкой. Но во всем таилось близкое пробуждение. Январь да и весь февраль, как известно, пора белых тропинок и синего льда. Сейчас же вокруг не было ни того, ни другого. Снег, побурел, на тротуарах появились желтые пятна; липы, уцелевшие на этой улице или посаженные в прошлом году, почернели. Да и прохожие идут свободно, не горбясь, как зимой.
Понтус чуть не хлопнул себя по лбу. У Барушки, как человека одинокого, была привычка разговаривать с самим собой. Перенимая почему-то ее теперь, Понтус возбужденно забормотал:
— Скажи на милость… Конечно так, только так… Ведь за его предложение голосовало два человека — он да подхалим. А остальные? Почему они не голосовали за проект, против его предложения? Потому что боялись. Значит, зажимает критику и старается отыграться вон кто!
С воспрянувшим духом вошел он в лифт, перекинулся — чего никогда не делал — шуткой с лифтершей, а идя по длинному коридору к себе, за руку поздоровался с малознакомым сотрудником Министерства здравоохранения.
Правда, беспокойство все еще оставалось, но теперь оно не угнетало его, а заставляло действовать. Надо было опередить Юркевича и первому принять меры. Пусть защищается и доказывает свою невиновность он, если начал рыть яму.
Сказав секретарше, что занят и может принять только заведующего сектором отвода земель из управления главного архитектора, Понтус позвонил Шурупову и попросил его сейчас же прийти. Затем сел писать докладную в ЦК.
Глава четвертая
С ощущением, что отношения с Алешкой теперь наверняка в чем-то изменятся, Алексей отработал смену и на трестовском грузовике, который в конце дня приезжал за ребятами, поехал в общежитие: надо было поинтересоваться и им.
Раньше он там не бывал и потому обошел почти весь барак, придирчиво присматриваясь ко всему. С удовольствием отметил: в комнатке, где жили Тимка, Виктор и еще двое парнишек, койки аккуратно заправлены, на стенах плакаты по технике безопасности, репродуктор. На тумбочках книги, и на одной из них… десятирублевая бумажка. Это было хорошо: Алексей слышал про случаи, когда из общежития пропадали простыни, электрические лампочки, ведра.
— Чьи это деньги, а? — поинтересовался он.
— Деньги? — переспросил Тимка. — По-моему, Витькины. Твои, Витя?
И то, что они не придали никакого значения вопросу, понравилось Алексею.
Он еще раз заглянул в красный уголок, на кухню, в кубовую, проверил, идет ли вода из кранов, и затем долго выговаривал коменданту — пожилому, с птичьими глазами и носом мужчине, в военной шинели с чужого плеча, — удивляя ребят, что заметил и помятый жестяной чайник, которым пользовались они, и грязный пол в красном уголке, и то, что спецовки приходится вешать в один шкаф с праздничными костюмами.
— У нас на стройке, кажись, работать легче, чем отдыхать тут у вас. Дверь в прачечную не только заперли на замок, но и гвоздями забили, — перечислял он, загибая пальцы. — Почему? Горячей воды, конечно, тоже не хватает. Баки и теперь пусты. А хлопцы ведь с работы пришли. — И когда все пальцы были загнуты, поднял оба кулака. — Дров, говоришь, мало? Смотри, браток, чтоб тебя самого на щепки не пришлось щепать. Не можешь без нагоняя…
Он ушел из общежития, оставив давившихся смехом ребят и растерянного, с гримасой боли на лице коменданта, который никак не мог разнять пальцев на правой руке, слипшихся от Алексеева пожатия.
В таком боевом настроении он пришел на стройку и на следующий день.
Трудовую вахту бригада решила нести на строительстве жилого дома, фундамент которого уже был готов. От растворомешалки к рабочим местам проложили самые короткие тачечные ходы. Нашли сподручные места для кирпича и ящиков с раствором — по нескольку для каждого каменщика. Кирпич в метровых клетках укладывали на ребро, чтобы подсобники могли удобнее брать и подавать его прямо под руки каменщику.
Выпало погожее, звонкое утро. Над головой грядою плыли розовые облачка, уже начавшие кудрявиться. Под ногами похрустывал тонкий, как стекло, с белыми воздушными пузырьками ледок, под которым не было воды. По все ждало ласкового дня, особенно липы за забором, вроде поеживающиеся от нетерпения.
Обойдя фронт работ, Алексей остановился около клетки кирпича, оперся на нее грудью, локтями и нетерпеливо стал ждать приезда хлопцев. Мысли текли деловито, хоть и не задерживались на чем-то одном. То вспомнилась Зося, то Сымон и его печальная победа, то Кухта и его слова: "Нам, Урбанович, нужен не рекорд, а пример наш", то вставал вопрос, выдержат ли ребята.
На сколько он собирался перекрыть норму, Алексей не сказал даже Алешке и лишь попросил, чтоб тот не скупился на материал. Сам же про себя решил: "Дам что надо!" Но для этого, как подсчитал Алексей, каждый каменщик должен был уложить около сотни тонн кирпича. "Выдержат ли? Сто тонн — девять вагонов!"
Он задумался так, что не сразу заметил, как его окружили ребята.
Заурчала бетономешалка.
Девушки, которых назначили работать с тачками, бросились к ним, чтобы до смены наполнить раствором ящики.
Стройка ожила. Долетел голос Алешки, начавшего кого-то распекать на все лады.
Чувствуя, как пробуждается прежняя лютость к работе, Алексей махнул рукой и повел ребят на места. Они двинулись за ним, стараясь быть как можно ближе к нему. Только Тимка, Виктор и еще трое, возглавлявшие сегодня звенья, пошли сзади, обсуждая, что и как будут делать. "У этих уже гонор, — заметив, как важно шагают они, не обиделся Алексей. — Ну и добро. С этого начинается мастер…"
Работа пошла слаженно. Урчала растворомешалка, поскрипывали тачки. Перекликались рабочие. Приехал грузовик со щитами, шофер просигналил так, что получилась залихватская мелодия: "Пи-пи-пи-пи, пи-пи". Возле растворомешалки засмеялись. Мелодия оказалась навязчивой, запала в память, и Алексей несколько раз повторил ее про себя.
Первая подсобница ковшовой лопатой подавала раствор. Жадно вдыхая терпкий запах, Алексей взмахом кельмы расстилал раствор по стене. Появилось желание пригоршней зачерпнуть его и долго нюхать.
Вторая подсобница плашмя, под углом ловко выкладывала кирпичи. Не останавливаясь, Алексей энергичным движением давал им нужное место. И это тоже как-то бодрило, поднимало сердце. Ведя за ним забутовку между внешней и внутренней верстой, трудился подручный. Второй ряд — тынковый — Алексей тоже вел сам, а в это время подручный помогал подсобницам…
Тайком наблюдая за остальными, Алексей накрепко решил дать им сегодня волю, пусть даже устанавливают маяки и закладывают углы. Радость, как и вера, — сила. Счастливый в эту минуту сам, Алексей желал счастья и ребятам.
Незадолго до обеденного перерыва подошел Алешка, Сняв кепку и взлохматив пятернею чуб, с наигранной иронией сообщил:
— Эй, наставник! Сам Ковалевский и Кухта справлялись. Просили позвонить в обед.
Это не особенно удивило Алексея: не в диковинку было, что на его работу обращают внимание. Но прежде это был интерес к его силе, ловкости, к тому, на что еще способен. "Работайте, как бригада Урбановича!" — когда-то призывало полотнище. Но та бригада состояла из одних опытных мастеров. Это был почти недосягаемый пример. Им можно было восхищаться, но ему нельзя было подражать. И, надо сказать, строители, уважая, не очень любили Урбановича. Когда же его ставили в пример, сердились. Рассуждали примерно так: хороший у человека голос и поет хорошо, ну и на здоровье — ты же сам от этого не будешь петь лучше. Вероятно, как раз это имел в виду Зимчук, когда в сквере говорил Зосе, что бригада Алексея пережила свою славу… Иначе обстояло дело сегодня. Алексей прокладывал путь в передовые и для себя, и для других. Даже не столько для себя, сколько для других. Ведь то, что смогут сделать его хлопцы, сможет сделать каждый. И это Алексей понимал.
Вытерев рукавом ватника потный лоб, он попросил Алешку:
— Ты ребятам про это скажи. А Ковалевскому и Кухте сам отрапортуй. Вспомни колишнее…
Уже сидя дома, аппетитно хлебая щи и разговаривая с Зосей, Алексей время от времени мысленно возвращал-ся к отшумевшей вахте. Получилось здорово! Но и повезло: когда стены поднялись настолько, что надо было ставить леса, подоспел обеденный перерыв, и плотники принялись за дело, когда бригада отдыхала. А не будь перерыва? Опять пришлось бы тратить время и все полетело бы к чертовой матери. Значит, что-то не так, и нужно подумать. Надежнее всего — готовить сразу два фронта работы. Чтобы можно было переходить с одного на другой.
Напротив со Светланкой на коленях сидела Зося и ожидающе смотрела на Алексея.
— Нет, ты по порядку расскажи, Леша, — просила она. — Ну, ты пришел, а дальше?
— Ну, пришел, — повторил он, думая о своем. — Потом начали работать…
— А хлопцы?
— И хлопцы. Любят люди, если клеится. Алешка нарочно, когда кончили работу, из дома через новые двери вышел. Умеет все-таки быть человеком…
Зося спустила дочку с колен и подошла к нему.
— Ты опять недоволен? — Она обняла мужа за шею и прижала к своей груди. — Не надо, глупенький! Сколько еще всякого впереди. Мы ведь нынче уже втроем-вчетвером…
Он встрепенулся, отложил ложку и поднял на Зосю недоверчивые глаза.
Говорят, беда не ходит одна. Но случается и наоборот: человек попадает под счастливую планиду, и тогда радости сами торопятся ему навстречу. В такую везучую полосу попал и Алексей. Назавтра бригада повторила рекорд, хотя работала спокойнее, чем накануне. Обсудив результаты трудовой вахты, партбюро треста одобрило почин. На стройку заявился кинооператор и, то припадая на колено, то поднимаясь на цыпочки, минут десять трещал камерой, целясь в Алексея, в ребят и Алешку объективом. К бригаде возвращалась прежняя слава, так необходимая сейчас: минчане через месяц-два собирались ехать в Сталинград подводить итоги соревнования.
Вернувшись перед выходным днем с работы, Алексей увидел на двери замок. Удивленный, обошел вокруг дома, заглядывая в каждое окно. Но и в доме не было никого. Обеспокоенный, он опять подошел к двери и только тогда заметил подложенную под дверную накладку записку. В ней Зося сообщала, что дочка у соседей, а сама она, вероятно, будет в Клиническом городке, и подробно объясняла, где искать ужин и что приготовить на завтрак утром. Забыв забежать к соседям, Алексей бросился к трамвайной остановке.
В приемном покое дальнего корпуса больничного городка, куда он попал после долгих расспросов, ему, несмелому, сообщили, что Зося Урбанович родила сына — крепыша в четыре с лишним килограмма.
Несколько дней он носил Зосе передачи и переписывался с ней. Потом, после дипломатического разговора с медсестрою, белолицей, здоровой женщиной, которой, казалось, только и работать в роддоме, увидел жену в окне второго этажа. В сером больничном халате с желто-коричневыми отворотами, которые она придерживала на груди, Зося тянулась к нему и шевелила губами, точно в немом кино. Он тоже поднял над головой руки и сцепил их, словно здороваясь с самим собой…
В приемный покой Зося вышла с той же белолицей сестрой. Алексей рванулся сначала к Зосе, поцеловал ее в поблекшие губы, потом взял у медсестры сына и, боясь за него, вроде он был такой хрупкой вещью, что ему могло повредить даже прикосновение, вышел наружу, где их ожидала "Победа", присланная Кухтой. От Зоси и сына пахло лекарствами, больницей… И, вдохнув эти запахи, Алексей даже содрогнулся от жалости. Зосе тоже было жалко его. Она прижалась к Алексею плечом и, чтобы успокоить его, когда машина тронулась, не стесняясь шофера, стала рассказывать о том, что пережила и что видела.
— И смех и грех! — говорила она, поблескивая влажными глазами. — Со мной одна женщина лежала, пожилая, занудистая. Из тех, что всегда ноют. "Седёлка, а, седёлка, судно принеси…" Это она так няню сиделкой называла. А вчера — история. С Дальнего Востока летчик приехал, подполковник. Жена его в соседней палате лежала. Не виделись полгода. Ну, понятно, главный врач разрешил побывать у нее. Объяснили, где стоит кровать жены, а палаты перепутали. Он как вошел в сумерки к нам, сразу к этой ноющей. С конфетами, кагором. Рукава халата по локти! Обнял и давай целовать. Женщина уперлась руками ему в грудь, да где там.
— И не разнес он вас всех? — почему-то обиделся за летчика Алексей.
— Нет. Только выскочил в коридор, — засмеялась Зося, — схватил графин с водой со столика и об стену.
На ее глаза набежали слезы. Алексеи понял, что это не от смеха, а от слабости, от того, что он близко, обок с нею. Он рассмотрел сына еще там, в приемном покое, но ему снова захотелось взглянуть на него — на кого больше похож? — и Алексей отвернул уголок кружева, закрывавшего личико. Сын спал, серьезный, насупленный…
Их встретили сразу трое — тетка Антя, Сымон и Валя. Отобрали ребенка, расцеловали Зосю и повели ее в дом под руки, как больную. Раздевшись, она первой вошла в столовую, опустилась на диван, откинула на спинку голову и блаженно смежила веки.
— Как хорошо дома! — вздохнула она полной грудью. — Тихо.
— Дома не в гостях, ведомо, — с готовностью поддержал ее Сымон.
— А туда и ваши строительницы попадают, — опять начала рассказывать Зося, не раскрывая глаз. — Молоденькие такие, безмужние. Сами дети. Некоторых даже без сознания привозят. Без кровинки в лице.
Она села прямее и положила сложенные руки на колени.
— Да, уж так, — закудахтала тетка Антя. — Приедет из деревни, живет без родителей, куда клонит, туда и сворачивает. А радости той не так уж много. И увечат себя потом.
— А что вы думаете! — согласился Сымон. — Это, брат ты мой, как говорится, ди-а-лек-ти-ка. У кого раньше больше детей было? У самых что ни на есть бедняков, горемык несчастных.
— Ну, тогда я, кажись, совсем нищим буду, — бросил Алексей, который как остановился в дверях, так и стоял, держась за косяки руками.
Зося не шевельнулась: она все еще жила недалеким прошлым.
— Не надо, — попросила она Валю, которая, укачивая ребенка, ходила по комнате, — привыкнет — потом без рук останешься… А это не шутки, Леша. Видела я, какой одна выписывалась. Сдается, начни ее резать — и не взглянет на тебя. Всякую чувствительность потеряла. А если бы и чувствовала, то ей все равно себя не жалко. Она же выгоревшим дупловатым деревом стала. Пока отойдет, пока вера та в себя вернется… Да и вернется ли?
— Никто их не заставлял!! — неожиданно рассердился Алексей. Но, подавив раздражение, поманил пальцем Сымона и вместе с ним направился на кухню.
— А твои дела, Валюша, как? — спросила Зося, когда мужчины вышли.
Валя поняла, почему подруга вспомнила о ней именно теперь, покраснела и растерянно взглянула на ребенка. Тот не спал и внимательно смотрел на нее неподвижными глазами-пуговками. Неведомое ей чувство, похожее на зависть, охватило Валю.
— А никак, — искренне и печально ответила она. — Вот смотрю я на твоего Лешку — Лешка ж, да? — и жалею, что не имею своего. Да и будет ли он у меня…
— С Костусем встречаешься?
— Что ты!..
— А с Василием Петровичем?
— Не говори мне о нем! — вдруг крикнула Валя, забывая, что держит на руках живое существо. — Я ненавижу его!
Тетка Антя подхватилась, отобрала у Вали ребенка, и та быстро заходила по комнате.
— Иди ко мне, — сказала Зося, протягивая руки.
— Он мне противен! — не унималась Валя, будто Зося уговаривала ее, а она не соглашалась. — Затянуть в такую грязь… Неужели ты могла понять иначе? Я ведь тогда возненавижу себя еще сильнее!
Не выдержав, из кухни пришел Алексей.
— Я с ним тоже спор не окончил, — проговорил ой возмущенно. — Мы с хлопцами стараемся, из кожи вон лезем. А они? Что они делают! Одна их финтифлюшка стоит больше, чем мы за месяц сэкономим. В копеечку влетает. Не говоря уж, что на этих выдумках не только перекрыть, но и выполнить нормы невозможно.
— А ты зачем свой дом Покрасил? — внезапно вспылила Валя, не заметив, как усмехнулась подруга. — Зачем черепицу разного цвета подобрал и выписал, в каком году построил дворец свой?
— Но я, окрашивая и подбирая, не забывал, сколько это стоить будет. Ты думаешь, покрасил — и все? Я, дорогая моя, сначала подсчитал. Все, до гроша. И сегодня же письмо в ЦК напишу, вот увидишь!
— Ты иди готовь, готовь, — перебила его Зося и, когда Валя села рядом, привлекла ее к себе.
Все замолчали, и стало слышно, как на кухне Сымон начал щепать лучину.
— А знаешь, Леша, что дальше с летчиком было? — крикнула Зося вслед. — Когда привели его к жене, он, пока не рассмотрел, даже не поздоровался с ней.
Она тихо засмеялась.
Лицо, фигура Зоси пополнели, налились женской силой. Она знала, что Алексею начинают нравиться полные женщины, и поэтому не горевала, что теряет свою девичью стать. Когда-то, стоя перед мужем, как перед зеркалом, она с гордостью предлагала:
— Проверь, Леша, проверь… Ты думаешь, я обманываю? Ну, пожалуйста!
Она чуть подтягивала живот, а Алексей, перехватив пальцами ее стан, старался, чтобы пальцы сошлись. Это было невероятно, но пальцы сходились. Теперь же Зося хвасталась иначе: она как бы с вызовом становилась перед Алексеем, капризно топала ногой и королевою отплывала от него, разрешая любоваться собой.
Однако ощущение молодости не покидало ее. Говорят, мужчине столько лет, сколько он чувствует сам" женщине же — на сколько она выглядит. Может быть, это и правда. Но, несмотря ни на что, Зося оставалась по-девичьи непосредственной. Годы сказывались разве только в том, что ее начинали беспокоить и дела, не имеющие к ней прямого отношения.
Как-то раз, после получки, Алексей попросил Зосю сходить с ребятами в магазин.
— Они ведь ежели и купят, не на что будет смотреть. А ты умеешь…
Она выбрала Тимке галстук, голубую рубашку, янтарные запонки, Виктору, который обносился и до этого ходил в форме ремесленника или в спортивном костюме, — синий шевиотовый костюм, остальным — кому что. Сама перешила на Викторовом пиджаке пуговицы, подогнав его по фигуре, заменила плечики. Навещая общежитие, завела там свои порядки. И с того времени Зося стала заботиться о ребятах, как о своих.
Правда, она никогда не высыпалась и засыпала мгновенно, как только смыкала веки. Но зато так же мгновенно просыпалась, когда в колясочке начинал шевелиться и кряхтеть маленький Алешка.
Однажды Зося помогла ребятам, учившимся в вечерней школе, готовиться к контрольной работе — кончалась третья четверть — и вернулась домой поздно. Дома, как всегда без хозяйки, уже набралась тьма неотложных дел. Пришлось взяться за них, несмотря на то, что это Алексею было неприятно. Вообще он не любил, когда Зося ночью принималась, скажем, стирать белье или мыть полы, и каждый раз протестовал, будто назавтра все это могло сделаться само собой. Они поспорили. Однако Зося, неподатливая, в таких случаях, не уступила и, уложив детей спать, вымыла пол, а потом принялась утюжить распашонки, сорочки. Она знала — Алексей сердится, жалея ее, но, как только она закончит работу, сразу простит все, и не очень беспокоилась. Наоборот, ей это даже нравилось. В доме царила тишина, распашонки и сорочки под утюгом пахли чем-то приятным, в соседней комнате спокойно спали дети, а в столовой ожидал любимый человек. Что еще надо было в этот момент простой, преданной Зосе, к которой приходила зрелость?
Когда она вернулась в спальню, Алексей уже лежал в постели. Зося тоже легла и, прильнув к нему, начала говорить о его хлопцах.
— Тимка по автомашинам умирает, водить уже научился, — рассказывала она, зная, что ее словоохотливость досадует Алексея и томит его. — Хвалится, что это тяжелее, чем доктором быть. Больной доктору расскажет, что и где у него болит, а машина немая, сам обо всем догадывайся, если что.
Она говорила и говорила, пока недовольный Алексей, всхрапнув, не забормотал, повернулся спиной и задышал ровно. Зося закрыла глаза и так же, как Алексей, неожиданно заснула.
Проснулась она от того, что недовольно кряхтел и посапывал Алешка. Не зажигая света, ловко перепеленав сына, Зося взяла его к себе в постель и начала кормить. Тепленький, он лежал рядом, а она слушала, как он чмокал губами.
Вдруг Зосю объял ужас. Ей показалось — что-то, вскрикнув, скатилось с кровати и шлепнулось на пол. Онемев от страха, но не вставая, она скосила глаза, чтобы взглянуть на Алешку. Вытянутая рука, которой она обнимала его, лежала на подушке, — сына на ней не было. "Упал и молчит! Боже мой!" Возле кровати стояла колясочка; падая, он мог стукнуться о ее колеса. "А что, если виском?! Много ли ему надо…" Она вскочила с кровати как ужаленная, нащупала на полу ребенка, подняла его и приложила ухо к груди. Нет, Алешка дышал.
В комнате было темно — окна спальни выходили в сад, за стеклами покачивались голые ветки яблонь. Свет шел только от нерастаявшего снега, кое-где лежавшего на темной земле. Личика сына не было видно, и Зося ничего не могла на нем рассмотреть. Тогда новые страхи охватили ее. Но зажечь электричество Зося не решилась. "А что, если вдруг?.."
Осторожно, чтобы не разбудить ни Алексея, ни ребенка, она опять положила его к себе на подушку и легла сама. Вглядываясь в сына, не смыкала глаз, пока сквозь окна не забрезжил рассвет. Когда же сомнений, что все обошлось благополучно, не могло быть, она попыталась заснуть. Стало хорошо. И это, возможно, потому, что были ночные страхи и что они прошли.
Но сон уже не шел к ней. Она осторожно растолкала Алексея, который с минуту, не понимая, чего от него хотят, моргал веками, стала рассказывать о сыне.
Из ее сбивчивых слов следовало, что тот обязательно должен быть счастливым. Для этого только нужно, чтобы он был здоровым, как можно больше умел все делать и чем-нибудь увлекался.
Алексей смотрел на жену и, заражаясь ее волнением, снова начинал ревновать, сам не зная к чему.
— Может, вставать будем, а? — спросил он наконец, выслушав Зосю. — Наверно, пора уже. У меня сегодня работы невпроворот.
А Вале было не до счастья, хоть прежде она легкомысленно и утверждала, что никто и ничто не помешает ей иметь его целое море.
— Не слишком ли много? — с улыбкой взрослого, который смотрит на ребенка, возражал Лочмель. — В жизни оно лимитировано. Хорошо, что дорога к счастью — тоже уже счастье, Валя…
И действительно, она до этого чувствовала себя почти счастливой, хотя и думала, что самое главное впереди. Но вот горизонт затянуло, и прежнее ощущение уступило место безысходности.
Надо было от многого отрешиться. В этом Валя видела единственный выход. Даже когда Зося сообщила ей, что Василий Петрович оставил семью и опять перешел на квартиру к дяде Сымону, это ничего не изменило: сегодня ушел — завтра вернется. Мало ли таких случаев… Он в самом деле человек минуты и сам не знает, на что решится завтра. Да и вообще все это выглядело противным и оскорбительным.
Но когда Лочмель сообщил ей, что в редакцию поступили корреспонденции, в которых против главного архитектора выдвинуты серьезные обвинения, Валя забеспокоилась.
— Покажите, — после некоторого колебания попросила она.
Лочмель, удрученный, вынул из ящика два конверта и, поскрипывая протезом, подошел к Валиному столу, Потом взял трость, сказал, что ему надо к редактору, и поковылял из комнаты.
Это было похоже на бегство. Валя дрожащими пальцами вынула из конверта бумаги и впилась глазами в отпечатанный на машинке текст. Не дочитав до конца, нетерпеливо перевернула последнюю страницу и посмотрела на подпись — фамилия была незнакомая.
В письме Василий Петрович обвинялся во всех смертных грехах: и в неправильном понимании задач, стоящих перед градостроителями, и в стремлении решать градостроительные проблемы за счет населения, и даже в космополитизме и взяточничестве.
Вторая корреспонденция была более сдержанная. Автор подробно описывал последнее заседание архитектурного совета и делал вывод, что критика там не в почете, воля членов совета скована и все решают капризы главного архитектора. Вспомнилась и давняя Валина статья, на которую Юркевич не ответил. "Видимо, сигналы, подаваемые общественностью, не существуют для таких руководителей…"
И все же это было мало похоже на Василия Петровича. "Шурупов, Шурупов…" — мучительно вспоминала Валя, уверенная, что где-то слышала эту вторую фамилию.
Вернулся Лочмель и, как невероятную новость, сообщил, еще стоя у двери:
— Редактор, Валя, согласен. Иди и расследуй. Юркевич стоит этого.
— Я? Почему я? — удивилась Валя, хотя принципиальность Лочмеля была очень своеобразна.
— К сожалению, мне нельзя. Третье письмо обо мне… А это, как-никак, твой конек, — поднял Лочмель брови, отчего на лбу у него собрались крупные складки. — Правда, во всем этом не так уж много от градостроительства… Только не торопись, пожалуйста… Хотя отдать им на растерзание Юркевича — тоже беда. Думающий человек!..
План возник сам собой: сначала она зайдет к секретарю парторганизации, потом заглянет к Зимчику и только после этого направится к Юркевичу. Но ни первого, ни второго Валя не застала — они были в горкоме на совещании. Сбитая немного с панталыку, Валя все же пошла в управление. "Побеседую с ними позже, — решила она, — а теперь соберу факты и постараюсь познакомиться с авторами писем".
Растерявшись, Василий Петрович усадил Валю в кресло, но сам сесть не смог и зашагал по кабинету, то и дело зачесывая назад волосы. Покраснев, как только Валя показалась в дверях, он неожиданно побледнел, И Валя, хотя ее мысли были заняты другим, все же заметила это и удивилась, как долго человек может быть таким бледным.
— Какому чуду я обязан вашим приходом? — наконец спросил он, неуклюже и старомодно строя фразу.
— Редакцию газеты интересуют некоторые факты.
— А-а…
— Расскажите, пожалуйста, какие вопросы рассматривались на последнем заседании архитектурного совета, скупала Валя, не глядя на Василия Петровича.
Вам лучше поговорить об этом с ученым секретарем совета. С Шуруповым.
— С Шуруповым?
Он поднялся и подошел к креслу, на котором с блокнотом и авторучкой сидела Валя.
— Значит, это уже расследование? Но зачем вы? — недоуменно произнес он и перешел на шепот: — Валя, я прошу вас. Я умоляю… Во имя всего святого, не вмешивайтесь в это дело! Вы даже не представляете себе… Ведь у Понтуса связи, свои люди. Это сила. Если хотите знать, вашему Лочмелю уже грозят крупные неприятности.
— Я обещаю, несмотря ни на что быть объективной…
— Да разве я об этом!
Она сидела, слегка наклонив голову, и он видел её, шею с золотистым завитком и прическу — расчесанные на прямой пробор пепельные волосы, с девичьей старательностью, заплетенные в косы. И Валя показалась ему подростком.
— Я никогда не прощу себе… Мне будет горько, если неприятности затронут и вас.
— Меня или кого-либо другого — это все равно. Мы слишком боимся этих неприятностей…
— Ну хорошо, — отступил от кресла Василий Петрович, — вы имеете основание. Дело я все равно довожу до ЦК. Иного выхода не вижу. И потому извольте… — Он вышел на минуту из кабинета, вернулся со свертком ватмана и уже с холодной жестокостью стал излагать свои мысли.
Побеседовав потом с Шуруповым, Валя решила пойти к Понтусу.
Широко, словно для объятий, расставив руки, тот встретил ее, стоя перед письменным столом.
— А-а, представитель прессы! Прошу, — по-дружески фамильярно приветствовал он Валю. — Голос прессы — голос божий!
Не было сомнения — Понтус искренне доволен Валиным приходом, чему-то радуется и с нескрываемым любопытством разглядывает девушку. Предложив ей снять пальто, он позвонил тут же в буфет и заказал два стакана чаю с лимоном.
— И сладкого чего-нибудь! — крикнул он в телефонную трубку с видом, точно заказывал для Вали счастье, которое было у него наготове, и затем начал шутя расспрашивать о работе в редакции, о личных планах.
Тихо с подносом вошла официантка в маленьком полукруглом фартуке, в кокошнике, похожем на корону, молча поставила на стол чай, пирожные и, бросив на Валю долгий взгляд, исчезла.
Стали говорить о деле.
— Юркевич — оголтелый путаник и потому отстает, — многозначительно произнес Понтус, прихлебывая чай и шаря глазами. — Путаник во всем. Вы понимаете меня?.. Хотя, возможно, это не вина его, а беда. Но что поделаешь… Время перегоняет его. Республика вышла на международную арену. Голоса наших делегатов звучат с трибуны Организации Объединенных Наций. А он упорно не хочет понять, что все это имеет непосредственное отношение к архитектуре, к тому, какой должна стать столица нашей республики. К нам уже приезжают зарубежные делегации, — он явно подсказывал ей тезисы для будущей статьи, — и, естественно, город в какой-то степени мы строим и для них.
— Нет, город мы строим для себя, — почти спокойно возразила Валя, но как дорого, ой, как дорого стоило ей это спокойствие!
— Конечно. Нам тоже нужна красота.
Сдерживаться более Валя не могла.
— Насколько мне известно, — отодвинула она от себя недопитый чай, — Юркевич вовсе не против красоты. Он лишь не хочет, чтобы в ней что-то напоминало потемкинские деревни.
— Да? Вам известно? — с издевательской вежливостью прищурил глаза Понтус. — Я действительно забыл, что вы имели некоторую возможность и были накоротке…
— Вы не смеете сейчас говорить об этом!
— Я номенклатурный работник. Понятно? — уже наседал Понтус. — Я, как старший, считаю необходимым предупредить вас еще и в отношении одного вашего покровителя по редакции.
— Лочмеля?
— Вот-вот. Он слишком любит загребать жар чужими руками.
По готовности Вали возражать Понтус сообразил, что криминал в таком деле не криминал, если ему не придать политической окраски, что обвинение лишь тогда станет весомым, если оно сформулировано политическим языком. И он прибавил:
— Классовая борьба шла, идет и будет идти. И пут, ее не такие простые. Особливо, когда имеешь дело с космополитом или подозрительными элементами из бывшего подполья.
— Как вам не стыдно?!
— Не корчите из себя наивницу. Вы сами отлично знаете, что я правду-матку режу. И если взглянете на себя со стороны, догадаетесь и о мотивах, вынуждающих вас защищать Юркевича… Вам известно, например, что он, коммунист, из-за вас возбудил дело о разводе…
Валя вышла из кабинета не слыша ног. И пока добралась по длинному коридору до лестницы, по которой нужно было спускаться, ей показалось, что минула целая вечность.
За белой штакетной изгородью с красными флажками бурлило людское море. Как и раньше, особенно много людей толпилось возле экспонатов автомобильного, тракторного и велосипедного заводов. Выставка открылась три дня назад, и Валя несколько раз успела побывать здесь. Она приходила сюда и тогда, когда еще только разравнивали и разбивали площадки, строили павильоны, а потом расставляли экспонаты, посыпали дорожки песком, красили некоторые станки и прикрепляли к ним таблички. Валя исписала здесь целый блокнот. Ее умиляло, что все это сделано своими руками, что на серо-зеленых грузовиках и самосвалах красуется эмблема Минского автозавода — могучий, крутолобый зубр, что огненно-красный красавец-трактор носит название "Беларусь", что Минский велозавод выпускает велосипеды не только для взрослых, и его "Ласточек" и "Орлят" хочется потрогать рукой…
Надо было собраться с мыслями, принять решение, и оскорбленную Валю потянуло в этот людской вир. Войдя на территорию выставки, она начала пробираться к площадке, где стояли тракторы.
Мускулистый мужчина в расстегнутой рубашке с закатанными выше локтей рукавами усаживал на сиденье трактора русоволосую девочку, вероятно, дочку, и та несмело хваталась за руль. Вале это сначала показалось излишней вольностью, но, заметив, что девочку фотографирует парень с "Лейкой", она улыбнулась сама. Невдалеке возвышался огромный, двадцатипятитонный самосвал "МАЗ-205". Он чем-то был похож на паровоз. Даже длинный, шестиметровый тягач с полуприцепом выглядел рядом с ним маленьким.
Возле павильона Главпромстроя Валя заметила Лочмеля и обрадовалась: с ним можно было посоветоваться. Боясь потерять его из виду, стала пробираться к нему, хоть ее и толкали, оттесняли в сторону.
Лочмель внимательно разглядывал экспонаты: сборные строительные конструкции, растворонасосы, тачки-полуавтоматы, образцы искусственного мрамора — светло-розового, зеленого, голубого. Валя взяла его за рукав. Он вздрогнул, но, увидев ее, просветлел.
— Какие богатые цвета и оттенки! — с грустью показал он на плиты мрамора, уверенный, что Вале это понравится тоже.
— Богатые, — безразлично повторила она, тяжело вздыхая. — Но это, к сожалению, только выставка, Исаак Яковлевич…
Он внимательно заглянул ей в лицо.
— Давайте сделаем круг и уйдем, — попросила Валя. — Мне нужно поговорить с вами.
Не останавливаясь, они миновали площадку станкостроительных заводов, где, отгороженные красным шнурком, натянутым на редких столбиках, стояли серо-голубые станки самых разных конструкций. На минуту остановились возле стендов коврово-плюшевого комбината. Яркие ковры — набивные и жаккардовые — казалось, горели. Преобладали карминовые, оранжевые краски, и это напоминало бабье лето, золотую осень.
— Как можно было бы хорошо жить, — сказала Валя и подалась назад: среди людей, толпившихся возле небольшой эстрады, где манекенщицы демонстрировали последние фасоны платьев, ей показалось, мелькнула фигура Василия Петровича.
Испуганно схватившись за Лочмеля, Валя почти силой потянула его к выходу.
— Ну, я была там, — взволнованно заговорила она за воротами выставки. — Шурупов — наушник. Какой-то липким и совсем не может смотреть в глаза. Понтус — надутый мистификатор. Он, безусловно, начнет пакостить, строчить поклепы, хоть его причастность к заметкам установить не удалось. Но не об этом речь.
— А о чем же? — чему-то досадуя, удивился Лочмель.
— Я смотрела его проекты.
— Поди ты…
— Дело идет об архитектуре: какими должны быть дома, улицы, наша жизнь!
Доверительно коснувшись ее локтя, Лочмель придержал Валю и пошел, заметнее обычного прихрамывая на протез.
— Нам, газетчикам, нельзя ошибаться, — сказал он печально. — Семь раз примерь — раз отрежь. Это специально для нас придумано. Главное сейчас — оправдать Юркевича, а не обвинить Понтуса… Да и вообще газетчик, видимо, должен больше любить, чем ненавидеть…
Ей захотелось крикнуть ему, что он ничего-ничего не знает. Даже того, что болтают о нем. Он как загипнотизированный. А ведь это только на руку подлецам и карьеристам, развязывает им руки, помогает добиваться своего. Тем более, если у них мертвая хватка… Но слова застряли у нее в горле, и, не дослушав Лочмеля, она рванулась на другую сторону улицы.
— Куда вы? Подождите! — с надрывом крикнул он, ковыляя вслед. — Поймите и меня. Вопрос поставлен уже на партбюро. Дело жены тоже подняли! Это вам говорит что-нибудь? Я ведь космополит, оказывается.
Но Валя уже не слышала его. Да ей и в голову не могло прийти, что над Лочмелем может нависнуть беда и она долго не увидит его…
Она писала до рассвета. "Лочмель — честный работник. Он редко ошибается, — успокаивала она себя, вспоминая разговор с ним, но тут же загоралась снова: — Честный!.. А разве делу от этого есть прок? Разве правда его не обтекаемая? А его самоуничижение, желание, зажмурившись, обойти зло?!."
Иногда в коридоре слышалось шлепанье тапочек — холили соседи. Это напоминало о Вере Антоновне, о Василии Петровиче, и гнев ее уже обрушивался на себя.
Какая близорукость! Нечего обманывать себя — во всем здесь виновата она! Ее отношение к Василию Петровичу с самого начала было недостойным. Чего она добивалась от него? Дружбы? Но кто не знает, что за дружбой девушки с мужчиной неизбежно стоит нечто большее? Так что же ослепило ее? Не та ли наивная бездумность, в которой упрекал когда-то сам Василий Петрович? Не та ли розовая вера — все должно идти и придет к лучшему? Валя мучилась, но писала и писала, хотя одно становилось очевидным — с прошлым надо рвать бесповоротно, напрочь. Так будет лучше ей, а главное — Василию Петровичу.
Глава пятая
Ночи стали холодные, звездные, а дни, наоборот, серенькие, теплые — какими бывают дружной, стремительной весной. Солнца не видно, оно только чувствуется, но вокруг все льется, журчит. На улицах много ласкового рассеянного света. В скверах наклюнулись ночки, пахнет оттаявшей землей и мокрой корою. В лужах купаются взлохмаченные воробьи.
Отблеск этого пробуждения ложится на все — на крыши домов, на кирпичные стены с оконными проемами, сквозь которые видно дымчатое, с перламутровыми просветами небо, на новые желто-восковые и старые, покрашенные еще к октябрьским праздникам строительные заборы. Даже башенные краны напоминают аистов, застывших на одной ноге. К тому же вдруг обнаруживается, что вроде и характеры у них разные. Один стоят или важно поворачиваются с гордо поднятой стрелой; другие деловито смотрят вниз, на дом, который начинает расти под ними, и каждую минуту готовы сделать все, что прикажут; третьи, устало склонив стрелу, ждут только одного — когда можно как следует отдохнуть. Милые железные птицы!..
Василий Петрович; тонко чувствующий красоту городской весны, в этом году был глух к ее звукам и слеп к ее краскам.
Особенно огорчало, что в колотню с Понтусом втягивались все новые люди.
Почти открыто на сторону Понтуса встал Зорин. Это заметили многие, и при нем, чтобы не навлечь грех, избегали даже разговаривать с Василием Петровичем: а вдруг создастся впечатление, что ты блокируешься или секретничаешь с неугодным человеком. Да и сам Зорин при случае и видом и словом подтверждал, что так только оно и воспринимается. А сами многие? Допустив раз-два такое хамство, невольно начинали противостоять Василию Петровичу: им ведь тоже надо было чем-то оправдаться в собственных глазах. Чем? Конечно, одним — прикинуться и заговорить самих себя: ты, дескать, все это делаешь не из-за раболепия, а из-за принципиальности. Куда тянет Юркевич? Конечно, к примитивному утилитаризму. Он против творческого поиска, против того, чтоб была воспета эпоха! Вон на что он замахнулся!
Понтус, со своей стороны, тоже принимал меры. Понимая — сейчас очень важно, чтобы вокруг Василия Петровича росла пустота, он травил строптивых, похвалой завоевывал нейтральных. Главное же, пугая, подводил подо все политическое обвинение…
А тут еще крах семьи.
Нет, затевать развод при таких обстоятельствах было чрезвычайно неразумно. И только он, Василий Петрович, который так и не научился заключать сделку с совестью и часто бросал вызов судьбе, мог пойти на это.
Перед самым входом в здание народного суда он услышал фразу, которая обратила его внимание. Пожилой крестьянин в барашковой шапке, в кожушке и валенках с бахилами, с котомкой через плечо, говорил своему собеседнику:
— Моя, браток, уже хлопцев гукае[3]. Вот оно как…
"Хлопцев гукае", — мысленно повторил Василий Петрович, и ему пришла на память поездка с Валей на озеро, девушка в цветастом платье, вышедшая из бора, ее оклик: "Воло-о-дя" и эхо, которое подхватило его, немного изменив: "Ло-о-дя!" И сразу на мгновение мир предстал перед ним таким, каким был, — полным тайн и радостей пробуждения.
Остановившись на крыльце, Василий Петрович проводил взглядом крестьянина с его собеседником и вошел в коридор суда.
И все-таки важным стало, есть ли в зале заседания знакомые. Василий Петрович приоткрыл дверь и заглянул в зал. На скамьях, стоящих рядами, как в клубе, сидело человек двадцать незнакомых мужчин и женщин. А в дальнем углу, у окна, стояли Вера Антоновна с Юриком.
Она взяла Юру! Зачем? Чтобы мстить или искать примирения? Но разве можно ребенку быть свидетелем того, что должно произойти здесь? Кто и когда сделал ее такой черствой и бесстыдной? Как вообще он мог любить эту женщину?
Становясь жестоким, Василий Петрович сел на свободную скамью и достал из портфеля газету. Но читать не смог, как ни заставлял себя.
Улучив момент, когда за спиной кто-то громко высморкался, Василий Петрович оглянулся и посмотрел в дальний угол. Одетая непривычно просто, в пуховом платке, заколотом булавкой под подбородком, Вера уже сидела на скамье, поникшая, покорная и тихая. Рядом вертелся и болтал ногами Юрик. Он тоже заметил отца и, вероятно, прося разрешения подойти к нему, дергал мать за платок. Василию Петровичу захотелось поговорить с сыном, приголубить его, без вины виноватого и наказанного.
— Юрок, иди сюда, — позвал он так, чтоб было слышно в дальнем углу.
Мальчик вскочил, но Вера придержала его за руку.
Однако через несколько минут Юрик все же подошел, С печальными глазами остановился перед отцом, не зная, что говорить и как держать себя.
— Зачем ты здесь?
— Мам, па… — попытался объяснить он и чуть не заплакал. — Я давно не видел тебя, па…
— Ты, значит, сам просился сюда?..
— Нет, мам…
Было видно — многие из присутствующих узнали Василия Петровича и наблюдают за ним. И все же он, не спавший ночи перед тем, как опубликовать в газете объявление о разводе, забыл обо всем. Прижав к себе сына, припал к его голове щекой.
— Суд идет. Встать! — громко обвестил кто-то, как покачалось Василию Петровичу, над самым ухом.
Он поднялся, однако не выпустил Юру.
Из боковой двери вышла женщина, двое мужчин, и когда сели за накрытый красным сукном стол, стоящий на невысоком помосте, оказалось, что женщина — судья, а мужчины — народные заседатели. Женщина, одетая в строгий, почти мужского покроя костюм, была жгучая брюнетка с молодым свежим лицом. Но потому, что лицо ее выглядело очень свежим, на висках резко приметной была седина. Справа от нее сел грузный лысый старик в гимнастерке с большими накладными карманами, в фиолетовых очках, подчеркивавших старческую бледность лица, на котором застыло страдальческое выражение. Второй мужчина был широкоплечий, усатый. Он тяжело опустился на стул и положил свои большие кулаки на стол, словно говоря этим: "Ну что ж, давайте послушаем". "Этот поймет", — почему-то решил Василий Петрович, и стыд, охвативший его, когда появились судьи, стал проходить. Родилось даже ощущение, что он на самом деле в обычном рабочем клубе, где портреты, лозунги, за столом президиум… Но с ним был Юрик. Мальчик вздрагивал и со страхом смотрел то на отца, то на тех, сидевших за красным столом. Если бы можно было забрать его к себе! Как бы он заботился о нем, как бы предостерегал от ошибок… Но как ты это сделаешь, если вон она, когда-то любимая, а теперь чужая, неистово подает знаки, чтобы сын немедленно возвращался к ней.
Первым рассматривалось дело целой группы проходимцев. Газеты редко печатали судебные хроники, и Василий Петрович, хотя его мучило собственное положение, был поражен тем, что услышал. Занятый работой, он почти и не подозревал о существовании такой стороны жизни. И что особенно было неприятно — эти проходимцы мошенничали, крали, безобразничали, чтобы быть по-твоему счастливыми. Счастливыми за счет других! А он? Не хочет ли он, в сущности, построить свое счастье на несчастье своего ребенка?
Терзаясь, он услышал спокойный голос женщины-судьи, объявившей, что суд переходит к рассмотрению дела о расторжении брака Василия Петровича Юркевича и Веры Антоновны Юркевич.
За окнами потемнело, и в зале зажгли электричество.
Меньше стало людей. После формальностей, которые Василию Петровичу показались бессмысленными, женщина зачитала его заявление. И собственное заявление тоже показалось ему бессмысленным: оно не передавало того, что стояло за ним.
— Возможно, вы, гражданин Юркевич, возьмете свое заявление обратно? — спросила судья, усталым движением руки поправляя темные пышные волосы.
— Зачем? — не сразу понял он и подумал, что ей неловко называть его гражданином, что у нее тоже есть муж, дети и, возможно, она как раз вспомнила о них.
— А что скажете вы?
Вера встала и провела ладонью по лицу, будто снимая с него паутину.
— Моего заявления в суде нет, хотя большого счастья я с мужем никогда не имела.
— Значит, вы до этого мирились — и только? — сердито блеснул фиолетовыми очками старик, но страдальческое выражение его лица не изменилось.
Задал он свой вопрос тем же ехидным тоном, каким разговаривал перед этим с проходимцами, и Василию Петровичу сдалось, что старик и на него смотрит как на подсудимого. "Что дает ему такое право? — подумал Василий Петрович. — Какую статью уголовного кодекса я нарушил? Что за чушь?"
— Он не может упрекнуть меня ни в чем! — с вызовом взглянула на мужа Вера и положила руку на голову сына.
— Вы действительно взвесили все, товарищ Юркевич? — поинтересовался широкоплечий усач.
В заявлении Василий Петрович о многом не писал. Гордость, отвращение не позволили ему сделать этого. Он ссылался на одно — жена была для него попутчиком, а не другом. Она оставила его в тяжелую минуту и, вернувшись совсем чужой, принесла одни страдания. Они опустошают его, не дают ни жить, ни работать. Есть жены-приживалки. Есть и такие, которые считают, что, поспав с мужем, они этим самым заработали и на жизнь и на право распоряжаться всем в семье. Есть жены-соперницы, которые ведут бесконечную войну за все и неизвестно за что. И Василий Петрович доказывал, что та, с которой он жил, впитала в себя понемногу от первой, второй и третьей. Но про свою любовь к Вале и измену жены он умолчал… И вот ее странное восклицание. Ему стало ясно, для чего взяла Вера с собой Юрика. Зная характер мужа, она надеялась, что этим заставит его молчать об этом и дальше.
— Да, взвесил, — ответил Василий Петрович, глядя все время на женщину-судью, словно оправдываясь перед нею одной. — Я, понятно, тоже виноват. Но если бы люди знали, как и с чего начинаются их несчастья! Они, наверно, принимали бы меры. Но нужно ли было бы их принимать?..
— А не можете ли вы поконкретнее? — прервал его старик.
— Мне кажется, я говорю понятно, По-моему, семья развалилась и лучше всего покончить с ней.
— Почему? — блеснул фиолетовыми очками старик и, желая лучше расслышать ответ, приложил руку к уху.
— Потому, что она отравляет жизнь, не дает быть честным…
— Вы почему-то упорно не хотите говорить с судом открыто.
Василий Петрович перевел взгляд на усача, который сидел, подперев висок кулаком, и, не найдя в нем сочувствия, умоляюще взглянул на судью.
— Вам мешает сын?
Вера вскочила со скамьи и, взяв Юрика за руку, заставила встать и его. Бледная, с гримасой презрения на лице, она выкрикнула деревянным, не своим голосом:
— Я не имею ничего против! Он тоже опостылел мне, и я ненавижу его. Я даю ему полную свободу!..
Из здания суда он вышел, шатаясь, как пьяный. Про шел несколько кварталов и только тогда с удивлением заметил, что идет куда надо. На улице уже горели фонари. Тротуары по-вечернему были многолюдны. На углу проспекта и Комсомольской, где теперь возвышался пятиэтажный дом с полубашней и городскими часами, он, холодея, увидел Валю. Она шла с незнакомыми ему парнями. Парни смеялись, а она в знак согласия кивала головой. Поравнявшись с Василием Петровичем, Валя устремила взгляд вперед и прошла мимо, словно не замечая.
А вокруг царила весна. И хотя небо, как все последние ночи, было чистое и звездное, где-то хлюпало, капало и журчало.
Теперь осталось только ждать и работать.
Областной суд расторгнул брак, и Вера категорически запретила Насилию Петровичу встречаться с сыном. Чтоб не терзать сердце ребенка, Василий Петрович послушался и, опасаясь натолкнуться на Юрика случайно, старался обходить гостиницу. Но, услышав, что Вера уезжает в Москву, все же поехал на вокзал проститься. Прохаживаясь между мраморными колоннами вестибюля, он, однако, так и не решился подойти к Вере и Юрику, которые до прихода поезда коротали время в зале ожидания. Возле них стояли знакомые чемоданы в парусиновых, с красной окантовкой чехлах. Юрик дважды бегал к буфету пить газированную воду с сиропом, и все это почему-то вызывало у Василия Петровича боль.
Он, возможно, вообще не подошел бы, не появись возле них Понтус. Поцеловав Вере руку и похлопав Юру по спине, Понтус стал что-то горячо говорить. В этот момент диктор усталым голосом, в мое, объявил по радио, что поезд Вильнюс — Москва будет стоять на первом пути. Купив перронный билет, Василий Петрович вместе с пассажирами вышел на платформу. Вера и сын стояли уже в очереди у вагона. Возле них, с чемоданами у ног, был и Понту". Подогретый его присутствием, Василий Петрович подошел к сыну, взял его за руку и молча отвел в сторону. Он выглядел очень решительным, и Вера не посмела возразить, а только демонстративно повернулась к Понтусу и заговорила с ним, будто ничего не случилось.
Когда поезд ушел и Василий Петрович направился домой, на Привокзальной площади его неожиданно догнал Понтус.
Что на это толкнуло его, опытного и расчетливого? Порыв? Почувствованная заново опасность, которая тянет к себе, как глубина? Мысли, что сейчас, когда уехала Вера, примирение стало более возможном? Ставка на идеализм и наивность противника? Беззастенчивое желание проверить его нервы и последние намерения? А может быть, тупая убежденность, что припугнуть и предупредить никогда не вредно?..
— Послушайте, — сказал он, немного забегая вперед, — я давно хотел поговорить с вами тет-а-тет. Давайте будем мужчинами! Дело ведь прошлое.
— Почему? — вопросом ответил Василий Петрович, не останавливаясь.
— Теперь нам нечего делить.
— Кто это вам сказал?
— Вы поставили себя в тяжелое положение. На что вы еще надеетесь?
— На правду.
— И это после всего?
— Вот именно! — уже не выдержал Василий Петрович и почувствовал, что если Понтус не отстанет, он кинется на него с кулаками или совершит какую-нибудь другую глупость.
Это как-то передалось Понтусу. Он брезгливо сморщился и с видом человека, вольного в своих действиях, круто повернул к ожидавшей его машине.
Имел Василий Петрович разговор и с Валей.
Питался он теперь в столовых. Чаще всего ходил в буфет горсовета, где можно было пообедать. Буфет неплохо снабжали, его посещало не очень много людей. Василий Петрович даже облюбовал себе место — в углу, возле широколистого фикуса со срезанной верхушкой. Он чем-то нравился, да и стол в углу часто оставался свободным. В этот раз Василий Петрович, как и обычно, сидел и читал газету, а когда отложил ее в сторону и взялся за ложку — официантка принесла блюдо, — вдруг напротив увидел Валю. Открыв сумочку, та копалась в ней.
Он ждал, что Валя смутится или, во всяком случае, удивится. Но она торопливо положила обратно блокнотик, вынутый было из сумочки, и поздоровалась с ним как с человеком, с которым встречалась часто, но случайно.
— Вы тут обедаете? — повесила она сумочку на спинку стула.
Буфет был в цокольном этаже. Свет скупо проникал сюда, и здесь всегда горело электричество.
Свет золотил пепельные Валины волосы и мягко оттенял ее лицо. Кругом слышался гомон. За буфетной стойкой у кассы, урчавшей при каждом повороте ручки, в вышитой блузке, и кружевном кокошнике стояла буфетчица. На застекленных полках были выставлены бутылки шампанского с серебристыми головками, коробки конфет, пачки папирос, круглые банки халвы, плитки шоколада. И это также как бы отбрасывало на Валю свой отблеск. А возможно, все это было просто фантазией Василия Петровича — поэта в душе, человека не особенно удачливого, но жадного в стремлении открывать красоту.
Он никогда наедине не сидел за одним столом с Валей. Его многие не поймут, но мужчины, которым перевалило за сорок, наверное, разделят его чувство — на Василия Петровича повеяло семейным уютом.
— Говорят, тут вкусно готовят и нет очередей. Правда? — спросила Валя. — Мне очень удобно сюда ходить, совсем рядом.
— Я давно собирался поблагодарить вас за статью, — сказал Василий Петрович.
Его слова испугали Валю. Испугали тем, что она вдруг не выдержит и он догадается о ее решении — собою заслонить его, взять ответственность за добрые отношения с Лочмелем на одну себя и доказать этим, что Василий Петрович здесь ни при чем, что никаких близких отношений у нее с Василием Петровичем нет и не было. Они совсем чужие люди. И если надо взыскивать, то только с нее.
Но как это сделать, если Василий Петрович разгадает ее игру? Разве он согласится на это? Разве в обиде и ярости не совершит глупостей, какие будут на руку Понтусу и его друзьям… Нет, нет! Пусть лучше уже думает, что она отвернулась от него в тяжелую минуту. Может быть, когда-нибудь и поймет…
— Но статью ведь не напечатали, — как о чем-то незначительном сказала она.
— Зато переслали в ЦК. А это тоже важно.
— Мне нравится тут у вас. Смотрите, несут и мне, — не дав ему продолжать разговор, показала Валя на официантку, выходившую с подносом из кухонной двери.
Ничто ни Валина враждебность, ни ее возмущение или гнев — не поразили бы так Василия Петровича, как это легкое, как казалось ему, безразличие. "Значит, конец, — подумал он. — Неужели конец?.."
Оставалось только одно — работа.
Город рос, хорошел, и Василию Петровичу сдавалось, что вот-вот, еще немного усилий, выдержки — и тогда можно будет с облегчением вздохнуть. Тебя поймут, и происки недругов станут не страшными — на них можно будет смотреть с высоты достижений. Может быть, поймет и Валя. Только скорее, как можно скорее надо достигнуть этой заветной черты, за которой начнется подлинное творчество, а значит, несмотря ни на что, — и счастье. И хоть он, Василий Петрович, неуклюж и неловок во многом, оно обязательно придет. Только необходимо сделать еще это и это. Не может же так вечно длиться… И Василий Петрович торопился, беря под личный контроль даже стройки.
Но иногда ему становилось жутко. А что если обстоятельства окажутся сильнее его? Тогда и сделанное пойдет насмарку, прахом. Вместо тебя появится какой-нибудь дядя и, глумясь, доказывая, что ты и замыслы твои — ничто, начнет переделывать все по-своему. Он непременно станет так делать уже потому, что ему нужно будет утвердить себя. Потому, что — уж так повелось! — всякое утверждение начинается с отрицания предшественника, который потерпел поражение…
Поднимаясь по сходням, Василий Петрович всегда чувствовал беспокойство. Они казались ему ненадежными, как и наспех сделанные перила, за которые приходилось держаться. Само сознание, что под ногами шаткие доски, было неприятно. Не любил он и смотреть с высоты, боялся ее: глубина тянула, как магнитом. И когда Алешка влез на стену, повернулся спиной к улице, развернул папку и стал объяснять, как, идут работы, Василий Петрович попросил:
— Слезьте, пожалуйста, слезьте…
Алешка иронически промолчал, прошелся туда-сюда по стене и неожиданно захохотал:
— Мы привычны, товарищ архитектор, наши кабинеты на лесах!
Думая о своем преемнике-победителе, Василий Петрович подошел к стене и глянул вниз. На земле хлопотали рабочие. Их движения и сами они показались ему неуклюжими: тот, кто шел, как-то в сторону выбрасывал ноги, а кто работал стоя, смешно взмахивал руками.
— Слезьте, я прошу вас, — повторил он, с удивлением догадываясь, что Алешка хочет поиздеваться над ним: "И этот туда же…"
Алешка через плечо тоже взглянул вниз и, словно выполняя спортивное упражнение, стал приседать на одной ноге, вытянув вперед руки с папкою.
— Прекратите комедию! — не веря уже в силу своих слов, возмутился Василий Петрович.
Алешка соскочил на подмостки и с поднятой головою стал перед ним.
— А чего, собственно говоря, вы кричите на меня? — огрызнулся он, не скрывая своей враждебности. Смуглое лицо его посерело, стало нездоровым, какое бывает у загорелых людей в туманные дни. — Здесь не ваша вотчина, а я вам не Валька какая-нибудь.
— Вы говорите глупости, — опешил Василий Петрович. — Как я могу кричать на Верас? Да и при чем тут она?
— Мы, море широкое, не младенцы, — ухмыльнулся Алешка, — знаем… И если хотите, я еще кое-что скажу вам. Все равно тут никого нет. Мне когда-то встретиться с вами хотелось без свидетелей. Я даже по улицам ходил. Но не встретились. То вас не было, то я был трезвый.
Слова о Вале всегда действовали на Василия Петровича. Слова же Алешки просто поразили его. Однако он даже не обратил внимания на их оскорбительный смысл. Сейчас это не имело значения. Важно было иное — Алешка открыто заговорил о своей былой, а может быть, и теперешней любви к Вале.
— Вы опоздали ревновать, — нашел в себе силы признаться Василий Петрович. — Поздно.
— Ой ли?!. А впрочем, и любить-то ее не за что. Думаете, чистота в ней есть? Мура. Манежится, манерничает. Выдумал ее кто-то, а она подслушала, как выдумывали, и играет себя такой. Покойница-мать и та плечами пожимала, хоть и молилась, как на невидаль. Обидно аж!
Он раскрыл папку и тут же, что-то преодолев в себе, резким движением снова закрыл ее.
— Давайте лучше про работу говорить, пока охоту не отшибло. Все одно дело давнее…
Подошел Алексей, поздоровался. Увидев, что они молчат, иронически заговорил сам:
— У меня к вам, товарищ Юркевич, вопрос есть. Вот вы проектируете дома, а мы их строим. Но почему вы не думаете про нас? Я, скажем, кладу стены, и у меня, понятно, своя задача. Но мы имеем в виду и штукатуров, которые после нас будут работать. Делаем так, чтоб им было тоже удобно. Иначе в круглую сумму влетает.
Прохрипел сигнал башенного крапа. Кран гордо тронулся с места, и стрела его начала медленно поворачиваться. Контейнеры с кирпичом поплыли в воздухе, описывая красивую дугу.
— У людей, кроме общих, есть еще и свои интересы, Алексей, — ответил Василий Петрович, наблюдая за стрелой и думая о Вале.
Нет, он не мог, как Алешка, отказаться от нее, не мог и забыть о ней. Валин образ жил в нем, мучил, помогал и мешал жить. Теперь уже вздорными показались ему собственные мысли о неразделенной любви в тот метельный вечер, когда они с Валей возвращались с предвыборного собрания. Любить можно и издалека! Можно даже не встречаться с любимой и вообще не видеть ее, только знать бы, что она есть, живет, что когда-нибудь ты ее вдруг увидишь, вдруг с ней встретишься. Она роднит тебя с окружающим миром, благодаря ей ты лучше чувствуешь его красу. Мир обеднел бы, погасни зорька Венера, хотя она никого не греет и нисколько не прибавляет света на Земле. Да и жить стало бы труднее, погасни она… Любовь уже сама по себе — счастье. Бедный тот человек, который не любит или любит без трепета, без того, чтобы быть готовым пойти на все, на самые тяжелые испытания. Высшее счастье как раз, может, и заключается в самоотречении, в служении великому…
Проверив, нет ли отклонений от проекта и не нарушены ли технические нормы, не заметив какого-то особого хитро-торжествующего настроения Алексея, Василий Петрович ушел со стройки взволнованным. Шагал быстро, размахивая портфелем и не выбирая дорогу посуше. В другое время он обязательно остановился бы у пустыря, где разбивали сквер, постоял бы, посмотрел. Тем более, что это, безусловно, был субботник и работали служащие какого-то учреждения: очень уж пестрой была их одежда, суетливы движения, много шума и мало порядка. Но сейчас, когда, как казалось, перед ним открылся новый выход и жизнь приобрела новый смысл, его неудержимо влекло куда-то. Возбужденному человеку, как известно, легче думать на ходу.
Когда он пришел к себе в управление, секретарша, словно по секрету, — а так она сообщала только о важном, — передала ему, что звонили из ЦК и просили завтра в четыре ноль-ноль быть у Кондратенко.
В этом не было необыкновенного — в ЦК готовилось решение о строительстве и благоустройстве Минска, — но Василий Петрович заметил тревогу в глазах секретарши. "Значит, наконец мое дело", — смутился он и посчитал нужным успокоить ее:
— Ничего, Нина Семеновна, все к лучшему. Поверьте мне…
Но, кто знает, скорее всего он успокаивал самого себя, потому что на ум пришел Зорин и события последних дней. Кроме того, было ясно: только там может быть утверждена его победа или поражение. Только там решались подобные конфликты.
Василий Петрович вошел в кабинет Кондратенко и удивился: там сидели Понтус, Зимчук и Алексей Урбанович. "Понтус и Зимчук — понятно, но почему Урбанович?" — удивляясь все больше, подумал Василий Петрович и, чтобы не здороваться с начальником управления за руку, отвесил общий поклон.
Кондратенко разговаривал с Алексеем и, не прерывая беседы, отошел ближе к письменному столу — не захотел стоять спиной к Василию Петровичу.
— Вы говорите, экономить можно и нужно? — спрашивал он, посасывая свою трубку и присматриваясь к Алексею. — Экономить ради других?
— Конечно, — взмахнул тот руками, которые до этого напряженно держал на коленях. — Ты кладешь стену и не выдерживаешь вертикали. Штукатуру же тогда, чтоб выровнять ее, надо в два раза больше покрутиться и раствора потратить. Опять же, если заводы нестандартный кирпич поставляют, кривой, разных размеров…
Понтус сидел и молчал, он, кажется, даже не видел, что было перед ним. Но Василий Петрович чувствовал, каких усилии стоит ему это оцепенение. Поредевшая прядь волос, скрывавшая его лысину, будто прилипла к ней. На висках морщинилась дряблая кожа, лицо обрюзгло, помертвело. Лишь пальцы на правой, руке, которые все время шевелились, точно что-то сжимая, свидетельствовали — он старается быть прежним.
О, как ненавидел его Василий Петрович! Его выдержка, сноровка просто мерзили ему. Он себя не пожалел бы, только вывести его на чистую воду.
— Мы сэкономили бы еще больше, — продолжал Алексей. — А то мыслимо ли: выдумываешь, вертишься колесом, а наткнулся на какие-нибудь архитектурные выбрыки — и стоп машина. По рукам и ногам связывают. Неужто тут согласовать нельзя?
— Это вы у архитекторов спросите, — усмехнулся Кондратенко, садясь за письменный стол.
Все сразу стали официальными, как на совещании. Кондратенко заметил это и снова встал из-за стола.
— Ну, — обратился он к Понтусу, — ответьте, пожалуйста.
— Архитектура — искусство, — произнес тот осипшим голосом, однако многозначительно морща переносицу.
— Но эти произведения искусства делают они, — сказал Зимчук, показывая на Алексея. — В них живут люди!
— Но архитектурные творения все равно остаются художественными…
— А вы как думаете? — повернулся Кондратенко к Василию Петровичу.
— По-моему, — начиная разгадывать новый маневр Понтуса, ответил тот, — общие фразы всегда остаются фразами.
— Если ими только не называть убеждения, — не моргнул глазом Понтус.
Он явно напяливал на себя тогу борца за идею. Это было выгодно во всех случаях: при победе поднимало его на еще более высокий пьедестал, при поражении — сводило вину к теоретическим ошибкам. Человек попал в плен идеи, увлекся, ну и… Получалось, что такого человека надо наказывать — если только стоит наказывать — за его неосмотрительное увлечение. С другой стороны, он как бы подчеркивал этим, что его мнение не только его, а вырастает ил незыблемых освещенных практикой мнений, поднимать руку на которые могут только безответственные люди, если не хуже.
— Я попросил бы Юркевича ответить, — добавил Понтус, словно все, что говорил тот, не касалось его, — как он относится к проектам, отмеченным премиями.
— Как? — поднялся Василий Петрович, забывая об этикете (ему все становилось нипочем). — Я, к сожалению, тоже во многом виноват…
— Вот и наберитесь мужества рассказать о себе. О том, как путали и петляли.
Понтус тоже осмелился было встать, но спохватился и по-прежнему окаменел в почтительной позе. Ему важно было захватить инициативу, чтоб самому направлять спор, ничем не выдавая, как холодеет, дрожит и ноет нутро.
Однако Кондратенко разгадал его намерение и состояние.
— Я ознакомился с вашими, Илья Гаврилович, проектами и докладной, — сказал он, поправляя ногой дорожку.
Понтус немного оживился.
— Я не считаю свои проекты невесть чем.
— Это уже обнадеживает, — пыхнул трубкой Кондратенко. — Но дело тут серьезнее. Ваша красота слишком, не в ладах со многим. Она, видите ли, мешает людям бороться за такую хорошую вещь, как экономия.
— Вот-вот! — горячо поддержал Алексей.
— Она не в ладах с пользой, с современными формами организации труда на стройках. Это значит — мешает дышать. Так какая же это красота?
Лицо Кондратенко наливалось гневом. Василий Петрович удивленно взглянул на него и невольно отступил на шаг. Он ожидал, что этот гнев сейчас обрушится, и на него. Но ни страха, ни отвратительной слабости не почувствовал. "Пусть, пусть, — с каким-то мстительным чувством, адресованным себе, подумал он. — Важно, что Понтус, кажется, уже не выкрутится тоже…" Лицо Кондратенко еще пылало возмущением, когда он повернулся к Василию Петровичу.
— Легче понять человека, — сказал он немного спокойнее, — который вернувшись в родной город, ужаснулся от того, что увидел, а потом загорелся: страна предложила ему построить город заново. Как его строить? Безусловно — чтобы он стал краше и куда лучше, чем прежде. Ибо раньше у него не было и подвига, равного тому, что совершил он в войну. Город должен как бы стать памятником славы своей и народной. И — что там труд, что там расходы! Разве можно их жалеть ради этого? Правда, люди ютятся в подвалах, в землянках. Не хватает ни света, ни воды. Но разве привыкать нашим людям к трудностям. Переживут, выдержат. Зато потом!.. Но человек не учел одной вещи: коль уж возвеличивать прошлое, то возвеличивать его не в камне, а в счастье живых…
Не было сомнений, Кондратенко говорил о нем, Василии Петровиче! Именно отсюда начинались его мытарства и сомнения. Но через горечь осознания этого пробивалась и радость: он все же шел к истине — живой, очевидной и мудрой в своей простоте.
— Это правда, — признался Василий Петрович.
Он не боялся сейчас показаться нескромным, не стеснялся своей радости из-за того, что опасность, скорей всего, миновала и он по-прежнему сможет служить тому, чему служил.
— Интересно было бы посмотреть, что делается в других городах, — подсказал Зимчук, понимая, что вопрос еще не решен.
— Это резонно, — согласился Кондратенко.
— К слову, скоро в Сталинград едут наши строители.
— Тем лучше…
Вышел Василий Петрович из кабинета вместе с Алексеем. Спускаясь по лестнице, толкал его плечом, шагал рядом, без обычной неловкости. Получалось очень интересно: их споры между собой ударили по третьему, а они сами очутились как бы в одном лагере.
На крыльце здания ЦК он рассмеялся и пожал локоть Урбановича:
— Вишь, как может все обернуться, Алексей? Как силы перераспределились. Странно даже…
На углу разбирали небольшой кирпичный дом, где еще вчера помещались бюро пропусков ЦК и правление Красного Креста. Крыша и потолок уже были разобраны, и годные остатки их грузили на машину. Рядом стоял и урчал экскаватор. Когда машины отъехали, он поднял стрелу и бросил ее под фундамент. Потом напрягся, заскрежетал зубчатым ковшом по кирпичу, и стена, наклонившись, начала валиться. Но как она упала, ни Василий Петрович, ни Алексей не увидели — это скрыла рыжая клубящаяся пыль, словно взметенная взрывом.
Глава шестая
Пришлось отказаться от привычного портфеля и взять чемодан. Поездка должна была занять дней девять: шесть — на дорогу и три-четыре — на осмотр города, на встречи со сталинградскими архитекторами. Кроме личных вещей надо было захватить альбомы с фотоснимками Минска и некоторые материалы, необходимые для заключения соцдоговора.
Поездка обещала быть интересной. Василии Петрович побывает в городе, овеянном славой. Он познакомится с новыми людьми, с их работой, планами. Сможет многое сопоставить. Хорошо и то, что едет он со строителями, будет ходить с ними на стройки. Когда-то ему тоже казалось, что между людьми разных профессий существует непримиримость. Непримиримы шоферы и автоинспекторы, хирурги и терапевты, архитекторы и строители. А разве это неизбежно? Нет, согласие может быть, только необходимо отбросить профессиональные предрассудки, подняться над ними.
Ведь цель у всех одна. Человеку надо быть универсальным. Шофер должен уметь поставить себя на место автоинспектора, хирург — терапевта. Тогда люди меньше ошибались бы, лучше работали. Служили бы не себе, не своей профессии, а народу. И он, Василий Петрович, будет последовательным в этом… А Волга! Он увидит ее, могучую. Говорят, шальные ливни и те бессильны поднять ее уровень на какой-нибудь миллиметр!
Состав делегации строителей Василий Петрович знал. В Сталинград ехали Урбанович, Прибытков, штукатур Зуев, главный инженер первого треста и представитель БРК профсоюзов. Кто, интересно, попадет в его купе кроме Дымка? Хорошо, если кто-нибудь поспокойнее и посолиднее. Дорога — путешествие в новое. Нигде человек так много не впитывает в себя, как в дороге. Пусть только у тебя будет жадное сердце и что-то накопленное раньше…
Встретившись с Дымком на перроне, Василий Петрович, возбужденный, вошел в вагон. Боком стал пробираться по узкому коридору, неся перед собой чемодан, перекинутый через плечо пыльник и не совсем охотно пропуская тех, кто провожал знакомых и теперь торопился выйти.
Их купе, как оказалось, было последним. Василий Петрович прошел в конец вагона и с любопытством заглянул в приоткрытую дверь. Но то, что он увидел, заставило его поставить чемодан на пол: у столика, в полуоборот к окну стояла Валя, а на полке справа сидел бородатый Прибытков. Валя тянулась к окну и кому-то улыбалась, отчего губы ее приоткрылись и стали видны ровные белые зубы, которые он так любил. Да и вся она, с упрямым лбом, розовым маленьким ухом, с густыми, завязанными в узел волосами, в легком дорожном платье, показалась ему особенной — такой, какими бывают влюбленные. Василию Петровичу захотелось увидеть, кому она так улыбается. Но для этого надо было стать обок, коснуться ее, возможно, испугать…
Дымок, догадавшись, что творится с другом, сам внес вещи в купе, взял из его рук шляпу, пыльник и куда-то их спрятал. Потом стал знакомиться с Прибытковым.
Слова Дымка обратили на себя внимание Вали. Она махнула рукой в окно и повернулась. И опять девушка показалась необычной. Но что-то и усиливало это впечатление. Василий Петрович подумал об этом и догадался: на Валиной груди был прикреплен орден Красного Знамени.
— Я с вами спецкором, — объяснила Валя, протягивая руку, обтянутую узкой манжеткой у самого запястья. — Помог кто-то, и вот послали…
Молодо загудел паровоз. Лязгнули буфера, и поезд плавно тронулся с места. По второму пути проходил встречный товарный, отчаянно грохоча на стыках рельсов. Сквозь открытую дверь и окно в коридоре Василий Петрович увидел стремительные красные вагоны, и ему показалось, что движутся только они, а их поезд, как и раньше, стоит. Василий Петрович перевел взгляд на Валю. Она все еще тянулась к окну. Мимо проплыло здание вокзала. Но впечатление, что поезд стоит, не пропадало: отплывал вокзал, а поезд стоял.
С этого момента Василий Петрович потерял обычное ощущение реального. Он сознавал, что происходило вокруг него, даже следил за этим, но, как глухой, не все понимал. Пришла проводница, постлала на верхней полке постель, и Прибытков, кряхтя, полез туда и сразу повернулся лицом к стене. Василий Петрович замечал вообще все, что делал Прибытков, — и как раздевался, и как залазил на полку, и как кряхтел, даже заметил, что у него волосатая грудь, — но никак не мог понять, как Прибытков мог все это делать именно теперь. Опять пришла проводница, принесла два стакана чаю в латунных подстаканниках, пачку печенья в прозрачном целлофане, и Дымок сразу же стал вытаскивать из своего чемодана завернутые в газету пакетики. Пригласил отведать Василия Петровича и Валю домашней снеди, а когда те отказались, не спеша, с аппетитом принялся уничтожать вкусноту сам. Этого Василий Петрович тоже не мог понять, хотя Дымок и объяснял: "Я в дороге ем, как вол, до отвала".
Потом в купе заявился Алексей Урбанович и предложил сыграть в карты. Все согласились. Дымок и Алексей положили на колени чемодан. Василий Петрович взялся раздавать карты. Карты были необыкновенные, валеты казались похожими на королей, и Василий Петрович часто ошибался. Это смешило Валю, чьим партнером он был, и радовало Алексея, который сильно лупил картами по чемодану, несколько раз ударил пальцами по его краю и после этого смешно дул на руку. Но тут же опять загорался азартом и бесконечно выкрикивал одно и то же: "Сейчас вы будете иметь бледный вид!", "Мазилы!", "Разрешите проверить ваши документы!".
Щелкнуло в репродукторе, скрытом в подставке настольной лампы. Диктор, поздоровавшись, строго сказал:
— Граждане пассажиры, вагон — ваше временное жилье…
Эти слова и музыка, вдруг наполнившая купе, заставили Василия Петровича спохватиться. Тронули не строгая дикторская доброжелательность, не бравурный марш и не слова "ваше жилье", а определение "временное". Да, все это временное. Есть и скоро минет.
— Довольно, товарищи, — сказал он и, как его ни уговаривали, отодвинулся в угол. Раздвинув оранжевые занавески, печально стал смотреть в окно.
Под однообразный стук колес за окном проносилось знакомое с детства: непрерывная лента подстриженных елок и телеграфные столбы, отбегавшие, будто оглядываясь. Они то поднимались, то опускались вровень с насыпью, и проволока их линовала то небо, то зеленую елочную изгородь. Иногда изгородь обрывалась, и тогда открывался простор — холмистое поле, зеленый луг с ручьем, обросшим лозняком, далекий и близкий лес.
— Приедем в Сталинград, — говорил Дымок, — поклонюсь ему и прежде всего похожу по улицам. Посмотрю, постараюсь понять. Так?.. Рассказывают, что после боев там долго не было ни галок, ни воробьев. Птицы покинули город! Вы представляете?
— Ага, — подтвердила Валя.
— Люди, восстанавливающие тракторный, жили в палатках перед заводскими воротами. Но спали чаще там, где работали. Зимними холодами и наспех выстроенных цехах раскладывали костры. Они горели днем и ночью. Из-за копоти и дыма почти не было видно электрических лампочек. Так?.. На восстановительные работы в цехи "Красного Октября" — есть там такой металлургический гигант — ходили по тропинкам, обозначенным флажками, потому что все вокруг было заминировано. Вы представляете?
Василий Петрович не выдержал и взглянул на Валю. Она сидела, зажав сложенные лодочкой руки между коленями.
— Как все это можно назвать? — после некоторого молчания спросила она, широко раскрыв глаза.
— Не знаю, — задумчиво ответил Дымок.
— Так и назвать, — неопределенно шевельнул пальцами Алексей. — Разве важно, как назвать? А? Важно, что сделали и еще сделаем.
"В самом деле, как назвать? — думал Василий Петрович, когда в полночь, выключив свет, все улеглись спать. — Очевидно, подвигом народа на его нелегком пути к счастью".
Похрапывал Прибытков, неслышно спал Дымок, и ровно, спокойно дышала совсем близко Валя, А он, как ни пытался, никак не мог заснуть, все думал и думал…
Утром его разбудил Прибытков. Умытый и старательно причесанный, он выглядел торжественно. Дымок и Валя стояли уже возле окна.
— Скоро Бородинское поле, — сообщил Прибытков. — Может, это самое, интересуетесь. Вот сейчас. За тем кустарником, — и показал пальцем в окно.
Василий Петрович поднялся и стал позади Дымка, опершись о его плечи. Бородинское поле он видел не раз и сразу нашел знаменитый памятник. Залитый еще косыми лучами солнца, на зеленом холмике отчетливо вырисовывался постамент с орлом. Орел взмахнул крыльями и как бы застыл в полете. А за ним, далеко, в сизой дымке, синел лес и розовело небо.
Валя была подготовлена к тому, что может увидеть. Но Сталинград все равно поразил ее — разрушениями, размахом строительных работ, своей неповторимостью. История здесь напоминала о себе на каждом шагу. Руины и те были особенные. В Минске они возвышались, как останки, уцелевшие после взрывов и огня. Стояло здание — попала бомба, и то, что не могла разбросать, поднять в воздух, осталось каменеть, отданное на милость дождям, ветру и времени. Тут же руины, как и люди, стояли насмерть, до последнего. Самой невероятной формы, они были изрешечены — пуля в пулю, осколок в осколок. История витала над площадью Павших борцов, над грозным валом Обороны, который теперь был отмечен танковыми башнями на массивных постаментах, шагающих от Волги к Мамаеву кургану.
Опаленный солнцем и горячим дыханием близкой степи, город жил своей будничной жизнью. На углах женщины в белом продавали "газводу". Не уступая дороги машинам, по улицам вышагивали верблюды. Около Центрального, по-восточному шумного рынка крутились запыленные карусели. От Волги долетали гудки пароходов. Не останавливаясь на станции, проносились составы с сизыми, как лесные голуби, тракторами на платформах. Из бесчисленных заводских труб к жгучему солнцу тянулись черные, желтые, голубые дымы… Но и это Вале казалось значительным, необычным. Ей хотелось как можно больше запомнить. Она фотографировала исторические места, мемориальные доски, записывала названия улиц, фамилии людей, с которыми встречалась, рассказы Алеси Зимчук, у которой поселилась, хотя остальные остановились в гостинице "Интурист", пока единственной в городе.
Первое, что привлекло внимание Вали, когда она знакомилась с Алесей, была ее сдержанность. Вернее, состояние уставшего человека, которого не покидает какая-то мысль. Она делала ее движения замедленными, светилась на энергичном худощавом лице, в красивых глазах. И знакомилась ли она с Валей, слушала ли ее или разговаривала по телефону, мысль, которая была далеко от всего этого, сновала и сновала.
Говорила она о себе неохотно, плохо помнила цифры, даты, так необходимые Вале, иногда даже путала название улицы, где по ее проекту должен был строиться дом. И только ночью, когда они легли в постель, почувствовали тепло друг друга, Алеся вдруг стала словоохотливой. Но заговорила она не о городе, не о своей работе, а об отце.
— Папа мне пишет все, — начала она не по возрасту наивно. — Он хороший и со мной более откровенен, чем с мамой. Думает, что она может и не понять его, а я пойму…
— Узнаю Ивана Матвеевича…
— Ты часто бываешь у наших? — встрепенулась Алеся.
— Как-то не приходится.
— Но все-таки видела череп на этажерке?
— Конечно.
— Это я нашла его во время поездки в Бухару… Однако я хотела сказать не о том. Ты, наверно, обижаешься на наших? Не надо. Папа хочет быть добрым, но обстоятельства не всегда позволяют ему…
Она обняла Валю и поцеловала. Валя не повернулась, когда та сжала ее в объятиях, и поцелуй пришелся в ухо. В ухе зазвенело.
— Папа писал и о Юркевиче. Хороший он. Его поездка — тоже не так просто, а предупреждение для кое-кого… Но до полного одобрения еще ого-го!..
Свернувшись калачиком, Валя промолчала и показалась себе маленькой, беспомощной. А Алеся все говорила, бередя душу и пугая.
Назавтра делегацию повели по новостройкам. Объяснения давали Алеся Зимчук и инженер Рыбаков, когда-то приезжавший в Минск. Осмотрели большой строительный комплекс по Саратовской улице, здание областной партшколы на площади Павших борцов, выдержанное в простых, ясных формах. На нем словно отражались прошлое города и его будущее. Первые этажи были сдержанными, почти суровыми и напоминали цитадель. Но выше — линии постепенно приобретали легкость. А лепные детали, красивый карниз и ажурный парапет уже вызывали ощущение взлета.
Валя опять фотографировала, записывала, но старалась держаться подальше от Василия Петровича и как можно ближе к Алексею и Прибыткову. Страх, разбуженный Алесей, жил в ней, рос, и она как бы искала защиты у товарищей. Когда переходили от одного строительного объекта к другому, Валя брала Алексея под руку, делала вид, что занята разговором с ним, и пыталась не замечать брошенных ненароком взглядов Василия Петровича. Алеся же, наоборот, делала все, чтобы они очутились вместе, стараясь завязать общий разговор.
Около трех часов она предложила съездить на Бакалду, за Волгу. На небе не было ни облачка. Солнце пекло нещадно. Под его лучами в скверах завяли цветы, сузились листья канадского клена, воробьи на дорожках не прыгали, а как-то бочком подскакивали с раскрытыми клювами. Всем надоело пить газированную воду, все обливались потом, и Алексей не раз выкручивал свой платок, а потом, держа его за уголок, нёс в руках, чтобы просох. Потому охотно согласились перенести значившийся в распорядке дня поход на Мамаев курган на завтра.
Привольная Волга текла плавно, величественно, и Валя подумала, что в этой величественной медлительности и таится, видимо, ее прелесть. Необъятный плес Волги поблескивал, но не переливался, не сверкал, а словно остекленел в стремительном беге. Далеко, почти на середине, уже сдаваясь игрушечным, черный, как жук, буксир тянул длинную ленту плотов. В разных направлениях скользили лодки. Развернувшись, к пристани подходил белоснежный пароход.
Спустились к пристани, купили билеты и быстро зашагали к — пароходику, который должен был вот-вот отчалить. И опять, когда рассаживались на белой крытой палубе, Алеся, точно невзначай, сделала так, что Василий Петрович сел рядом с Валей.
Он сидел сдержанный, закинув ногу на йогу и положив на колени руки. На потолке трепетали пятнистые блики, за бортом плескалась вода, лицо ласкала свежесть, а у Вали горели щеки и горячими, сухими были глаза. Она боялась шевельнуться, глубоко вздохнуть, и потому очень хотелось изменить позу и дышать всей грудью.
— Ну, как наш город? — вывела из неловкого молчания Алеся.
Пароходик загудел, за бортом зашипел пар. Медленно начала отплывать пристань. Потом над головой послышалась команда, и тут же застучали колеса.
— Город хороший, — как за спасение, ухватился за её вопрос Василий Петрович. — Нам стоит поучиться, как уважать историю. Замечательно, что сохраняете некоторые руины. Людям, небось, нужно, чтобы было не только светлое будущее, но и славное прошлое. Во имя этого они даже умирали…
Пароходик уже направлялся к противоположному берегу, все время беря против течения. Навстречу ему плыла длинная, как челнок, самоходная баржа. Поравнявшись, она отсалютовала гудком и скрылась за кормой пароходика. На противоположном берегу стали видны избы и колодезные журавли, напоминавшие зенитки.
— Поправились и зеленые пояса вокруг заводов, — почему-то более охотно заговорил Василий Петрович. — Это совсем хорошо.
— А главное? — хитро спросила Алеся.
— А в главном почти так же, как и у нас. Больше, чем надо, видимости. Многое на одну колодку, будто сделано одним… таким щедрым не на свои деньги широкомасштабником…
— Боже, как правильно! — вырвалось у Алеси. — И как трудно доказать это. Как трудно убедить, что прекрасное — это простота. Что в архитектуре она неразделима с современной техникой. В искусство пришла такая сила, как машина. И, по-моему, хорошо, что пришла. Надо только, чтобы она имела свою работу. Не помогала бы штамповать произведения архитектурных кустарей, а осуществляла бы такие художественные замыслы, какие по силе только ей — машине. Очень хорошему другу.
— Ну, до этого и я, кажется, не дорос, — несерьезно признался Василий Петрович.
Уткнувшись носом в песок, пароходик остановился. Матросы с веревками соскочили на берег. Положили шаткие сходни.
Толпой, шутя и смеясь, вошли в зеленую дубраву, Алеся взяла Василия Петровича и Валю под руки и попела всех вдоль берега по дорожке, которая то там, то здесь разветвлялась и сворачивала в сторону.
Вдоль нее стояли ярко раскрашенные ларьки и накрытое скатертями столики с батареями бутылок, пивными кружками и тарелками с красными усатыми раками.
Что происходит с ней. Валя вряд ли могла понять. Страх перед Василием Петровичем исчезал. Пропадало и желание притворяться, играть. Разве правда, большая, нужная, не на их стороне?.. И чувство обиды, задетого самолюбия, желание мстить за что-то уступили место сочувствию. Ей стало жаль Василия Петровича — умного, щепетильного человека, которому нелегко приходится в жизни. Зачем же она демонстрирует безразличие, если вдвоем им было бы гораздо легче и защищаться и нападать? Разве они не должны оставаться друзьями без оглядки — и в радости и в беде? Они согласны в главном — в отношении к жизни. Так зачем же скрывать это? Быть не собой — преступление! Считать другого трусом — тоже не лучше. А Валя, как девчонка, все время заботилась только о том, как быть ей самой. Защищая его, она совсем не думала о нем — человеке, которому калечит жизнь… Боже, как это, по существу, наивно и жестоко!
— Я хочу у вас спросить, — неожиданно для себя сказала Валя, не замечая, как мертвеет лицо у Василия Петровича, — вы не обижаетесь на меня?
— За что, Валя?
— Я была очень и очень несправедлива…
Ей в тот же миг стало легче, от сердца отлегло. Не ожидая ответа, она торопливо, смеясь, заговорила с Волге, о счастье видеть ее, о том, что раньше и не представляла такого полноводья.
— Ее и рекой-то называть совестно.
— Что это с тобой? — словно испугался Алексей. — А?
— С ними бывает, милок, — иронически объяснил Прибытков. — Это самое на мою часом тоже находит.
Но ни шутки, ни смех не смутили Валю. Они даже польстили ей. Она почувствовала, что не будь между нею и этими людьми близости, над ней не смеялись бы и не шутили.
Выбрали менее людный уголок пляжа, солнечного и золотистого. Здесь Волга, разделившись на два рукава, обмывала остров и была неширокой. Берег был ровный, песчаный, и ноги утопали в песке по щиколотки.
Отойдя в сторону, к кусту ивняка с подмытыми корнями, девушки стали раздеваться. Валя делала это стыдливо, неуверенно. Алеся же — точно была тут одна. Валя тайком поглядывала на гибкую фигуру подруги и невольно сравнивала ее с собой. Сейчас ей очень хотелось быть пригожей. Появилось делание — пусть такой, в купальнике, ее увидит Василий Петрович. Пусть! И эта мысль оттеснила все остальное.
Она первой побежала к воде и, разбрызгивая ее, упала грудью. Ее просили подождать, но Валя плыла и плыла. Наконец она достигла запретной зоны — линия полосатых буйков, соединенных между собой проволокой, — и ухватилась за скобы, вбитые в буек. Течение потянуло за собою, и вода, обтекая, зажурчала и справа, и слева. Держась на вытянутых руках, Валя зажмурилась, и ей тотчас же сдалось, что она несется против течения.
"Он обязательно подплывет, — убеждала она себя. — Обязательно…"
Сильно махая руками, Василий Петрович подплыл вместе с Прибытковым. Волосы на голове и борода у того были мокрые, что придавало ему незнакомый, страшноватый вид. И, быть может, поэтому Василий Петрович рядом с ним показался Вале необыкновенно близким, своим, именно своим…
После купания они неожиданно остались одни. Как это произошло? Кажется, вместе со всеми шли пить лимонад, вместе со всеми подходили к ларьку, но когда, расплатившись, оглянулись, никого вокруг не оказалось. Убеждая друг друга, что надо немедленно искать их, Василий Петрович с Валей торопливо пошли по тропинке между деревьями. Поблуждав по зеленой дубраве и не найдя никого, вдруг снова вышли на берег Волги. И странно — то, что они остались одни, их уже не беспокоило. Наоборот, это стало общей радостью, и они долго, почти лукаво смотрели на Волгу.
— Я всегда буду помнить ее, — признался Василий Петрович.
— Я тоже. Мне ведь многое открылось здесь… — послушно согласилась Валя и, не находя больше слов, замолкла. Но чем больше смотрела на Волгу, тем больше очи ее наполнялись слезами, ожиданием страшного и желанного. Они чего-то просили, чего-то требовали. И эта просьба и требование были обращены к Василию Петровичу, хотя Валя и видела его краешком глаза.
Курган был весь изрытый я выглядел диким. Склоны прорезали ручейки и опоясывали валы, похожие на желтые волны, что накатываются на морской берег во время прибоя. Только кое-где млели от зноя чахлые кустики. Под ногами похрустывала покрытая потрескавшейся коркой шоколадная глина. Корка крошилась, и из-под подшив катились кусочки глины. Подниматься было трудно.
Алексей шел за Кравцом и, глядя на его запыленные ноские сапоги, думал, как неожиданно и даже странно все повернулось. Он считал, что все кончено, а выяснилось, что нет, и надо многое додумать. За спиной слышались голоса остальных. Алексей не прислушивался к ним и, наблюдая, как из-под сапог Кравца катятся кусочки глины, думал.
— Вот тебе, Лёкса, и Мамаев курган, — говорил Кравец, не оглядываясь. — На него взойти нелегко, не то что отбивать штурмом. Если загремишь с него кувырком, то загремишь…
— Да-а… — соглашался Алексей, мало понимая его слова.
Все эти дни он жадно присматривался к работе сталинградских коллег. Видел много интересного. Но вера в себя в нем возрастала, и свое казалось даже лучшим. Тем более, что некоторые показатели у него теперь была выше, чем у Кравца. Однако так было, пока Алексеи не побывал у него дома.
Он шел к нему, готовясь подтрунивать над жактовской квартирой, над уютом, созданным чужими руками, над пятым этажом, где тот обязательно должен был жить. "Скажу, на Мамаев курган, верно, легче подняться", — мысленно подготовил он шутку. Но все оказалось не так, как предполагал Алексей.
Кравец жил в белом саманном домике, обсаженном кустами акации. Среди старательно подметенного двора желтела сложенная из кирпича-сырца низенькая плита, на которой в чугунках что-то варилось. За проволочной сеткой в клетках сидели красноглазые кролики. В огороде, примыкавшем ко двору, росли помидоры, кукуруза, цвели георгины, зрели полосатые арбузы, и на всем виднелись следы заботливых рук.
Их встретила молодая приветливая женщина к проведя в дом, тут же ушла, наверно, хлопотать по хозяйству. Это успокоило Алексея и настроило более благосклонно к Кравцу. Он снисходительно усмехнулся и, не прося разрешения, пошел осматривать комнаты. В передней, в кухне, столовой стояла необычная, белая мебель.
— Чехословаки, Лёкса, подарили, — сказал Кравец, следуя за ним. — В прошлом году приезжали. Умеют, брат, вещи делать.
— На больницу похоже, — возразил Алексей.
Но последняя комната удивила его больше всего. Это была не то спальня, не то кабинет. Во всю большую глухую стену на самодельном стеллаже стояли книги. Сквозь неширокое окно в комнату лилось солнце. Его косые лучи не падали на стеллаж, а как бы отгораживали Алексея от него и полосой ложились на пол.
Алексей, будто перед ним был ручей, переступил через солнечную полосу и, как слепой, дотронулся до стеллажа.
— Учишься, а?
И тут Алексея встретила новая неожиданность. Подойдя к письменному столу и щурясь от солнца, он сел в кресло и взял со стола фотокарточку в рамке, стоящую на стеклянной подставке рядом с чернильным прибором.
— Жена? — повертел он ее в руках и вдруг осекся: на него с пожелтевшего снимка смотрела Зося.
В партизанском кожушке, некогда подаренном им, в кубанке с пришитой наискось лентой, она стояла, прислонившись к сосне, а за ней виднелись хорошо знакомые госпитальные землянки…
— Память, — сказал Кравец, краснея.
С шумом отодвинув от себя кресло, Алексей поднялся и, тяжело дыша, дрожащими пальцами начал вынимать карточку из рамки. Но Кравец решительно остановил его.
— Это, Лёкса, мое! Пускай стоит. — И по-хозяйски с намерением крикнул в соседнюю комнату. — У тебя готово, сестра? Пошевеливайся там!
— По какому это праву твое?
— Прошу тебя, Лёкса, поставь, ради бога. Я же сказал, что это память.
— А я не хочу, чтобы она тут стояла.
— А мне нужно… Ты должен понять. Я ведь ни на что не претендую…
Алексей шагал за Кравцом, чувствуя слабость в ногах и умышленно стараясь наступать на большие кусочки глины, катившиеся из-под сапог товарища. "Учится и философствует, — недовольный, думал он. — И фотокарточка эта тоже… Лес темный…"
Поднявшись на вершину кургана, остановились у постамента с танковой башней.
Вблизи, зарывшись носом в бурую землю, ржавели-немецкий танк с белым крестом на борту и изувеченный броневик со странной эмблемой — в полукруге силуэт всадника, берущего барьер. Тут же, под чревом броневика, серели человеческие кости — взял! Рядом в овраге валялся присыпанный песком железный лом.
Алексеи подошел к танку, провел рукой по номеру — 833; заглянул в открытый люк — оттуда дохнуло тленом и пылью.
— А простор какой неоглядный! — услышал он голос Дымка. — Какой простор!
— Ого-го-го! — крикнула Валя, чтоб услышать эхо, по вокруг простиралась такая даль, что оно не прилетело.
Глазам открывались город, Волга. На противоположном ее берегу в стеклянистой дали мреели заливные луга, синие старицы, лес. На этом более отчетливо виднелись нефтяные баки, громады заводских корпусов, рабочий поселок. В несколько рядов пролегали железнодорожные пути. По ним шли поезда: огибали курган, бежали вдоль Волги, направляясь к "Красному Октябрю".
Алексей редко задумывался над собственными поступками. Теперь же, стоя тут, на Мамаевом кургане, он как-то необыкновенно остро почувствовал — ему надо быть лучшим. Молчаливая, преданная любовь Кравца, его учеба, бесспорно нелегкая, и все, что он увидел здесь, требовали от Алексея этого. "Учиться, тоже учиться! — решил он. — Учиться хотя бы уже ради того, чтобы жить как начал…"
Он не услышал, как к нему, заговорщически перешептываясь, на цыпочках подошли Зуев, Кравец и Валя.
— О чем задумался, детина? — пропел Зуев, и они сразу втроем положили руки на плечо Алексея.
"Когда пойдем обратно, зайду на почту и дам телеграмму, подумал он, виновато усмехаясь. — Как это я не догадался раньше! Прибытков, кажись, давал своим. Да и письма Зимчуку с Алешкой написать надо". — И ему сразу стало так, словно он сбросил с себя тяжесть.
Эпилог
Старик выделялся среди делегатов своим ростом, не совсем ладно скроенной фигурой, длинными зачесанными назад волосами. Он был одет проще остальных немцев — серый в елочку пиджак, светло-коричневые узкие брюки, — и только один он был без темных очков. И Василий Петрович, отвечая на вопросы, которыми через переводчика засыпали его, невольно обращался к этому высокому старику. Тот шел, держа шляпу и трость в правой руке, и с печальным вниманием поглядывал по сторонам. На Троицкой горе, возле Оперного театра, он попросил остановиться.
Это было кстати, ибо Василию Петровичу самому захотелось взглянуть отсюда на город — вспомнилось, как несколько лет назад тут же стоял с Валей, Зимчуком, студентами.
"Что она делает сейчас? — подумал он, забывая о делегатах. — Бегает по стройкам? Или сердитая сидит над рукописью Урбановича "Опыт моей бригады" и, небось, ругает себя и его? А может, упрямо звонит тому же Зимчуку или Кухте — самым трудным авторам, которые никак не могут сдать статей о соревновании сталинградских и минских строителей?.. Вечером, как всегда, придет усталая, побледневшая, подставит для поцелуя щеку, а переодевшись, заберется с ногами на диван и затихнет там, как сурок. Потом спохватится, поманит к себе пальцем, чтоб помог встать, и они вместе пойдут на кухню готовить ужин… Она говорила, что недавно тоже приходила сюда, — посмотреть, вспомнить… Как все, действительно, изменилось здесь!.."
Привольно спускается к Свислочи молодой парк, словно перескочив ее, подходит к самому проспекту.
Справа на целый квартал тянется строгое здание суворовского училища, увенчанное скульптурами. Там, на втором этаже, когда-то обосновался и жил Алешка. "Странный, неугомонный парень, которого мало кто понимал, — думает Василий Петрович. — Где он теперь?
Кто-то, кажется Урбанович, говорил, что Алешка решил поступать в Политехнический институт. Поступит ли? Хорошо, если бы повезло. Ему больше, чем кому нужны удачи и внимание других…"
Рядом с суворовским училищем высятся еще не оштукатуренные дома — былые коробки. Левее от них, в сиреневой дымке, маячат каменные взлеты и виднеется Центральная площадь…
Электростанции, что напоминала средневековый замок, уже почти не видно. Ее закрыл поднятый на несколько метров проспект. Из-за насыпи и лип белеет только ее верх. Дальше — новый мост с узорчатыми перилами, с фонарями, похожими на каштановые свечи. Еще дальше — Круглая площадь. Окаймленная липами, она приобрела свою форму. В центре, вознесшись в небо, стоит обелиск, одетый в леса. От светлых полукруглых зданий, что замыкают площадь, к мосту выстроились дома, облицованные кремовыми плитами. "Где-то там работает Алексей", — вспоминает Василий Петрович и с трудом отрывается от своих мыслей.
Вынырнув из-за поворота и плавно обогнув Круглую площадь, по проспекту к мосту одна за другой мчатся синие, серые, песочные машины. Поблескивая, идут автобусы с красными полосками на светло-желтых боках. Важно, ближе к тротуару, плывет троллейбус, и над ним, когда он огибает площадь, как когда-то над трамваем, вспыхивают фиолетовые искры.
— Скажите, пожалуйста, когда намечено закончить строительство города? — спрашивает, вздохнув, старый немец.
— Когда? — удивляется Василий Петрович и немного иронично, вспомнив опять Валю, отвечает. — Город будет строиться вечно!.. Да, да, прошу заметить, вечно!..
Минск, 1952–1956 гг.
О себе и своих книгах
Родился я в семье земского врача в волжском городке Хвалынске[4]. Не знаю, какой он на самом деле, но мне представляется зеленым, с недалекими меловыми горами, с которых зимою на салазках можно ехать километры. Здесь прошло мое детство, здесь научился плавать и читать, здесь я видел революцию, гражданскую войну.
Революция осталась в моей памяти как гомонливый водоворот на Соборной площади и красные банты на груди у людей. Гражданская же война — как стрельба на улицах, ошалелые всадники на взмыленных конях, разрывы снарядов, что прилетали от Волги, охваченные огнем приволжские склады да еще разве горьковатый вкус пресных лепешек, испеченных из подгорелой муки из этих же складов.
Плавать и читать я научился не совсем обычно. Старшие мальчишки затянули меня раз на якорную цепь от баржи и оставили там одного. Я долго плакал, просился, но, когда понял — напрасно, оттолкнулся от цепи и, барахтаясь, как щенок, поплыл к берегу. Наверное, поэтому я в семь лет переплывал Волжку… А читать? Я много знал наизусть сказок и стихов и начал с того, что играл в чтение: декламировал и водил пальцем по строкам книги. Со временем это позволило выделять из предложений слова, а потом, с помощью сестры, буквы-звуки. Учиться же в школе я стал значительно позже. — сразу поступив в третий класс, когда мы переехали в Белоруссию.
Моя мать — терпеливая, выносливая женщина — работала воспитательницей в детском доме, и, возможно, только это обстоятельство спасло нас.
Голод навалился на обессиленный от войны городок сразу, как только пришел на Поволжье. И вот диво — первыми стали умирать полные. Отец бросил нас давно. Кроме меня на материнском горбу сидели еще двое — старший брат и сестра. Поэтому, естественно, мы не могли быть полными. Да детскому дому кое-что все же перепадало. Когда же стало совсем худо, детский дом эвакуировали в Гомель. Так я попал в Белоруссию.
Нельзя сказать, чтобы жизнь в приднепровской деревне Иолча на Комаринщине была легкой. Девятилетним мальчишкой я попробовал уже хлеб подпаска — пас деревенских свиней, водил в ночное лошадей. Но доброту и сочувствие иолчанских тружениц, свою первую учительницу — одинокую Марию Осиповну Шестакович, Игрище — зеленый простор между деревней и Днепром, звеневшей вечерами от девичьих голосов, я всегда буду вспоминать с хорошим чувством и благодарностью.
Потом я жил и работал во многих селах Комармшцины, но уважение и любовь к людям, приютившим нашу семью, идут все-таки из Иолчи. И там я в свои десять лет поклялся отблагодарить их, чем только смогу.
Позже я учимся в школе второй ступени (так насыпалась тогда средняя школа), где передо мной раскрылся свет знаний и незнакомых ранее чувств. И все равно альма матер для меня осталась однокомплектная Иолчанская школа, где я начал понимать географическую карту, где почувствовал радость оттого, что рисую, где стоял некрашеный шкаф с книгами, которые жадно читал при тусклом свете каминка или в обед на Игрище, когда свиньи спокойно отдыхали на берегу заводи.
До тысяча девятьсот двадцать девятого года, когда я окончил "вторую ступень", брат — простой искренний парень-трудяга — уже работал концерезчиком на Речицком лесопильном заводе и обзавелся семьей. Работать рядом с братом решил и я. Не подавая заявления в институт, поехал к нему.
Что я вынес из средней школы? Прежде всего, желание трудиться, розовые мечты, веру в добро и беспредельную преданность времени, жизни.
За годы работы на Речицком лесопильном заводе кем я только не был! Относил от пилорамы ополки на концерезку, возил из мурла тачкой опилки в кочегарку, был циркулярщиком, помощником станкового, кочегаром, сортировщиком.
Работал охотно, много. Тогда мне было семнадцать. Броня на подростков была заполнена, и, чтобы поступить на завод, пришлось выдать себя за совершеннолетнего — приписать год, Но и в свои семнадцать, отработав полную смену, я грузил вагоны, участвовал в штурмах, воскресниках или усердствовал на лесоскладе около штабелей досок. Так что потом долго с левого плеча, на котором я носил горбыли и доски, не сходил нарост-мазоль, и левое плечо у меня даже сейчас сильнее.
Я полюбил завод, слаженность, что царила на нем, Было хорошо, думно среди товарищей-рабочих у станка или циркулярки. Тяжелее приходилось только зимой. По цеху носились сквозняки. В широкие ворота, через которые самотас подтягивал бревна к пилорамам, дышал заснеженный Днепр. Железо обжигало руки. Но и тогда, — если пилили березу, — чувствовалась весна, повевало хмельным березовым соком. Все искупали короткие минуты отдыха в теплой пилоточке или кочегарке, И очень радовало, когда над коньком заводской крыши загоралась алая звездочка — свидетельство, что завод перевыполнил план.
Не меньшим моим увлечением, как и прежде, были книги. Читал я запоем все, что попадалось под руку, — от Эврипида до Леонова, и уважал их очень. Я даже сейчас помню, где и как получал книги. Помню, как, открыв некрашеный покосившийся шкаф, Мария Осиповна выдавала их нам, вихрастой детворе, бережно брала с полочки, внимательно рассматривала, чтобы запомнить, какие были, — и не протягивала, а вручала их. Помню библиотеку в школе второй ступени и ту заветную комнатку со стеллажами, куда выбирать себе книги допускались только любимчики. Помню библиотеку на лесопильном заводе — молодую библиотекаршу Дору Бер, маленький при дверях столик, за которым она сидела, книжные полки и шкафы. Я забыл, где находился завком, название улицы в рабочем поселке, где жил, а вот библиотеку помню и буду помнить до последнего дня…
В тридцать втором умер брат. Тяжело пережив его смерть, я оставил Речицу и вернулся к матери в Комарин. Опять встал вопрос о будущем, и опять я отдал предпочтение не учебе, а работе.
Почему? Окончил я среднюю школу отлично. В свидетельстве-аттестате педагоги определили "уклон" — литература, рисование и почему-то химия. Значит, и здесь был выбор, было и желание учиться, В школе установилась традиция — каждый выпуск (а у нас было несколько параллельных групп) оставлял после себя большой портрет В. И. Ленина. И писать этот портрет в двадцать девятом поручили мне. Все мои закадычные друзья поступили в художественное училище — перед ними замаячило вон что! А я не захотел, подался на завод. Думалось, что учеба никуда не денется, а "повариться в рабочем котле" человеку всегда полезно. Даже необходимо — тогда ты станешь иным. Да и рабочий стаж затем обеспечит тебе дальнейшую учебу. Но почему я все же не пошел учиться, имея уже этот рабочий стаж? Сейчас мне трудно даже сказать. Видимо, все еще искал себя, у меня не было определенности в тех "уклонах", которые записал мне педсовет. Больше того, работая на лесопильном заводе, я поступил на заочное отделение Московского редакционно-издательского института, но когда редакторское отделение закрыли, отказался переходить на какое-либо другое и оставил институт вообще. Так или иначе, вернувшись на Комаринщину, я стал учительствовать — как раз бурно росли школы и учителей не хватало.
Это были славные годы — годы горения, самоотверженного труда, подготовительных и переподготовительных курсов. Ученики, школа, общественная работа… Овладевал методикой, составлял планы, давал практические уроки, работал с отстающими, ликвидировал неграмотность, выступал с антирелигиозными лекциями, выпускал стенную газету в колхозе, в сельсовете, в избе-читальне. Когда же наконец безбожники победили и церковь в деревне, где я заведовал уже учебной частью НСШ и преподавал литературу и язык, закрыли, сам снимал с нее крест. Вместе с учениками из церковного багета мастерил рамы для портретов, расписывал стены школы, рисовал учеников для галереи отличников, руководил шумовым оркестром, строил спортивный городок, лепил бюсты и целые скульптурные композиции. Да разве можно перечислить все, что делал учитель-комсомолец в первой половине тридцатых годов!
Правда, жизнь не особенно баловала меня. Были минуты, когда она поворачивалась ко мне спиной и была глубоко несправедлива.
В тридцать седьмом арестовали моего отчима — тоже учителя. Отчим и пасынок небольшое родство (не говоря уже о том, что и сам-то он не был виноват), но на меня легла тень. Удивленный, возмущенный, я не мог больше оставаться на Комаринщине к подал заявление в Наркомпрос, чтобы меня перевели куда только угодно.
Так я попал на Витебщину — край синих озер и хороших людей. Работал там заведующим учебкой частью НСШ, директором СШ, как и всегда, весь отдаваясь работе. Но удивительно — рос мой жизненный, педагогический опыт, а я все отчетливее чувствовал, что мне не достает чего-то главного.
Самообразование, наверное, — это то, что характерно для всего моего поколения. Стране нужны были кадры. Их не могли дать тогдашние стационарные заведения, и мы учились, работая, и работали, учась.
В тысяча девятьсот тридцать восьмом году я сдал экстерном экзамены за учительский институт и поступил на заочное отделение Минского педагогического института имени А. М. Горького.
Минск! Я никогда не думал, что он сыграет такую роль в моей жизни, что моя судьба прикипит к его судьбе и я посвящу этому городу свою жизнь. Нет, я не думал, но, правда, чувствовал, что с ним связано самое светлое, радостное, заветное, ибо здесь я узнавал неузнанное, здесь передо мной, как никогда ярко, открылись необъятные просторы человеческой мысли и мудрости.
Как на то война застала меня тоже в Минске (я сдавал государственные экзамены и последний сдал во второй день войны), и таким образом стал свидетелем первой бомбежки Минска. Так что начало войны вошло в мое сознание как охваченный смятением и огнем Минск.
Домой, в деревню Долгая Нива, Сиротинского района, я добрался только, когда раскаты войны стали слышны и там. На подводе, с женой и трехлетним сыном, я двинулся на восток. Однако уже назавтра утром танки с белыми крестами на бортах обогнали нас, и пришлось остановиться в Слободе — деревне, где мы остались ночевать.
Здесь я и прожил почти год, пока не ушел в партизаны. Но жене и сыну угрожала опасность, и вскоре их тоже пришлось вывезти в партизанскую зону, откуда счастливо, хотя и с приключениями, они вместе с другими партизанскими семьями перешли линию фронта и были эвакуированы на Урал.
В начале сентября произошли перемены в моей жизни. Меня включили в спецгруппу Минского обкома КПБ и назначили заместителем ее командира. Получив особое задание, мы, десять разведчиков-связных, двинулись в глубь тыла противника — под Минск. И случилось так, что до конца войны мне пришлось дважды переходить и дважды перелетать линию фронта.
Ходили мы лесными тропами, проселками, забытыми екатерининскими трактами, пересекали гравийки, автомагистрали, железные дороги. Во многих местах шоссе и гравийки были перекопаны рвами. Вместо мостов торчали обгоревшие сваи. Там же, где хозяйничали оккупанты, мосты были обнесены колючей проволокой, подходы к ним минированы. Леса и кустарники отступили от дорог, а на обочинах выросли дзоты, пулеметные гнезда.
Но по ночам дороги замирали и там. Не выдерживая тишины и темени, немецкие часовые ракетили и стреляли. Ночь прошивала пулеметные очереди и рассекали лучи прожекторов, установленных на вышках. И всегда где-либо что-то горело, и зарево заливало край или половину неба. Однако утром, как только на дорогам возобновлялось движение, земля неизменно выскальзывала из-под рубцеватых шин грузовиков, из-под гремучих гусениц танков, и взрывы рвали воздух.
Деревни, казалось, старели на глазах. Но и они превращались в надежные звенья партизанской обороны, хотя сюда часто заглядывали огонь и смерть. Встречались дотла сожженные деревни, где остались стоять только порыжевшие голые деревья да страшные под открытым небом печи (немцы взрывали даже колодцы). Встречались и покинутые деревни, где все повило небытье. И только по огородам было видно, что сюда временами из далекого бора приходят ЛЮДИ.
Партизаны по-разному строили свой быт. Некоторые лагеря напоминали цыганские таборы. Среди окоренных восково-желтых елей темнели разбросанные шалаши. Другие же лагеря выглядели, наоборот, подчеркнуто строго. Встречались даже такие, где тропинки к штабной землянке были посыпаны песком и под сторожевым грибком неподвижно стоял часовой, встречавший командиров торжественным ефрейторским приветствием.
А Минск — мученик и герой, куда я опять попал в начале сорок третьего и где нелегально пробыл десять дней!
Гетто в Минске создали в первые недели оккупации. Уже на Октябрьские праздники в сорок первом гитлеровцы провели "сокращение территории" гетто, и свежие рвы в Тучинке были засыпаны землей. В скверах, на площадях — виселицы, концентрационные лагеря в Дроздах и на Широкой улице, заполненные до отказа тюрьмы… и героическое подполье!
Так я увидел восставшую Белоруссию и нерушимое единство народа в борьбе. И чем больше отдаляешься во времени от этих событий, тем бесспорнее становится истина: Белоруссия времен Великой Отечественной войны являлась краем классического партизанского движения, а Минск — достойной его столицей.
Правда, было и иное.
Видел я и это.
Между развалинами, у колючей ограды гетто, однажды разыгралась драма. Заключенные подкупили охранников-полицейеких, и те сквозь пальцы смотрели, как близ ограды иногда шла торговля. И вот однажды вдруг послышались выстрелы.
Мимо дома, где я находился, пробежала старуха — растрепанная, злая. Она держала перед собой чугунок, из которого шел пар и через край выплескивался борщ.
Когда стрельба утихла, на колючей проволоке остался висеть человек да около самых развалин темнела еще одна фигура. Опять кровь! Такое для Минска не было новостью.
Но эта старуха с чугунком борща? Темное обветренное лицо с незагоревшими морщинами. Жестокие складки у рта, злые глаза. Таких я встречал и на рынке. Они торговали пирожками с ливерной начинкой, борщом, вареной картошкой поштучно и прятали полученные от покупателей деньги в чулок, деловито приподнимая юбки. А частные парикмахерские, харчевни и разные забегаловки, что появились на Комаровке и других окраинах? Мне говорили — открылись тайные абортарии, карточные притоны. Что за наваждение? Откуда взялась эта дремучая темнота? Кто мог взять белую салфетку и стать за стойку собственной харчевни? Кто не побрезговал стать хозяином притона?
Кровь и грязь! Они, наверное, часто бывают вместе. Видимо, война страшна не только своими разрушениями и жертвами.
Позже, когда я взялся за перо, кое-что из виденного и пережитого описал в повести "Без нейтральной полосы" (1949 г.) и в романе "Немиги кровавые берега" (1962 г.). На очереди же, естественно, остаются и воспоминания.
За свой поход в Минск я был награжден орденом Красной Звезды и когда вернулся на Большую землю, получил двухмесячный отпуск, который дал мне возможность увидеть семью.
Нашел ее в небольшом уральском селении — Нижнем Иргниске, что ютился на крутом горном склоне. Жена учительствовала в школе, сын рос в детском садике. Так, бел небольших счастий не бывает большого счастья. Это остро почувствовал я тогда в Иргинске, держа на руках сына и видя, как к нам через силу в гору бежит кем-то предупрежденная жена.
Летом сорок третьего года в составе спецгруппы я опять полетел на Минщину, и опять боевые будни поглотили меня. Ко всему на этот раз пришлось пережить небывалую блокаду: напрасно рвать кольцо немецкого окружения, отступать, отсиживаться в болотах Нолика, до изнеможения голодать…
Вошел я в освобожденный Минск во главе группы автоматчиков, вслед за армейской разведкой, когда еще слышалась перестрелка, кое-где горели здания и улицы то и дело перебегали подозрительные фигуры.
Город поразил разрушениями. В центре на нас со всех сторон надвигались развалины — желтые, островерхие. Среди них зеленели грядки чахлой свеклы и капусты, обгороженные спинками обгоревших кроватей. Вокруг площади Победы и по обеим сторонам Долгобродской улицы желтела рожь и, несмотря ни на что, пиликали свое "пить-полоть" перепелки.
А на следующий день ночью немцы снова обрушили на Минск бомбы, и опять взрывы потрясали изувеченные кварталы.
В Минске я пережил самые опасные минуты в своей, жизни, за Минск пролилась моя кровь, и в грохоте взрывов я вдруг почувствовал, что город входит в сердце как что-то бесконечно родное, отвоеванное, тебе необходимое, без чего тяжело будет жить.
Начал я писать давно. Писал стихи, прозу, занимался литературными исследованиями. Писал о болотах и сыпучем песке Комаринщины, что, как вода, стекал по спицам колес, об алой звездочке над коньком заводской крыши, о поисках счастья людьми, изучал творчество Достоевского. Но почувствовать себя литератором, хотя это может звучит парадоксом, меня заставила война. Она заставила взяться за перо, еще раз осмыслить место в жизни, свою обязанность перед другими.
В освобожденном Минске я опять стал учительствовать — преподавал язык и литературу, заведовал учебной частью 42-й средней школы. Но вскоре, послушный властному внутреннему голосу, оставил школу и ушел литературным работником в редакцию газеты "Советская Белоруссия".
Писал я в то время разное: рецензии на спектакли, кинокартины, книги, юбилейные статьи, воспоминания о партизанах-соратниках, а позже — портреты артистов, литературно-критические обзоры и очерки о творчестве белорусских писателей. Особенно увлекался произведениями Кузьмы Чорного.
Весной 1945 года было принято решение возобновить выпуск газеты "Літаратура і мастацтва", и мне предложили перейти в ее редакцию ответственным секретарем.
Газетная работа ревнивая. Она не любит, чтобы человек делил ее с чем-то другим. Потому часто приходилось ночевать в типографии, диктовать машинистке передовые статьи, править заметки прямо на Линотипе, многому учиться на ходу самому.
Работа в газете ввела меня, если можно так сказать, в гущу литературной жизни, в литературную лабораторию, помогла формированию моих творческих взглядов. Я очень благодарен газете.
И все так и через два года я перешел на новую работу — редактором отдела прозы и драматургии журнала "Полымя", где проработал тринадцать лет.
Биография писателя — это его книги. В них все: и жизненный путь, и раздумья, и поиски, и мечты писателя. И пусть себе даже записаны они о других временах, о людях иных профессий, в них все равно так или иначе отразится личная судьба писателя, его искания, его борьба за свое заветное, иначе говоря, как и чем он жил в это время.
Я стал писателем поздно, только после войны. И натурально, первой моей книгой стала военная повесть. К тому же, несмотря ни на что, воспоминания об участии в партизанской всенародной борьбе были самыми дорогими в моей жизни.
Годы работы в редакциях газет и журнала нашли свое отражение в последующей книге — "По пути зрелости" (1952 г.), хотя в ней помещены только литературно-критические очерки о белорусской прозе и драматургии[5].
Однако вера, что призвание мое — литература, пришла ко мне только с романом "За годом год" (1957 г.). Писал я это произведение полный любви к Минску — городу-герою с такой трагической историей, полный уважения к тем, кто поднимал его — в который уж раз! — из безнадежных развалин.
Из каких источников черпал я материал для этого произведения? Прежде всего — из пережитого, из собственных впечатлений. Как упоминалось уже, вошел я в Минск вслед за разведкой Советской Армий и видел город в огне и дыму. Мне пришлось принимать участие в воскресниках по восстановлению города, и книжечку, где отмечались отработанные часы, я храню и сейчас. Меня окружали — и я их знал — люди, которые вернулись к мирному труду и принялись строить спою мирную жизнь. Их судьба, стёжки-дорожки, которыми пошли они к своему счастью, волновали меня, тем более, что не всегда, как и мои, были легкими и прямыми. Мне, наконец, посчастливилось видеть, как из пепла и развалин люди подмяли город редкой красоты.
Но я не историк, не архитектор, не строитель. Поэтому, когда взялся за работу, мне довелось прочесть десятки книг по истории Минска и градостроительству, десятки книг об опыте строителей, Пришлось днями просиживать в кабинете главного архитектора города, знакомясь с его работой, ездить с ним в мастерские и на стройки. Пришлось знакомиться с работой строительных трестов и бытом строителей.
Летом 1953 года я поехал в Сталинград. Там также занялся изучением жизни тех, кто строит город Жил вместе с ними, вместе с ними ходил на стройки, вместе ездил в выходные дни отдыхать на Бакалду — левый берег Волги, старался узнать их интересы, стремления, понять, что их волнует.
Вот все это, творчески переплавленное, усиленное фантазией, и вылилось в роман "За годом год".
О чем мой роман? Обычно говорят — о строителях Минска. Это правильно, но только отчасти. "За годом год" — книга о послевоенной судьбе людей. У советского человека много дорог к счастью. Но где она, самая короткая, и что подстерегает человека на ней? Вот скорее всего об этом и повествует роман. Во всяком случае, когда я отбирал события, человеческие судьбы и старался проследить их, я руководствовался именно этой задачей.
В каждом художественном произведении есть внешняя и внутренняя тема. Внутренняя тема романа "За годом год" — люди и время, поиски счастья людьми.
Поездка в Сталинград пробудила желание путешествовать. Я исколесил Белоруссию, Украину. Поднялся на Кара-Даг в Крыму, проехал Верецкий и Ужоцкий перевалы в Карпатах, побывал в славном Ужгороде, где свободно, совсем как в лесу, стонут горлицы. Я видел зеленые Кодры Молдавии, опаленную солнцем Среднюю Азию, дюны Паланги, спокойное Рижское взморье, живописные крыши Таллина и старого Томаса на Таллинской ратуше, побывал в Ленинграде, любовался волжским простором со знаменитого Горьковского Откоса. Видел дельту Волги и астраханский розовый лотос… Но странно — чем больше я видел свет, тем дороже и милее становился Минск, и чем дальше отъезжал от него, тем с большим нетерпением и душевным трепетом возвращался обратно.
Следующий свой роман "Весенние ливни" (1960 г.) я тоже посвятил Минску. Говорю "посвятил" потому, что город, как и в романах "Немиги кровавые берега" и "За годом год" является здесь одним из героев, и его судьба интересует и волнует меня так же, как и судьба других живых героев. Вообще романы, являясь совершенно самостоятельными произведениями, как бы образуют единый цикл — "На перевале столетия". И над заключительным романом его "Сотая молодость" работаю сейчас.
"Весенние ливни" являются результатом, моего знакомства с трудом и бытом минских автозаводцев. К тому же многие из моих хороших товарищей по партизанской борьбе стали строителями, а потом рабочими или инженерами автозавода. Меня увлекло и само начало строительства этого гиганта — романтическое и так характерное для Минска.
Первыми каменщиками, монтажниками и прорабами были бывшие партизаны. На западе еще пылала война, и они долго жили отрядами, как и когда-то, в шалашах под соснами, в бараках. Имели общие запасы продуктов, каждый день назначали дневальных по артельным кухням, по очереди возили в бочках воду из Свислочи. Вечерами по привычке разжигали костры, и тогда совсем по-партизански выглядел бор. Временами ночью раздавался гудок. Поднимались все, одеваясь на ходу, как по тревоге, бежали к железнодорожной ветке разгружать вагоны, а потом на руках или по слегам тянули на территорию завода тяжелые ящики со станками и оборудованием. В выходные же дни в строю, колоннами, с кирками и лопатами шли на разборку руин.
И опять я изучал производство, следил за "Автозаводцем", беседовал с рабочими, инженерами, комсомольскими работниками, присутствовал на собраниях, ездил в Горький, где познакомился со славным старшим братом Минского автомобильного, пожил в рабочем поселке среди горьковских автозаводцев. Особенно внимательно следил, как, освобождаясь от пережитков далекого и недалекого прошлого, изменяется сама психология людей, их мироощущение, отношение к себе и другим, как иногда тяжело это дается людям.
Радости в моей писательской жизни было не очень много. Но она была и наибольшей, когда я работал. Со мной оставалось только то, о чем писал: думы да созданные воображением картины, которые нужно было перенести на бумагу. Большая радость — работать!
Радость неизменно приходила также, когда я встречался с простыми тружениками. Видеть их, слушать, угадывать их мысли, жить с ними одним — счастье. Особенно сейчас — в наше время.
Отсюда вырос вывод, который я сделал себе как писатель, — самое большое счастье и радость — в работе, в служении людям, которые вокруг тебя, живут рядом с тобой, работают, радуются, горюют, ищут лучшего, наилучшего, совершеннейшего.
Сделано пока мало и не так, как хотелось бы. Утешает только мысль, что Главная твоя книга еще не написана и что ты обязательно ее напишешь. Будет это или нет? Хочется, чтобы было. Во всяком случае, буду стараться, чтобы это было.
1962 год.