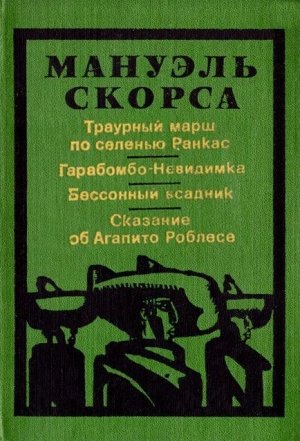
Цезарю Кальво, брату моему,
без которого не вспыхнуло бы пончо Агапито Роблеса.
Глава первая
О том, как холодно приняла Янакоча выборного Агапито Роблеса, воротившегося из тюрьмы
Он побывал на площади, на рынке, обошел все улицы Янакочи, но не встретил ни одного человека. Спустился не спеша к пристани и стал ожидать, когда отчалит «Акула». Катер отправлялся теперь три раза в день из Янауанки в Янакочу. Прежде ходили пешком, тут была тропа в форме подковы, но разлилось озеро Яваркоча и затопило тропу. В старину, чтоб попасть из центра провинции в окрестные селения, поднимались по каменистому склону. Но с той поры, как судья остановил время, приходится либо плыть по озеру, либо тратить три дня – идти в обход бесконечного кряжа, что тянется чуть ли не до самой границы Хунина.
Те члены Совета общины, что уцелели после массового расстрела в Янакоче, были доставлены в Полицейское управление. Там их продержали много недель. Наконец пообещали освободить, они надеялись, и тут судья Монтенегро извлек из архива старое дело об убийстве некоего Амадора Леандро по прозвищу Отсеки-Ухо и ни с того ни с сего предъявил обвинение членам Совета. Их отправили в тюрьму Уануко, и там они пробыли целый год. Агапито Роблес просидел еще три месяца лишних – жена его не сразу сумела собрать полторы тысячи солей, дело шло по инстанциям, каждому надо заплатить.
Агапито Роблес надеялся встретить на пристани кого-нибудь из земляков, расспросить, что нового в Янакоче. Однако никого не было, только сидели молча несколько торговцев, шумели пьяные шахтеры, да заезжий коммивояжер без конца изумлялся, какие высокие в наших местах горы.
«Акула» отчалила почти пустая. Огромное озеро пряталось в тумане. Едва виднелись суда, направлявшиеся в порты на западной его стороне. Солнце садилось, закат пламенел между деревьями. Агапито Роблес с бьющимся сердцем ступил на землю Янакочи. В руках он держал мешок, куда были свалены в беспорядке белая рубашка без воротничка, две фуфайки, две пары шерстяных чулок, коврига хлеба, несколько банок сардин и Конституция Перу. Медленным шагом, сдерживая волнение прошел он по Хирон-Каррион (вспомнилось синее лицо покойного Раймундо Эрреры) и очутился на главной площади. Обычно в это время, при последних лучах солнца, жители собираются здесь. Но площадь была пуста. Наступали сумерки, ветер бился о молчаливые фасады церкви, муниципалитета, окружного правления, и еще сильнее билось смятенное сердце Агапито Роблеса. Он спустился по переулку Сан-Педро, прошел по улице Викунья, свернул, поднялся между деревьями по Чиуйян, потом по дороге на Кёнкаш, мимо ферм, повернул обратно по переулку Уанкапи и по улице Эстрелья снова вышел на главную площадь – одни только собаки встретили его злобным лаем.
Потемнело в сумерках его пончо, все изукрашенное синими, зелеными, розовыми, желтыми солнцами. Ибо надобно вам знать, что выборный Янакочи Агапито Роблес любил яркие цвета так же страстно, как ненавидел их судья Монтенегро. Один только раз, исполняя приказание главы общины Раймундо Эрреры, надел Агапито Роблес темное платье. «От этого я тогда и заболел». Все на свете хотел Роблес сделать ярким, многоцветным. Разъезжая по провинции, наткнулся он однажды на заброшенное кладбище. Тогда время еще существовало, и как раз приближался День поминовения усопших. Агапито пожалел всеми забытых покойников, заехал в ближайшее селение, купил краски и выкрасил кресты на могилах в красный, желтый, зеленый и синий цвета. «Теперь им теплее будет, покойничкам-то». Выкрасил он кресты и на мрачном, угрюмом кладбище в Хупайкоче, что высоко в горах. Вы, наверное, видели – стоят там разноцветные кресты, а среди них овцы бродят, траву щиплют. Это Агапито кресты выкрасил. Любовь его к ярким цветам ничем не вытравишь, хоть иной раз оно и опасно – в списке примет Агапито Роблеса, присланном полицией, стояло: «одет, как пугало». Но неужто из-за такой жалкой клеветы станет Агапито унижаться – напяливать на себя серое, бесцветное пончо?
Так никого и не встретив, спустился Агапито Роблес по улице Росарио и вышел на площадь. Тут он увидел (а может быть, ему показалось) Исаака Карвахаля. Агапито окликнул его. Но бывший командир дисциплинарного взвода как-то странно махнул рукой и исчез. На углу показались еще несколько членов общины, но последний отблеск солнца ударил Агапито в глаза, он зажмурился. И тут же все скрылись куда-то. Совсем стемнело. Агапито добрался до дома Хуана Роблеса.
Трижды прошел он мимо и не узнал свой дом. Неужто вот эта тусклая лачуга? Где же сиреневые стены, оранжевые двери, где зеленые рамы? В первой комнате за столом, за которым когда-то Агапито Роблес решал дела общины, сидел отец. Он дремал, закрыв лицо руками.
– Добрый вечер, отец.
Старый Роблес поднял голову – тихое отчаяние тлело в бесцветных его глазах.
– Агапито!
Обнялись, прослезились. Выборный дал отцу хлеба. Старик все плакал.
– Зачем же плакать, отец? Никто ведь не умер.
– Лучше бы нам умереть, Агапито. Мертвому ничего не надо, а мы, живые, хотим есть. Все у нас пропало, все. Ни фермы нет, ни сарая, ни скота, ничего. Пока ты сидел в тюрьме, судья Монтенегро все отобрал. А в прошлом месяце забрал моих лошадей, твоих овец. Говорит, мы расходы по судопроизводству обязаны оплатить.
– Когда я уходил, этот дом был красиво покрашен.
– Судья велел все замазать. Даже семян у нас нет, Агапито.
– А лошади?
– Одну оставили, самую никчемную, Белоногого.
– Седло найдется?
– Есть дяди твоего, Эустакио.
– Ну и ладно, хватит с меня.
Агапито улыбнулся. Ужас исказил лицо старика.
– Зачем тебе лошадь? Ты что, хочешь снова бороться с судьей? Не смей, не смей. Ни один человек не может справиться с ним. Он остановил реки, время арестовал. Захочет – солнце погасит.
– Я знаю, как спастись от этих бед.
Старик дрожал.
– Зачем ты вернулся, Агапито? Не вяжись ты лучше с господами. Самые доблестные мужи нашей общины пытались бунтовать против них. А что вышло? Где теперь Эктор Чакон? Дай ему бог выйти живым из тюрьмы! Где Гарабомбо? Он был невидимка, стоило ему захотеть – и никто не мог его увидеть, а все равно пуля настигла его. Где старый Раймундо Эррера? В могиле. Переворачивается небось в гробу от ярости и злобы. Отступись, Агапито! В воскресенье прискакали к нам в.селение надсмотрщики из поместья Уараутамбо, объявили: кто посмеет одно только слово тебе сказать, будет иметь дело с самим судьей.
– А где наша Грамота?
– Лежит под землей в пещере Науанпукио.
– Не попортится она там?
– В клеенку завернута да в три мешка уложена.
– Прощай, отец.
Агапито вышел из дому. Сверкали звезды, и в блеске их еще прекраснее казалась земля, за которую борется его община с 1705 года.
– Не ведаю, когда окончится мой путь.
Величественна ночь в Андах! Медленно пробирался Агапито сквозь волны ароматов и слышал, как крадутся во тьме невидимые пумы. Добравшись до Науанпукио, осветил фонариком скалу под которой почти тотчас после возвращения и незадолго до смерти дона Раймундо Эрреры сам захоронил Грамоту. Стал копать ножом. Он предусмотрительно захватил с собою два пончо. Одно – для себя, другое – укрыть, спрятать сияющую Грамоту. Зажмурился Агапито, развернул мешки. Но сияния не было. Что случилось? Грамоту подменили? Полный тревоги, достал Грамоту ощупал знакомые швы. Пришлось снова зажечь фонарь. Луч заскользил по строчкам, которые Агапито знал наизусть до последнего слова. Дрожь пробежала по его спине. Грамота не светилась!
Они умерли бы тогда, если б не Грамота? Полиция разыскивала упрямых членов Совета общины, что затеяли снять план с общинных земель. Спасаясь от нее, глава общины Эррера приказал взобраться на Чертов Горб. Стали переходить Змеиную Гору, держались за руки, обвязались веревкой, чтоб не упасть в пропасть. Началась буря и продолжалась подряд трое суток. Они остались бы там, под снегом, если бы старый Эррера не догадался достать Грамоту. Он вынул ее из сумки, притороченной к седлу. Широкий язык пламени, такой широкий, что в нем поместился бы целый загон овец, осветил Чертов Горб. Они шли в этом острове света и только потому выжили. Шли и пели, больные, голодные, измученные. И вот Грамота не светится больше. Остаток ночи Агапито Роблес простоял возле Грамоты. Напрасно ожидал он. Грамота не светилась.
Взошло солнце, и в его лучах он увидел просто связку пожелтевших бумаг. Агапито ушел из пещеры Науанпукио. Он смотрел на суда, бороздившие спокойную гладь озера. И вдруг понял, почему Грамота не светится больше. Двести, пятьдесят семь лет подряд они верили, что можно вернуть свою землю по закону. Люди умирали, сидели в тюрьмах, претерпевали бесконечные муки, и все эти годы ревностно берег народ Грамоту – напрасное свидетельство своей правоты.
Двести пятьдесят семь лет жители Янакочи просили, умоляли, хлопотали, требовали, надеялись, что добьются наконец справедливости. И вот теперь Агапито понял: они ошибались. Столько поколений приносили себя в жертву, а Грамота – всего только выцветшие листы бумаги.
Прощай, Грамота! Я слышу твой последний наказ: всякие просьбы бессмысленны. Янакоча может вернуть свои земли только силой. Встал день, и свет дневной пронзил его сердце. И решил Агапито Роблес: отныне Янакоча никогда ни о чем не будет просить.
Глава вторая
О том, что случилось в день, когда Мако Альборнос пожалел, что его так назвали
«Сначала я увидел лошадь. Запаленную, всю в мыле, что же это за сумасшедший скачет, лошадь-то ведь загубил; мчится она, бедняжка, во весь дух, ударится сейчас грудью о каменную ограду постоялого двора. (Я там остановился, возвращался к себе в поместье.) Я люблю животных. Жаль мне стало лошадку. Однако, думаю, пойду полюбуюсь, как этот негодяй врежется на всем скаку в каменную стену; поделом ему. Но в последний миг, у самой ограды всадник внезапно осадил коня. Соскочил. Лошадь рухнула на землю, стала кататься и тут же испустила дух. Дело, конечно, не мое, но очень уж я животных люблю, вот и подошел, хотел изругать этого сукиного сына, а он словно и не заметил, что бедное животное скончалось. Пошел в погребок. Я за ним… Черт меня побери! Голова так и закружилась! Два зеленых солнца увидел я, горели они на женском лице, а прекраснее этого лица не доводилось мне видеть за всю мою окаянную жизнь. Вот так я впервые встретил Маку. Она даже не глянула на меня. Спокойно вошла в погребок. А я обалдел совсем, черти б меня взяли, и опять – за ней. Она схватила бутылку, которую мы распивали с братьями Чаморро да с хозяевами поместья «Харрия» (они еще раньше ко мне подсели, попросили принять их в компанию), налила себе и приказывает:
– Музыку!
Сказать про нее «красавица» – звучит просто жалко! Мы обезумели. Вы меня знаете, я мужчина крепкий, не правда ли? Так вот, у меня коленки дрожали. Братьям Чаморро, братьям Хулка и вашему покорнейшему слуге – всем нам казалось, будто мы поднялись на небо и остались там на много минут, дней и даже месяцев. Молния, головокружение, боль… Но я взял себя в руки:
– Музыку для сеньориты!
– У нас, в Успачаке, оркестра нету, дон Мигдонио, – заикаясь, пробормотал толстяк, подававший вино.
– Тащи сюда сию же минуту музыкантов, не то повешу тебя вот на этом дереве, – закричал я.
И тут Мака улыбнулась мне в первый раз. Клянусь, будь я проклят, ради такой улыбки ангел сделается дьяволом! Из-за этой улыбки я горю в огне, изнываю от тоски, пропадаю совсем! В скором времени толстяк приволок какого-то гитариста Кихаду, слепого дрожащего старикашку. Я тут же посылаю своего Надсмотрщика Нуньо (вы же знаете Нуньо, это он привез в Амбо тy смуглянку, помните, как мы тогда веселились?). Я приказываю Нуньо, чтоб срочно садился в моторку (потом эту моторку я Назвал «Королева Анд», недаром, конечно) и плыл бы в Янауанку За оркестром. К счастью, господь надоумил меня, я догадался Написать несколько слов сержанту Астокури. Это я ловко сделал. Потому что донья Пепита Монтенегро забрала себе всех музыкантов, никому их не давала. Но сержант взял да и арестовал братьев Уаман, вот мне и достался более или менее приличный оркестр – рожок, кларнет и арфа. Старый Кихада против них никуда не годился. И вот эта женщина, одно присутствие которой делало нас лучше, а вернее сказать, хуже – настоящий мужчина, черт возьми, не боится говорить правду, – эта женщина танцевала без устали с самого полудня. Кихада свалился, будто пустой мешок, а братья Уаман начали играть. Наконец, и они попросили разрешения остановиться и отдохнуть. Занимался рассвет. Я взглянул Маке в лицо – мне было так страшно, будто я на кладбище темной ночью, – и понял, будь я проклят, что темнота обкрадывала ее красоту, ибо чем светлее становилось, тем яснее выступало лицо, подобного которому нет, не было и не будет на нашей сволочной планете. Я велел подать завтрак. Она покушала и снова пустилась в пляс. Тогда я заказал жаренное на углях мясо. А она все танцевала. Настал день, и тут мы подрались с Чаморро. Двадцать лет мы дружили, и вот лопнула наша дружба, и недаром, сеньоры, недаром, ведь этот несчастный пытался соперничать со мной, с доном Мигдонио де ла Торре и Коваррубиас дель Кампо дель Мораль. А Мака все танцевала. В эту ночь я почувствовал себя неопытным юнцом, хоть мне и пришлось в жизни переспать чуть не с сотней женщин. И я понял – будь проклят тот миг, когда я был зачат! – понял, что есть только одна дорога, в нежной и теплой тьме, дорога, которая ведет в рай и в ад, и что человек может прожить целую жизнь за один миг.
Мне известно, что у нас тут ходит по рукам некая мерзкая бумажонка, она зовется, представьте себе, «Заявление оскорбленных женщин Янауанки». Старуха Кета де лос Риос ездит по провинции и собирает подписи. Даже лодку ей взаймы дали, чертовы сволочи! Будем откровенны, черт побери! Я тоже знаю, что «этот сатана в юбке, имя которого мы даже не хотим упоминать из уважения к Вашему достоинству, господин префект, и из уважения к своему собственному достоинству, явился в наше селение с нескрываемым намерением испытать низость рода человеческого». Все брехня! С этим «Заявлением оскорбленных женщин» я поступлю так же, как с жалобами моих пеонов. Никто, даже Хромой Доминго, не повинен ни в нашей беде, ни в нашем счастье. Я очень хорошо знаю, как появилось в Гойльярискиске существо, которое тогда звали еще не Мака, а Мако [1]Альборнос. Двадцать лет прожила она в горах со своими братьями, которые растили ее как мальчика. Она и считала себя мальчиком. Но однажды братья Альборнос поспорили, кто сумеет украсть стадо, прямо с главной улицы селения Гойльярискиска. Мако сказал, что угонит стадо среди бела дня. Хвастливость его и погубила. Хромой Доминго – хромой, вы только подумайте! – накинул на него лассо, и он не успел ускакать. «Разумеется, если бы наши местные власти не оскорбляли достоинство матерей семейств, призванных хранить остатки былого величия перуанской женщины, мы не оказались бы вынужденными жаловаться Вам, господин префект, и перечислять все свои беды». Брехня! А на самом деле вот как оно было: Хромой Доминго (алькальда, надо сказать, в тот день в селении не было) заставил Мако Альборноса пройти по всему селению, таща на плечах теленка из того стада, которое он хотел угнать. Его прогнали по центральной улице, хлеща плетьми, проклиная, насмехаясь, не подозревая, «какими последствиями этот нелепый поступок чреват для наших мирных очагов, до сей поры хранимых Божественным Провидением», его бросили в тюрьму, только недавно открытую в Гойльярискиске. Избитый до бесчувствия,– разбойник оказался в одной камере с тремя другими скотокрадами. Они начали его лечить и тут-то и обнаружили, чего он сам не знал: Мако, храбрый, как мужчина, гордый, как мужчина, одетый в мужское платье Мако оказался женщиной. Известны имена этих удачливых разведчиков недр, известно также, какую незабываемую ночь провели они в камере. Известно даже место, где зарыты их тела. Все селение Гойльярискиска помирало со смеху, когда распространился слух, что «братья Альборнос – бабы»; хохотали даже в Серро-де-Паско. Но вы ведь хорошо знаете братьев Альборнос. Лопес, Больярдо и Авелино похвалялись своим открытием не более пяти дней. На шестой день Роберто Альборнос, по прозвищу Пума, всадил в каждого по пуле прямо в дверях суда.
– Кто еще хочет? – спросил он.
Остальные братья с шестью охотниками взялись за мертвые тела. Насадив их на крючья для свиных туш, протащили триста метров в одну сторону и триста в другую, потом помочились на них и бросили прямо у самых дверей Полицейского управления. Был час сиесты, полицейские притворились спящими. Вооруженные люди братьев Альборнос патрулировали улицы. Движимые родственными чувствами, желая утешить попавшего в беду братца, Альборносы привели ему в подарок необъезженного жеребца.
– Отец тебя зовет. Поехали, братик? – сказал Альборнос по прозвищу Пума.
Мака стояла в дверях той самой камеры, где перенесла бесчестье, и улыбалась.
– У меня нет больше ни отца, ни матери. Я теперь ничья.
Целый день спорили братья с Макой, ссорились, уговаривали.
Мака только улыбалась «той самой улыбкой, с которой глядит сатана на картине, изображающей Страшный суд, что висит в церкви Туси» (брехня!), и все пила да пила. Наступили сумерки, и она снова вспомнила, как впервые в жизни пришлось ей пролить кровь против своего желания. Наконец Мака уронила слезу в последний раз, ибо потом прошло двенадцать лет, в течение которых она ни разу не плакала. (Через двенадцать лет пришлось ей заплакать на крутой улочке Аякучо.) Странным своим голосом, «хриплым от пьянства и от курения скверного табака», как говорит этот болван, секретарь суда Пасьон, она сказала (и сразу – ни к чему бессильная ярость братьев, и пыл их приятелей, и ужас зрителей):
– Я больше не знаю вас! Уйдите с моей дороги, а если я когда-нибудь еще вас встречу, то убью, потому что вы бандиты, а бандитов следует убивать. Прощайте, братики мои дорогие, прощайте, сукины дети!
Дальше о братьях Альборнос известно следующее: без всякой причины они зарезали троих человек, имевших несчастье попасться им на дороге, поубивали весь скот, подожгли муниципалитет и избили слепого Кихаду. Мака же вошла в дом Хромого Доминго, положила на стол тысячу солей и не выходила оттуда в течение трех месяцев. Через некоторое время кое-как замаскированные темными очками и яркими шарфами, стали появляться в Гойльярискиске знаменитейшие дамы легкого поведения города Серро-де-Паско. Может быть, Роберто по прозвищу Пума подкупил их или запугал? Цвет и сливки публичных домов Ранчо-Чико и Ранчо-Гранде, лучших борделей Серро, прибыли в Гойльярискиску. Имеются свидетели, которые своими глазами видели, как Бронзовый Зад, Железная Штанина, Вертипопка, Крушикровать, Электрозадиха и даже Наседка и Трехспальная вышли из автобуса и направились к дому Хромого Доминго. Братья Альборнос его не кастрировали – они уважали смелых людей. Сама Мака оценила его вынужденное гостеприимство, а потом подружилась с Хромым, так что он чуть не лопался от гордости. Ведь ему удалось то, о чем напрасно мечтали все полицейские во всей округе: он поймал одного из Альборносов.
По Гойльярискиске, стуча каблучками и источая соблазн, расхаживали с видом принцесс самые знаменитые городские куртизанки. Хромой Доминго, если его спрашивали о посетительницах, делал значительное лицо. Но из расспросов племянника Хромого (моим надсмотрщикам пришлось его бросить в Чакайяне на углу, потому что он умер) можно вывести заключение, что специалистки из Ранчо-Чико и Ранчо-Гранде явились не для того, чтобы научить Маку молиться. От того же слюнтяя известно, что сказал по этому поводу Роберто Альборнос: «Все равно женщина ли, мужчина ли, а мы, Альборносы, всегда первые». Электрозадиха, Железная Штанина, Вертипопка, Крушикровать, Наседка и Трехспальная преподали Маке уроки высшего мастерства. Через три месяца после случившейся с ней беды Мака надела женское платье. С лицом женщины, с прической женщины, походкой женщины, вся женщина непоправимо и навсегда, вышла она на улицу. От одного взгляда на нее мужчин бросало в дрожь. Она же глядела с грустью (а может, с презрением); вошла в лавку Порталеса и заказала «рюмочку водки». С этого дня началось владычество, ничем не ограниченная тирания ее глаз, ее покачивающейся походки, ее колдовского, чуть хрипловатого голоса. Еще не наступил вечер, а уже трое шахтеров дрались на ножах за право проводить ее до дому, А через неделю, оставив за собой четверых убитых, шестерых раненых и пятнадцать поруганных семейных очагов, Мака покинула «это поганое селение, где выяснилось, что я женщина». «Почему местные власти не приняли никаких мер? Почему не выполнили свой долг, предписывающий им охранять установления, зафиксированные в Конституции, почему забыли присягу?» Опять брехня! На великолепном жеребце, которого она совершенно незаслуженно назвала Соплей, Мака спустилась в Успачаку, один из самых красивых портов озера Яваркоча. Там процветал в те времена старый постоялый двор, где собирались гордые, удачливые золотоискатели да кутилы – служащие рудников. К концу недели они исчезали в благоухающих эвкалиптами просторах. В наши дни на этом постоялом дворе вам не дадут даже куска паршивого мяса!
Зобастые слуги подбирали наши объедки. Курил в окруженном каменной стеной дворе старый Состенес. (Тот вечер я не забуду, даже когда сатана будет меня поджаривать.) Высились над водой эвкалипты, и вот появилась из-за стволов во всей своей лучезарности та, из-за которой я от сего дня и до самой моей смерти посылаю и буду посылать вас всех к самой что ни на есть той матери».
Глава третья
О далеко не прекрасных последствиях прекрасного начинания директора Эулохио Венто
Агапито Роблес поднял глаза. По-прежнему стояло в небе облако, похожее на муравья, что висело над Янакочей со дня похорон главы общины Эрреры. Под сенью этого облака и хоронили. Эрреру. Агапито Роблес вздрогнул. Те, кто вернулся тогда живым домой, ослепли от радости, не заметили, что небо остановилось. Только на кладбище, когда стали забрасывать землей могилу, Николас Сото увидел беду. Но как раз в эту минуту вошли в селение солдаты 21-го военного округа. Много месяцев гонялся отряд за членами Совета общины. Солдаты даже не крикнули им, чтоб сдавались, сразу открыли стрельбу. Много народа погибло тогда – мужчины, женщины, дети. Но Агапито Роблес уцелел. Очень уж спешил начальник отряда капитан Реатеги. Столько времени устраивал он облавы, столько раз обманывали его! Всех решил уничтожить капитан Реатеги, всех до одного! И как ни странно, именно поэтому Агапито и спасся. Автоматные очереди косили всех подряд, а вот члены Совета Янакочи успели скрыться. Тяжкой чугунной плитой легла на провинцию тишина. Массовые расстрелы в Андах повторяются в определенном ритме, будто времена года. У всех людей их четыре: весна, лето, осень и зима. А у нас в Андах – пять: весна, лето, осень, зима и расстрел. Члены Совета Янакочи скрывались высоко в горах. Прошло несколько недель, они спустились. Постепенно, понемногу стали приниматься за работу. И тут директор Венто задумал построить новую школу.
Прежняя находилась в большом старом доме, за который шла тяжба между двумя семействами – Руисов и Валье. Эти люди не захотели обратиться к судье Монтенегро, принять его мудрое, хоть и не всегда понятное, решение. Они подали прошение в более высокую инстанцию, в Уануко. Тем временем молния ударила в соломенную крышу дома, крыша загорелась. Пока суд в Уануко решал дело, директор Венто добился разрешения временно занять спорный дом под школу. Наконец суд в Уануко присудил дом семейству Валье. После этого прошло десять лет. Директор Венто просил Управление школами в Серро отпустить средства на постройку новой школы. Прошло еще десять лет. Потом директору обещали, что «в будущем году эта статья будет включена в бюджет». И с той поры – еще десять. Валье стали добиваться и в конце концов добились выселения школы № 4953. Куда же деваться? Озабоченный директор Венто спустился к дому Агапито Роблеса. Выборный работал – сверял бухгалтерские книги общины. Чрезвычайно почтительно приветствовал он дона Эулохио, усадил его на стул.
Директор сел, отдуваясь. Огляделся: колченогий стол, шесть скамеек, выцветшее знамя – то самое, которое они брали с собой в поход, старый календарь да портрет Сан-Мартина, Освободителя, – вот и вся обстановка.
– Я приехал когда-то в Янакочу на один семестр – заменить учителя Валенсуэлу. Ты был тогда ребенком, Агапито. Учитель Валенсуэла заболел чахоткой, бедняга. И вот я здесь до сих пор.
– Одним – беда, а другим – удача. Оттого, что он заболел, вы стали нашим учителем.
– Уже двадцать лет я директор четыре тысячи девятьсот пятьдесят третьей школы, и никто ни разу на меня не жаловался. А то, может, жаловался?
– Мы гордимся, что такой человек, как вы, делится с нами своими знаниями, наставляет на путь истинный.
– Я женился на уроженке Янакочи. Мои дети родились здесь, и я считаю себя гражданином Янакочи. Мне кажется, я веду себя правильно. Никогда я ни с кем не ссорился. Не обидел никого из родителей. И никогда ни о чем не просил я общину. Случается, благодарные родители приносят мне кур, картошку, кроликов. Я принимаю, чтоб не обидеть их.
– Вы всегда за нас заступались, сеньор! Даже когда были больны, не отказывали нам в помощи, составляли прошения, жалобы.
– Ты учился у меня, Агапито, ты знаешь нашу школу. Дом совсем развалился. А теперь, после приговора суда Уануко, мы и вовсе остались на улице. Парт у нас нет, дети сидят на камнях или на чурбачках, но даже для таких занятий нужна крыша над головой. А я задумал построить настоящую школу. Много лет прошу я средств, но начальство о нас не помнит. Почему бы родителям не помочь? Пусть бы община выделила участок, засеяла его, а урожай пошел бы на строительство школы.
– Это можно.
– У нас совсем средств нет. Община выделит землю. Но этого мало. Надо, чтоб родители учеников взялись посеять и собрать урожай.
– Мы засеем участок и соберем урожаи.
– Ты думаешь, получится?
– Я поговорю. Как раз нынче вечером соберется Совет общины.
Не спалось этой ночью директору Венто. Еще до рассвета поднялся он, выпил кофе. Вышел из дому. Навстречу спешил Агапито, он улыбался.
– Поздравляю, господин директор! Совет одобрил ваше предложение. Выделили участок, как вы просили. В Уахоруюке, земля там чудесная. Многие на эту землю зарились, но Совет единодушно решил – отдать школе. Мы все возьмемся, посеем, будем ухаживать за участком. И когда начинать пахать, уже назначили: в первые две недели мая.
Директор Венто обнял Агапито.
– Квартал Тамбо вызвал на соревнование квартал Раби. Уверяют, что вспашут больше.
– Но в Раби жителей втрое больше, чем в Тамбо.
– Зато Тамбо ставит пиво тем, кто победит.
В начале мая распространился слух: Тамбо нанимает пахарей в Чипипате. Жители Тамбо были возмущены – вовсе они не нуждаются в помощниках, и так победят.
Во второе воскресенье мая в семь часов утра оба квартала со знаменами явились в Уахоруюк. Там уже были накрыты «столы». Такой у нас обычай: если делают какое-либо общее дело, стелют на землю одеяла, на одеялах – сигареты, кока, водка. Через каждые двадцать метров лежат такие одеяла, если кто устал – может подкрепиться. Солнце сияло над веселой толпой. На участок Уахоруюк требовалось пятьдесят мешков семян. А соберут четыреста мешков – довольно для начала, можно строить школу. Константино Лукас затрубил в рожок. Пахари встали в ряд, приготовились… и тут появились конные полицейские.
– Эти сволочи никогда не приходят с добром, – сказал Агапито Роблес. Голый до пояса, стоял он, готовый взяться за работу.
Подъехали капрал Бехарано и еще четверо из Полицейского управления. Члены Совета общины приблизились к всадникам.
– Кто вам разрешил вспахивать этот участок? – строго спросил Бехарано.
– Зачем нам разрешение, капрал? Это поле принадлежит общине, а Совет решил…
– Доктор Монтенегро говорит, что участок входит в его поместье.
– Этот участок упомянут в нашей Грамоте на владение…
– Какая там еще грамота, к чертям собачьим! Ты и другие зачинщики – со мной в Полицейское управление. Связать этих мошенников!
На глазах оцепеневших жителей полицейские связали Агапито Роблеса, Бласа Валье, Синфориано Либерато, Анаклето Минайю, Хосе Рекиса, Хосе Кастро и Фелисио де ла Бегу. Их отвели на пристань, посадили на судно «Независимость». Через час они уже шли связанные по улицам Янауанки, по главной площади в Полицейское управление. За столом, покрытым зеленым сукном, сидел сержант Астокури.
– Какая сволочь подучила вас захватить собственность доктора Монтенегро?
– Мы…
– Никаких «мы»! Негодяи! Жулье! В камеру!
Глава четвертая,
содержащая общие сведения о хвостатом магистре, о пальбе из орудия, распространяющего запах, и об изгнанных римлянах
«Поставьте себя на мое место. Мог ли я заподозрить, что этот жуткий ангел только о том и мечтает, чтобы унижать нас! Я, сеньоры, был первым мужчиной в нашей провинции, который ее увидел, и я повторяю вам: тот, кто ее увидел, пропал навсегда. Разве мог я себе представить, какая злоба кипит в ее душе? Теперь-то мне известно, что за черные мысли лелеяла эта тигрица. Я сказал «тигрица», но это неверно – тигр убивает, чтобы кормиться, она же унижает мужчин только для того, чтобы насладиться зрелищем унижения. Обольщает и потом бросает. Если б сейчас спустилась с небес или воздвиглась из адских глубин женщина столь безбожно прекрасная (потому что, хоть она и истерзала меня, она единственная, о ком я вспомню в последние минуты, когда расстанусь с этим поганым шариком, что крутится со всеми своими слюнтяями и сволочами и где так редко найдешь истинного друга, а предателей – сколько угодно), я бы знал, что делать. Но тогда? Мне казалось даже, что у нее доброе сердце. Спросите хотя бы у актеров из Большого римского цирка или у этой кучи идиотов, которых она везде подбирала. Я, сеньоры, в жизни еще не видал таких неудачников, как эти актеры, что приехали в Серро-де-Паско. К нам в Серро всегда являются беззубые зубные врачи, женщины легкого поведения, которыми брезгают даже солдаты, да актеры, которых на побережье забрасывают камнями. В Серро-де-Паско любой гнилой товар сбыть можно. Так вот и с этим римским цирком. Только климата нашего они не знали, поставили свой балаган кое-как. Понадеялись на ясное небо, а оно у нас обманчивое, как глаза Маки, не ожидали, что через минуту набегут черные тучи. Представляете? Поставили это они балаган на пустыре. «Если бы нам удалось дать представление, дон Мигдонио, клянусь вам, мы бы не бедствовали так в ваших краях. Здесь сдохнуть можно, никто и не охнет, не считая вас, истинного кабальеро», – говорил мне Пукало всякий раз, когда подвыпьет. – «Если бы да кабы…» – «Клянусь вам, дон Мигдонио, у нас был полный сбор», – плакался Пукало. Брехня!'Горожане тут ни при чем. В шесть часов, когда весь город собирался на первое представление Большого римского цирка, разразилась такая дьявольская гроза, какой мне еще не приходилось видеть. Да зато уж на этот раз я насмотрелся! В один миг ветер сломал мачту над балаганом. Вместе с мачтой рушились все надежды актеров. Им пришлось бы ночевать на ледяном пустыре, если бы не добрые люди – пустили их к себе, некоторые даже в свои постели, не мужчин, конечно; женщины в таких случаях должны же как-то выразить благодарность. Так вот и закончила свое существование труппа, которой аплодировали в Уанкайо, Уануко, Аякучо и даже в предместьях столицы. Здесь, в Серро, труппа была распущена. Я не видел чудесных лошадок по имени Сократ и Аристотель. Артисты их продали, чтоб купить обратные билеты. Но Архимеда, «осла, который, если бы посадить его в парламент, справился бы со своим делом лучше, чем наши депутаты», я видел. Здесь, в Успачаке. Мы любовались ослом. Симеон Пукало вытребовал его себе когда-то в счет задержанного жалованья в надежде поправить свои дела, когда представление будет иметь успех – сопливые дохляки вечно кормятся надеждами, а представление-то и лопнуло, как лопаются все наши мечты на этой тухлой планете.
Большинство артистов разъехалось кто куда. Но Симеон Пукало, Императрица острова Борнео и Макарио-Мечтатель решили попытаться дать представление в Уануко. Провалились они к чертовой матери. Воротились в Успачаку ни с чем. И здесь встретились с женщиной, которая, что ни говори, была, есть и будет истинной нашей повелительницей! Извините за такие слова, но я был тогда счастлив, сеньоры. Ради нее я забросил дела, рисковал своим состоянием, губил здоровье, мать родную бы продал. Моя королева, так мне рассказывали, гуляла по берегу озера Яваркоча и вдруг услыхала какой-то разговор. Подумала моя повелительница, что это двое пассажиров беседуют, жалуются один другому на злую судьбу. И тут из-за скалы появились Симеон и его высокоученый осел.
– Где же другой? – удивилась моя фея.
– Какой другой, сеньорита?
– Ваш приятель, который все жаловался.
– Нет здесь никого больше, ни приятеля, ни неприятеля.
– А с кем же вы говорили?
– Я чревовещатель. А говорил я вот с этим сеньором ослом, единственным в мире другом несчастного артиста.
– Вы с ним разговаривали?
– Увы, сеньорита.
– Почему «увы»?
– Потому, что вся моя жизнь – сплошное «увы».
Вот так Пукало, он сам мне это рассказывал, познакомился с моей королевой. Остальных актеров мне представили в тот же день на постоялом дворе.
– Везет тебе, Мигдонио, – сказала Мака.
– Почему, моя королева?
– Потому что ты богатый, можешь помогать, кому я прикажу.
И засмеялась. Так засмеялась, будто все семь цветов радуги зазвенели. Клянусь, я не забуду этот смех даже тогда, когда сяду играть в покер с самим сатаною! У нас в Успачаке никогда не было цирка. Я велел толстяку, который нам прислуживал, расставить во дворе дюжину скамеек. Макины идиоты – тысячу солей мне стоила эта дурацкая затея! – соорудили сцену, кое-как завесили старыми простынями – вы же знаете, что это за шикарный отель. Макарио-Мечтатель, молодой человек, чья профессия состояла в том, что он извивался всем телом под звуки барабана, как червяк (представляете?), объявил номер: выступает осел Архимед – кожа да кости! За это чудо с меня слупили еще двести солей. А в чем состояло чудо, не знаете небось? Этот самый Макарио объявляет:
– Досточтимая и прекрасная покровительница искусств, сеньорита Мака Альборнос, высокороднейший кабальеро дон Мигдонио де ла Торре, глубокоуважаемая публика! Разрешите представить вам сеньора Архимеда, единственного в мире осла, который отказался занять кафедру в Государственном университете Сан-Маркос.
Мака так и покатилась со смеху, а я, представьте себе, бог весть как обрадовался, а глядя на нас, и все ее идиоты развеселились.
– Дамы и господа! Сей высокоученый муж понимает не только все наши слова, но и угадывает все наши мысли. Он говорит и читает по-английски, по-французски, по-голландски, а также немного по-японски, но поскольку он сейчас очень утомлен длительным путешествием, во время которого всюду имел громадный успех, то продемонстрирует перед вами всего лишь одно из своих чудесных свойств. Дон Архимед, разрешите вас представить. Здесь, среди почтеннейшей публики находится самая прекрасная женщина в Перу. Простите, я ошибся – самая прекрасная женщина в мире. Не будете ли вы любезны показать, где она?
Верите ли? Этот самый высокоученый осел поворачивается к Маке и начинает реветь, а она усмехается, нежно-розовая, как спелый персик, ох, лучше не вспоминать, так и бросает то в жар, то в холод.
Мы все захлопали.
– Дорогой сеньор Архимед, а теперь будьте добры показать, где здесь находится самый щедрый в здешней округе кабальеро, который почтил своим присутствием наше просвещенное собрание?
И тут образованнейший осел поворачивается ко мне и снова ревет, а я вижу, что Мака довольна, и хлопаю, и все идиоты за мной. Потом осел показал самого доброго во всей провинции хозяина постоялого двора, самого добросовестного полицейского и, наконец, молодую девушку, которая через полгода выйдет замуж. Тут уж все завопили от восторга, я тоже, и идиоты за мной.
Архимед удалился. Макарио объявил, что «по особому контракту Большому римскому цирку удалось залучить к себе знаменитую звезду, оригинальный номер, единственный в мире зад, способный произвести подряд тысячу залпов».
Симеон Пукало выступил вперед с гордым видом.
– Я люблю быть точным, сеньоры. В животном мире нам известны многоножки, среди людей же, что я и намерен вам продемонстрировать, встречаются многопукалы. Но прежде, чем начать свое выступление, я хотел бы попросить кого-либо из вас, оказавших нам честь своим присутствием (а Мака просто помирает со смеху!), взять на себя труд вести счет точно и беспристрастно.
Он вытащил доску и мел.
– Ну-ка, вы человек грамотный, считайте-ка, – приказал я толстяку, который нам прислуживал. А Мака все помирает со смеху!
– С вашего разрешения, я начинаю салютом из двадцати залпов. Раз, два, три!…
Это звучало точь-в-точь, как пушечные выстрелы с борта «Адмирала Грау».
Я был поражен. Пукалы мне в жизни встречались, да вот недалеко ходить, Арутинго, от его стрельбы цветы в садах вянут (недаром покойный Ремихио прозвал его «орудийный зад»). Однако с этим чудом никому не сравниться. Окончив салют, Пукало с улыбкой обратился к публике:
– Может быть, найдутся желающие купить еще несколько залпов?
– Куплю три дюжины.
– По одному солю залп.
– Плачу!
Пукало изменил позу, нацелился и тридцать шесть залпов прозвучали один за другим.
– Дамы и господа, если среди присутствующих имеется скептик, Фома Неверный, прошу извинить за сравнение, который, чтобы окончательно убедиться, захочет услышать еще, прошу поднять руку.
– А можно еще пятьдесят залпов?
– По одному солю залп, сеньор де ла Торре.
– Давай.
И он потряс всех.
Я еще не видел, чтоб люди так хлопали.
Однако после тридцати оглушительные залпы стали реже.
– Тридцать три… – считал наш толстяк.
Тридцать четвертый был еле слышен. А тридцать шестой и вовсе напоминал вздох кокетливой любовницы.
– Плачу вдвое!
– Ваши сто и еще сто, – отвечал Пукало. Он вошел в азарт.
– Еще вдвое! – воскликнула моя королева, чуть не падая от хохота.
Симеон набрал воздуху, покружился, как балерина, повернулся к нам задом и начал снова.
– Тридцать пять… Тридцать шесть… тридцать семь.
После пятидесятого выстрела публика разразилась бурными овациями. Артист, улыбаясь (еще бы не улыбаться, пятьсот солей загреб!), объявил, что по случаю национального праздника бесплатно дает двадцать один залп. А Мака помирала от смеха!
Глава пятая
О том, как нехорошо, когда у человека начинаются колики (иллюстрированная примерами)
– Сколько времени наших в тюрьме продержат?
– Тридцать дней, – отвечал стражник.
Жители Янакочи вздохнули с облегчением. С тех пор как время то шло вперед, то останавливалось, в зависимости от приказаний судьи Монтенегро, «месяц» или «тридцать дней» – большая разница, месяц может тянуться и целый год – от урожая до урожая. Кто знает, какой сейчас месяц? И даже если это известно, кто знает, сколько в нем дней? Прошлый июнь длился всего три дня, а июль, напротив того, тянулся девяносто дней, и конца ему не было видно. И потом, даже если знаешь, какой сейчас месяц, все равно не поможет. Месяцы налетают один на другой, сливаются, сплетаются… ничего не поймешь! И дни тоже. Никто не знает, какой сегодня день – то ли средосенье, 19 мартваря, то ли четвергница, 37 июлибря бог весть какого года. Заключенные нашли более эффективный способ считать время: всякий день, который, по расчетам властей Янакочи, мог почесться субботой, альгвасил приносил судье курицу. Такой примитивный прием возымел свое действие: через тридцать дней капрал Бехарано – тоже смягченный с помощью тех же средств – сообщил, что сержант Астокури подписал приказ об освобождении.
А накануне Агапито Роблес вдруг ощутил страшные боли в желудке. Напоили его мелиссовым чаем, надеялись, что пройдет, но к ночи боли так усилились, что Агапито – а он уж чего только не вытерпел в своей жизни – со стонами корчился на постели. Встало солнце, осветило зелено-бледное, покрытое каплями пота лицо выборного.
– Умираю, – прошелестел он. – Отравили меня.
Дрожь пробрала членов Совета Янакочи. На прошлой неделе некий скотокрад, которого поймали в Мичивилке, предупреждал их: «Берегитесь! Говорят, судья собирается отравить вас».
Мается Агапито, а тут как раз стражник Ромуло вызывает его.
– Здесь, – простонал выборный.
– Почему не встаешь, когда вызывают?
– Болею я, сеньор Ромуло.
– Что с тобой?
– Живот болит, сеньор.
Агапито опять скорчился.
– Судья тебя к себе зовет. Поднимайся!
Подняли земляки Агапито, а он даже и стоять-то не может. Ушел стражник. Прошло немного времени – сам сержант Астокури в камеру является.
– Вот уж не везет тебе, Агапито! Как раз сегодня хотел я отпустить вас всех, да только сейчас получил официальную бумагу. Вас вызывают в суд, об убийстве дело.
– Об убийстве?
– Судья Монтенегро обвиняет вас, как участников убийства Амадора Леандро, пеона из поместья «Уараутамбо».
– Но ведь Эктор Чакон сидит в тюрьме в Уануко за это преступление, сержант.
– Не сознается он. А суду требуются виновники. Судья считает, что. Амадор Леандро был убит по вашему приказанию. А ты, как выборный, должен представить оправдания.
– Кому, сержант?
– Судье.
– Доктору Монтенегро?
– У нас разве другой судья есть?
– Не буду я представлять оправдания этому извергу.
– Отказываешься?
– Отказываюсь, сержант.
Сержант Астокури вышел. Агапито Роблес все стонал. В полдень снова отворилась дверь, вошел судья Монтенегро в сопровождении четырех стражников.
– Что с тобой, сын мой? – спросил судья ласково. И Агапито тотчас же стало легче…
– Живот болит, доктор.
– А почему ты энтеровиоформ не примешь?
– Денег нет, доктор.
– Можно ли так мучиться, когда таблетка всего-то полсоля стоит.
Доктор опустил руку в карман, достал монету, подозвал стражника Паса.
– Ступай, купи энтеровиоформ, а если его нет, то мехораль.
Пас вышел из камеры с разинутым от изумления ртом.
Агапито больше не чувствовал боли – до того растерялся.
– Правда, что ты не желаешь представить оправдания? – добродушно спросил судья.
– Мы с вами враги, доктор, – отвечал Агапито.
– Может, думаешь, что я буду несправедлив?
– У нас с вами серьезный спор, доктор. Я лучше представлю оправдания перед судом в Уануко.
– Но ведь отправлять тебя туда, да еще под охраной, денег стоит. Придется тебе оплачивать расходы. А ты и так бедный. Зачем еще тратиться?
– Мы враги, доктор, – упорно твердил Агапито.
– Мы враги, когда речь идет о земельной собственности. Да у кого, скажи ты мне, пожалуйста, нет тяжбы с соседом? А тут дело совсем другое, тут – преступление. Как судья, я обязан поступать по закону. Разве осудил я когда-нибудь невиновного? Можешь ты это сказать?
Молчание.
– Ну так как?
Выборный колебался.
– Не знаю я, доктор.
– Мне известно, что ты ни в чем не виноват. Мне просто нужны формальные показания, чтобы закрыть дело. Лучше уж поскорее закончить расследование, а то еще кого-нибудь обвинят зря. Надо разъяснить все разом.
– Ну тогда…
– Спасибо за доверие, Роблес. Жду тебя в суде.
И судья вышел. Не скоро пришли в себя члены Совета Янакочи. Никогда еще не видали они судью Монтенегро таким добрым, таким покладистым.
– Судьюто не узнать вовсе! – сказал де ла Вега.
– Вот бы он таким был, когда насчет земли мы прошения подаем, совсем по-другому бы дело повернулось, – промолвил Рекис мечтательно. – Люди меняются с годами. Что ж, может, и судья тоже переменился. Может, он такой теперь все время будет, так и беспокоиться нам не о чем. В Янакоче многим уж надоело воевать-то с ним.
Боль почти совсем утихла. От доброты судьи, от свежего воздуха, от вида оживленной улицы Агапито Роблесу с каждой минутой становилось лучше. Сопровождаемый стражником Пасом, он пересек площадь и вошел в здание суда. Судья Монтенегро, секретарь суда Пасьон и писарь Дель Карпио ожидали его.
– Садись, сын мой.
Пасьон с изумлением уставился на любезного судью.
– Агапито болен, – объяснил тот.
«Неужто и впрямь судья сделался добрым?», – подумал Агапито.
– Агапито Роблес! Излишне предупреждать тебя, что ты находишься в суде и должен говорить только правду. Знал ты покойного Леандро?
– Да, доктор.
– Ты был его другом?
– Нет, доктор. Я с ним двух слов не сказал. Он был пеоном в вашем поместье. А я живу в Янакоче.
– Видел ты его накануне убийства?
– Меня не было в наших краях, доктор.
– Когда ты видел его в последний раз?
– За неделю до убийства я его видел, он в большой барабан бил на празднике в честь святой Розы.
– Хорошо, довольно. Вот видишь, как все просто. Скоро вас отпустят на свободу.
Судья добродушно улыбается, секретарь хлопает глазами за дряхлым ундервудом, сверкает на фотографии тройная полоса наград, украшающая грудь президента Прадо. Обо всем этом вспомнит Агапито Роблес в то утро, когда в зале суда в Уануко услышит чтение приговора. Там, в зале суда в Уануко, услышит он, что выборный Янакочи Агапито Роблес на допросе в суде первой инстанции в Янауанке признался, что убийство Амадора Леандро было совершено преднамеренно, по приказу представителей общины Янакочи.
Через три дня после приговора их погрузили на «Независимость», в порту Чипипата посадили на грузовик и повезли в Серро, в тюрьму. А прежде чем кончился янвабрь, как утверждали одни, или маябрь, как утверждали другие, отправили отбывать срок обратно в Уануко.
Глава шестая
О причинах, в силу которых Леандро-Дурак и Святые Мощи не получили генеральского звания
Солидоро – бывший пастух, а ныне капитан катера «Горяночка» – рассказывал, будто дон Мигдонио де ла Торре тратит все, что имеет и чего не имеет. Скупость дона Мигдонио была известна, и потому бывшему пастуху не поверили. Однако вскоре слова его подтвердились: Нуньо – сводник и первый надсмотрщик дона Мигдонио – целыми днями бороздил озеро на катере, до краев нагруженном всяким добром. Местные торговцы вдруг разом продали все запасы, какие у них были виски, анисовый ликер, вино, консервированные устрицы, тунец, семгу, икру, привезенную из Уануко, фрукты, галеты, карамель, печенье. Потом послали в Серро, откуда приказано было привезти: шарманку вместе с обезьяной (sic), шесть дюжин ложек (sic), трех эквилибристов, барабаны, шпаги, гренландские почтовые марки, трехколесный велосипед, поэмы Бекера, шесть пар роликовых коньков, а также национальные флаги Германии, Франции, Англии и Японии (sic). Музыканты закручинились – донья Пепита вызывала их на свои праздники, а дон Мигдонио де ла Торре приказывал тотчас же явиться к нему. С Нуньо шутки плохи. Когда все музыканты в Успачаке выдохлись, он с револьвером в руке загнал на свой катер оркестр, приглашенный по контракту на праздник св. Роха. Это бы еще ничего, но тут Солидоро заявил во всеуслышание, что такой кабальеро, как дон Мигдонио де ла Торре, просто не имеет права топтать свое прославленное имя». Никто не решился спросить, в Чем дело. Очень уж почитали в Янауанке дона Мигдонио, ибо благодаря этому вельможе все местные торговцы разбогатели – он купил еще дюжину швейных машин «Зингер» (sic) патефон «Виктор» с собачкой, собачку (без патефона «Виктор»), сто календарей, восемьсот шесть катушек серпантина, семена земляники (sic), тридцать парт, дюжину комбинезонов, дюжину костюмов тореро, бандерильи и книгу «Сокровище молодости», относительно которой пришлось консультироваться с директором школы Венто (sic). Maypo Уайнате получил заказ на пошивку двенадцати мундиров, но только двойных – так, чтобы спереди был генеральский мундир, а сзади – адмиральский.
Остановясь в дверях мастерской, Нуньо прибавил:
– Размер в расчете на человека ростом не больше одного метра.
А что совсем уж скандально: Мака полновластно распоряжалась кошельком дона Мигдонио и раздавала все эти чудесные вещи кому ни попало: каким-то дурачкам, беднякам и даже индейцам. Солидоро, хоть и наживался, поскольку именно его катера фрахтовал Нуньо, твердил тем не менее, что, «если сеньор де ла Торре не сумеет выбраться из-под бабьего каблука, власти должны будут принять меры, дабы прекратить подобное безобразие». Мака начисто заморочила голову дону Мигдонио. Но и этого ей было мало. То и дело она пропадала на неделю или больше с каким-либо своим «другом». И тогда на бешеной скорости носились в поисках беглянки катера из одного порта в другой. В первый раз дон Мигдонио отыскал ее в портовом кабаке. Она завтракала с каким-то коммивояжером. Дон Мигдонио возопил, преисполненный негодования, но Мака спокойно перебила:
– Ты что, купил меня? Думаешь, меня можно купить за Деньги, которые ты высасываешь из своих рабов?
– Но, Макита, ради бога…
– Не кричи, помещичек, тут твоих пеонов нету. Только благодаря моей слабости такому ничтожеству, как ты, довелось есть за моим столом и спать в моей постели. Но я могу с этим и покончить.
– Макита…
– Отвечай, когда тебя спрашивают, наглец!
– Но ты же ни о чем не спрашивала, любовь моя.
– А ты должен всегда иметь ответ наготове.
– Я на все согласен, моя королева.
– Тогда почему не надеваешь фартук и не несешь завтрак моему другу, инженеру Альписте?
– Сеньор Альписте не инженер. Он рекламирует медицинские товары.
– Если я так хочу, значит, он инженер!
«И тут, черт меня побери, она улыбнулась – словно целый ворох гвоздик, разноцветных и ароматных, просыпался на меня. Сердце мое билось, я совсем голову потерял, потому что я мужчина, обыкновенный мужчина из мяса и костей, и каждое утро я благословляю творца за то, что живу на одной планете с ней, а каждый день проклинаю свою участь, проклинаю тот час, когда скрестились наши пути на земле с ней, с мучительницей моей, с синеглазой разбойницей».
А Мака все улыбалась. Она погладила по голове испуганного коммивояжера. И голосом мягким, нежным, слаще меда из Курауаси, попросила:
– Принеси нам, пожалуйста, завтрак. Но только фартук надень.
– Фартук?!
– Ведь это же игра, дорогой, это игра. Будь хорошим. Сделай мне одолжение, ну разве тебе трудно? Ты же знаешь, когда ты не слушаешься, у меня так тяжело становится на душе…
И синие глаза ее затуманились слезами. Дон Мигдонио совсем растерялся. Мака обняла гитару – это был знак продолжать веселье.
«Я покорился ее улыбке, – улыбке, которую буду помнить через триста лет после того, как мое тело сгниет в этой проклятой земле. Вот как она растоптала меня, унизила у всех на глазах! Да что там! Я бы еще и не на такое пошел! Но вот однажды Мака вместе со своей свитой решила отправиться в путешествие «при возмутительном попустительстве наших политических, судейских и муниципальных властей». Брехня!
Однажды в полдень прочерченного воробьями четвердельника «Королева Анд» бросила якорь у пристани Янауанки. Глаза Святой Девы Заступницы, а грудь, а плечи, уши, шея, бедра, умягченные жиром дикого голубя! Женщина, которая повергла бы к своим стопам всех этих пресловутых героев, что торчат на пьедесталах, сошла на берег в сопровождении свиты дурачков. Мака говорила всегда, что «одни только дурачки да сумасшедшие заслуживают доверия», и потому подбирала их везде, где только ни встречала, – в портах, в деревнях, на дорогах. Она дерзко давала им имена наших национальных героев. Карлика, который вечно воровал карамель (от этой привычки невозможно было его излечить), она назвала Генералом Прадо. Крошечный пузан, вдобавок еще волочивший ногу, звался у нее Полковник Бальта. Два дурачка из Чакайяна удостоились звания генералов и именовались Ла Map и Гамарра. Толстяк с громадным зобом звался Маршал Писаймного. И, несмотря на все мои мольбы, мне не удалось убедить ее переменить имя идиотику, который был окрещен Президентом Пиеролой. Еще через несколько дней она взяла к себе Леандро-Дурака и Святые Мощи, но эти двое – хоть и были такие же точно дурачки, как и те, что удостоились высоких чинов, – получили звания всего лишь майоров».
Глава седьмая,
в которой устанавливается личность автора фресок в церкви Янауанки
Дон Мигдонио де ла Торре приказал вдове Ловатон, содержательнице пансиона «Мундиаль», выгнать вон всех своих жильцов и пансионеров. Могла ли она противиться? Дон Мигдонио сам лично явился удостовериться, что пансион пуст, и пришел в страшное негодование, когда выяснилось, что, стремясь вместить как можно большее число клиентов, вдова с помощью фанерных перегородок и даже листов ярко раскрашенного картона, грязного и заляпанного жирными и иными пятнами, поделила свои комнаты на множество клетушек. Дон Мигдонио велел Нуньо привести пансион в приличный вид.
Тот выслушал приказ спокойно, но душа его взволновалась. Он тоже вздыхал по Маке. Часто со слезами глядел он на красавицу, но всякий раз, когда Мака это замечала, Нуньо опускал голову и ворчал, уверяя, будто пыль летит прямо в глаза. Мака одевалась и раздевалась при слугах. Здесь ли Нуньо или она одна в четырех стенах, ей было все равно. Нуньо ведь тоже мужчина, ну, значит, «хуже всякого козла».
Под водительством Нуньо отряд пеонов в течение недели разобрал перегородки, выскреб полы, починил лестницы, выкрасил стены. После этого Нуньо отправился в Янакочу. Пассажиры «Акулы», привыкшие к подвигам Нуньо, не могли надивиться его скромности. Еще больше удивились жители Янакочи, ибо Нуньо вежливо с ними поздоровался и спросил, как найти дорогу к дому Директора школы Венто. Директор тоже был весьма изумлен.
– Добрый день, сеньор Венто. Мой хозяин почтительнейше просит вас принять от него в подарок эти пустяки.
Два пеона принялись вносить мешки с мясом, картошкой, кукурузой и сырами. Всего этого семейству Венто хватило бы по крайней мере на месяц.
– Можно ли узнать, чему я обязан таким вниманием?
– Я к вам с просьбой, сеньор Венто: от себя, не от хозяина.
– Чего же ты хочешь, сын мой?
– – Хозяин велел мне привести в порядок пансион к приезду госпожи Маки. Мы славно поработали. Но теперь хотелось бы, чтоб вы помогли раздобыть какую-нибудь картинку с ангелочками. В селении говорят, будто у вас есть книжка с разными такими картинками.
– Я что-то не пойму тебя, сын мой.
– Госпоже Маке понравится, если в спальне повесить картинку с ангелочками. Вот я что думаю.
– А у тебя есть живописец?
– Я сам срисую.
Сеньор Венто задумался. Давно уж он собирался обратиться к местным землевладельцам попросить денег на парты для школы. А тут – такой случай, можно завести дружбу с самим доном Мигдонио де ла Торре.
– Подожди, сын мой.
Со стеллажа дон Венто извлек «Гении живописи» и стал показывать Нуньо репродукции с картин Джотто, Фра Анжелико, Леонардо, Микеланджело, Рафаэля.
– Устроит это тебя?
– Вроде бы, сеньор Венто. Могли бы вы дать мне эту книгу на несколько дней? Вели хотите, я оставлю залог. Мне дано разрешение тратить сколько угодно, лишь бы принять госпожу Маку как подобает.
– Не надо залога, сынок, – вздохнул директор. Он готов был пожертвовать всей книгой, только бы добыть парты. Однако решил сохранить все же хоть что-то, вырвал страницу с изображением Мадонны дель Альба Рафаэля и дал Нуньо.
Через семь дней «Королева Анд» пришвартовалась в Янакоче. Два пеона выгрузили шесть корнетов и шесть барабанов для школы; кроме того, пеоны привезли дону Венто письмо, в котором «просвещеннейшего директора школы Янакочи, светоч педагогической науки нашей провинции», просили «соблаговолить посмотреть картинку». Сеньор Венто так или иначе собирался ехать в Янауанку – надо было опровергнуть обвинения в антиправительственной агитации, которые выдвинула против него донья Пепита Монтенегро. Он решил воспользоваться случаем и отправился. В Янауанку сеньор Венто прибыл в 10, слушание же дела было назначено на 12. Дон Венто решил пойти поблагодарить за подарки и заодно посмотреть, что там намалевал Нуньо.
Пансион «Мундиаль» нельзя было узнать, фасад поражал своим великолепием. Нуньо, томный, рассеянный, пригласил дона Венто войти. Вместо старой закопченной столовой тот увидел роскошный зал, не хуже чем в самом шикарном городском ресторане. Потом вошли в спальню, предназначенную для Маки. И тут у дона Венто закружилась голова. На стене висела картина Рафаэля. Та самая, и в то же время совсем другая. Озеро, деревья, дома, холмы за спиной Мадонны – гораздо ярче, зримее, реальнее, чем у Рафаэля. Ошеломленный, даже испуганный, дон Венто поглядел на ангелов – они были прелестны, рафаэлевы рядом с ними казались просто набросками неумелого, начинающего художника. А Мадонна? И следа пресной беспорочности не было на ее лице. Она улыбалась, светилась победной улыбкой Маки Альборнос!
– Это не могла написать рука человека! – воскликнул дон Венто.
– Вам нравится, сеньор?
– Не мог человек это сделать! – снова повторил дон Венто.
– Могли бы вы дать мне еще картиночку, сеньор Венто?
– Конечно, сын мой. Любую, какую захочешь!
Дон Венто вышел из пансиона, задыхаясь. Воробьи чертили по небу. Дон Венто отправился в суд оправдываться, его обвиняли в подстрекательстве к «захвату» земли, принадлежащей владельцам поместья «Уараутамбо». Ведь жители Янакочи засеяли участок Уахоруюк, а это, по мнению Монтенегро, называлось «незаконный захват чужой земли». Так начались мучения директора школы Венто, но тогда он еще не знал, что им суждено тянуться целый «год». В Полицейском управлении ему сказали, что свидетельство о его благонадежности «находится на подписи». Наконец, сеньора Венто отпустили, и он, вместе с Нуньо, сел на «Акулу» и возвратился в Янакочу. Снова принялся Нуньо рассматривать книгу «Гении живописи». Задумчивый его взгляд остановился на репродукций «Весны» Боттичелли. На этот раз дон Венто вырвал лист без малейших колебаний.
Через несколько дней Нуньо прислал пеона. Тот притащил трех барашков и письмо с просьбой приехать в Янауанку, «чтобы исправить ошибки в картинке». Не теряя ни минуты, дон Венто сел на катер. Прямо с пристани он направился в пансион «Мундиаль». Вошел, не постучав, в залу… Да так и зашатался. На стене сияла картина, которую даже и сравнить-то нельзя с жалкой пачкотней Боттичелли.
– Нуньо…
– Да, сеньор?
– Не знаю, что с тобой случилось. Одно только скажу: я готов всячески помогать тебе украшать этот пансион, я полностью в твоем распоряжении.
Через несколько дней прибыла Мака со свитой генералов (впрочем, на этот раз дурачки были наряжены адмиралами). С гордо поднятой головой, не отвечая на приветствия изумленных а испуганных жителей, проследовала она по улицам Янауанки. Мака поселилась в пансионе, вернее сказать, поселила там своих адмиралов.
– Это будет комната Генерала Гамарры, в этой пусть живет Полковник Бальта, а это как раз то, что надо для Генерала Иглесиаса, а вот эта, с некрашеными стенами, для Генерала Гутьерреса.
– Тут должны жить господа, – простонал Нуньо.
Мака повернулась к нему.
– Ты в армии служил, Нуньо?
– Нет, госпожа.
– Если б ты служил родине вместо того, чтобы поставлять своему хозяину музыкантов и шлюх, ты бы знал, что в армии существуют звания. Я просто женщина, у меня нет никакого звания. А они генералы и адмиралы. Надо сначала их устроить, а там видно будет.
– Тут должны жить господа, – снова возопил Нуньо.
Мака рассмеялась.
– У тебя, Нуньо, башка плохо варит. Генералы, по-твоему, не господа, что ли?
– Но, хозяюшка…
– Ах, черт побери! Ты, видно, тоже считаешь, будто наши перуанские генералы для того только и существуют, чтобы в мирное время мы их кормили, а в военное – защищали?
– Госпожа!
– Если ты, Нуньо, хочешь поставить на своем, возьми да купи себе пансион и устраивайся там как знаешь, а блаженных обижать нечего.
Пришлось расселять адмиралов. Генерал Ла Map расположился в комнате, предназначенной Маке. Генералы Крисанто и Гутьеррес заняли боковые спальни, а Генерал Прадо и Полковник Бальта – смежные комнаты. Святые Мощи и Леандро-Дурак, простые майоры, вынуждены были довольствоваться столовой, которую и запакостили, ибо их постоянно рвало от неумеренного потребления шоколада. Пукало, артисты римского цирка и музыканты устроились на втором этаже.
Мака вышла из пансиона, предшествуемая отрядом дурачков, пересекла площадь, не замечая ни ошеломленных зевак, ни пыла и пламени прогуливавшихся сеньоров, остановилась у двери клуба, где собирались местные сливки общества и куда ни разу еще не ступала нога ни одной женщины. Спокойно вошла Мака в клуб, приблизилась к стойке.
– Рюмку водки.
– Высшего качества? – пробормотал, заикаясь, бармен.
– Большую.
Бармен заколебался. Но младший лейтенант Тарамона, командир полицейского отряда, тотчас поставил его на место.
– Ты что, не слышишь, негодяй? – крикнул он. И поклонился Маке. – Простите за грубое слово, сеньорита. Я увидел, что к вам проявляют недостаточно внимания, и гнев, охвативший меня, пересилил чувство почтительного преклонения перед вашей невиданной красотой.
Младший лейтенант был родом из Лимы, столичная штучка, умел беседовать с дамами.
Командование 21-м военным округом решило разом пресечь бесконечные разговоры о беспорядках. Землевладельцы провинции Паско, где разворачивалось второе восстание, потребовали увеличить наличный состав полицейских войск. Полковник Салата направил в Паско подкрепление из пятнадцати полицейских под командованием младшего лейтенанта Тарамоны, человека ловкого, мастера на все руки.
– Разрешите ли вы офицеру, у которого за душой нет ни гроша, но зато в душе глубокое уважение к перуанской женщине, разрешите ли вы такому человеку поднять бокал в вашу честь?
Мака улыбнулась младшему лейтенанту «улыбкой, которая сразу и наповал сражает мужчину, даже если он участвовал в войне против Эквадора и не дрожал под неприятельским огнем».
Было пять часов того самого дня, «что навеки останется днем скорби для всех матерей семейств нашей провинции, которые имеют право с высоко поднятой головой произносить слово «честь». В шесть младший, лейтенант заказал фаршированный перец по-арекански и утку с луком под маринадом. В семь судья Монтенегро увидел, «как полыхали па ее лице два голубых костра там, где у всех нас, обыкновенных сволочей, бывают просто глаза» (Мигдонио де ла Торре). Смущенный дерзким вторжением женщины в клуб, раздавленный ее невиданной красотой, судья только поднимал свои жидкие брови. Но вот Мака улыбнулась, и судья снял шляпу.
– Доктор Монтенегро, – сказал младший лейтенант Тарамона, – позвольте представить вас сеньорите Маке Альборнос, которая почтила наш город своим присутствием. Сеньорита Альборнос, позвольте представить вам доктора Монтенегро, судью первой инстанции, светило местной юриспруденции. Сеньорита Альборнос, доктор, намерена поселиться в нашей столице.
Впервые со дней самой ранней своей юности судья ощутил робость, почувствовал себя глупым, неуклюжим. «И на глазах людей, которые оставались равнодушными, хотя именно их обязанность блюсти священные основы христианского общества» (Заявление оскорбленных женщин), началась оргия и кончилась лишь на третий день, когда на рассвете Мака, вдруг став серьезной, спросила:
– Сегодня воскресенье?
– Воскресенье, понедельник или вторник – все, что вы захотите, сеньорита Альборнос, – засюсюкал судья.
Мака потрепала его по щеке.
– Ты отвечай, что тебя спрашивают, Пако. Воскресенье сегодня?
Судья побледнел. Присутствующие уважаемые лица смущенно отвели глаза.
– Воскресенье.
– Нет, понедельник.
– Конечно, понедельник.
– Нет, – сказала Мака. – Сегодня воскресенье.
И снова рассмеялась, «а от улыбки ее бросало в дрожь даже такого человека, как я, который спокойно чистил ногти под неприятельскими пулями» (младший лейтенант Тарамона). Мака покинула клуб, сопровождаемая толпой генералов, опять пересекла площадь и вошла в лавку Соберо. Там она купила мантилью. Накинула и отправилась в церковь. Отец Часан только что собрался причащать верующих. Мака (вот безбожница!) простерлась ниц. «Разве можно волчице давать святое причастие?» (Хосефина де лос Риос). Увидев перед собой женщину, до ужаса похожую на святую Розу Лимскую, отец Часан вздрогнул. Он подал гостию Маке, потом в смятении причастил генералов. Со сложенными руками вышла Мака из церкви. Она стала вдруг набожной, и потрясающий пир, к которому готовились нанятые доном Мигдонио музыканты, был отменен. На другой день Мака снова явилась в церковь. Пять дней глядел на нее отец Часан. На шестой он не выдержал – объявил, что месса начнется в шесть утра. Однако Мака пришла ровно в шесть вместе со своими безгрешными адмиралами. Тогда отец Часан назначил мессу на четыре утра. Когда он вошел в церковь, Мака молилась, закрыв глаза. Чаша с причастием выпала из рук священника.
Глава восьмая
О том, как Эктор Чакон залил слезами всю тюрьму Уануко
Улицы пустели при его приближении. Стоило ему присесть где-либо на скамью, соседи мгновенно исчезали. Даже дети убегали. Один только директор школы Венто пришел к нему, поздравил с благополучным возвращением. Директор постарел. Дрожащим голосом рассказывал он Агапито все, что произошло за эти сто восемьдесят лет.
– За сорок лет. У нас сейчас тысяча девятьсот шестьдесят второй, – сказал Агапито и показал старику дату на газете, привезенной из Уануко.
– Так это там, в мире. А у нас в Янакоче две тысячи сто восемьдесят второй год. Мне пришлось перенести школьные экзамены. Я жалкий трусишка, Агапито.
– Драться – не ваше дело, дон Венто. Вам мозгами надо работать, а мозгов у вас, слава богу, хватает. Но что же наши члены Совета молчат?
– Нет у нас больше членов Совета, сын мой. Судья сместил их.
– Как это он может сместить членов Совета? Руководители общины ему не подчиняются.
– Закон гласит, что лица, являющиеся потомками преступников, не имеют права занимать выборные должности. А так как вы все сидели в тюрьме… Ты тоже уже не выборный.
– А что говорят в селении?
– Никто и пикнуть не смеет.
– А Исаак Карвахаль?
– Работает в муниципалитете.
– Как! Исаак Карвахаль выполняет приказания сеньоры Монтенегро?
– Да, вот так, сын мой.
– А Сиприано Гуадалупе?
– Его тоже не видно.
– А мои товарищи по заключению?
– Все тихими стали. Как вернулись, сержант Атала к каждому заходил, что он им говорил, не знаю, а только с тех пор ни один и рта не смеет раскрыть. Совет общины не собирается больше. Даже слова «прошение» в селении не услышишь.
– Ради чего же пожертвовал собою Эктор Чакон? Ради чего умер дон Раймундо? Ради чего столько времени страдали мы в тюрьме?
Агапито вышел из дому. Была лунная ночь. Пели сверчки, сияли на небе звезды. Агапито поднялся на склон Кенкаш, увидел металлический блеск озера, расплывающиеся огни столицы провинции. «Ради чего погибло столько народу?» – снова подумал он.
И вспомнил Агапито ночь в тюрьме Уануко, когда члены Совета селения Янакоча поклялись не оставлять борьбу против поместья «Уараутамбо». Год сидели они в тюрьме, в старой заброшенной церкви. В полуразвалившемся, пропахшем нечистотами нефё задыхались пятьсот человек арестованных. Тесно, один к другому, стояло около сотни старых деревянных топчанов – их занимали те, кто уже давно находился тут; новенькие стелились на полу – у кого матрац, у кого одеяло, а то и просто газета. Членов Совета Янакочи держали здесь до тех пор, пока Эктор Чакон, по прозвищу Сова, не решил взять на себя вину, сознаться в убийстве Амадора Отсеки-Ухо. С дрожью вспоминал Агапито Роблес то время. Неистребимой ненавистью горели зоркие, как у хищника, видящие в ночной темноте глаза Эктора Чакона. Родную дочь ненавидел Чакон.
– Все у меня было готово, чтоб убить судью Монтенегро. Старая Сульписия дала мне свое платье. Переоделся бы я нищенкой, пробрался в дом судьи и задушил бы его. Полицейские стерегут двери дома, но в женском платье можно было бы пройти. Родная дочь предала меня. – Сова вздрогнул. – Гнил бы сейчас в сырой земле судья Монтенегро. Одна только Хуана да ее мать знали, что спрятался я в амбаре. Хуана предала меня!
– Если дочь твоя тебя предала, то, верно, не по своей воле а с горя, – сказал Исаак Карвахаль. – Искали тебя полицейские искали, никак не могли найти, вот и взяли твоего зятя Калисто Ампудию. Я тогда недалеко от Полицейского управления жил. Я свидетель. Каждую ночь они привязывали твоего зятя к балке били и требовали, чтобы сказал, где ты.
– Он не знал.
– Они-то думали, знает. Били его дни и ночи! По всему селению слышно было, как он кричал. А по утрам дочь твоя приходила к дверям Полицейского управления, молила, чтоб не убивали мужа. Если и выдала она тебя, так чтобы спасти отца твоих, внуков.
– Хуана меня предала. Хуана умрет. Предателей убивают.
– Нет, Эктор, только не это. Не проливай ее кровь.
Не выдавала я вас, папа. Я в то утро не пошла в Полицейское управление. Полиция вас разыскивала, а семья Ампудия и давай меня проклинать – из-за тебя, говорят, Калисто убьют. Мой муж умирал. В полиции его к балке подвешивали. До сей поры он болеет. Тяжелого поднять не может, слабый такой, никуда не годится. Потому что мучили его там из-за меня. Его родные мне кричали: «Из-за тебя беда эта на него свалилась!»
– Убьешь ты свою дочь, приговорят к пожизненному заключению. Никогда из тюрьмы не выйдешь. Монтенегро будет смеяться над тобой.
– Верно.
– И все наши враги доживут до старости в богатстве и счастье.
– Верно.
– Знаешь, кто распускает слух, будто дочь тебя выдала? – вступил в разговор Агапито Роблес. – Секретарь суда Пасьон!
– А ему-то что?
– Пасьон все делает, как судья Монтенегро велит. Зачем бы судья стал нам помогать – рассказывать, кто нас выдал? Они нарочно распускают такой слух, дойдет до тебя, горько тебе станет. Враг хочет горечью наполнить твое сердце.
– Видно, так. Стараются они мой гнев в другую сторону направить. Вот и очернили дочь. Слушай, Агапито, можешь ты написать за меня письмо?
Агапито раздобыл бумагу, карандаш.
– Пиши: «Доченька! Люди говорят, будто ты выдала меня полиции с горя…»
Я не выдавала вас, отец. Вы прятались в горах, вы не видели. Чугуны дрожали на кухне. Злые силы обрушились на нас, папа. Черные куры хохотали, издевались, предсказывали худое. Вы-то не видели, вы ушли из селения! Околдовали нас, а от колдовства туман идет, все застилает вокруг. Храбрых колдовство не берет. Вы храбрый. Туман стоял вокруг нашего дома. Стены потеть начали. Устали они. Клянусь вам, отец, вот этим святым крестом клянусь, все так и было! В амбаре кто-то все клювом стену долбил, а ведь птицы там никакой не было. Окна сами собой то отворялись, то затворялись. Туман со всех сторон нас окружил. У соседей спросите – туманное облако день и ночь стояло на месте нашего дома. И этот туман колдовской постепенно все у нас съел. Сперва осел наш зачах. Худеть начал, худел, худел, совсем маленький стал…
«Знаю, что зятя, моего Калисто Ампудию пытали из-за меня. Знаю, как ты каждое утро, покрыв голову шалью, стояла у дверей Полицейского управления. Видно, не смогла ты больше терпеть все это, и когда пробрался я в наш амбар, чтоб картошки взять…»
Все меньше да меньше наш ослик становился. Сперва с козленка величиной, потом с котенка, а после и совсем пропал. Читали мы «Отче наш» наоборот, от конца к началу, чтоб порчу снять. Нет, не помогло! Пропал осел, а потом на лошадей порча напала. Вы оке знаете Победителя. Вот и начал он сохнуть. С каждым днем становился все меньше, меньше…
«Доченька! Я борюсь против сильных, чтоб защитить слабых. Ты слабая. Прощаю тебя и твою мать. Скоро будет День заключенных. В этот день всем, кто в тюрьме сидит, всем до одного, разрешается свидание с родными. Приходите, не бойтесь. Может, не верите, что я вас простил, пусть тогда зять сначала придет, поговорим, сам увидит».
Брат Ригоберто насажал вокруг дома колючих кустов. Наутро колючки покрылись каплями крови – кто-то пытался прорваться к дому. Плакали мы…
Скоро порча нас всех одолеет. Шаг за шагом она все ближе подбирается. Сделай, говорю, что-нибудь, мамочка!
А что могла сделать наша мамочка? Только плакала.
– Иссохнем мы, как наша скотинка.
Сделай оке, говорю, что-нибудь, мамочка.
Начал сохнуть рыжий бык, стал с теленка.
– Вот так и мы высохнем, мамочка.
– Давайте снова читать «Отче наш».
Деревья и камни тоже ссыхались. Вы скрывались в горах, папа. Вас порча не задела. А мы сохли да сохли.
«…И принесите внука. Я хочу посмотреть на него. Я сделал ему деревянный автомобильчик. Красный автомобильчик с желтым рулем».
Однажды утром вы вернулись ненадолго домой. Мы плакали.
– О чем вы планете?
– Как не плакать? Скоро превратят нас в лягушек, папа.
Вы рассердились.
– Хватит глупости-то болтать! Неужто вы мои дети? Не верю! От кого вы родились? Смелым надо быть, никакая порча не одолеет.
Как же не одолеет, папочка? Шаг за шагом приближались к нам злые силы. То камень выпадет из стены, то ветка в саду обломится. С порчей никому не справиться. Это Виктория из Ракре напустила. Судья Монтенегро ее нанял. Хочет в зверушек нас превратить, чтобы вас напугать.
Через тридцать дней Эктор Чакон получил ответ. Обезумевший от радости, ворвался он в камеру.
– Прочти, кум! Ну-ка, что тут написано?
Выборный Роблес прочитал письмо.
– Твои родные приедут повидаться с тобой, Эктор. Жена твоя, дочь и внук. В День заключенных.
Обрадовался Сова. Здесь, в тюрьме, он был старостой группы из пятнадцати человек. Они плели корзины и другие вещи, по воскресным дням продавали. Так что денежки у Эктора водились: заказал он для родственников двенадцать пар обуви. Начальство разрешило угостить всех жаренным на угольях мясом. Теперь в тюрьме только и говорили о предстоящем роскошном пире.
Собрали деньги, купили свинью, барана, козленка, кур, закололи накануне, купили картошки, кукурузы, бобов, выкопали яму для костра.
Сова так и сиял весь. Наступил наконец, день свидания. Эктор нарядился в новое платье. Выставил в ряд двенадцать пар ботинок и деревянный автомобильчик. Делегация от заключенных отправилась к начальнику тюрьмы – просить водрузить флаг Перу над горкой разделанного мяса. Было десять часов. Сова просто изнемогал от нетерпения. Двор стал наполняться посетителями. Одиннадцать часов. Зажгли костер, стали жарить мясо. Двенадцать. Заключенные ели мясо, передавали друг другу кукурузу, крольчатину, лакомились умитас. Агапито Роблес наполнил миски Эктора. Сова поднял взгляд к безоблачному синему небу. Час дня. Я должен подождать своих. Два часа. Кушанья перестали дымиться. Три. Жир застыл в кастрюлях. Четыре. Машинально жевали жители Янакочи, грустно глядели на Эктора Чакона, оцепеневшего в тоске. В пять часов раздался свисток – свидание окончено. Бледный-бледный, с опущенной головой, стоял Чакон посреди двора. Поднял руки к небесам и возопил:
– Дочь моя предала меня, и я простил ее! К двадцати годам приговорили меня, и один только раз хотел я увидеть своих родных. Обещали они приехать и не приехали.
– Может, полиция не разрешила. – Агапито Роблес кашлянул. – Может, моторки не нашлось.
Блеснули на глазах Чакона жгучие слезы, одна, другая…
– Ничего не поделаешь, кум! Такая уж моя доля! И зачем только я на свет родился? Зачем смерть не приходит за мной? Для чего мне жить? Нет у меня родной души на этом свете!
– Не горюй, Эктор. Мы с тобой.
– Вы будете со мной несколько месяцев, несколько лет. А я останусь в тюрьме всю жизнь. Вы выйдете на волю и забудете обо мне. Я понимаю. Тот, кто свободен, всегда забывает. Я не сержусь.
И заплакал. Плачет Эктор Чакон, самый смелый человек в нашей провинции, горючими слезами обливается. Льются по щекам его слезы, застревают в морщинах. Долго рыдал он. Наконец затих.
– Где мои миски? – спросил спокойно.
Либерато подал ему миски с кусками жареного мяса. Стал Сова раздавать мясо.
– Ешьте, братья!
– Оставь себе, Эктор.
– Грешно еду выбрасывать. Берите! А башмаки где? – Снова уставил башмаки в ряд. Крикнул: – Кто хочет купить двенадцать пар замечательных башмаков, женских и детских? Отдаю по дешевке, за одну только кожу возьму!
Шесть часов. Засвистел часовой – пора на ночлег. Уже в дверях позвал Эктор Чакон:
– Подойдите ко мне, земляки, на минутку!
Отошли остальные заключенные в сторонку. Окружили жители Янакочи Чакона. Бледен был Чакон.
– Братья, – сказал он. – Уже целый год вы здесь, обвиняют вас в преступлении, которого вы не совершали.
– Год и десять дней; – поправил. Либерато.
– Не надо мне было соглашаться давать показания судье Монтенегро, – вздохнул Агапито Роблес.
– Он твои показания переделал по-своему. Да все равно судья всегда сумеет оклеветать нас. Так ли, эдак ли, а обвинили Совет общины, вот вы и сидите здесь. А за Янакочу и заступиться некому. Поместье «Уараутамбо» что хочет, то и творит. А что нам сказал в прошлом месяце выборный из Ярусикана, помните? Нарочно для этого из Хунина приходил. Говорит, в пампе люди решили бороться, решили вернуть свои земли. Общины постановили – взяться за оружие, у солдат да у полицейских отнять. А начинать надо с поместья «Уараутамбо». Его захватим – все, как один, бросятся в бой. Я помню, вестник из Хунина так и сказал: «Командование народными дружинами общин Паско требует взятия Уараутамбо, а этого можно добиться, только если выборный Агапито Роблес выйдет на свободу и поднимет свою общину». Поглядел Сова на своих земляков.
– Агапито Роблес выйдет на свободу!
– Но как? Меня же в убийстве обвиняют, как и вас. Покуда не найдется убийца, не выпустят.
– Убийца – я! Признаюсь, скажу, будто убил Отсеки-Ухо. Если надо, возьму на себя вину за все преступления, все, что свершены, свершаются или будут свершаться в нашей провинции. За кражи, убийства, насилия, мошенничества, за все, что угодно! Все беру на себя. Любое обвинение, любой приговор, любой позор будет для меня честью, если ты, Агапито, выйдешь из этой пакостной ямы. Я буду гнить здесь до конца своих дней, но ты возьмешь штурмом неприступное поместье «Уараутамбо». Недалеко то время. Вот победно выступает наша община. Мы идем, мы шагаем по своей исконной земле, которую у нас украли. Слышишь ты крики, видишь ли, как развевается наше знамя? Удирает судья Монтенегро, и с ним удирают все господа, все захватчики вашей земли!
Глава девятая
О свадьбе Маки Алъборнос с доном Солидоро Сиснеросом де ла Торре
– В чем дело, Нуньо?
– Мой хозяин просит разрешения видеть вас, госпожа.
Мака сидела на ковре в углу двора под сенью мастикового дерева, искала в голове у Генерала Крисанто.
– Где этот кровопийца?
– Ждет у дверей. Он привел музыкантов. Вы слыхали когда-нибудь «Андских щеглов», госпожа? Замечательно поют! Я ездил в Серро по делам и там их нашел, они играли на празднике в Ранкасе. Чего мне стоило уговорить их разорвать контракт. Но ради вас.
– Вот кстати! Генерал Крисанто как раз собирается делать смотр офицерскому составу. Скажи своему хозяину: музыкантов пусть оставит, а сам отправляется восвояси.
Огромный дон Мигдонио де ла Торре вошел, согнувшись, разгладил рыжую бороду. За ним – музыканты. Мака по-прежнему вычесывала вшей у Генерала Крисанто. Тот грыз яблоко, гундосил:
– До чего вкусный цыпленочек!
Генерал путал вкусовые ощущения. Ел курицу и восклицал: «Какая вкусная рыбка!» – или же ел персик, бормоча: «Что за вкусный шоколад!»
– Разрешите, Макита…
– Донья Мака.
– Разрешите, донья Мака, сказать, как я рад служить вам. Я знаю что вы любите музыку, и позволил себе привести сюда «Андских щеглов», знаменитый в наших горах ансамбль, чтобы они спели вам, какие вы захотите песни.
Мака улыбнулась. Музыканты оцепенели.
– Военные марши умеете играть?
– Умеем, прекрасные марши, сеньорита.
– Отлично! Нам как раз нужен оркестр для парада. Тебе, Мигдонио, к сожалению, не придется присутствовать. Генералы проводят маневры, а передвижения войск – военная тайна.
Дон Мигдонио бледно улыбнулся.
– Когда понадобишься, я тебя позову.
– Нуньо будет ждать твоих распоряжений, моя королева.
– Кстати, у тебя не найдется лишних пяти тысяч солей?
– Должны бы быть… должно быть, найдутся… – забормотал помещик.
– Ты, такой любитель вкусно поесть, наверное, знаешь донью Аньяду, кухарку доктора Монтенегро?
Выйдя однажды в полдень из школы, директор Венто увидел Нуньо. Он стоял под раскаленными лучами солнца, не замечая их палящего жара.
– Что ты тут делаешь, сын мой?
– Смотрю, дон Эулохио.
– Тебе не за смотрение деньги платят. Зачем пришел?
– На этот раз от себя, не от хозяина. Хочу спросить, хорошо ли играют у вас корнеты. Красиво они играют, дон Эулохио?
Лицо директора засияло.
– Разве не слышишь? Мои ученики играют, готовятся к шествию двадцать восьмого июля.
– Но разве у нас сейчас не декавгуст, дон Эулохио?
– Так говорят прихлебалы судьи, а по моим расчетам сейчас июль. Слышишь, как трещат барабаны? Веришь ли, сын мой, я до сих пор понять не могу, какая муха укусила твоего хозяина, что он подарил нам музыкальные инструменты.
– Не хозяин это, дон Эулохио, а госпожа Мака. Хозяин не больно-то на подарки скор, а вот у доньи Маки душа широкая. Она многим помогает, дон Эулохио.
– Да, я слышал.
– Донья Мака узнала, что вы давно мечтаете о школьном оркестре, вот и велела хозяину подарить вам инструменты.
– Велела?
– Дон Мигдонио – мне хозяин, а госпожа Мака – она над всеми хозяевами хозяйка.
– Да, мне рассказывали. Если б все помещики были такими как она…
– Бели б все были такими, лучшей жизни никто бы и не желал.
– Поешь со мной кукурузы, Нуньо?
– С большим удовольствием, дон Эулохио.
После завтрака директор Венто водрузил на нос очки и принялся изучать альбом «Гении живописи». Не колеблясь ни минуты, вырвал он лист с репродукцией «Авроры» Гвидо Рени.
– Это зачем, дон Эулохио?
– Отец Часан ищет художника, чтоб украсить стены церкви.
– По правде говоря, не знаю я Аньяду.
– Это одна старушка, ей нужна шерсть.
– Пять тысяч солей на шерсть?
– Да, пока что.
Отец Часан сказал, боясь обидеть Нуньо, что вряд ли у того найдется время рисовать картину для церкви, поскольку он постоянно занят поручениями дона Мигдонио. «Я буду меньше спать, отец мой», – отвечал Нуньо. Нуньо глядел до того простодушно, что у священника не хватило духу отказать. «Влип я с этой картиной, придется заплатить, а потом спрячу куда-нибудь его пачкотню», – подумал отец Часан со вздохом.
– Когда ты хочешь начать?
– Если можно, нынче ночью, отец мой.
– Ты думаешь писать ночами?
– Я свечку поставлю, отец мой.
«Я бы и сам свечку поставил, лишь бы как-то выпутаться из этой истории», – подумал священник.
Отец Часан уведомил пономаря о том, что Нуньо разрешено работать в церкви, а сам отправился в Чипипату. Оттуда он поплыл в Тамбопампу и затем в Чинче, где отслужил мессу по погибшим во время массового расстрела. Через десять дней отец Часан возвратился. Он вошел в церковь и попятился, потрясенный. На стене висела «Аврора» работы Нуньо. Она была лучше картины Гвидо Рени. С разинутым ртом смотрел священник на коней, на божественного возницу, на девушек, на улыбающихся женщин, до того безбожно живых, что он едва удержался хотелось подойти и обнять их. В страхе глядел отец Часан на эту прекрасную яркую, свежую живопись, жалким казалось рядом с ней знаменитое творение Рени. У стены лежал на спине измученный Нуньо и громко храпел. Недостойный сравнения с великолепной копией, оригинал валялся на полу. Рядом стояли банка с краской и догорала свеча. Лицо Авроры напоминало Маку Альборнос. Священник в волнении благословил Нуньо, опустился на колени, принялся читать молитву.
Дон Мигдонио откинулся в кресле, мечтательно улыбнулся.
– А в самом деле. Как-то раз община, чьи земли граничат с моими, пыталась тайно от меня снять план земель. Наняли какого-то шарлатана землемера, есть такие – морочат этим дикарям голову, тем и кормятся. Вскоре мне всего лишь за несколько реалов сообщили, что этот тип бродит здесь, пейзаж якобы изучает, а сам задумал мне палки в колеса вставить. Ха-ха! Помнишь, Нуньо? Мы его не трогали, пока не окончил работу. А когда собрался уезжать, тут-то Нуньо его и сцапал. Ха-ха! Помнишь, что мы с ним сделали, Нуньо? В чем дело?
– Парад отменен, хозяин.
Дон Мигдонио радостно вскочил.
– Прошу прощенья, сеньоры.
– Не везет в картах – везет в любви, – рассмеялся Арутинго.
– Раздобудь музыкантов и пива, Нуньо.
Изо всех сил стараясь не бежать, дон Мигдонио возвратился в пансион. «Андские щеглы» уже там, Мака в веселом настроении. Начался пир. Нуньо отправился в клуб за уткой в винном соусе, он точно знал, сколько перцу надо положить в соус, чтоб он оказался по вкусу Маке. В перерыве между танцами Нуньо подал ей утку. Затем веселье продолжалось. Примерно в полночь Мака и дон Мигдонио поднялись в верхние комнаты. Музыканты, генералы, танцоры разошлись. Нуньо погасил свет, уселся в кресло и, завернувшись в пончо, откинулся на спинку, намереваясь хорошенько соснуть. Однако соснуть ему не пришлось. Сверху послышался рев дона Мигдонио, а потом шепот и смех Маки. Всю ночь не спал Нуньо. В восемь часов утра – Нуньо, впрочем, этого видеть не мог – дон Мигдонио стоял перед Макой в строгом черном костюме и говорил умоляющим голосом:
– Меня зовут Мигдонио де ла Торре и Коваррубиас дель Кампо дель Мораль. Члены семейства де ла Торре сопровождали Боливара во время войны за Независимость. Наша семья дала стране одного президента республики, трех генералов, четырех епископов и двух членов Верховного суда. Согласна ли ты стать моей женой?
– Предложил бы ты мне лучше пирожков, я бы сразу согласилась. Я ничего для тебя обидного не сказала. Ты насытился, а я проголодалась.
– Пирожков?
– Ну да, кукурузных. Зелененьких таких, хотя твои знаменитые предки и недолюбливали этот цвет.
– Но как же это, Макита? Прости, я что-то не пойму… Я открыл тебе сердце. Я сделал тебе предложение, чего никогда.
– Ты, Мигдонио, как и следовало ожидать, не заметил, что мы переживаем критический момент. Родина в опасности, а что ты сделал как гражданин? Разбудил меня, удовлетворил свою свинскую страсть, больше ты ни на что не способен.
– Но это самое… как его… м-м-м…
– Хватит заикаться! И да будет тебе известно, что вчера Президент Пиерола отобрал тряпичный мяч у Генерала Крисанто. Генерал, проигравший мяч, может и войну проиграть. Командование резко осудило Генерала, и я полностью поддерживаю его позицию.
Дон Мигдонио попытался улыбнуться.
– Я тоже согласен с мнением командования. Только, Макита…
– Минуточку! Кто тебе разрешил соглашаться с чьим бы то ни было мнением?
– Моя королева, если ты хочешь, чтобы я не соглашался…
– Я хочу, чтобы ты ушел отсюда. И подальше, по возможности. Сегодня собирается военный совет, штатские здесь ни при чем. А ты штатский. Пора бы тебе понять: судьбы нашей родины никогда не решались штатскими. Впоследствии мы рассмотрим твое прошение.
Дон Мигдонио вышел, окрыленный надеждой. Он представлял себе, что будет дальше. В глазах Маки он прочитал приговор Генералу Крисанто. Неизвестно по какой причине, но звезда Генерала закатилась. Остальные, по приказу Маки, приговорили его к ссылке. Дон Мигдонио ощутил вдруг в душе жалость к несчастному идиоту, который скоро, лишенный всех своих блестящих регалий, голодный, оборванный и замерзший, снова будет бродить по дорогам – Мака и подобрала его на дороге как-то летом. Однако к жалости примешивалась подленькая радость. Осудив бедного Генерала Крисанто, Мака, наверное, успокоится на несколько недель. И снова засияет ее улыбка. И тогда, а может быть, и прежде, чем решится дело Крисанто, Мака соберет всех генералов, чтобы обсудить дерзкую просьбу дона Мигдонио. Он представил себе, как это будет. «Господа офицеры! Присутствующий здесь кабальеро сделал мне честь. Он просит моей руки. Прежде, чем принять решение, я хотела бы выслушать мнение высокого собрания». На этом смехотворном сборище решающий голос будет иметь новый начальник штаба. Дон Мигдонио вздохнул с облегчением. Кого бы ни назначили вместо Крисанто, он все равно будет на стороне дона Мигдонио – ведь дон Мигдонио давно и постоянно осыпает дурачков подарками. Дон Мигдонио поспешил в Серро. В столице он нанес визит префекту, долго, с достоинством, играл в покер, а также купил два золотых кольца, жемчужное ожерелье, несколько перстней и целую кучу подарков для генералов. Улыбающийся, полный счастливых надежд, возвратился он в Янауанку. В порту гремел оркестр.
– По какому случаю веселье? – спросил дон Мигдонио.
– Госпожа Мака замуж выходит, – бросил на ходу какой-то матрос.
– Откуда это вы узнали? – Дон Мигдонио улыбнулся и гордо выпятил грудь.
– Солидоро сам сказал.
– Кто-о-о?
– Госпожа Мака выходит замуж за сеньора Солидоро.
Буря застала «Акулу Янакочи» посреди озера. Мауро Уайнате, капитан корабля, был в свое время портным. Он ликвидировал мастерскую, надеясь разбогатеть на новом поприще и тогда открыть се заново. Во всяком случае, в портняжном деле он был значительно сильнее, нежели в морском. «Акула» заблудилась в тумане и чуть было не села на мель, наткнувшись на рифы у Чакайяна. Только затемно отец Часан оказался в Янакоче. Отвергнув все другие приглашения, он направился прямо к директору Венто. Директор перелистывал альбом «Гении живописи».
– Добрый вечер, господин учитель.
– Добрый вечер, отец мой. Чему обязан честью видеть вас у себя?
– Были вы в церкви Пилъяо?
– Был вчера, отец мой.
– Что вы на это скажете?
– Скажу, что Тициан – просто жалкий подмастерье, хоть о нем и твердят взахлеб во всех книжках по искусству. Я видел картину Нуньо – дьявольское дело!
– Божье дело, дон Эулохио.
– Как же это может быть, чтобы безграмотный мужик который сводничает развратному помещику, а больше ничего и делать-то не умеет, вдруг создал такое чудо? А еще хуже то что сам он нисколечко не догадывается, каковы его картины «Ангелочков, говорит, рисую».
– Божье дело, дон Эулохио. Я уже давно молюсь за Нуньо когда служу мессу. Любовь – великая сила. Любовью расцветают деревья, любовью летают птички.
– Скажите откровенно, отец мой, вы считаете это чудом?
– Разрешите еще кружечку пива, дон Эулохио?
– Правда, будто Нуньо собирается писать картины для церкви в Чакайяне?
– Господь не попустит этого.
– Почему, отец мой?
– Потому что, если он напишет лучше Микеланджело какие еще сможем мы дать ему образцы?
Толстый Солидоро похудел в один день. Он сбрил усы. Вырядился по последней моде и оставил донью Клотильду, свою законную супругу, которая немедленно стала членом Комитета оскорбленных женщин. Солидоро же впервые обнаружил, что галстуки существуют не исключительно для завязывания мешков Он купил три пары двухцветных туфель: две пары белых с коричневым и одну черную с желтым. В клубе Солидоро публично порвал с друзьями детства, которые осмелились спросить его о здоровье доньи Клотильды. Чтоб покрыть свадебные расходы, Солидоро пришлось продать две фермы. Он заказал шесть ящиков амазонских орхидей и с того самого вечера, когда Мака ввергла его в свой кошмарный рай, ходил с огромной бутоньеркой. Потом Мака решила, что «всякому адмиралу, хоть никто в это и не верит, должны быть знакомы морские бури». Стройный (отныне) Солидоро купил за наличные катер «Королева Анд», ибо несчастный дон Мигдонио решил продать его «за сколько дадут, потому что мне сейчас позарез надо утопнуть по уши в дерьме». Не успели еще отремонтировать судно и написать на нем новое название «Султанша моих грез», как в один прекрасный день сияющий Солидоро, явившийся в пансион «Мундиаль» с оркестром Уаманов, наткнулся на запертую дверь. Солидоро постучал. В окне показалась хмурая физиономия Пукалы.
– Госпожа дома?
– Для вас – нет, сеньор.
– То есть как? Ты смеешь не впускать меня? Это же дом моей невесты!
– Она теперь невеста учителя Сиснероса, сеньор.
– А нет еще какой-нибудь картинки? – спросил Нуньо.
Директор школы полистал альбом. Остановился на репродукции «Поклонение волхвов» Фра Анжелико.
– Красиво, верно?
– Бери, сынок.
Прошел «месяц», и директор Венто вместе с отцом Часаном отправились в церковь селения Гойльярискиска. Кроме распятия и четырех деревянных резных подсвечников, церковь ничем не была украшена. Перед грубым алтарем, где служили мессу только по большим праздникам, оба остановились, ошеломленные. Священник упал на колени и принялся молиться. Свободомыслящий, образованный директор рухнул вслед за ним. Не скоро пришли они в себя, не скоро смогли выговорить хоть слово.
– Я сосчитал фигуры людей и животных. Все сходится, точка в точку.
– Только у Нуньо они живее. Вы обратили внимание, какой хвост У павлина?
– По-моему, коленопреклоненный король напоминает Нуньо, а Пресвятая Дева похожа на Маку Альборнос.
Отец Часан не слышал – он начал Росарио.
Без лишних церемоний и возбудив негодование всего селения, учитель Сиснерос сам погрузил на «Акулу» свою жену и восьмерых детей. Он оказался менее опрометчивым, нежели его предшественник, не хвастался своей победой, не появлялся с невестой на людях. Мака вдруг разогнала всех своих дурачков. Она с наслаждением читала, любовалась закатами. На скромных, мирных, невинных вечеринках учитель декламировал «лучшие стихи о любви Сесара Кальво», и Мака внимала умиленно. Она отпустила музыкантов, раздарила служанкам все свои роскошные наряды. Учитель отправился в Серро, дабы сыскать портниху, способную заново наполнить опустевшие шкафы будущей Маки Сиснерос платьями, «достойными моей невесты». Тут обнаружилась нехватка средств. Учитель отправился к Руперто Искьердо, инспектору местного школьного ведомства. Он решил попросить вперед все свое жалованье за год. Инспектор выслушал Сиснероса благосклонно.
– Простите, сеньор Сиснерос, что вмешиваюсь в столь интимные вопросы. Но я думаю, долгие годы нашей дружной совместной работы дают мне это право.
– Прошу вас, господин инспектор.
– Говоря откровенно, до меня доходили рассказы о необычайной красоте вашей невесты. Неужто она так прекрасна, что вы без колебаний решились разбить свой семейный очаг и теперь, беря в долг такую сумму, серьезно рискуете будущим?
Глаза учителя Сиснероса засверкали. Он достал из портфеля фотографию.
– Судите сами, дон Руперто!
Инспектор слегка пошатнулся.
– На вашем месте, друг мой, я поступил бы так же.
Шесть дней пробыл учитель Сиснерос в Серро – добывал деньги и заказывал гардероб для своей нареченной. Наконец, сияющий, сошел с катера в Янауанке. На пристани была суматоха, толпился народ, сновали полицейские. Он увидел вдруг Улыбающуюся Маку и неожиданно элегантного инспектора Искьердо. Сиснерос подошел ближе.
– Рад вас видеть снова, господин инспектор. По какому случаю вы почтили наш город своим визитом?
– Я приехал жениться.
– На ком, разрешите спросить?
– На сеньорите Альборнос.
Глава десятая
Почему члены общины селения Янакоча бросали свиньям хлеб, пожертвованный семьей Карвахаль
Исаак Карвахаль, завидев сверкающее пончо Агапито Роблеса с вытканными на нем пумами, свернул в переулок. Его бросило в холод, потом – в жар, потом – снова в холод. Исаак убегал и на ходу думал о том, что все протекшие годы были годами стыда, все зимы и лета он думал лишь об одном – нет, не станет у него сил поглядеть в глаза Агапито Роблесу. Знает ли выборный о том, что он, бывший командир дисциплинарного взвода, участник похода, служит теперь в муниципалитете Янауанки, а муниципалитет возглавляет донья Пепита Монтенегро? Знает ли, в каком страхе живет теперь Янакоча? Исаак Карвахаль вздохнул. Почему он убежал от Агапито? «Потому что работаю теперь под началом жены самого ненавистного человека». Судья представлялся ему в виде огромной горы, покрытой черным льдом. И черным снегом. Яркое пончо Агапито взбирается по склону горы. Нет, Карвахаль побежит сейчас же к Агапито, объяснит ему, скажет… Но что? Что сказать? Что все, абсолютно все участники похода под водительством старого Эрреры не могли продать свой урожай, не могли найти работу. Перекупщики не брали картофель у тех, к кому не благоволил судья. Нужда осаждала со всех сторон, и люди сдавались. Исаак Карвахаль, тот, что первым добрался до вершины Чертова Горба, в расцвете лет и сил соглашался на любую, самую грязную работу. Все напрасно! Тянулись в нищете месяц за месяцем. Наконец брат Хулио, работавший учителем в школе Уараутамбо, сказал ему, что слышал от алькальдесы, будто «в муниципалитете есть место, которое подошло бы, может быть, твоему брату Исааку».
– Работать на Монтенегро! Что сказал бы старый Раймундо, если б узнал такое?
– Старый Раймундо умер, Исаак.
– Душа его не успокоилась, он бродит по земле, принадлежавшей общине. Братья Кинтана видели старого Раймундо в Чинче. Он плакал.
Но прошло еще несколько «недель», и Исаак пришел в муниципалитет. Сеньору Монтенегро он прежде знал лишь в лицо. Страшная помещица оказалась вполне приятной на вид дамой. Она устроила Исааку экзамен по чтению и письму и взяла его на службу. Исаак писал мелом цены на черной доске, выставленной на рынке, взвешивал и мерил, собирал налоги. Никто его не упрекал. Так прошло несколько недель, и вот однажды Исаак выходил из пивной Сантильяна. Вдруг Хоакин Рохас крикнул ему вслед:
– Желтяк!
Желтяками у нас зовут подсолнухи. Исаак не понял.
– Желтяк! – повторил Рохас со злобой.
– Что ты говоришь?
– Не знаешь разве, что такое желтяк? – Рохас подошел, дохнул Исааку в лицо водочным перегаром. – Желтяк – значит предатель. Ты вот служишь в поместье «Уараутамбо», вот ты и есть желтяк.
– Чем же я предал свою общину?
– Работаешь на Монтенегро.
– Я работаю в муниципалитете. Служу не Монтенегро, а муниципальному совету. Все свои обязанности перед общиной выполняю, а если не выполняю – плачу штраф.
– А ты знаешь, что Совет общины сжигает твои деньги?
Пьяница покачнулся, уселся с размаху прямо в грязь. Громко поносил он Исаака. А еще через неделю (и это было гораздо хуже) Сесилио Роке плюнул под ноги Исааку…
– Почему вы плюете, дон Сесилио?
– Я всегда плюю, когда вижу предателя.
– За такое оскорбление я мог бы выбить вам зубы, но вы, дон Сесилио, человек справедливый. Скажите, за что вы меня обижаете? Кого я предал?
– Ты не только предатель, а еще и сводник. Разве ты не устраиваешь им вечеринки?
– Велели как-то подать ликер музыкантам.
– Кто велел? Муниципальный совет или твоя хозяйка?
– Муниципалитет оплачивает выступления оркестра. Мое дело – дать музыкантам по рюмочке.
– А кто веселится под эту музыку? Народ или твои хозяева?
Исаак не знал, что ответить. Сесилио Роке прав – половина бюджета муниципального совета Янауанки идет на оплату музыкантов. Одни только братья Уаман – бесправные пленники сержанта Астокури – играют даром. Но Монтенегро надоели их уайно, они потребовали настоящий оркестр, и муниципальный совет нанял музыкантов в Серро. Раз в неделю, когда бывали ночные шествия, оркестр играл для жителей, всю же остальную неделю, днем и ночью, – на пирах у помещиков. Однажды устроили прогулку на лодках. Дорого обошлась эта прогулка! В пятидесяти метрах от пристани Янауанки Матео Роке, саксофонист из ансамбля «Андские щеглы», свалился пьяный за борт катера «Тапукский смельчак» и утонул.
– Знай, Исаак, скоро пробьет твой час, – сказал Сесилио Роке.
Исаак не ответил ни слова, зашагал прочь против ветра. Через три дня тетушка его Фаустина ворвалась в дом с криком:
– Беда, племянник!
Старуха рвала на себе волосы.
– Что случилось, тетушка?
– Община вчера вечером вынесла решение – осудить Карвахалей.
– Что ты говоришь, тетушка?
– Янакоча решила повесить замки на двери домов, где живут Карвахали! В мои-то лета! Выгнать хотят из селения всех Карвахалей. Всех желтяков выдворить.
– Я не желтяк, тетушка.
– Ох, сердце мое разрывается. Говорят, будто Хулио и ты покумились с Монтенегро.
– Хулио – учитель школы в Уараутамбо, а я – служащий муниципалитета. Только и всего.
Но жители Янакочи думали по-другому. При всяком удобном случае поносили они Исаака. Кто-то заплатил Майору Леандро, и тот отнес Исааку конверт с листком желтой бумаги. Еще хуже: Хуан Минайя по случаю крестин сына устроил веселое шествие. Это было в воскресенье, Исаак вернулся домой. Он вышел на балкон полюбоваться ловкими прыжками, плясунов с огромными ножницами в руках. Вдруг прямо против дверей его дома плясуны остановились и дружно крикнули: «Желтяк!» Кровь бросилась в голову Исааку. Оскорбленный, негодующий, кинулся он вниз, но плясуны и фантастические стрекозы были уже далеко. Потом еще хуже: как-то на рассвете пропал весь его скот. Исаак побежал к общинному загону – альгвасилы не могли сказать ничего вразумительного; на чужих лугах его скота не было. Только к вечеру племянник Анаклето сообщил, что лошади Исаака пасутся в Уахоруюке. В Уахоруюке? На той земле, из-за которой спорят Янакоча и Уараутамбо? Исаак побежал туда. У него были две лошади: Индеец и Нерон, очень хорошие, сам субпрефект Валерио брал их иногда напрокат. Кроме того, были у Исаака три ослика. Два – обыкновенные, ничем особенным они не отличались, зато третий, Пачиноно, такой сильный, такой выносливый – просто чудо! И верхом на нем ездить удобно. Так вот, все лошади и ослы оказались раскованными. Кто-то, видимо, загнал их в свой загон и плоскогубцами вытащил гвозди из подков. Скотина хромала; Исаак вернулся в Янакочу. Долго умолял он кузнеца Ампудию снова подковать скотину, великан отговаривался: много работы. Исаак прибавил цену. «Право же, мне очень жаль, инструмента у меня подходящего нет, дон Исаак». Ампудия, разумеется, врал. Пришлось отправиться в Янауанку, просить тамошнего кузнеца. Но прошло семь дней, и тетя Фаустина в слезах явилась в муниципалитет. Лошади опять раскованы, сообщила она. Индеец хромает так, что смотреть больно. Исаак снова подковал лошадей. Теперь все члены семьи по очереди дежурили возле лошадей, но злые соседи оказались хитрее.
Однажды на страстную пятницу, по словам одних, или на рождество, по уверению других, Исаак обнаружил, что его лошади раскованы в третий раз. Разъяренный, полный отчаяния, выбежал он из дому, готовый броситься на первого встречного, который косо на него глянет либо презрительно усмехнется. Но улицы были пусты. Исаак зашел в пивную Сантильяна, выпил три рюмки водки и, забыв о своих служебных обязанностях, отправился в поместье «Уараутамбо». Он решил поговорить начистоту с братом Хулио. На границе поместья Ильдефонсо Куцый, узнав служащего доньи Пепиты, настежь растворил перед ним ворота. Уже смеркалось, когда Исаак вошел в дом брата.
– Кто у нас умер, говори! – воскликнул Хулио, увидев, что брат задыхается от рыданий.
– Ты, я, все Карвахали умерли, брат. Община приняла еще одно решение: всякий, имеющий с нами какие-либо дела, будет осужден. Будь проклят тот час, когда я вернулся в Янакочу! В Лиме я был слугой, и все меня уважали. Когда посол Боливии получил назначение в Соединенные Штаты, он мне сказал: «Исаак, я тебя ценю, ты хороший работник. И хороший парень, да вдобавок знаешь мои привычки. Мы тебя полюбили. Поедем с нами в Соединенные Штаты». Но тут. как раз пришла от тебя телеграмма, что отец совсем плох. Я приехал, чтобы закрыть ему глаза. Отец умер, и вы все стали просить меня остаться. Будь проклят тот час, когда я пожалел вас! Лучше ходить по чужой земле, чем по родной, которая горит у тебя под ногами. Будь проклят тот час, когда я уступил вам! По твоей вине остался я в Янакоче!
– Нам нечего было есть. А ты – старший. Поэтому мы и просили тебя не уезжать, братик.
– Две недели назад селение вышло делить пастбища. Я не мог присутствовать, но хотел выполнить долг члена общины, послал двести караваев хлеба. Знаешь, что они сделали? Бросили мой хлеб свиньям! Им нужен был хлеб, и все-таки они бросили его свиньям. Мы должны снять пятно со своего имени, брат. – Рыдания мешали ему говорить.
– Как же?
Отчаяние и ненависть, будто зарницы, то вспыхивали, то гасли на лице Исаака. Пришла ночь, а братья все говорили. Луна выбелила стволы эвкалиптов. Уже много недель Исаак не спал. Каждую ночь разворачивала перед ним бессонница бескрайнюю свою равнину, а он вспоминал, как ехали они по безлюдной бесконечной степи, и была она еще бесконечнее, еще пустыннее чем эта, ночная. В те времена старый Раймундо не заснул еще вечным сном. Братья проговорили до самого рассвета. И когда наконец расстались, на лицах обоих видна была решимость.
Глава одиннадцатая
О гражданской войне, погубившей Янауанку
Всего лишь пятнадцать дней похвалялся инспектор Искьердо своей победой и своими яркими галстуками, заказанными в Серро-де-Паско. «На моем пути к счастью – кто бы мог подумать – встал этот жалкий тип Эрон де лос Риос, недостойный даже того, чтобы Мака включила его в свою свиту идиотиков. Знаете, как он ее добился? Служил ей письмоносцем! Вы бы только посмотрели, с каким удовольствием этот сводник таскал записочки моей нареченной от всяких ее приятелей и от нее к ним. А я, конечно, даже и представить себе не мог ничего подобного. Однажды ночью (будь проклята эта ночь!) бушевала буря, и вот Эрон, который даже пустой таз не в состоянии переплыть, переплывает вдруг озеро и по поручению моей невесты передает два письма: одно хозяину поместья «Харрия», другое – сыну хозяина поместья «Харрия». Обоим – отцу и сыну! – было назначено свидание в один и тот же день, в один и тот же час, в одной и той же постели. Из-за этого они и разодрались, а вовсе не из-за дела о закладе имения. Моя невеста, конечно, не явилась на свидание. Эту ночь она провела с братьями Чирино. А кто подал им наутро завтрак? Эрон де лос Риос! Он и почтарь, и слуга, и музыкантов нанимал, словом, на все руки, всегда тут как тут, любой ее. каприз выполнял. Должна же была Мака вознаградить его! На следующий день Эрон де лос Риос потребовал у своей жены развода. К его удивлению, достойнейшая донья Магда де лос Риос тотчас же согласилась.
«Сеньор Министр!… В силу всего вышеизложенного мы, честные супруги Янауанки, просим срочно прислать в город войска. Победное вступление войск положило уже однажды конец распространению коммунистической пропаганды, чему содействовало и проведение демагогической аграрной реформы. Мы, женщины, поставившие свои подписи под этим документом, надеемся: столь же решительно будет пресечена возмутительная попытка провести сексуальную реформу»
(Заявление оскорбленных женщин).
Однако дон Эрон совершенно напрасно развелся со своей супругой.
Однажды Мака поехала куда-то на катере и встретила секретаря суда Пасьона – единственного в провинции мужчину, не подверженного ее чарам. Секретарь суда вежливо поклонился. Мака улыбнулась. Твердости Пасьона тотчас как не бывало, но он напряг всю свою волю и отвел глаза от ее лица. Мака, как всегда, путешествовала в сопровождении музыкантов. Она взяла гитару и запела так грустно, что секретарь суда прослезился. Расставаясь, Пасьон снова поклонился ей с глубоким почтением. На следующий день он получил букет цветов.
– Это что ж такое? – спросил судья Монтенегро.
– В дар церкви святого Петра прислали, – заикаясь и краснея, отвечал секретарь.
Кое-как, с помощью тысячи всяческих уловок удалось ему утаить остальные семнадцать букетов, которые приносили ежедневно генералы. К каждому букету была приколота благоухающая записка.
Ночью Мака устроила серенаду перед домом Пасьона, и это скрыть было уже невозможно. Братья Уаман, ансамбль «Андские щеглы» и «Патриоты» играли и пели до тех пор, пока испуганный секретарь суда не вышел на балкон. Окруженная толпой музыкантов, Мака приблизилась и спела «В тот день, когда полюбишь ты меня». Пасьон был одним из самых красноречивых ораторов в провинции. Вдобавок, как это ни горько ему было, он ничуть не сомневался в том, что совсем неповинен в этой страсти. Ни то, ни другое, однако, нисколько не помогло успокоить жену. Кроткая его подруга донья Клоринда превратилась в фурию, словно с цепи сорвалась. Она разбила об его голову вазу. Пришлось звать фельдшера Канчукаху. Дом наполнился разъяренными женщинами. На другой день Пасьон, гордый и спокойный, не удостаивая вниманием хихикающих сослуживцев (скрыть повязку не удалось), явился в суд, дабы исполнить свои повседневные обязанности. Около полудня Генерал Бермудес догнал его на главной площади и вручил письмо, в котором Мака просила о свидании, «чтобы оправдать свое поведение». Предвидя ужасающие последствия отказа, секретарь суда согласился. Он написал несколько строк, в которых выразил радость по поводу того, что «счастливый случай даст ему возможность приветствовать одну из самых благородных дам нашего города». Пасьон указал и место свидания – недостроенный дом у дороги на Янакочу. Жене он сказал, что его срочно вызывает судья Монтенегро, и точно к назначенному времени отправился на свидание.
На дороге мелькали какие-то тени. Пасьон бесстрашно вошел в дом. Во дворе сидела на чурбачке Мака. Пасьон протянул было ей руку, но вдруг почувствовал на своих губах поцелуй. Он хотел убежать, но услышал хор ангелов и ощутил нестерпимый жар. Во рту, словно в пещере, сидел кто-то дрожащий, пылающий, что таился в его теле вот уже сорок лет. Почти светало, когда секретарь суда побежал домой. Жена спала. Пасьон сделал вид, будто только теперь встал. Он отправился к мессе, исповедался. Выслушав его, отец Часан вздохнул.
– И ты, Брут?
– Что вы сказали, отец мой?
– Да смилуется господь над твоей душой, сын мой.
– Тут не о душе речь, а о теле, отец мой.
Покаявшись, Пасьон пошел в суд. Он решил больше ни слова не говорить с Макой. Но трудился неохотно и сделал в этот день только самое необходимое. В воскресенье Пасьон пошел в церковь. Вдруг – ему показалось, будто язык пламени метнулся к небесам, – Пасьон увидел Маку. Она шла через площадь в окружении дурачков. Потом Пасьон услыхал шелест крыльев – Мака исчезла. Не взглянув на него, спустилась к пристани и уплыла в Успачаку. Целый месяц ее не было. Янауанка начала зализывать раны. Комитет оскорбленных женщин заказал благодарственный молебен. Однако молитвы, по всей видимости, не дошли по адресу, ибо через три дня Мака высадилась на берег Янауанки. Ее сопровождал Кристобаль Соберо, владелец большой лавки, шести домов и пяти ферм. Он тоже решил оставить свою жену. Но уже у причала вдруг струсил и, отговорившись срочными делами, простился с Макой. Она же сочла за благо расположиться со всеми своими генералами в клубе. Утро было трудным: трижды между Президентом Пиеролой и Генералом Эченике вспыхивала драка, ибо последний уже довольно давно добивался чина сержанта, и не было ни малейшей возможности убедить его, что сержант ниже генерала. Во время завтрака Мака приняла решение: генеральская форма свиты не соответствует ее положению. В сопровождении своего главного штаба она отправилась в лавку Соберо. С улыбкой обвила рукой шею торговца. Соберо стоял одной ногой в раю,, а другой – в аду. Он слышал, как с тихим шорохом раскрывались розы, волна счастья затопила его душу, но к счастью примешивался ужас. Потом раздался грохот – теща Соберо на глазах перепуганных.покупателей крушила все вокруг, сбрасывала с прилавка бутылки, весы. Жена (за двадцать лет супружества Соберо ни разу не слышал, чтобы она повысила голос) ревела, как львица: «Как ты осмелился, сукин сын, привести в мой дом эту шлюху? Мало того, что ты не стыдишься людей, ходишь повсюду со своей вонючкой, весь город от нее провонял и будет вонять еще тридцать лет после того, как она наконец уедет. Вон отсюда сейчас же, не то я плюну вам обоим в рожу!»
Мака сидела на мешке с сахаром и улыбалась. Приказчики никогда еще не видели такого, «чтобы Дева Мария пришла в нашу лавку». С большим трудом удалось им удержать сеньору Соберо, она так и бросалась на Маку.
Комитет оскорбленных женщин в полном составе явился в Полицейское управление с требованием «гарантировать безопасность». Младшего лейтенанта Тарамоны не было, сержант Астокури кое-как успокоил женщин. Утихомирить их обезумевших мужей оказалось куда труднее. Сиснерос поссорился с Арутинго, Атала – с Канчукахой. В воскресенье, в самый разгар мессы семейство Арутинго пошло стенкой на семейство Атала.
В тот же день драчунов вызвали в суд первой инстанции. Даже кумовья и приятели судьи не избежали вызова. В зале они увидели «это чудовище, что пятнает наш город, о котором до сей поры Вам не было ничего известно, господин Префект, именно потому, что благодаря честности и порядочности местных женщин наш город никогда не подавал повода к дурным слухам и скандальным сплетням. Теперь же, господин Префект, он заслуживает названия Содома и Гоморры, а никак не города, граждане которого ценят добродетели, составляющие высокое моральное достояние перуанской женщины» (все то же заявление). Виновные (те, что не были приятелями судьи) и невиновные (те, что ими были) вышли из суда одинаково потрясенные. Судья Монтенегро прочитал им статью уголовного кодекса, предусматривающую наказания «за нарушение общественного порядка и благопристойности». Всем им запрещалось выезжать из города даже в близлежащие имения. Слушание дел затянулось, обвиняемые целые дни проводили в суде. Ссоры прекратились, слишком уж оно оказалось опасно, и поклонники Маки поредели. Она же увлеклась подготовкой к торжествам по случаю юбилея полиции. Полиция намеревалась организовать целую серию празднеств, ибо, согласитесь, почтить по заслугам полицию – это дело полиции. «Праздник этот, господин Префект, своей разнузданностью скорее напоминал языческие оргии, нежели торжество в христианском городе, где, на наш взгляд, властям отнюдь не следовало играть на лире, глядя, как огонь разврата пожирает Рим» (Заявление). Год начинался или кончался. Наступил февтябрь или маябрь. Монтенегро ходил задумчивый, хмурый, суровый и недоступный.
И тут-то дон Мигдонио де ла Торре ужасно разгневался на Нуньо.
– Какая, черт побери, заразная муха тебя укусила?
– А что такое, хозяин?
– Уже несколько дней в перчатках ходишь. Будто пианист или пижон какой-нибудь.
– У меня вроде как ревматизм, хозяин, – тут же сочинил Нуньо.
– Давай лечись. Ты – мой первый надсмотрщик. Ты меня компрометируешь. Ходишь, как сопля дохлая. Я этого не потерплю.
– Вылечусь, хозяин.
Но Нуньо лгал. С тех пор как в душу его закралась тайная любовь, руки Нуньо горели, как в огне. «У тебя что, лихорадка?» – спрашивал каждый, кто пожимал ему руку. Сам Нуньо решил, что подхватил малярию, когда ездил в низины «Эль Эстрибо». Он старался избегать рукопожатий. Дальше пошло еще хуже: дерево, которого касался Нуньо, оживало и расцветало. Первой жертвой оказалась гитара. Нуньо был неплохим гитаристом и с удовольствием принимал участие в серенадах, которые давали Маке музыканты, нанятые доном Мигдонио де ла Торре. Как-то раз Бенито Руэда, один из «Андских щеглов», заметил:
– Я не знал, что вы так любите гитару. Большей частью люди не слишком-то разбираются в музыке. А вы так высоко цените гитару. Как вы красиво это сделали, Нуньо.
– Что, дон Бенито? – удивился Нуньо.
– Да вот, цветы на гитаре. Я такое в первый раз вижу.
Тогда только Нуньо заметил эти окаянные гвоздики. Он украсил гитару разноцветными лентами, стараясь прикрыть гвоздики, но гитара продолжала цвести. Через некоторое время гвоздики покрыли ее всю. Нуньо запрятал гитару на чердак. Напрасно! Ибо вскоре заметил, что любой деревянный предмет, к которому он прикасался своими горящими пальцами, словно вспомнив время, когда был деревом, расцветал, шелестел листьями. В пансионе «Мундиаль», на кухонном столе, за которым обедали слуги и пеоны из «Эль Эстрибо» (генералы ели в Золотом Салоне), безудержно цвели гладиолусы. Однажды Генерал Берм-дес съел их все до одного. На другое утро, войдя в кухню, слуги увидели стол, цветущий магнолиями. Они подумали, что это остатки бесчисленных букетов, которые их хозяйка получала ежедневно. Нуньо сказал, что стол хромой, и приказал отнести его в чулан. Он решил больше не касаться деревянных предметов. Но вскоре понял, что, если болезнь его не пройдет, цветы заполонят все – столы, стулья, двери, лестницы, его собственную кровать. К счастью, Нуньо вспомнил про кожаные перчатки, которые он когда-то нашел в «Дьесмо» – забыл, видимо, после ночного веселья какой-то пьяный помещик. Итак, пока что Нуньо удалось скрыть свою удивительную болезнь.
Здоровье доктора Монтенегро тоже пошатнулось. Впервые в жизни судья познал бессонницу. Прежде он отличался необычайной точностью, теперь начал вдруг путать присутственные дни. Как всегда, ложился он в десять часов вечера, вставал в. шесть. Но сон ускользал. Мака стояла перед глазами, улыбалась, и уснуть не было никакой возможности.
Однажды утром секретарь суда Пасьон увидел на столе судьи книгу «Титаны любовной лирики». Пасьон решил, что книга вещественное доказательство в каком-нибудь процессе об изнасиловании. Однако через несколько дней секретарь суда обнаружил между страницами уголовного кодекса нечто еще более угрожающее, сомневаться не приходилось – это было начало стихотворения:
Пасьон в ужасе отвел глаза – эти украденные где-то строчки ясно доказывали, что Первый Гражданин болен той же болезнью, которая губит всех мужчин в провинции. Судья и сам не смел доверить в это. Ссылаясь на какие-то дела, он уходил из суда, бродил вокруг пансиона, где жила Мака. Иногда утром он встречал кого-либо из ее свиты и с достоинством кланялся. Легкий, едва заметный поклон (сам он, впрочем, считал это верхом любезности) – вот все, что мог выдавить из себя суровый судья. Монтенегро утешался бесконечными допросами «нарушителей общественного порядка». Руис и Соберо предстали перед ним. Двадцать лет были они друзьями и вдруг подрались, охваченные безумной страстью. Стекла пансиона «Мундиаль» были разбиты в пылу боя. Долго допрашивал судья Соберо и Руиса. В ответ на вопрос, признает ли он себя «виновным в том, что испытывает чувство, несовместимое с его положением отца семейства», Соберо заявил, от большого ума, что «завистники его оклеветали».
– Чему же они позавидовали, Соберо?
– Мирному спокойствию моего семейного очага, господин судья.
– Можете ли вы поклясться, что не испытываете чувства, подлежащего наказанию согласно уголовному кодексу?
– Клянусь, здоровьем моей матери и счастьем моих детей!
– Я всегда считал вас порядочным человеком, Кристобаль. – Судья заговорил прежним приятельским тоном. – А теперь потолкуем как мужчина с мужчиной. Скажите, Кристобаль: что такого особенного в этой самой Маке?
– Сказать вам просто правду, доктор, или уж самую что ни на есть подноготную?
– Самую что ни на есть подноготную.
– За одну ночь с этой женщиной всякий нормальный человек согласится продать родину. А если не согласится, значит, он просто сволочь.
– Ступай, сынок.
Много еще шедевров мирового искусства посрамил бы, наверное, Нуньо, но в. один прекрасный день, когда он ждал Маку, чтоб передать ей письмо от дона Мигдонио де ла Торре, он увидев вдруг, что площадь 28 Июля заполнила разъяренная толпа. Комитет оскорбленных женщин вышагивал в полном составе под водительством своей председательницы доньи Хосефины де ла Торре. Оскорбленные женщины несли плакаты: «Да здравствует добродетель, долой правительство!» Ликующие мальчишки бежали вслед. Нуньо спокойно глянул на беснующихся матрон и твердо встал в дверях пансиона «Мундиаль». Оскорбленные женщины приближались.
– Шлюха! Шлюха! Шлюха! – вопили они.
Генералы кинулись к окнам. Они смеялись. Это еще больше разозлило дам. Жена Канчукахи бросила камень. Жена Солидоро последовала ее примеру и попала в Генерала Лa Map. Полный достоинства, спокойный и неподвижный, Нуньо улыбался, стоя в дверях. Донья Хосефина де ла Торре (она давно знала Нуньо, вся провинция знала этого сводника) бросила в него камень. Нуньо все так же улыбался. Следующий камень попал ему в щеку, еще один разбил губу. Дело могло зайти весьма далеко, но, к счастью, полицейские догадались, что такого рода события вряд ли придутся по душе младшему лейтенанту Тарамоне, и разогнали демонстрацию.
Уже смеркалось, когда Мака сошла с катера «Горяночка». Тут же у причала ей рассказали о нападении на пансион. Нуньо по-прежнему стоял на страже у дверей. Мака взглянула на его окровавленное лицо и улыбнулась. Она порозовела, то ли от волнения, то ли от света вечерней зари. Попросила платок. Подошла к Нуньо и осторожно принялась стирать кровь с бледного его лица.
– Тебе больно, Нуньо?
– Для вас я не торопясь прошел бы сквозь ад, – сказал Нуньо и задрожал. Он знал: эта дрожь не уймется даже через двадцать четыре часа, через двадцать четыре года, через двадцать четыре века. Мака опять улыбнулась. И Нуньо увидел в ее глазах тот миг, когда отец его соединился с матерью, дабы произвести на свет его, Нуньо, для того, чтобы он пережил вот эту огненную минуту.
– Я знаю, ты горишь, Нуньо. Но я не хочу, чтобы ты попал в ад, где все мы, грешники и негодяи, встретимся снова. Если ты меня любишь, пройди по воде.
Мака засмеялась. Теперь в ее глазах Нуньо увидел себя совсем маленьким мальчиком.
– Это легко, госпожа.
С печальной улыбкой повернулся он к озеру. Пукало рванул струны гитары. Мака бросала генералам шоколад, и они дрались между собой. Не замечая бурных волн, Нуньо ступил на воду и пошел. Генералы завизжали. Мака зарыдала хрипло. Неправдоподобный, окутанный туманом, шел Нуньо по воде в сторону Янакочи. Наверное, он заблудился, потому что наутро волной прибило его тело к пристани Успачаки.
Судья никак не мог найти предлог поближе познакомиться с Макой. Неизвестно, как бы пошли его дела дальше, но тут Арутинго посетила счастливая мысль устроить конкурс красоты и избрать королеву долины Яваркоча. Арутинго мечтал о месте эксперта в суде. И не сомневался, что лучший способ добиться этого места – постараться угодить доктору Монтенегро. Комиссия по избранию Королевы красоты и Покровительницы искусств долины Яваркоча просила судью оказать ей честь и занять место председателя жюри. Были отпечатаны объявления. На другой день донья Хосефина де ла Торре нанесла судье визит и сообщила без околичностей, что «Комитет оскорбленных женщин, оказавший мне честь, избрав своим председателем, считает, что этот конкурс – типичная коммунистическая провокация».
– Я не знал, что вы председательница досточтимого Комитета оскорбленных женщин. Впервые слышу, сеньорита де ла Торре, что вы были замужем, – язвительно заметил судья.
– Как вы смеете, доктор?! Я честная девушка. Но разве я не могу разделять чувства гнева и боли, охватившие достойных и благородных женщин нашего города?
– Что-то больно мудрено, госпожа девственная супруга.
Донья Хосефина де ла Торре глянула на него с презрением.
– «Есть птицы, что идут по болоту и остаются чистыми», доктор, – процитировала она. – Комитет, избравший меня на должность председателя, обязанности которого я выполняю, разумеется, ad honores [2] получил сведения, что группа марксистских агитаторов готовится выдвинуть кандидатуру некой особы, чьим именем я не желаю загрязнить свои уста.
– Очень уж непонятно вы говорите, сеньорита.
– Вы прекрасно знаете, кого я имею в виду, доктор.
– Но если вы не назовете имя…
Руководительница Комитета залилась краской.
– Мятежные элементы нашей провинции собираются выдвинуть кандидатуру некоей Альборнос.
– Вы имеете в виду сеньориту Маку Альборнос?
– Неужели вы потерпите подобное безобразие, доктор?
– Моя обязанность, сеньорита директриса, гарантировать гражданские свободы, я не вмешиваюсь в интриги, затеваемые из зависти.
– Из зависти?
– Сеньорита Альборнос прекрасна во всех отношениях, и к тому же многое умеет, естественно, что она вызывает чувство зависти у тех, кто во всех отношениях безобразен и ничего не умеет.
– Доктор!
– Вот так. Прошу прощения, сеньорита девственная супруга.
В тот же вечер доктор Монтенегро возглавил жюри. Жюри размышляло недолго, и Мака была провозглашена Королевой долины Яваркоча. Ни одна женщина не присутствовала на Церемонии коронации, если не считать учительниц, которым школьная инспекция просто приказала явиться. День коронации был объявлен неприсутственным. Судья распорядился отметить праздник прогулкой на моторках с заходом во все порты озера Яваркоча. Всюду ожидали пиршества, организованные Арутинго. И тут произошло то, что должно было произойти:, донья Пепита Монтенегро решительно запретила прогулку. «Как ты смеешь разгуливать с этой шлюхой, которая спит с каждым матросом?» – воскликнула она. Но в ответ, впервые за всю супружескую жизнь, услыхала такие слова: «Ты разве забыла? Когда мы познакомились, ты была одной ногой в тюрьме». Первая дама разрыдалась и убежала в спальню. Судья вышел на площадь, где его ожидали городские власти. Стали рассаживаться по лодкам. Кроме слуг и музыкантов, Мака пожелала взять с собой еще и своих генералов. Вот тут-то и начались неприятности. Куда-то запропал Полковник Бальта. Мака спокойно приказала секретарю суда:
– Сойдите на берег, приведите его.
– Простите, сеньорита, но я не слуга, – отвечал Пасьон.
Мака повернулась к судье.
– Пако, неужто ты позволишь оскорблять меня этому ничтожеству?
– Сеньорита Альборнос, дон Сантьяго сказал только…
– Дон? С каких это пор всякого трепача величают доном? Ты считаешь себя Первым Гражданином провинции, а сам позволяешь какому-то жалкому типу публично наносить мне оскорбления.
– Сеньорита Альборнос, прошу вас… – простонал секретарь суда.
Судья колебался. Тогда Мака выпрыгнула на берег и ушла. Долгие часы упрашивали ее. Наконец она согласилась участвовать в прогулке, только, разумеется, без Пасьона, «единственного чиновника, господин Префект, который сумел с достоинством исполнить свой долг, когда настали времена, тяжкие для всех матерей семейств нашей провинции».
Королева, адмиралы и председатель жюри поднялись на борт «Конституции». Субпрефект Валерио и другие видные государственные чиновники – на «Акулу Янакочи», учительницы – на «Независимость». Народ набился в лодки всех видов и размеров. На корме «Конституции» Арутинго приказал соорудить для Маки и судьи беседку, раскрашенную в цвета национального флага. Туда принесли кресла в стиле Людовика XIV, диван с пестрыми подушками и маленький столик, уставленный ликерами. «Уаскар» отправился вперед, готовить подобающую встречу. Флотилия исчезла в тумане. Берегов не было видно. Ветер вздымал гребешки волн. Может быть, рулевой сбился с пути? Странно! На «Конституции» плыли доктор Монтенегро, Королева, Арутинго, Генерал Прадо, Генерал Гамарра, Генерал Иглесиас, Генерал Бермудес, Полковник Бальта, Святые Мощи и какой-то несчастный с огромным зобом, которого Мака звала просто Майором. По словам Арутинго, все шло хорошо, пока не оказались на середине озера. Тут – не странно ли это? – судья приказал вдруг всему экипажу подняться на палубу. Чайки кричали в тумане. Матросы услышали, как кто-то насвистывает уайно, потом шепот, опять уайно и снова шепот. Генералы распевали, путая «Простого парня» с национальным гимном. «Все плыло у меня перед глазами. Казалось, я тысячи лет брел по пустыне, и вот мне дали глоток свежей воды. Я встал на колени. Она провела ладонью по моим волосам. Я поднялся и услышал пение дурачков. Тогда она сама опустилась на колени, я ощутил прикосновение ее рук и увидал свое детство и свою старость, свое рождение и свою смерть… Мир, будто огромный удав, сомкнулся вокруг меня».
Звериный рев вырвался из глотки судьи Монтенегро. Генерал Иглесиас, Майор и Святые Мощи с испугу бросились в воду и утонули. В дверях беседки появилась Мака, вытирая губы пестрым платочком. Без пиджака, насвистывая «Туча серая», судья сел на весла.
Пристали в Успачаке. Судья Монтенегро поразил всех своим веселым видом. В порту толпа школьников ожидала Королеву Маку Первую. Дети кричали:
– Не подмажешь – не поедешь! Не подмажешь – не поедешь! Не подмажешь – не поедешь!
Судья достал пачку денег и начал раздавать, будто апристские листовки. Поднялась суматоха – нищие, генералы, адмиралы и школьники вырывали друг у друга бумажки.
Коронация состоялась в муниципалитете. После коронации – бал, который открыл сам доктор Монтенегро. Видя пляшущего судью, люди отказывались верить своим глазам. Королева осталась ночевать в Успачаке вместе со свитой. На следующее утро поплыли в Сан-Рафаэль. Опять встречала их у пристани веселая толпа. Доктор роздал тысячу солей. И так повторялось в каждом порту.
Поездка продолжалась целую неделю; судья был счастлив и добр. В день возвращения он назначил празднование 28 Июля только для того, чтобы последовать традиции – объявить амнистию заключенным. Впервые за двадцать пять лет местная тюрьма оказалась пустой. Но вскоре капризы Маки– испортили судье настроение. В самое неподходящее время она вдруг призывала его к себе. Она никогда не посылала к судье его друзей или слуг, а передавала все свои приказания через Генерала Бермудеса. Прихрамывая, являлся Генерал в суд, нарушая мудрый ход делопроизводства. Судья отменял допрос или приостанавливал вынесение приговора и тотчас мчался на зов. Еще хуже приходилось ему во время пиров, которые Мака затевала беспрестанно.
Супруги выдающихся персон города, не столько из почтения к судье, сколько со страху, являлись на эти пиршества, «достойные, господин Префект, Гелиогабала [3], который бросал христиан на растерзание диким зверям. Нерон, сжегший Рим, просто кроткий ягненок по сравнению с этим чудовищем».
Был праздник по случаю бракосочетания Флор Сиснерос. Мака пела и плясала без устали. Но вдруг остановилась, улыбнулась и пальцем поманила к себе доктора Монтенегро. Тот побледнел.
– Не видишь, что ли, я тебя зову.
– Чем могу служить, сеньорита Альборнос? – вежливо спросил судья.
– Пляши!
– Я не любитель тан…
– Пляши, я тебе говорю! Музыка!
Судья начал немыслимый уайно. Но не кончил. Мака запела другое, пустилась плясать с племянником Солидоро. Этот соплячок только что приехал из Лимы, где изучал право, исполненный суетных мечтаний выставить свою кандидатуру в депутаты. На глазах судьи Монтенегро Мака кокетничала с мальчишкой. Разъяренный, весь дрожа, покинул судья дом Сиснеросов и зашагал прочь. Какой-то проситель пристал было к нему, но даже рта не успел раскрыть – судья закатил ему пощечину. На другое утро судья принял решение поговорить с Макой всерьез. Однако выяснилось, что она даже не думает оправдываться, напротив того, считает себя обиженной. Генералы же оплевали судью с головы до ног. Кроме того, они взяли себе за правило бросать камнями в окна его дома, и судья никак не мог объяснить донье Пепите, почему полиция не примет меры, чтобы пресечь подобное безобразие. Напрасно посылал Монтенегро вестников к Маке. Напрасно Атала и Арутинго таскали к ней день и ночь подарки и письма. Подарки Мака раздавала, а письма, не читая, бросала генералам, они делали из них петушков и лодочки и очень веселились.
Желая развлечь Маку традиционным парадом, судья опять назначил празднование 28 Июля. День национального освобождения праздновался уже в девятый раз в течение «года». Чиновники получили предписание выработать программу празднества в каждом селении, включающую в себя в обязательном порядке парад и бал. Разумеется, в первую очередь пригласили на праздник Королеву красоты долины Яваркоча. Но Мака Первая не удостоила церемонию своим присутствием. Судья один принимал парад. Он мучился – до него дошли рассказы о том, что Мака будто бы сказала в пивной в Успачаке одному матросу: «Дружочек, если бы вот служил нам только для того, чтобы есть, какая была бы разница между женщиной и курицей?»
Кое-как довел судья до конца свое соло – прочитал подобающее случаю торжественное стихотворение, а затем произнес патриотическую речь:
– Дамы и господа! Существуют даты, золотыми цифрами врезанные в мрамор истории… – Тут судья погрузился в описание эпизодов войны за Независимость. Вспомнил поход освободителей «через наши горы, господа, они перешли их в те незабываемые дни», сказал про героические битвы при Хунине и при Аякучо, где генерал Сукре покрыл себя неувядаемой славой…
Слишком поздно разглядел судья своими покрасневшими от бессонницы глазами идиотскую улыбку Генерала Сукре. Дурачок пробирался сквозь толпу, размахивая конвертом. Присутствующие, разумеется, хорошо понимали, какое ответственное поручение выпало на долю Генерала. Кое-как добрался он до трибуны. Арутинго, исполненный рвения, кинулся ему навстречу, выхватил письмо, положил на стол. В письме было всего два слова: «Приходи. Я».
– И тогда на поле Аякучо, где братья бились за свободу, генерал Сукре…
Идиотик, уверенный, что хвалят его, радостно заверещал во всю мочь:
– Ответ оплачен!
Арутинго и тут не растерялся, схватил дурачка за уши, потащил прочь.
– Ответ оплачен! – визжал Генерал.
Приглашенные по возможности прятались друг за друга, они буквально лопались от смеха, но судья презрел всякого рода догадки и подозрения. Он продолжал свою торжественную речь. Только что напомнил он слушателям о поражении испанцев, как увидал Маку. С ужасом, восторгом и дрожью глядел судья, как расталкивала она приглашенных, а те глазели, разинув рты. Наконец, Мака добралась до трибуны, глянула на судью.
– Прошу вас, сеньорита Альборнос, сделать честь нашему собранию и занять почетное место в президиуме, – забормотал он.
– Ты знаешь, что сегодня день моего рождения?
– Сегодня также годовщина национального освобождения, – заикаясь, пролепетал сеньор Монтенегро.
– Годовщина национального освобождения? И поэтому ты здесь? Значит, в Янауанке охотнее празднуют годовщину национального освобождения, чем мой день рождения?
– Но, сеньорита Альборнос…
– Давай говори прямо, Пако. Какие-то там патриотические даты для тебя важнее, чем день моего рождения. А может, ты празднуешь свое освобождение? Ну, коли так, с этой минуты ты полностью свободен и независим от ига Маки Альборнос. Ибо ты дурак, и дураки все те, кто борются за это дурацкое дело.
Это была святотатственная пародия на слова, которыми «в такой же вот день» Освободитель Сан-Мартин провозгласил независимость Перу. Итак, вся Янауанка убедилась в. том, что, на взгляд Маки Альборнос, Первый Гражданин – самый последний. Униженные, оскорбленные, обиженные всегда безошибочно чувствуют, в чьих руках власть. Все они так и бросились к Маке. Судья совсем приуныл. Он шел на любые унижения, лишь бы Мака его не покинула. Мака питала особое пристрастие к актерам, шутам, танцорам. Этим людям суд всегда выносил оправдательный приговор, статьи уголовного кодекса тут во внимание не принимались. Случалось и так, что по велению Маки судья давал распоряжение прекратить дело и освободить какого-либо афериста или скотокрада только потому, что их родственники отличились в танцах на недавней вечеринке. Но не только подобные повеления получал он от Маки. Однажды вечером судья Монтенегро принимал у себя в доме депутата от Паско. На прием собрались сливки местного общества. Вдруг судья увидал: по лестнице, хромая, с идиотской улыбкой. Поднимается Генерал Бермудес. Каким-то чудом бывший сержант Атала сумел помешать Генералу войти в зал. Генерал принес записку, в записке стояло просто: «Приходи». Проклиная и благословляя судьбу, судья спрятал приказ в карман. Было десять часов вечера. Начались речи. Первый Гражданин только что собирался взять слово, как вдруг до его слуха донесся знакомый стук каблучков, и появилась Мака – незабываемый взгляд, растрепанные роскошные волосы.
– Не помешаю? – спросила она.
Сам депутат от Паско, «достославный свидетель отвратительнейших событий, о которых этот примерный Гражданин, без всякого сомнения, доведет до сведения Парламента», несколько оцепенел. Никто не смел произнести ни слова.
– Так как? Или я не могу даже помешать?
– Сеньорита Альборнос…
– Сеньорита! Ну, ясно! Мы же не в спальне…
– Сеньорита Альборнос! Разрешите напомнить вам, что вы находитесь в частном доме…
– Мы. что, Пако, не говорим больше друг другу «ты»? Ты разве забыл, кто я? Твое сокровище, светлячок, освещающий тебе путь, оазис в пустыне твоей супружеской жизни…
С видом оскорбленного достоинства подплыла к Маке донья Пепита Монтенегро.
– Неужели вы позволите, доктор Монтенегро, чтобы так бесчестили ваш семейный очаг? Я ваша законная супруга, доктор…
Мака улыбнулась еще светлей.
– Значит, ты изменяешь мне со своей женой, не так ли?
– Сержант Астокури! – донья Пепита сотрясалась от ярости, – сию минуту вышвырните отсюда эту тварь!
Сержант хорошо знал, кто распоряжается в Янауанке. Он поглядел на судью, потом на Маку, потом опять на судью.
– Действовать, доктор?
Остолбеневшие гости замерли. Но судья не смотрел на них. Он колебался, он задыхался от стыда, он шатался. И все же, едва ли не при смерти, судья выдавил:
– Действуйте.
Полиция предъявила Маке обвинение в «оскорблении судебных властей». Судья надеялся, что младший лейтенант Тарамона поймет, в какое невыносимое положение он попал. Так бы оно и было, если бы младший лейтенант в свою очередь не оказался в положении еще более невыносимом. «Ибо мы вынуждены с глубоким прискорбием сообщить Вам, господин Префект, что те, кому поручено бдительно охранять порядок в нашем городе, первые его и нарушают». Кроме всего прочего, в обязанности младшего лейтенанта Тарамоны входил личный рапорт командованию 21-го военного округа через каждые две недели. Заодно он обычно привозил деньги для выплаты жалованья полицейским всей бывшей долины реки Чаупиуаранга. На борту «Уаскара» злая судьба столкнула младшего лейтенанта с тремя шулерами, которые без всякого почтения к мундиру предложили:
– Не хотите ли, господин младший лейтенант, сыграть в покер по маленькой?
– Пожалуй. Просто, чтоб убить время.
– Ставка – пять песо золотом.
– Набавляю.
– Ай-ай-ай!
На пятнадцатой партии ставка дошла до сотни солей. Прекрасная погода и пиво бодрили души. Когда на горизонте показалась Янауанка, младший лейтенант Тарамона проиграл уже пятнадцать тысяч.
– Подходим к Янауанке! – объявил матрос.
– Как же мы, на том и покончим, я и не отыграюсь?
– Мы бы с удовольствием продолжили партию. Только где, господин младший лейтенант?
– А почему бы не зайти в клуб?
– Если вы угостите перчиком, господин младший лейтенант.
Младший лейтенант не отвечал на приветствия полицейских следивших за разгрузкой в порту. Глядя на лицо своего начальника, стражи порядка заподозрили неладное. Через некоторое время Собенес, дежуривший в клубе, подтвердил их подозрения – он сообщил, что младший лейтенант проиграл двадцать тысяч солей то есть две трети подотчетной суммы. Полицейские забеспокоились.
– Чего там ждать, черт побери! – воскликнул Астокури. – Оцепить клуб, и все тут!
От Полицейского управления до клуба через каждые пятьдесят метров расставили часовых. Клубный лакей приносил вести от Собенеса. Все Полицейское управление пристально следило за ходом игры.
– Как там наш лейтенант?
– Проигрывает.
– Как дела?
– Выиграл пять тысяч.
– Ну как, выигрываем мы или проигрываем?
– Отдыхают. Умитас едят.
К десяти вечера младший лейтенант проиграл последнюю тысячу солей и поставил на карту золотые часы, подарок отца. Шулера из вежливости согласились.
– Он не имеет права, – ворчал капрал Бехарано.
– Что мы будем есть целый месяц? – спрашивал рядовой Пас.
– Такие вещи следует запретить, – сказал расстроенный рядовой Ромуло.
Сержант выпрямился, лицо его пылало гневом.
– Они и запрещены! Азартные игры запрещены, черт побери! Приготовиться к облаве!
Через несколько минут с пистолетами в руках полицейские ворвались в клуб. Они явились как раз вовремя.
– Руки вверх!
– В чем дело?
– Все к стене, черт побери! – крикнул сержант Астокури.
– Вы что, не видите, здесь ваш начальник? – сказал нахальный шулер.
– С вашего позволения, господин младший лейтенант, азартные игры запрещены. Я по закону обязан приступить к конфискации. Прошу вас не препятствовать изъятию суммы, являющейся доказательством состава преступления.
Полицейские четко выполнили свои обязанности, они конфисковали 53 512 солей, каковая сумма привела в изумление самих шулеров, ибо банк не превышал 25 тысяч. Без гроша в кармане отправились шулера в кутузку, откуда вышли лишь через двадцать четыре часа, получив весьма строгое внушение от сержанта Астокури. Младший лейтенант спал мертвым сном. На другой день, в час дня, он явился в управление. Еще из-за дверей услышал он звуки печального вальса. Во дворе Мака, окруженная генералами, пела о безнадежной любви. У младшего лейтенанта пересохло во рту. Он повернулся к сержанту Астокури.
– Как вы посмели арестовать эту даму, сержант?
– Сеньорита Альборнос обвиняется в оскорблении судебных властей, – пробормотал, запинаясь, Астокури.
– А вы и все остальные сукины дети, что живут в этом городе, обвиняетесь в оскорблении Красоты. Исчезни, окаянный!
Младший лейтенант поклонился.
– Сеньорита Альборнос, я прошу вас простить этих наглых глупцов, которыми я имею несчастье командовать.
Один из полицейских был отправлен с заданием доставить в управление утку с рисом и музыкантов. К вечеру веселье вышло из берегов. В шесть младший лейтенант послал за шампанским Ла Фури. В семь приказал очистить помещение. Остались только сам Младший лейтенант, Мака и ее генералы. Но тут история покрывается мраком. Одни утверждают, что при допросе обвиняемой младший лейтенант Тарамона стремился «увидеть истину во всей ее неприкрытой наготе», другие же говорят, что поскольку младшему лейтенанту «решительно нечего было скрывать», то обнаженную истину демонстрировал именно он. Так или иначе бесспорно одно: воспользовавшись растерянностью младшего лейтенанта, Мака переоделась в его форму и ускользнула. «Ибо иначе как же объяснить тот факт,, что преступница в мундире, фуражке и шинели лейтенанта полиции села на катер и направилась в Успачаку? Ведь для того, чтобы одеться, надо сначала раздеться, или чтобы раздеться, надо одеться». Младший лейтенант Тарамона целые дни ломал себе голову, не в силах понять, каким образом заключенная оказалась одетой в полицейский мундир и зачем явилась в таком виде в комендатуру 21-го военного округа с жалобой на «попытку соблазнить начальника полицейского отряда». Полковник Салата действовал решительно – жалобу он разорвал, а Маку пригласил почтить своим присутствием праздник по случаю дня рождения его тещи. О том, что произошло в ту ночь, забыть невозможно, даже если доживешь до глубокой старости.
Глава двенадцатая
О том, какая беда может приключиться с человеком, который думает, будто 28 Июля бывает 28 июля
Исаак уговорил своего брата Хулио, что 28 Июля необходимо спраздновать именно 28 июля. Поначалу Хулио Карвахаль.
– Видишь ли, Исаак, сейчас у нас декабрь две тысячи сто девяносто второго. Весь Уараутамбо готовится к встрече Нового года. Сам отец Часан собирается служить рождественскую мессу в церкви Янауанки.
Исаак заглянул в старый календарь.
– Сейчас июль тысяча девятьсот шестьдесят второго. Через две недели – День Независимости. Именно двадцать восьмого ты должен отпраздновать двадцать восьмое!
Хулио не понимал.
– Сколько у тебя учеников?
– Тридцать.
– Устрой с ними парад по случаю 28 Июля.
– Ладно, братец.
– Ты понял?
– Понял, братец.
Хулио Карвахаль работал учителем в школе Уараутамбо. Слуги поместья, видно, умели вкусно готовить – как-то раз они угодили судье Монтенегро, он пришел в хорошее настроение и приказал открыть школу. Пеоны думали, что приказ этот долго еще пролежит на утверждении, но по неведомым причинам судья не только выстроил школу, но даже нанял учителя – Хулио Карвахаля, уроженца Янакочи, дрожавшего прежде от холода в школе Хупайкочи.
– В Уараутамбо ты будешь есть мясо и пить молоко, – обещал Арутинго Хулио. В конце концов он уговорил его перебраться в поместье.
– А какое жалованье, дон Эрмихио?
– Тебе дадут участок земли, можешь сеять, что хочешь, можешь завести овец, кур.
– А жалованье, дон Эрмихио?
– Триста в месяц.
– Я работаю в Хупайкоче, и государство платит мне четыреста.
– В Хупайкоче каждый день выпадает снега на метр глубины. А в Уараутамбо солнышко светит.
– Это верно, дон Эрмихио.
– Сколько тебе надо времени, чтобы добраться из Хупайкочи в Янакочу, повидаться с семьей? Два дня. А из Уараутамбо до Янакочи – несколько часов.
Очень удивился Хулио, когда приехал в поместье: жители встретили его необычайно радостно. Они ведь совсем не видели новых людей. Ни один человек, кроме гостей судьи, не мог похвастаться, что побывал в мрачном господском доме, построенном на развалинах древней крепости инков и окруженном лачугами пеонов. Жителям Уараутамбо запрещено было выезжать за пределы поместья, вот и смотрели они на учителя во все глаза – он был из другого мира. Судья приказал начать занятия в старом заброшенном сарае. Здесь Хулио Карвахаль и собрал первых своих учеников. Он достал книгу, взволнованно принялся рассказывать об освобождении Перу, потом прочел торжественную речь Сан-Мартина Освободителя. Дети смотрели на него, потрясенные. Самый храбрый решился наконец взять в руки книгу. Поднес ее к уху.
– Ты что, сынок?
– Хочу услыхать голос, – отвечал малыш.
Карвахаль вздрогнул. Более четырехсот лет назад в Кахамарке инка Атауальпа точно так же был поражен при виде «говорящей бумаги». На следующий день Хулио Карвахаль начал учить детей грамоте. В то время даты еще существовали. Тридцатого числа Хулио отправился в господский дом получать свое жалованье. Его угостили крольчатиной в пикантном соусе и щедро налили чичи. Прошел еще месяц, Хулио снова явился за жалованьем и получил жареную курицу и еще больше чичи. На третий месяц ему выдали мешок кукурузы. На четвертый – Хулио осмелился обратиться к самому судье.
– Простите, доктор.
– Что тебе, сын мой? – добродушно отвечал судья.
– Дело в том, что… что…
– Не бойся, говори прямо. Или ты тоже думаешь, будто я людоед?
– Дело в том, что… что…
– Ты недоволен чем-либо? Может, кто тебя обидел, так я его сию же минуту в колодки засажу.
– Я… я… у меня денег нет, а поскольку вы – прошу прощения, я нисколько не хочу вас обидеть, – вы должны мне за три месяца, вот я и думал…
– Ты хочешь получить деньги?
– С вашего разрешения, доктор.
– Напрасно ты хочешь взять свои деньги, Карвахаль. Я знаю, что тебе должны за три месяца. Зачем тебе деньги? Ты их истратишь, и все тут. Разве не лучше, если я их сберегу, а в конце года отдам тебе все сразу?
– А что же я буду есть целый год, доктор?
– Я велю, чтоб тебя кормили по очереди. Тебе это ничего не будет стоить, и в конце года ты получишь целую кучу денег.
Существует такой обычай: человека, который оказывает выдающиеся услуги общине, кормят все ее члены. Если у кого учатся в школе трое сыновей, он обязан три раза в месяц кормить учителя. У кого двое – два раза в месяц. У кого один – один раз. А зачем человеку деньги? Чтобы кормиться! Ильдефонсо Куцый распределял очередность, арендаторы с радостью кормили учителя. Так и прожил Хулио Карвахаль целый год. Поскольку, по его расчетам, приближался Новый год, Хулио надел свой единственный костюм, повязал единственный галстук. И отправился поздравлять доктора. Он уже предвкушал в мечтах, как доктор даст ему целую кучу денег. Судья благосклонно принял поздравления, когда же разговор коснулся жалованья, он поднялся с резного, черного дерева кресла и открыл ящик шкафа, тоже черного. Вынул большую пачку ассигнаций и положил на стол.
– Вот твои три тысячи шестьсот солей. Если хочешь, можешь взять их, только я тебе не советую это делать. На будущий год у тебя будет семь тысяч двести солей.
– Семь тысяч двести?
Доктор рассмеялся.
– Тоже мне учитель! Ты что, считать не умеешь? Ровно вдвое, сын мой. И все сразу. Ну, как ты решаешь? Возьмешь или пусть дальше копятся?
Богатство, дом, земля – все это так близко, перед глазами, словно уже под рукой!
– Пусть у вас останутся, доктор, – сказал Карвахаль.
– Давай-ка выпьем по маленькой, Хулио. Мне надо кое-что тебе сказать.
– Слушаю вас, доктор.
– Я доволен твоей работой. У тебя, я слышал, дочка родилась. Если нужен крестный отец, я очень рад с тобой покумиться.
Учитель Карвахаль тяжело вздохнул – он вспомнил ту пору, когда время еще существовало и когда носить фамилию Карвахаль не считалось тягчайшим позором.
– Община называет нас предателями. А ведь от отца мы унаследовали свое имя чистым. Мы обязаны были сберечь чистоту своего имени, Хулио.
Учитель поднял голову, в волнении поглядел брату в глаза.
– Ты – старший брат. Я подчиняюсь тебе.
Скатилась слеза по щеке Исаака. По всей провинции текли слезы людские; стояли недвижно воды, а слезы текли.
– Ты велишь праздновать 28 июля? Будем праздновать.
– Ты знаешь, чем рискуешь?
– Все лучше, чем считаться предателем.
– Тебя выгонят, изобьют, может быть, посадят в тюрьму.
– Я готов на все, Исаак.
Назавтра, едва войдя в школу, Хулио Карвахаль тотчас же сказал ученикам, что скоро будет праздник – День Независимости. Вся провинция готовилась встречать Новый, 2193 год, а школьники Уараутамбо репетировали национальный гимн и маршировали, собираясь праздновать 28 Июля 1962 года.
Пачо Ильдефонсо, двоюродный брат Ильдефонсо Куцего, сообщил судье странную новость: в школе Уараутамбо готовятся праздновать День Независимости прошлого века.
– Ты что, пьян? Не знаешь, что у нас сейчас декабрь две тысячи сто девяносто второго года?
Судья потрепал Пачо по щеке и погрузился в чтение речи, которую готовился произнести в муниципалитете. Однако через две недели явился в Янауанку Ильдефонсо Куцый и рассказал, что все жители Уараутамбо присутствовали на параде школьников.
– По какому случаю?
– Говорят, вчера было 28 Июля, доктор.
– Все может быть.
В тот же день Ильдефонсо Куцый сказал учителю Карвахалю, что судья вызывает его в Янауанку.
– Завтра приеду.
– Хозяин сказал, чтоб вы сейчас же приехали, господин учитель.
– Дай хотя бы переоденусь, – вздохнул учитель. Он стеснялся своих заштопанных брюк и рубашки с потертыми манжетами.
– Мне приказали привезти вас сей же миг. Лошадь оседлана.
На площади Янауанки толпился еще народ, когда учитель Карвахаль вошел в портал, над которым сверкали огромные серебряные буквы «Ф» и «М» – муниципалитет единодушно принял решение поместить их здесь, чтобы выразить, «как высоко ценят граждане своего великого земляка доктора Франсиско Монтенегро». Карвахаль прошел через первый двор. Во втором Арутинго развлекался, перебирая колоды карт.
– Хозяин ждет тебя в кабинете, – лениво бросил он.
Учитель поднялся на третий этаж, вошел в просторную комнату. Судья Монтенегро просматривал старую газету.
– Добрый день, кум… – запинаясь, проговорил Хулио.
– Входи, – приказал судья, не поднимая глаз.
Прошло пятнадцать минут. Судья вдруг встал, запер дверь и достал из ящика прут, каким погоняют быков.
– Вот теперь ты мне расскажешь, сукин сын, сволочь, что ты там натворил.
Учитель молчал, растерянный.
– Гнида, сын гниды и внук гниды! Правда, что ты праздновал 28 Июля?
– Это правда, доктор.
– А кто тебе разрешил?
– По закону полагается отмечать в школах годовщину национального освобождения, доктор.
– Дерьмо собачье! Может, еще скажешь, что ты лучше меня знаешь, когда какой день?
– Сейчас июль, доктор. И я как учитель…
Удар прута рассек ему скулу. Учитель отшатнулся. Судья ударил еще, потом еще… Перед глазами Хулио промелькнул умирающий отец, брат, сотрясающийся от рыданий… Может, пришел и его, Хулио, смертный час… Учитель схватил бутылку из-под пива, ударом о стол отбил горлышко. Кровь текла по его лицу, пятнала рубашку. Он поднял вверх половину бутылки с торчащими острыми краями.
– Брось стекляшку, собачий сын.
– Бросьте вы прут, доктор.
– Брось – и на колени, дерьмо, предатель!
– Откройте дверь, а не то я раскрою вам физиономию, – закричал Карвахаль и сам удивился. Как черный янтарь, сверкали его глаза, и, как агат, поблескивали глаза судьи Монтенегро.
На шум прибежала донья Пепита.
– Оставь его, Пако. Не волнуйся.
– Я уйду из вашего дома и из поместья, – воскликнул Карвахаль, бледный как смерть.
– А почему, Карвахаль? – спокойно сказала донья Пепита. – Тебя здесь никто не обижает. Если кому обидно, так это доктору. Ему сказали, что ты распространяешь какую-то ересь. Он и решил поучить тебя, вернуть на путь истинный. По-отечески.
– Я все равно ухожу, сеньора.
– Если уйдешь, кто соберет урожай с твоего участка?
– Пусть пропадает.
Не выпуская из рук бутылки, Хулио прошел сквозь толпу испуганных слуг. Остановился на углу площади, увидел, как вышел из дому судья на обычную вечернюю прогулку. Хулио пересек площадь – впервые в жизни посмел он расхаживать перед домом Монтенегро. Было шесть часов вечера. Навстречу Хулио шел полицейский Пас.
– Ты Хулио Карвахаль?
– Да, сеньор.
– Имеется приказ о твоем аресте.
– За что?
– За оскорбление судебных властей.
Через несколько дней дверь камеры, где сидел Хулио, открылась и появился его брат Исаак. Муниципалитет обвинил его в мошенничестве при сборе налогов.
Глава тринадцатая
Агапито Роблес и ничуть не менее его знаменитый конь Белоногий решают отправиться в путь
В записной книжке, где Агапито Роблес, чтобы не спутаться, отмечал палочкой каждый день, через девять палочек появился Крест – тот день, когда Агапито впервые собрал членов Совета общины. Много пришлось поставить палочек до этого дня, потому что члены Совета всячески уклонялись, находили разные отговорки. Агапито всех терпеливо выслушивал, ни разу никого не упрекнул. С тех самых пор, как вернулся, Агапито всегда при встрече со старыми людьми снимал шляпу, а молодым улыбался. Целый месяц пришлось ему бродить по пустым улицам и сидеть на пустых площадях. Но он не осуждал никого. День за днем очищал он заросшее поле своего отца. И вдруг весть об одиноком мятеже братьев Карвахаль всколыхнула Янакочу. Тогда-то осторожно, постепенно, словно врач, не спеша бинтующий рану, начал Агапито подбадривать упавших духом членов Совета. Ибо впервые с тех пор, что время остановилось, Янакоча гудела и волновалась – говорили о том, как изменились братья Карвахаль, теперь Монтенегро считают их отступниками.
Однажды вечером возвращался Агапито с отцовского участка. В темноте улицы Эстрелья возник вдруг перед ним Сиприано Гуадалупе. Робко попросил разрешения поговорить. Проговорили они до рассвета. Через три дня Агапито ночью собрал у себя бывших товарищей по заключению. Разговор шел о братьях Карвахаль.
В конце марталя или, может быть, в начале майября (а в каком году, вряд ли кто мог бы сказать точно) Сиприано Гуадалупе заявил:
– Надоело мне жить, словно кролик. Исаак сидит в тюрьме. Раньше он от меня прятался. Теперь, когда его выпустят, мне придется прятаться от него.
– Что ты предлагаешь, Сиприано?
– Что ты скажешь, то и сделаю!
– Пора собраться, позвать Криспина, Теодосио Рекиса и братьев Минайя.
– Не придут.
– А ты позови под каким-нибудь другим предлогом.
Вечером Сиприано Гуадалупе постучал в двери дома Минайи.
– Что случилось, Сиприано?
– Жулика поймали. Ты главный стражник, надо его наказать. – А где жулик-то?
– В Совете.
Минайя накинул пончо, взял плеть. Отправились. Совет был погружен в темноту.
– Где же жулик?
– Тут, – ответил Агапито Роблес и звонко рассмеялся.
– Что такое, дон Агапито?
– Никакого жулика нет. Это мы для того, чтоб тебя вызвать.
– Почему же вы не сказали как есть?
– А ты бы пришел?
Когда глаза привыкли к темноте, Минайя разглядел Теодосио Рекиса, Фелисио де ла Бегу, учителя Николаса Сото, Макарио Валье, Крисостомо Криспина и Гильермо Риверу. Агапито Роблес начал говорить. Ни тени упрека не было в его словах, и словно в самом голосе звучал призыв забыть о прошлом:
– Те, кто осмеливается выйти за пределы нашей провинции знают: во всем мире реки текут, облака плывут по небу, идут дожди и время движется вперед. В нашей провинции остановилось все, и виной тому – наша трусость. Время болеет с тех пор, как мы приняли приказ судьи Монтенегро укоротить месяцы, чтобы приблизить праздники. Судья изменил по своей прихоти календарь, и время сошло с ума. Весь этот ужас кончится только тогда, когда мы свергнем тиранию Монтенегро. Надо захватить Уараутамбо силой. И этот великий подвиг свершит Янакоча. Кто хочет уйти, пусть уходит. Те, кто останется, войдут в Комитет борьбы за возврат земель.
Никто не двинулся с места.
– Может быть, прежде чем действовать, нам следует посоветоваться с жителями Янакочи? – спросил учитель Сото.
– Нет.
– Почему же?
– Если люди узнают, какое грандиозное дело мы задумали, они испугаются. Мы убедим их мало-помалу. В каждом селении есть хотя бы один человек, способный понять, что, только когда мы излечимся от страха, время снова начнет двигаться и земля снова станет нашей. Надо постепенно открывать людям глаза. Я объеду все наши селения, в каждом организую Комитет борьбы за возврат земель. Согласны?
Молчание, запах пота.
– Думайте! Пути назад не будет. Я не стану упрекать в трусости того, кто уйдет, но кто останется, должен поставить свою подпись в Книге актов общины, где записано, что «в трезвом уме и твердой памяти» мы принимаем решение бороться против судьи. Кто согласен?
– Я согласен, – торжественно заявил Гуадалупе.
– Согласен, – хрипло выдавил Рекис.
– Я с вами, сеньор выборный, – воскликнул Нейра.
– Наконец-то, – пробормотал Николас Сото. Он был уроженцем Янакочи, но преподавал в Мичивилке.
– Становитесь на колени! Повторяйте за мной: клянусь, никогда не выдам того, что мне известно как члену Комитета борьбы за возврат земли селения Сан-Хуан-де-Янакоча. А если на позор детям моим я стану предателем, то пусть власти общины селения Янакочи умертвят меня.
Они встали на колени, произнесли клятву.
– Судья приказал наложить арест на все мое имущество, но его помощники забыли коня с белыми ногами. Он так и зовется: Белоногий. Как рассветет, я его оседлаю.
На рассвете Агапито отправился в Сантьяго Помайярос. На повороте дороги остановился, поглядел на крыши Янакочи, что блестели от росы, будто новые, вспомнил тюрьму в Уануко, лицо Эктора Чакона, как он сказал: «Ты не допустишь, Агапито, чтоб втоптали в грязь наши имена», и снова поклялся – не возвращаться в Янакочу до тех пор, пока не поднимет всех, до последнего пеона. Он надеялся возвратиться через шесть «месяцев».
Много урожаев сняли с полей до той поры, как воротился Агапито Роблес в родное селение.
Г лава четырнадцатая,
в которой действует сержант Астокури, неизвестно по каким причинам заинтересованный в правильном проведении неких выборов
Сначала полиция терпела бесконечные разъезды Агапито, якобы закупающего скот, потом его стали разыскивать, и ему пришлось всякий раз переодеваться. Так или иначе, но Агапито не пропустил ни одной самой жалкой лачуги, добрался до самых высоких вершин, где живут одни только пастухи, отупевшие от одиночества, почти разучившиеся говорить, не знающие женщин. На много лиг отстояло зачастую одно жилище от другого, но Агапито не колебался. Он передвигался по ночам, чтоб не заметили кумовья судьи. Ночевал в пещерах, в заброшенных хижинах. В селения входил редко. Прошло несколько месяцев, и Агапито вызвали в Полицейское управление. Тогда он исчез. Словно призрак, являлся он то в одном, то в другом селении (в общине Янакочи их четырнадцать), говорил о правах общины, читал Грамоту, объяснял: Грамота поможет, только если применить силу! Только силой мы сможем вернуть свои земли!.
Работы было по горло. На одно только чтение Грамоты уходили часы, а чего стоило растолковать людям, что писать жалобы по начальству бесполезно. В неверном свете костров, в пещерах, в далеких ущельях твердил Агапито обманутым людям: судья Монтенегро отнял у общины законные права, и вернуть их можно только силой.
– Силой?
– Да, силой.
Но преследования все росли, и Агапито снова исчез. Одни говорили, будто он живет в Помайярос, другие – что скрывается на ледяных вершинах Хупайкочи. Иногда какой-нибудь путник пробираясь по горным тропам, вдруг видел, как вспыхивало вдалеке пламя – желтое, синее или огненно-красное – то развевалось пончо Агапито, любителя ярких одежд. Ходили слухи, будто он живет в сельве, будто дон Анхель де лос Анхелес, тот, у которого две тени, выучил его колдовству. Есть ведь такие травы, что делают человека невидимым, есть соки растений, что дают способность летать. А иначе почему же полицейские никак не могут поймать Агапито? Много времени прошло, а об Агапито ничего не слыхать. Совсем заглохла борьба против Уараутамбо, и сержант Астокури начал толстеть. Во время сиесты во сне видел он, будто исхитрился изловить Агапито. Да не тут-то было!
Прошло еще несколько месяцев, и кончился срок полномочий выборного. Магно Валье и Хувеналь Ловатон потребовали переизбрать Агапито. Никто не смел спорить, ибо не только эти двое были заинтересованы в проведении выборов – полиция ожидала их с нетерпением. Сержант Астокури понимал: у Агапито нет другой возможности. Либо он явится на выборы, как всякий кандидат, и тогда его схватят, либо не явится и, следовательно, потеряет свой пост. Уверенные в успехе Магно Валье и Хувеналь Ловатон ходили из дома в дом и проповедовали: где это слыхано, чтобы выборного никто -никогда не видел? Прямо призрак какой-то! Настал день перевыборов. Незабываемый день! Полицейские явились еще на рассвете. Собрались члены общины, все до одного. В десять часов после мессы руководители общины вышли на площадь. Сиприано Гуадалупе, исполнявший обязанности выборного, вышел на середину. Есть ли у членов общины какие жалобы на руководителей? Пусть скажут при всех. Толпа молчала. Прошло четыре «года» с тех пор, как избран Агапито Роблес Бронкано, сказал Сиприано. Настало время перевыборов. Полицейские стояли на балконах, готовые в любую минуту стрелять. Сержант Астокури приказал расставить караулы на всех углах – все ждал какого-нибудь подвоха.
– Уважаемые кандидаты, прошу выступить вперед, – провозгласил Сиприано Гуадалупе.
Такой уж у нас обычай: кандидаты становятся в центре площади, сторонники каждого выстраиваются позади своего кандидата. За кем цепочка длиннее – тот и победил, вот и все. Магно Валье и Хувеналь Ловатон выступили на середину – там стояла фигура в ярком разноцветном пончо.
– Это что ж такое, сеньор Гуадалупе? – загремел Магно Валье.
– Представитель кандидата Агапито Роблеса, – отвечал Гуадалупе спокойно.
– Я протестую, – воскликнул Хувеналь Ловатон.
– Пусть решает община! – сказал Валье.
Гуадалупе не возражал.
– Кто согласен, чтобы община голосовала за представителя кандидата, будть то пончо его или сомбреро, поднимите руки.
Поднялось почти триста рук.
– Вы что, с ума сошли? – возмутился сержант. – Будете голосовать за пугало?
– Господин сержант Астокури, – отвечал Гуадалупе, – прошу повежливей. Здесь не Полицейское управление, здесь распоряжаетесь не вы, а община.
Сержант умолк.
– Соглашайся, Магно, – сказал Хувеналь Ловатон. – Одни только дураки станут голосовать за пугало. Если же Янакоча его выберет, так ей и надо.
– Имеется три кандидата. Прошу голосовать, – заявил Сиприано Гуадалупе.
Четыреста тридцать человек выстроились позади пылающего пончо. Восемьдесят встали за Магно Валье, сорок четыре – за Хувеналем Ловатоном.
– Агапито Роблес Бронкано вновь избран общиной Сан-Хуанде-Янакоча еще на четыре года, – провозгласил Сиприано Гуадалупе.
– На четыре года? Вы думаете, что еще существуют годы? – засмеялся Магно Валье.
Сержант Астокури рассвирепел – выхватил револьвер, шесть раз подряд выстрелил в пончо Агапито и удалился, проклиная тот день и час, когда его назначили в это окаянное место, где реки стоят, а люди голосуют не за живых кандидатов, а за их пончо. Было двенадцать часов. Солнце обливало палящими лучами взволнованную толпу.
– Прошу называть кандидатов на должность главы общины, – объявил Сиприано Гуадалупе.
Назвали Элисео Карвахаля, потом еще несколько человек – безупречных членов общины. Но тут учитель Николас Сото возвысил голос:
– Предлагаю сеньора стражника Исаака Карвахаля.
– Есть другие кандидаты?
Молчание. Сняв шляпу, по-военному, по стойке смирно застыл под раскаленным солнцем Исаак Карвахаль. Побледнел, крупные капли пота выступили на его лбу. От жары или от волнения? Только накануне спустился он с гор, чтобы принять участие в выборах. На улице Эстрелья встретился с Элисео Карвахалем.
– Поздравляю, братец.
– С чем?
– Говорят, тебя выберут главой общины.
– С ума ты сошел, что ли?
– Я рад за тебя, братец. Не из тщеславия, а потому что, видишь ли, – голос Элисео слегка дрогнул, – ты сын моего дяди и мне хотелось бы, чтоб ты оставил своим детям незапятнанное имя.
Элисео Карвахаль ушел, помахав на прощание рукой. Долго стоял Исаак в смутных лиловых сумерках, и смутно было у него на душе. Год прошел с тех пор, как вышел он из тюрьмы и по рекомендации Агапито Роблеса был назначен стражником. Давно уж никто не называл его желтяком. Монтенегро ненавидели всех Карвахалей. Мало того: слуги Монтенегро вечно их задирали. В Ракре, в пивной Ильдефонсо Куцый кричал Исааку: «Собака! Хозяин кормит тебя, а ты кусаешь его за руку».
И все же первое время люди колебались. Тогда Агапито прислал учителю Николасу Сото коротенькую записку: «Надо испытать Исаака Карвахаля. Назначьте его стражником. Узнаем, желтяк он или нет?» Теперь они хорошо это знали.
– В последний раз – есть еще кандидаты на должность главы общины? – возгласил Сиприано Гуадалупе.
Одно время Сиприано подосадовал было, что Исаак так возвышается, но потом понял – Агапито прав, надо выбрать Карвахаля, надо показать всем, что община умеет прощать, что она принимает без злобы тех, кто ошибался, а теперь нашел правильный путь. И потом, что верно, то верно: Исаак целый год исполняет свой долг, да так старательно, все забросил…
– Голосуем! – воскликнул Сиприано Гуадалупе, не спеша подошел к Исааку и встал позади него. Более четырехсот человек последовали его примеру.
Глава пятнадцатая
О «Битве между живыми и мертвыми», а также о других пончо, которые ткала слепая донья Аньяда
Полиция объявила розыск Агапито Роблеса, а он все-таки не соглашался носить другие пончо. Агапито был благоразумен, умел избегать опасностей, но тут стоял на своем. «Не могу я ходить в темном – я совсем сил лишусь». Яркое пончо далеко виднелось на фоне серо-белых гор, и все-таки Агапито не снимал его. Слепая донья Аньяда, что доживала теперь свои последние дни в Янакоче, ткала пончо для Агапито. Сорок лет верно прослужила донья Аньяда кухаркой в поместье – готовила для судьи Монтенегро индейский перец с курицей, утку с рисом, умитас – любимые его блюда, но так и не заработала себе угла под старость. К концу лета стала донья Аньяда слепнуть. Все слуги думали, что кухарка по-прежнему останется здесь, будет греть в огромной кухне поместья старые свои кости. Плохо они, видно, знали судью Монтенегро. Как-то раз судья воротился из «Эль Эстрибо» и вдруг заметил во дворе донью Аньяду. Слепая разговаривала с цветами. «Что это за старуха?» – спросил судья. Ильдефонсо Куцый застыл на месте, вытаращил глаза. «Что здесь делает эта старуха?» – снова возгласил судья. «Это донья Аньяда, доктор». – «Какая еще Аньяда?» Слепая кротко улыбнулась, а судья, стуча каблуками, побежал вверх по лестнице. Донья Аньяда гладила кусты роз. Ильдефонсо Куцый глядел на нее. Впервые в жизни поколебалась его собачья преданность хозяину. Может быть, вздрогнула глухая его душа при виде такой черной неблагодарности? Донья Аньяда бродила между цветами, переходила из одного двора в другой.
– Прощайте, розы, прощайте, гвоздики! Прощай, Николаса веселый мак, Мартита, капризная герань. И ты, Пепито, главный скандалист во всем саду. Аньяда прощается с вами. – Она погладила куст шиповника. – Кларита, я знаю, как ты страдаешь. И знаю отчего. Но страдания любви всегда недолги. Наступит весна, и жасмин снова будет любоваться тобой.
Ветки шиповника приникли к морщинистой руке, они не ранили ее, Куцый сам видел!
– А вы, цветы жимолости, ведите себя хорошо без меня. Думаете, я не слышала, как вы хвастались? Весь сад хотите покорить. Нехорошо, нехорошо!
И цветы жимолости – Куцый клялся потом, что видел это своими глазами, – свернулись от стыда. А слепая все говорила.
– О, деревья! О, травы! О, цветы! Все, что растет, увядает. Таков всеобщий удел. Не надо сетовать. Вас по крайней мере никто не выгонит, когда вы состаритесь. Мать говорила мне, чтоб не ходила в Янауанку. «Зачем тебе идти туда, Аньяда? Здесь – свет, деревья, чистая вода. Звезды, что светят тебе в радости. Что тебе еще надо?» Я была молодая, я была глупая, я была красивая. Твои глаза, Куцый, видят мою старость. Ты не поверишь, что из-за меня парни резались на ножах. Даже господа поднимались к нам в Янакочу и пели мне серенады. Я все бросила, поверила его лживой улыбке, пошла за ним… Зачем помнить все это, когда тьма навеки пала на мои очи. О, старость, жалкая старость! Я видела, как дрожит ложка с даровой похлебкой в руке, которая прежде с корнем вырывала деревья; видела, как подгибаются от слабости ноги, не в силах пересечь двор, а прежде эти ноги бегали так, что обгоняли ретивого коня. Желанной была моя плоть. Дрались за меня храбрецы. Гроза жандармов Пио Мариано пел мне такую песню:
Предатели отравили его. Счастливец! Он не познал беспомощности, милостыни, одиночества, унижения, всех тех яств, которыми досыта кормят старых людей. Чую – идет тишь, чую – идет черная тень, чую – идет смерть! Супайпагуагуа – сын дьявола, – зовут тебя Ильдефонсо. Неверно это. Есть в твоем сердце доброе зерно. Так говорит Аньяда, повелительница ночи. – Старуха подняла голову к небесам. – О, солнце, отныне мы враги с тобою!
– Куда тебя отвести, мамаша? – спросил перепуганный Куцый. Он, как и все остальные слуги, собравшиеся во дворе, не узнавал Аньяду – сорок лет терпела, сорок лет молчала, и вот смотри ты, как заговорила, соловьем разливается, а понять – не поймешь.
– В Янакоче, на родине, тебя примут, мамаша. Я тебя туда провожу? – спросил Куцый, сглатывая застрявший в горле комок.
– Не нужен ты мне! Никто мне не нужен! Аньяда теперь одна. Мать мне говорила: «От света к тьме ты уходишь, Аньяда». Так и сбылось!
Испуганные слуги видели-, как слепая пересекла все три двора и вышла на улицу. Десять лет не была она в Янауанке, но ноги ее все помнили, все видели лучше, чем глаза. Уверенно перешла Аньяда через площадь, спустилась туда, где прежде текла река Чаупиуаранга. Куцый и другие шли за ней до самой пристани. Будто зрячая, подошла Аньяда к лодке, что качалась на неспокойных волнах, села. Только тут все заметили кроликов. Покинув подвал огромной кухни, сотни кроликов длинной чередой тянулись вслед за страшной, величественной старухой.
– Что ж нам теперь делать? – воскликнула Эуфемия, вторая кухарка. – А вдруг доктор потребует кролика в пикантном соусе?
– Дерьма ему вместо кролика! – воскликнул Куцый и разрыдался.
– Из тьмы я вышла и во тьму возвращаюсь. Нет больше света. Одна теперь Аньяда. Уйдите от меня!
Они не посмели ослушаться. Слепая села на весла. Как удалось ей пересечь озеро, как добралась она до Янакочи? Известно лишь одно: около полуночи Аньяда вошла в дом выборного Роблеса. Откуда она знала, что это его дом? Агапито, изумленный, отворил двери.
– Приюти бездомную, выборный! – крикнула она.
Агапито поцеловал ей руку.
– Родина с любовью принимает тебя, донья Аньяда.
– Выжали меня, высосали, а кожуру выбросили! Приюти несчастную!
– Поешь-ка картошечки, – отвечал Роблес и подвинул к ней тарелку с картошкой, оставшейся от ужина.
Той же ночью Агапито назначил донье Аньяде для житья заброшенный дом. Наутро плотник Сиприано Гуадалупе с помощниками начали приводить дом в порядок. Собралась община, выделили донье Аньяде участок земли, решили сажать по пять мешков картофеля в год. «Я отплачу, буду ткать», – сказала старуха. Альгвасилы подумали, что она заговаривается, однако через несколько недель слепая прислала пакет. Кончилось бурное собрание, на котором решали, выгонять или нет из общины неисправимых скотокрадов братьев Хулка. Развязали пакет – больше из жалости, чем из любопытства. И все увидели первое пончо, сотканное доньей Аньядой для выборного в знак благодарности. Обычно пончо украшают цветы, бабочки или птицы, но другое выткала донья Аньяда: яростные толпы шагали по долинам и горам, шли через степи к огромной реке, тонули в ее волнах.
Директор школы Венто присмотрелся внимательно к пончо.
– Мне кажется, это река Мантаро.
– Не может быть. Донья Аньяда никогда в жизни не выезжала из наших мест.
И все же это была река Мантаро. Много лет прошло, и люди поняли – ошиблась слепая донья Аньяда: хотела изобразить на своих пончо победы и поражения прошлых времен, а наместо того получились будущие победы и поражения. Через месяц прислала донья Аньяда зеленое пончо, и члены общины приняли его. Не заметили они, что зеленая ткань дышит изменой, не обратили внимания на лицо, вытканное на ней. Много позже человек этот оказался предателем, и по его вине не удалось перейти реку Мантаро.
Константино Лукас отнес донье Аньяде письмо с благодарностью от общины.
– Янакоча благословляет твои умные руки и просит, чтобы ты брала у нас шерсть и краски, какие понадобятся.
– Я вытку историю нашего народа…
Не понял Константино Лукас, что она сказала, и удалился восвояси. Считали все – выдумывает слепая, сочиняет. Не знали, что предсказывала она будущее. Собрали урожай, и тогда появилось еще одно пончо. Жители Янакочи восхищались, но ни о чем не догадывались. На фоне звездной ночи мчал по долине огненный человек, пожирал дома, сараи, деревья, ручьи.
– Мне кажется, тут лицо Агапито, – сказал Сиприано Гуадалупе.
– Агапито загорелся! – засмеялся торговец из Мичивилки.
Наступила пора, когда в прежние времена прекращались дожди, и донья Аньяда прислала еще пончо – то, что теперь прославлено под названием «Битва между живыми и мертвыми». Возникали из снежного вихря несметные полчища мертвецов, скатывались с вершин. И место все узнали – Хиришанка. Желтые мертвецы защищали свои могилы. А живые (они были красные) старались отнять у них деревянные кресты, могильные штаты, посмертное жалкое их богатство.
На этот раз испугались жители Янакочи. Некоторые среди мертвых узнали себя.
Донье Аньяде снова послали благодарность и черную ярку.
– Янакоча просит тебя принять ярку. Скоро она принесет ягнят, будет у тебя теплая шерсть, ты не замерзнешь, сеньора.
Слепая улыбнулась.
– Лучше бы кроликов.
Только с кроликами разговаривала она по душам. Их были сотни, но каждый имел свое имя. Как различала их донья Аньяда? Может быть, живя среди кроликов, научилась понимать их язык? Во всяком случае, кролики ее слушались. «Арнольдо у нас умница», «Палито плохо воспитан, мама слишком рано покинула его», «Исидро – лентяй», «Если Консепсьон будет еще обижать Маргарито, я ее накажу», «Домитило, слушай внимательно, в последний раз тебе говорю: не смей кусать Селестино». Настала зима. Донья Аньяда начала ткать пончо «За родом род».
Агапито все не показывался. Ездил по провинции ночами, а днем спал. Избегал тех дорог, где можно наткнуться на сторожевой пост.
Надоели бесконечные полицейские облавы, и Агапито решил покинуть родную провинцию. Однажды вечером он приблизился к незнакомому поместью. Соскочил с коня. Вдруг вывернулся неизвестно откуда какой-то погонщик, прошептал: «Если ты из Янакочи, беги. Получен приказ схватить тебя». Агапито отправился в Хунин. Через несколько недель увидел дым над гигантскими литейными заводами «Серро-де-Паско корпорейшн».
Возле Оройи был пост, где всегда строго проверяли документы. Агапито и Белоногий решили взобраться на Морокочу по заледеневшей тропе, что вилась на высоте пять тысяч метров. Там повстречались они с крестьянами из местной общины. Разожгли костер, поделились едой. Настал вечер. Вдруг появился из темноты изможденный человек. Глаза добрые, в руке – украшенный серебром жезл. Значит, варайок, алькальд. Дальше отправились вместе. Алькальд по прозвищу Путник, казалось, спешил. Улыбался он грустно. Мало-помалу проникся Путник доверием к Агапито и рассказал о себе. Оказалось, идет он подавать жалобу от своей общины.
– Мы тоже едем жаловаться.
– С нами обращаются как с животными, – сказал алькальд. – Они не имеют права. Крестьяне нашей общины работают на господ дни и ночи. Некоторых взяли в рудники, заставляют работать там, далеко-далеко от родного дома; наши женщины уже много лет не знают мужей. Гниет человеческое семя. Четыре года прошло, и ни один ребенок не родился в нашем селении.
– Все мы – братья, мы готовы помочь вам, отец.
– Самое главное – чтоб вице-король прочитал наше прошение.
– Президент, что ли, вы хотите сказать?
– Надо, чтоб вице-король резолюцию написал, а то толку не будет. Даже если заслушают дело, решение примут, все равно без него не годится. Придется тогда все хлопоты сначала начинать. Из-за таких вот ошибок и прошел я шесть тысяч лиг.
– Шесть лиг, вы хотите сказать?
Путник вздохнул.
– Шесть раз по тысяче – это будет шесть тысяч.
Боролись с сумерками последние отблески дня. Агапито отыскал пещеру, где можно было переночевать. Кроме жезла, у Путника ничего не было. Агапито дал ему горсть жареной кукурузы, кусок сыра. Сел на землю Агапито, а Путник все ходил да ходил вокруг и говорил без умолку.
– Ешь, – сказал Роблес.
– Нет, спасибо. Я только воду пью.
– Да сядь ты, пожалуйста. Устанешь ходить-то!
Путник усмехнулся.
– Наоборот. Остановиться – хуже всего. Остановишься – тут на тебя усталость-то и навалится, а когда идешь, идешь да идешь, ей некуда сунуться. Я и сплю на ходу. Долго мне еще идти. Прощай, житель Янакочи. Не сдавайся. Помни одно: главное – поговорить с вице-королем. Без его печати решение никакой силы не имеет. – И Путник исчез в темноте.
Агапито не решился остаться один в пещере и двинулся дальше. В Смелтере встретил пастухов, подсел к их костру. Молнии рассекали небо. С волнением рассказал Агапито пастухам о Путнике. Оказалось – один из пастухов его знает: Томас Катари зовут его, он алькальд из индейского селения. Много веков тому назад три раза прошел Томас Катари из Ла-Паса в Буэнос-Айрес, чтоб подать прошение вице-королю. Каждое путешествие -тысяча лиг туда, тысяча обратно – продолжалось год. И всякий Раз чего-нибудь не хватало: то нужна еще справка, то печати нет, то подписи свидетеля. И Томас Катари шел обратно из Буэнос-Айреса в Ла-Пас. А потом опять – из Ла-Паса в Буэнос-Айрес. И снова – из Буэнос-Айреса в Ла-Пас. Так ходил он всю жизнь и ходит до сего дня, ждет, когда же наконец вице-короли, судьи да президенты рассмотрят прошение.
– Бедняга, – пастух перекрестился, – ради нас он ходит.
– Правильно, – сказал Аделаидо Васкес, – добровольно страдания принимает, справедливости добивается. Мы вот тоже едем прошение подавать.
– А вы из какой общины?
– Из Амбо.
– Ну и как идет ваше дело?
– Да никак не идет. Пятьдесят Лет назад начали мы его. Те, кто первое прошение подавали, умерли уж давно, а решения суда все еще нет.
– А вот у общины Онгой еще хуже, – сказал кто-то. – Их дело тянется уже сто шесть лет. Пятеро выборных за это время умерли. Больше ничего они не добились.
Аделаидо Васкес вгляделся внимательно в лицо Агапито.
– Прости, пожалуйста. Ты не Агапито ли Роблес?
– Откуда ты знаешь?
– Я месяц назад из тюрьмы вернулся, из Серро. Твой портрет видел в участке. Ищут они тебя, как иголку. Лучше тебе совсем отсюда уехать.
– Не могу.
– Ты нужен своим живой, а не мертвый.
Васкес заглянул ему в глаза.
– А знаешь, что в Янауанке приказано истребить всех пум?
Побледнел Агапито. Неужто начальство в Янауанке поверило рассказам Виктории из Ракре о том, что выборный получил распоряжение стать пумой. Не могут никак изловить Агапито, и вот до чего дошли!
Однажды, после очередного заседания суда, кто-то донес Монтенегро, что Агапито Роблес, желая показать свое могущество, превратился в пуму. «В пуму? Смешно! Здесь, кажется, бродит какая-то пума». – «Пума в ярком пончо?» Все же судья усомнился и на всякий случай объявил, что заплатит две с половиной тысячи солей всякому, кто принесет в Полицейское управление голову пумы.
Глава шестнадцатая
Правдивая история о Сесилио Энкарнасьоне, первом и последнем ангеле-индейце
Прошло несколько дней, и он увидел селение, разбросанное по склону темно-лилового холма: Пумакучо. На залитой ярким солнцем площади толпились группами женщины и мужчины, о чем-то спорили. Агапито вступил на площадь. На нем было пончо «Переход через Змеиную Гору», и все-таки никто не обратил на него внимания. И тут Агапито понял, на кого смотрят все эти люди. Он увидел посреди площади нарядное деревянное распятие, украшенное оловянными сердцами. Под ним на коленях стоял, раскинув руки, какой-то человек. Ни этот человек, ни те, кто на него глядели – одни с восторгом, другие с презрением, – не произносили ни слова. Настал полдень, приближался вечер, загорелся в небе закат – никто не двинулся с места. Совсем стемнело. Подошел погонщик:
– Этот, что ли, ангел-то знаменитый?
Агапито неуверенно улыбнулся – он ведь привык к преследованиям – и промолчал. Сбитый с толку, погонщик обратился к какому-то человеку с печальным лицом.
– Ангел он или не ангел?
Никто не ответил. Погонщик плюнул и ушел с площади. В неверном свете ламп виднелись неподалеку лавки. Агапито отправился туда. Такой шел из лавок чудесный запах, что у него голова закружилась.
– Продаешь сало?
– На соль пару кусков, – отвечала старуха-торговка, а сама не глядела на Агапито – через всю площадь лежала тень от раскинутых рук того, кого погонщик назвал ангелом. Агапито купил на два соля сала, а в соседней лавке – кувшинчик кофе и три хлебца. Сел на корточки у глинобитной стены, ощетинившейся поверху колючками кактуса, но так устал, что тотчас же заснул, прислонившись к ней спиной. Ему приснилось, будто он пришел в селение, такое же, как Пумакучо. И там толпа тоже заполняла площадь, но только это' были не люди, а разные-разные звери. Птицы, змеи, хищники, рыбы, черепахи, крабы и еще какие-то непонятные животные шли, взбирались по склонам. Тут Агапито заметил лужу. И тотчас же захотелось пить. Он подошел к луже, нагнулся, начал лакать. И нисколько не удивляясь, понял, что стал пумой. Увидел в луже свои горящие злобой глаза, пятна на шкуре… Потом заметил девушку (он мог бы поклясться, что это была юная донья Аньяда). Агапито пошел на ее зов, как и все остальные животные. В платье из переливающейся радуги стояла она и призывала:
– Звери небесные, звери подземные! Звери ходящие, плавающие и летающие! Брат наш, бедный Куривилка, борется с Румикачи богатым. Они бьются за любовь той, что нежнее легкого бриза. Три раза сходились они. Три раза победил Куривилка. А теперь Румикачи богатый, вызвал его на состязание – построить в один день дворец. Слуги богатого за полдня воздвигли стену длиной в целую лигу. Как сравниться с ним нашему брату?
– А мы зачем? – сказал кондор.
И все кондоры радостно подхватили его слова.
– Вот это хорошо! – воскликнула девушка в платье из сверкающей радуги. – Дом должен быть готов до рассвета. Ну-ка!
Завизжали звери, заржали, завыли, зарычали, зашипели, зажужжали и принялись строить стену. Выстроили стену в две лиги длиной, и поднялся дворец такой высокий, что касался Луны. Пумам пришлось строить западный фасад. Хотел было Агапито поболтать со своими кошачьими родичами, да большой пума руководивший работой, не позволил передохнуть ни минутки, пока не кончили. Сверкающая девушка поглядела и улыбнулась:
– Теперь остается одна только крыша.
– Очень уж высоко, – сказали муравьи.
– Очень уж низко, – сказали орлы.
– Ну, значит, вам и строить, – приказала орлам юная Аньяда, а потом посмотрела на Агапито и еще что-то шепнула, но выборный не расслышал, потому что проснулся.
Когда глаза его привыкли к свету, он понял, что проспал ночь на площади, и увидал толпу, окружившую того, кто стоял на коленях. Равнодушный к хвалам и хуле, он стоял, все так же раскинув руки. Агапито стал его рассматривать – обыкновенный индеец: меднолицый, скуластый, с узкими глазами и гладкими волосами. Только что высокий и крепкий, это да. На площади появился креол, из господ, видно по повадке. Спросил насмешливо:
– Это и есть знаменитый кузен святого Петра? – И засмеялся. – А может, он к тому же и шурин девы Марии?
– Да какой он ангел?! Простой метис из нашего селения. Еще на прошлой неделе он был всего только плотником, – сказал какой-то толстяк с наглой физиономией.
Женщина в черном платье и черной шали, с суровым лицом крикнула злобно:
– Святой Петр тоже был плотник!
– Так этого-то мы знаем, донья Эдельмира. Ни кола ни двора у него.
Толстяк повернулся к господину.
– Его Сесилио Энкарнасьон звать.
– Отче наш, иже еси на небесех. – Донья Эдельмира, вне себя от гнева, читала молитву.
– Его звать Сесилио Энкарнасьон. Всего несколько дней назад он был такой же, как мы все.
– А теперь он уже другой? – спросил насмешливый барин.
– Он говорит.
– А что он говорит?
– Шел, дескать, по дороге в Уануко и свалился в реку Уальяга. Так он рассказывает. Течением его понесло. Так он говорит. Уальяга сейчас многоводная. Ну, он и стал тонуть. Так он говорит.
Еще яростнее принялись молиться старухи.
– Стал это он тонуть, и вдруг тянет его что-то вверх, из воды вытаскивает. Так он говорит. И подняло его высоко-высоко. Очнулся в раю, кругом святые. Бог Отец мессу служит. Кончил мессу и повернулся к нему. Тут Сесилио наш ослеп от света. Но слышать все слышал. Господь сказал: «Вот Сесилио Энкарнасьон, двоюродный брат Иисуса Христа, мой возлюбленный племянник. В присутствии архангелов назначаю его Ангелом первого класса, Искупителем мира и Спасителем индейцев. Индейцы на земле страдают, им надо помочь, и такова моя воля – он будет Ангелом, чтобы искупить их страдания. Ангел Сесилио, ступай в Пумакучо и провозгласи – настало время спасения для индейцев. Погибнет Содом и воскреснет Туантинсуйо!»
– Так он говорит?
– Так и говорит.
– В самом деле?
Толстяк не успел ответить – одна из старух плюнула ему в лицо.
Пумакучо в смятении. Кипят споры, а он стоит неподвижный, будто изваянный из мрамора… может, и в самом деле – ангел? Толстяк ушел ворча. Старухи упорно молятся. А ведь эта же самая Эдельмира, что бормочет сейчас с закрытыми глазами «Отче наш», разве не она, а за ней целая толпа женщин забрасывали камнями Ангела в первый день его явления? Прошло всего семь дней с той поры. Этот плотник (даже не плотник, а всего лишь подмастерье плотника!) встал в дверях часовни Пумакучо и принялся благовествовать. А в это время как раз настоящий священник служил настоящую мессу. Настоящий священник! И этот жалкий мастеровой встал в дверях (их открывал по воскресеньям пономарь и певчий Викториано) и заявляет, будто он Посланец божий. Три раза сказал – в девять, в двенадцать и в шесть. Вечером Эдельмира Перухо и ее соседки забросали его камнями. И вот – первое чудо. Камни летели мимо. Ангел сказал кротко, без гнева:
– Слушай меня, бесчестное селение Пумакучо. Я, Сесилио Энкарнасьон, Ангел первой категории, по воле моего дяди Господа Бога нашего призываю вас к повиновению и даю вам срок, чтобы вы покаялись в своих преступлениях, поклонились бы мне и слушались бы меня. Я останусь здесь и не сойду с места до тех пор, пока истинно верующие не постигнут слова мои, и тогда молния гнева моего падет на головы неверующих и злых. Ибо я принес вам Свободу и Справедливость!
Он опустился на колени, раскинул руки и начал свое непреклонное стояние. Он не удостоил прибавить ни одного слова. Он стоял дни и ночи под дождями, солнечными лучами и ветрами, но не касались его ни дожди, ни солнечные лучи, ни ветра, и ничто не могло нарушить его священную неподвижность. На пятый день жена одного скотокрада, сидевшего в тюрьме, встала на колени и положила к его ногам цветы шиповника. К вечеру супруги Магдалено, рыдая, пали ниц перед Ангелом – их первенец заболел, они молили спасти его. Ангел не удостоил их даже взглядом, глядел безотрывно в высокое небо. На шестой день пал к ногам Ангела погонщик из Дос-де-Майо. А на пятнадцатый разразилась страшная гроза. Такой не помнили в Пумакучо. Гром гремел беспрерывно, молнии слились в единый огонь над испуганным селением, И только над церковью тихо разливался кроткий свет, освещая спокойное лицо ангела. А когда гроза утихла, на площади свершилось небывалое: Ольга Торрико, школьная учительница (она кончила в Лиме педагогическую школу!), шла через площадь. За ней шагал певчий Викториано. – да, да, тот самый неверующий пономарь Викториано! – и. пятьдесят школьниц с трогательно невинными мордочками и розами и геранями в руках.
Ольга Торрико, набросив на голову мантилью, опустилась на колени:
– Благословен будь, Ангел! Приветствую тебя и почитаю, Посланец божий. Прими благосклонно цветы, что принесли тебе чистые сердцем дети.
Учительница и Викториано пали ниц. Девочки сбегались отовсюду, ошеломленные зеваки тоже. Певчий Викториано растворил настежь церковные двери. Солнечный луч осветил главный алтарь. Пономарь Викториано взмолился:
– Ангел наш драгоценный! Войди в свой дом, займи свое место. Мы заблуждались, не гневайся, прости нас.
Но напрасно молил пономарь, напрасно молила учительница, напрасно молили дети. Ангел лишь улыбнулся. Но дальше кроткой улыбки дело не пошло. Тогда начали молить все, толпа в страхе пала на колени… Ангел не шевелился. Вот так на пятнадцатый день жители селения Пумакучо догадались, что неподвижно раскинувший руки Ангел неумолим потому, что ими свершено святотатство. Грешники принялись каяться. Женщины – в конце концов, ведь они же матери! – тащили цветы, ягнят, кур, кроликов (кролики не убегали!), картофель, фрукты к ногам неподвижного Ангела. Однако некоторые все же сомневались. Несколько мужчин, возмущенные кощунственным поклонением, бросали камнями в окна дома, где заседали растерянные власти. Перед самым рассветом огненный язык пал на крышу алькальдова сарая. Алькальд даже и не подумал тушить пожар – он кинулся на площадь и распростерся ниц перед двоюродным братом Иисуса Христа. Весь следующий день тоже умоляли. И только на семнадцатый день, в шесть часов, Ангел наконец согласился войти в церковь. Осыпаемый цветами, проплыл он на носилках по улицам, забитым кающимися грешниками. С пением внесли его в церковь, освещенную сотней свечей. Викториано поставил перед главным алтарем единственное в Пумакучо обитое бархатом кресло.
– Там мое место, – сказал Ангел и указал на алтарь.
– А святые как же?
– Там мое место, – повторил Ангел нетерпеливо.
Учительница Торрико, не колеблясь, убрала святого Петра и святого Павла, а Франциска Ассизского вместе с волком задвинула в самый угол. Ангел поднялся и занял главный алтарь. Учительница притащила облачение, в котором священник служил по праздникам. Ангел позволил себя одеть, принял на голову венок из цветов и благословил присутствующих. Мужчины и женщины клали к его ногам серебряные сердца, монеты, плоды, и Ангел ласкал все это своим божественным взором. И тут в первый раз он взглянул на Агапито Роблеса.
Глава семнадцатая
Продолжение подлинно правдивой истории об Архангеле по имени Сесилио Энкарнасьон
«В Пумакучо спустился Ангел, призванный избавить индейцев от страданий». Но эта добрая весть – не для белых. Архангел Сесилио вещал истину на языке кечуа. Звуки языка угнетателей выводили его из себя, он терял свое ангельское спокойствие. На языке кечуа возвещал он конец царства несправедливости. Даже когда не знавшие языка истины входили в церковь, чтобы почтительно приветствовать Ангела, их все равно выталкивали вон. Добрая весть – не для белых. Приказ нового епископа Иерусалима – бывшего певчего Викториано – выполнялся в точности. Только истинно верующие, то есть те, кто владеет языком Архангела Сесилио, должны знать о его пришествии. Еще не настало для него время явить свой огненный лик всему миру. Сесилио – ангел, видимый лишь угнетенным. Он стоял в алтаре и терпеливо переносил всеобщее обожание. Каждый день бывшая учительница Торрико, а ныне епископ Уануко, меняла ему облачение и венок. В этом наряде, в битком набитой народом церкви, при зажженных свечах он тяжко страдал от жары. По лицу Ангела струился пот, драгоценный пот стирали ватой прислужницы Ангела. Вечером епископ Иерусалима запирал двери храма. Только чистым девам позволено было участвовать в ночных бдениях Ангела. В двенадцать часов епископ Иерусалимский подносил Ангелу ложку воды. Больше он ни в чем не нуждался. Ибо все остальное – вареная кукуруза, жареная баранина, куры, кролики, кастрюли с тушеным мясом, мясо, зажаренное на раскаленных камнях, великолепные фрукты, – все это принималось лишь для того, чтобы Сесилио было чем угостить своих небесных родственников. По ночам (многие слышали, как шелестели крылья) ангелы прилетали к Сесилио, рассказывали новости или просто болтали, чтобы развлечь товарища. Они-то к съедали подношения. Но все эти вести – не для белых. Архангел Сесилио явился с совершенно ясным приказом – сжечь все города белых и выстроить Храм Изобилия. Он самолично сообщил властям: как только пройдут дожди (Агапито Роблес не переставал изумляться – по всей провинции дожди запрещены, а здесь льют да льют, и хоть бы что), начнется строительство Храма Изобилия. Каменщик Паласиос был назначен главным архитектором. Ему заказали проект священного здания, которое будет построено по распоряжению Бога Отца, чтоб накормить всех голодных индейцев. На вершине холма Пумакучо воздвигнется эта Великая Столовая, где насытятся наконец краснокожие люди. Храм будет в одну лигу шириной и в одну высотой. И все же Паласиос сомневался – поместятся ли там все голодные? Епископ Гаити сообщил, что строительство начнется первого марта. Но ночью на Архангела снизошла благодать, и наутро он приказал приблизить дату. Первого января прекратится торговля и начнутся строительные работы.
– Сколько дней запрещается торговать? Один? Два? – спросил какой-то лавочник.
– Торговать запрещается в течение семи лет.
– Вы что, с ума сошли? На что же нам жить? Если я перестану торговать, мне есть нечего будет.
Есть ему и вправду много не пришлось, зато воды он наглотался досыта, ибо слова его были сочтены кощунственными, и по приказу Архангела его высекли осокой, а затем посадили в специально на то вырытый колодец. Преступнику приказано было дышать через тростинку до тех пор, пока Архангел его не простит. Вылез он из колодца едва живой. Не один этот лавочник понес наказание. Выведенный из себя бесконечными кощунствами, Архангел приказал расправиться разом со всеми святотатцами. Портному Руфино пришлось долго рыдать и целовать ноги Ангела, пока тот согласился заменить ему казнь наказанием плетьми. И все-таки торговцы осмелились протестовать – и даже добились того, что некоторые члены Совета общины тоже восстали против приказания Архангела. Епископ Иерусалимский, дрожа от страха, сообщил о таковой дерзости. Но Ангел ничуть не разгневался (как бывало, например, когда к нему обращались по-испански). Напротив, он остался совершенно спокойным и только прошептал:
– Я устал проповедовать неверующим. Раз вы не хотите меня слушать, я вас покину.
Он три раза прозвонил в серебряный колокольчик, поднесенный ему общиной селения Амбо.
– Нынче же к вечеру я улетаю в рай, только до этого начнется новый потоп, – сказал он и повернулся спиной.
Весть повергла в отчаяние громадное число людей. Ибо в Пумакучо прибыло столько пилигримов, что им не хватало места в селении. Оставив свои поля и пастбища, люди целыми округами шли просить у Ангела справедливого суда. Первым явилось селение Шурубамба, предшествуемое музыкантами. Тысячи танцующих мужчин и женщин заполнили площадь, за ними гнали стада коров, овец, коз. Затем пришли жители Каскаи. Эти, чтоб быть вблизи от Архангела, расположились лагерем прямо тут же, на площади. Они тоже принесли подношения. Потом явилось селение Льякон с двумя оркестрами. Паломники останавливались где попало – на площади, на улице, в сарае, под деревом – и тотчас бежали в церковь. Скоро в крошечном Пумакучо оказалось столько же народу, сколько в Уануко – столице департамента. Теперь увидеть Архангела было не так-то просто. Те, кому не удалось поцеловать край его одежды, старались раздобыть кусочки ваты, пропитанные его божественным потом, – эти святые реликвии можно было, если повезет, получить за двадцать, тридцать, а то и за пятьдесят солей. Но все это – не для белых. Ибо по приказанию епископа Викториано верующие устраивали завалы, перекрывали дороги. Напрасно епископы Иерусалима, Уанкайо, Мадрида и Пекина молили Ангела дать им время, чтобы обратить еретиков.
– Сегодня в двенадцать пойдет дождь.
Епископ Иерусалима с вытянутым лицом начал молебен. Жители пяти селений опустились на колени. Молились до двенадцати. Ибо ровно в двенадцать хлынул дождь – сначала зеленый, потом желтый, потом красный, потом черный. Дождь лил на крыши домов, ветер с корнем вырывал деревья, люди рыдали во тьме. Ангел оставался спокойным". Когда дождь кончился, посланный спасти тех, что исполненные гордыни презрели спасение, покинул алтарь, вышел из церкви, не обращая внимания на всеобщий плач, направился к горе Пумакучо и поднялся на вершину. С вершины горы – в ужасе объявил епископ Иерусалима – Ангел взлетит, чтоб рассказать обо всем Богу Отцу. Единственный индейский Архангел сделал знак, чтоб никто не смел за ним следовать, но толпа не послушалась – с воплями бросились люди вверх по склону горы, с вершины которой Ангел улетит на небо. Там на вершине, полные отчаяния, они окружили его. Ангел раскинул руки – вот так же, раскинув руки, стоял он девятнадцать дней на площади проклятого, селения Пумакучо! Грудь его раздулась в жажде полета. Дважды раскидывал он руки, дважды вопила толпа, й Ангел опускал руки. В третий раз он стал прыгать, как птица. Епископ Иерусалима и епископ Пекина хватали его за ноги, кричали:
– Не улетай, батюшка!
– Не покидай нас, бедных сирот!
– Смилуйся над индейцами!
– Господь послал тебя, чтобы спасти нас. Пожалей!
Ангел глядел в небо. Он не слышал, как выли женщины, как кричали представители власти – спорили, ссорились, разоблачали и упрекали друг друга. Не видел, как огонь пожирал дома закосневших в неверии лавочников. Он снова взмахнул руками. Сейчас они покроются перьями, сейчас он взлетит… И тут заплакали дети (епископ Парижа привел их). Мольбы и рыдания взрослых были бессильны, но плач невинных детей умилостивил Ангела.
– На колени, – сказал он.
Толпа упала, как подкошенная.
– Клянетесь ли выполнять все, что прикажет господь моими устами?
Радостный рев раздался в ответ.
– Я остаюсь. Но с сей минуты со мною будут лишь те, кто чист сердцем.
– Кто. же чист сердцем, Ангел?
– Только целомудренные девы чисты сердцем.
Ангел спустился с горы. Гремели оркестры, с треском взлетали ракеты. Плясали обезумевшие от счастья мужчины, женщины, дети. Прежде чем стемнело,пономарь селения Льякон, назначенный теперь епископом Нью-Йорка, выбрал шесть дев, чтобы они были ночью с Ангелом. Три дня пробыли девы в церкви. На четвертый епископ Каскаи добился – не без борьбы – чести заменить их девами из своего селения.
Первого января три тысячи человек начали копать землю, чтоб заложить фундамент Храма Изобилия. Когда строительство Храма будет окончено, заявил вновь назначенный епископ Берлина, кончатся и мучения индейцев. Архангел Сесилио сам возглавит крестовый поход против белых.
Глава восемнадцатая,
содержащая текст послания, написанного смещенным епископом Уануко против Искупителя Мира
In partibus Dominus [4] Аурелио, епископ Уануко, именем святой католической церкви извещает всех:
«Что в округе Пумакучо нашей епархий Уануко некий индеец по имени Сесилио Энкарнасьон проповедует ересь, утверждая, будто он есть Ангел, посланный Господом Богом нашим для спасения туземцев.
Что, пользуясь невежеством христиан округа Пумакучо, этот богоотступник объявил себя двоюродным братом Господа нашего Иисуса Христа, единственным Ангелом из индейцев и тем самым их Искупителем.
Что, поместившись в часовне Пумакучо, сатанинской хитростью внушает жителям, чтоб поклонялись ему, как святому; мало того: чтоб поместить свой скверный престол, он осмелился выбросить из алтаря священные изображения католических святых.
Что вопреки учению нашей Святой Матери Церкви, которая повелевает нам любить друг друга, этот лжепророк из Пумакучо провозглашает священную войну против белой расы.
Что при преступном попустительстве гражданских властей округа указанный Сесилио Энкарнасьон приказывает бить плетьми всех несчастных, которые обращаются к нему на испанском языке, государственном языке Республики Перу.
Что он объявил о строительстве так называемого Храма Изобилия, где, по словам этого еретика, все голодные насытятся, для какового строительства силой мобилизует работников.
Что сообщники преступника продают по баснословным ценам куски ваты, смоченные его потом, уверяя, будто от этой божественной жидкости больные выздоравливают, горбатые выпрямляются, слепые прозревают, безногие ходят, немые говорят, и собирают огромные деньги, увеличивающие богатства еретика.
Что, побуждаемые ложно направленным религиозным чувством, которое пособники преступника всячески раздувают, поклоняющиеся ему люди осыпают его подношениями, деньгами и продуктами, а указанный Сесилио Энкарнасьон притворяется, будто не обращает никакого внимания на подарки.
Что с целью показать свою якобы ангельскую сущность он делает вид, – будто соблюдает строжайший пост, однако у нас имеются доказательства, что по ночам, приказав запереть двери церкви, он вовсе не угощает ангелов, будто бы прилетающих, навещать его, а устраивает пирушки со своими пособниками; ночи напролет они едят, пьют, пляшут и предаются плотскому греху с девицами, которых ему, по его распоряжению, доставляют из селений, девицы же эти в простоте своей уверены, что таким образом содействуют продолжению рода Господня.
Что от дьявола мысль, будто дети, которые родятся от этой отвратительной торговли своим телом, будут кровными родственниками Господа нашего Иисуса Христа.
Что в безумии своем этот преступник заявил о смещении нас, законных властителей церкви, и назначил епископами темных людей, которые даже читать не умеют и, подчиняясь ему, только даром загубят навек свои души. Волки в овечьей шкуре! Волки, хуже волков вы, что воздаете хвалы и поклоняетесь святым, которых нет в святцах Матери нашей Святой Церкви!
Что проповедует в поругание христианского учения, будто человек создан не Богом, а ласточкой.
Что наряду с чудесами, свершаемыми выдуманными святыми, которые если и существуют, то суть воинство Сатаны, проповедует существование святого Париакаки, который родился, как он утверждает, из пяти яиц, имеет пять тел – огонь, дождь, молнии, землю и ветер – и может расти бесконечно, если захочет.
Что выдумкой являются также и святой Уайтакури, который звуками своего голоса превращает якобы людей в животных, и святой Уайлальо, тело которого состоит из огня, и святая Чаупиньяка, чье тело есть камень с крыльями, и она оказывает гнусную помощь мужчинам, неспособным удовлетворить женщину, и святой Катикилья, что может заставить людей и животных говорить даже против их воли, и святой Кольикири, способный шагать под землей в течение пяти лет.
Что под покровительством этих фальшивых святых обманщик объявил священную войну против людей белой расы, которые якобы виноваты в несправедливостях, что свершают некоторые дурные христиане против многих индейцев – истинных христиан.
Что, не зная закона природы, он утверждает, будто мужчина и женщина равны, и, желая доказать это, дошел в своем разврате до того, что назначил епископом женщину.
Что указанный Сесилио Энкарнасьон подлежал и подлежит отлучению Jatae sentenfiae [5], и потому мы лишаем его церковного причастия, приобщения к телу и крови Христовой, и отдаем во власть Сатаны.
Чтобы защитить нашу возлюбленную паству, мы. объявляем ересью и обманом все то, что проповедует указанный Сесилио Энкарнасьон, ибо Искуситель говорит устами его, и тот, кто скажет с ним слово или что для него сделает, будет проклят и отлучен.
Наша Святая Католическая Религия есть религия государственная, и политические власти департамента Уануко, допускающие эту недостойную комедию, будут держать ответ перед правительством за небрежное исполнение своих обязанностей, а также за преступную нечестивость».
Глава девятнадцатая
Конец и мораль этой очаровательной истории
Фундамент фасадной стены Храма Изобилия уже достиг одного километра в длину, когда Архангелу Сесилио стало известно, что смещенный епископ посмел отлучить его от церкви. Гнев Архангела не знал границ. Едва лишь прочли ему дерзкое послание бывшего епископа Уануко, Ангел шесть раз подряд тряхнул своим серебряным колокольчиком. Люди прекратили работу. Архангел приблизился к большому камню в форме креста, на котором обычно отдыхал. Он был так бледен, что лицо его почти не отличалось от белоснежной мантии.
– Сегодня прольются с неба потоки воды,.завтра – потоки крови, потом – потоки огня, л я покину вас. Проклятие городу Уануко! Проклятие тем, кто возит в этот город продукты и продает их грешникам, которые презрели мои поучения, а ведь сам Господь Бог приказал мне спасти индейцев Перу. Да будут прокляты!
Лицо его стало черным, потом побелело, посинело, позеленело, налилось кровью. Он тяжело дышал, ибо грудь его переполняла священная жажда полета. Но когда прошел первый страх, люди поняли, что Ангел – единственный ангел-индеец на весь рай! – не может улететь от них в самом начале войны, которую он же и объявил. Епископ Иерусалима, епископ Мадрида, епископ Парижа, епископ Нью-Йорка и епископ Пекина с песнями и танцами переходили от одной группы к другой. Близился час великой битвы. Ангел стоял на коленях, и цвет его лица менялся ежеминутно. Цвета радуги проплывали по его лицу, цвета флага индейцев кечуа! Музыканты надрывались, душный воздух, казалось, еще накалялся от пламенных звуков. Все уважаемые люди, алькальды, все власти, местные и приезжие (пригласили и Агапито Роблеса), приняли решение объявить блокаду нечестивому городу Уануко. Посланцы отправились во все стороны с. точными инструкциями: всякая торговля с Уануко прекращается. Что бы ни случилось, ненавистный город ни под каким видом не получит ни одного самого крошечного клочка мяса, ни одной гнилой картошки. Лучше бросить продукты свиньям, раздать бродягам, пусть гниют в амбарах, все, что угодно, лишь бы не досталось проклятым грешникам взращенное нашими руками, теми руками, что оставили теперь плуг и в ярости схватились за нож.
А в одном из кабинетов муниципалитета города Уануко капитан Саласар спрашивал алькальда Нивардо Трельеса:
– Все так и есть, как вы рассказываете, господин алькальд?
Алькальд вытер лоб платком.
– По-вашему, капитан, я похож на болтуна? – Нивардо Трельес принял оскорбленный вид. – Вы сами можете убедиться. Окажите мне честь, пойдемте вместе на рынок. Там пусто, никто не торгует. Спросите хозяек. Уже пять дней, как в Уануко нет мяса.
– Только вчера меня угощали жареным мясом.
– Наверное, в поместье, капитан.
– Да, это правильно.
– А в городе кончаются припасы. Если так пойдет, жители могут шум поднять.
– Чепуха!
– Вы ведь знаете индейцев, капитан. Они упрямы, хитры, лицемерны. Но если уж они что решили, с места их не сдвинешь.
Капитан взял фуражку.
– Я к вашим услугам, господин алькальд.
Они обошли угрожающе тихий рынок и все индейские кварталы. Через три дня, соблюдая необходимые предосторожности, отряд под командованием капитана Саласара в полном боевом снаряжении выступил из Уануко. Капитан рассчитывал днем войти в Пумакучо. Переночевали в поместье «Кольпа» и на рассвете двинулись дальше. То, что они встречали на своем пути, не предвещало ничего хорошего: целые селения снимались с места и уходили. Один сержант, индеец из Уанкайо, разузнал, в чем дело. Люди убегали потому, что гора Сан-Кристобаль будет биться с горой Рондос. Эти две горы, на склонах которых по берегу Уальяги раскинулся среди зеленых рощ город Уануко, должны бороться за честь командовать авангардом армии, что сзывает Ангел. Три дня и три ночи продлится бой между Сан-Кристобалем и Рондосом, в развалины обратится надменный город Уануко. «Чепуха!» – воскликнул капитан. Вдали виднелось селение Пумакучо. Люди стояли на коленях, горячо молились. Напрасно толкал их капитан. Они глядели только в небо. Капитан Саласар приказал отряду развернуться. Солдаты быстро перекрыли выходящие на площадь улицы. Капитан с остальными своими людьми, с саблей наголо вступил на площадь. Она была пуста. «Ангел удрал в Льякон», – сказал какой-то лавочник и крикнул: «Да здравствует армия!» Божественный Сесилио предсказывал: явится толстый человек, усы редкие, голос пропитой. И вот стоит перед лавочником капитан Саласар – толстый он, усы у него редкие и голос пропитой. Епископ Парижа еще три дня тому назад показывал портрет капитана, нарисованный одним из художников, которым Ангел поручил украсить фризом северную стену Храма Изобилия. Мало того: Ангел предсказал, что ровно в двенадцать часов войдут в Пумакучо солдаты. Только что у них получится? «Пусть приходят, когда хотят. Едва они спустятся в долину, ружья их превратятся в змей». Но пока что пророчество не сбывалось. Капитан Саласар приказал обыскать селение. В два часа ему доложили, что Ангела на серебряных носилках понесли в горы. «Чепуха!» Ругаясь, капитан подгонял солдат. Под раскаленным солнцем, обливаясь потом, прошли пол-лиги и увидали толпу, входившую в селение Льякон. Капитан в бинокль видел ангельски спокойное лицо Сесилио Энкарнасьона. Носилки скрылись среди домов. «Бегом!» – скомандовал капитан. Солдаты окружили селение, принялись искать Ангела. Капитан зашел в лавку выпить дива. В три часа унтер-офицер Рентерия доложил: «Ангела в селении нет». – «Чепуха! Вы его приведете в назначенное мною время, а может, и раньше». – «Мы обыскали все селение, дом за домом, мой капитан». – «Чепуха». Капитан выпил еще пива. В четыре Рентерия повторил то же самое. «Чепуха», – снова сказал капитан и отправился искать Ангела сам. Он входил в каждый дом, обыскивал каждый двор, залезал во все спальни, во все амбары – нигде никого. Капитан побледнел немного и продолжал искать. Шесть раз осматривали солдаты каждый дом, муниципалитет, церковь, школу, тюрьму, колокольню… Никого. Солнце брызнуло золотом по лиловым склонам. «Чепуха!» Пот лился по лицу капитана.
– Это был ангел, – пробормотал солдат-индеец.
– Что такое?
– Настоящий ангел. Он улетел.
– Чепуха.
Солдаты крестились. Капрал опустился на колени рядом с жителями селения. На площади солдаты шептались: «Ангел, ангел». Прошел бесконечный час, солдаты пали духом, молчание становилось угрожающим. «Ангел, ангел». Капитан выхватил револьвер и в седьмой раз начал обыскивать селение. Темнело. Капитан вытер лоб, поглядел на солдат – они молчали, неподвижные, грозные. «Унтер-офицер, ко мне!» – крикнул он, но Рентерия не ответил.
И тут капитан заметил еще сарай. Щелкнули курки. На кого направят солдаты свои винтовки? Обливаясь потом, капитан открыл дверь. Архангел, съежившись, сидел на соломе и спал.
– Наконец-то, черт побери!
Капитан разбудил Ангела пинками. Выволок на площадь. Лавочники и несколько помещиков встретили их криками ура.
– Чепуха!
Капитан приказал связать Ангела, усилить караул. Ночью сам с пистолетом в руке стерег пленника. Епископы скрылись, но сотни верующих глядели в страхе. Вот сейчас ружья солдат превратятся в змей!
– Чепуха!
Гордый и спокойный, Ангел смотрел в синее небо. Капитан подошел, со смехом вскочил ему на спину.
– Раз ты ангел, давай полетим, – крикнул.он, устраиваясь на широких плечах Сесилио.
Старухи с воплем разбежались. Лавочникам шутка понравилась.
– Зачем мне шагать в Уануко? Давай летим. Чепуха!
Сесилио по-прежнему молча смотрел в небо.
– Раздеть его! – приказал капитан.
Солдаты стащили с Сесилио одежду. Медно-красное тело блестело под солнцем. Сесилио не двигался.
– Я тоже хочу узнать, ангел ты или нет, – злобно прокричал мелкий помещик из Льякона. Схватил кактус, провел им по спине Архангела. Сесилио улыбался. Старухи упорно молились. Близок миг, ружья превратятся в ядовитых змей, змеи начнут жалить безбожников.
– В Уануко! – приказал капитан.
Унтер-офицер Рентерия потянул веревку, стягивавшую горло Архангела. С беспомощной нежностью глядел на него Агапито Роблес. Взгляды их встретились.
Вдруг Ангел прищурил угольно-черный глаз и крикнул:
– Только силой, Агапито!
Выборный Янакочи похолодел. Он никогда не говорил с Ангелом. Откуда тот знает, что его зовут Агапито? Глаза Агапито затуманились слезами. Сквозь слезы смотрел он, как шагает Ангел, согнувшись под тяжестью капитана. Потом он узнал, что до приказанию командующего военным округом Уануко Сесилио был сдан в. рекруты. В последний раз его видели, когда новобранцев отправляли в пятый пехотный полк в Лиму. Грузовики шли туда, в казармы, далеко от родной земли, и все рекруты глядели, в последний раз на Уануко, прощались. И только первый и последний Ангел из племени кечуа не поднял бритую голову.
Глава двадцатая
О том, как река Андачака облеклась в пончо, вытканное доньей Аньядой
За пределами провинции кончились дожди, стали проходимыми дороги, но по-прежнему ничего не слышно было в Янакоче об Агапито Роблесе. Вечером во вторницу в мартобре 2223 года погонщики из Пильяо говорили в пивной Сантильяна:
– Можете больше не ждать своего выборного. Помер он. Утонул в реке Андачака.
– Вы что тут всякие глупости болтаете? – закричал Исаак Карвахаль и ударил кулаком по стойке.
Погонщики перекрестились.
– Нам пастухи говорили.
– А сам-то ты видел?
– Нет, сеньор.
– Ну, так и не говори, – крикнул Исаак.
Целый день просидел он в пивной – пил и пил.
Через две неделя появился в Янакоче дон Калисто Калисто, дочтенный бродячий торговец, плотный серьезный человек. Он никогда не лгал. Исаак спросил дона Калисто об Агапито.
– Все правда. – отвечал тот. – Своими глазами видел, чтоб мне провалиться. Унесло его течением. Я его пончо взял.
– Какого оно цвета?
– Желтое, и солдатики вытканы.
Слезы застлали глаза Исаака. Сумрачным, дождливым.днем допытался Агапито на своем Белоногом перейти вброд реку Андачака. А разлив был. Дон Калисто Калисто уже несколько. дней сидел на берегу – ожидал, пока спадет вода. Он разглядел желтое пончо и красное сомбреро, узнал голову Белоногого, украшенную увядшими геранями. Агапито хотел скорей переправиться на тот берег – Пеоны поместья «Помайярос» обещали собраться, надо было поговорить с ними. Посмотрел он на небо, сбросил пончо и розовую фланелевую рубашку, повесил на шею сумку с Грамотой. Белоногий прикинул глубину. Агапито дал шпоры, Белоногий вошел в бурные волны реки Андачака. Метров десять проплыл он, но всю зиму лили дожди, глубока была река. Белоногий стал биться в воде. Тогда дон Калисто закричал. Он видел, как коня повернуло, потащило. Упал на колени дон Калисто, начал молиться. Что еще мог он сделать? Победила река Андачака. Храбрый Агапито и верный его конь Белоногий навеки исчезли в волнах.
Прошло несколько недель. Однажды ночью у доньи Домитилы, пятой кухарки доктора Монтенегро, болели зубы. Она не спала, когда появились субпрефект Валерио и сержант Астокури, оба чрезвычайно взволнованные. Они приказали донье Домитиле немедленно разбудить судью. Невольно она услыхала весь разговор. «Доктор, только что в Сан-Рафаэле убит Агапито Роблес»: – «Откуда вы знаете, что это он?» – «Один пеон узнал его». – «Где этот пеон?» – «В полиции». Отправились, допросили свидетеля, велели седлать коней. Итак, в Амбо полицейские убили человека в невиданно ярком пончо. Такое пончо с другим не спутаешь! Прибыли в Амбо как раз в ту минуту, когда заключенные несли на плечах гроб к кладбищу. Субпрефект Валерио приказал открыть гроб. Зажимая носы, судья, Валерио и сержант Астокури весело улыбались – покойник лежала, закутанный в желтое пончо, и на этом желтом пончо выткана была голова пумы, окруженная красными солнцами и зелеными змеями. Пума походила чем-то на самого покойника. Власти вернулись домой до того довольные, что сержант Астокури отпустил на радостях всех заключенных.
Угрюмая тишина нависла над провинцией.
Глава двадцать первая,
содержащая продолжение разговора, который вели в ту незабываемую ночь выборные Паско
На востоке от Каменного Леса блеснула молния. Ее блеск осветил гневное лицо выборного от Туси.
– Давно уж мне хочется выпустить им кишки.
Выборный от Амбы засмеялся:
– Вот тебе и посчастливилось наконец, приятель.
Острые каменные вершины, что вот уже сто тысяч лет ведут свою битву с небом, много раз повторили громкие раскаты смеха. Выборный от Амбы присел на корточки возле Горемыки.
– Сейчас у нас март. Надо подождать, пока соберут урожай.
– Правильно. До той поры никто с места не сдвинется.
Они повернулись к человеку небольшого роста.
– Борьбу за возвращение незаконно захваченных земель должны начать жители Чинче или Янакочи.
– Невозможно! Всего три месяца назад карательный отряд поубивал всех и вся, сжег селение Чинче. Люди запуганы. До сих пор еще многие семьи не решаются возвратиться в селение, в пещерах живут.
– И хорошо! Именно то селение, где был устроен массовый расстрел, должно снова начать борьбу. Вот вам доказательство, что нас не запугаешь.
Гроза уходила. Горемыка подошел к Агапито Роблесу.
– Я тебя давно знаю. Мы вместе в тюрьме сидели. Правильно?
– Правильно.
Луна освещала решительные, неподвижные лица. Холод становился невыносимым.
– Поместье «Уараутамбо» не просто поместье, – продолжал Горемыка. – Это символ. Не так давно наш адвокат Хенаро Ледесма спросил меня: «Ты слыхал про Бастилию?»
– Нет, Хенарито.
– Бастилия – это крепость, туда французские короли сажали тех, кто восставал против их тирании.
– Тюрьма?
– Самая-самая главная тюрьма. Когда разразилась во Франции революция, народ разрушил Бастилию. Только после этого французский король был казнен. Поместье «Уараутамбо» у нас – все равно как Бастилия.
– Верно.
– Ты знаешь, что реки там остановились, водопады застыли, дети не растут, старики не умирают?
– Вот я и говорю – пока не уничтожим «Уараутамбо», дело не пойдет.
Холод щипал обветренные лица выборных.
– Слушай, Агапито Роблес. Чтобы начать по-настоящему войну за землю Паско, надо взять штурмом это поместье. Люди узнают, что «Уараутамбо» пало, и тогда только поднимутся все общины Паско, а за ними Хунин и Уануко.
– Туси готово подняться, сеньор.
– В Ярусиакане тоже ножи наточены! Как только начальники решат, мы дадим пятьсот всадников.
– То же самое я могу сказать про общину Уалай. Наши господа надеются, что яростные воды реки Мантаро охраняют их. Они считают, что никто не может перейти реку Мантаро.
– Так оно и есть. Разве кто-нибудь может?
– Приходите поглядите! Тысяча двести человек и четыре тысячи.голов скота – все переберутся на плотах на ту сторону!
– Нинао и Рандао готовы вступить в бой за свою собственность.
– Сначала мы в Уариаке возвратим свою.
– Пакойян берется в три дня возвратить десять тысяч гектаров.
– Нам тоже достаточно трех дней. Через три дня мы будем завтракать в господском доме поместья «Дьесмо».
Горемыка подошел к выборному еще ближе.
– Ты слышишь, дон Агапито? Все общины готовы к бою. Пятьдесят тысяч семей ждут нашего приказа, чтобы возвратить себе семьсот тысяч гектаров земли. Теперь надо только одно – пусть падет «Уараутамбо».
Глава двадцать вторая
Уайно Сесилио Лукано
Огни фейерверка крест-накрест рассекали ночь. Вихри шутих опаляли луг. Донья Пепита приказала музыкантам идти вслед за нею на берег озера, туда, где прежде текла тихая река Уараутамбо. Озеро разлилось по всей долине. И тут донья Пепита услышала такое, что не поверила ушам своим.
– Передохнем все скоро из-за этих праздников, – говорил чей-то голос. – Только для того и работаем, чтоб они веселились. За все платить приходится. Скоро посрать бесплатно и то нельзя будет.
Донья Пепита подошла, схватила говорившего за рубашку.
– Ты кто такой? – спросила она.
– Ваш пеон Бернардо Чакон, хозяйка.
– Племянник этого подлеца Эктора Чакона?
– Да, Хозяйка.
– Ах, так ты, значит, и есть тот самый Бернардо Чакон! Разгуливаешь по поместью и рассказываешь, будто сейчас тысяча девятьсот шестьдесят второй год? Так знай же: сейчас декабрь две тысячи триста двадцать четвертого.
– Постараюсь запомнить, хозяйка.
– Чтоб ты не забыл, я тебя назначаю устроителем новогоднего праздника. Через две недели.
– У меня нет денег, чтоб устраивать праздники, сеньора.
– Выбирай: либо ты устроитель, либо убирайся вон из поместья.
– Я всю жизнь прожил в Уараутамбо, сеньора. Куда я пойду?
– Согласен быть устроителем? Нет – так катись.
– Согласен, сеньора.
Через пятнадцать дней Бернардо Чакон устроил праздник, а после семнадцать лет подряд выплачивал долг. Донья Пепита и тут победила. Каждый божий день кто-нибудь приглашал на жареное мясо. Арутинго оказался прав. Самый лучший способ наказать мятежника – назначить его устроителем праздника. Господа веселятся, а непокорные разоряются. Через некоторое время до судьи Монтенегро дошел слух, будто бы пеон Сесилио Лукано говорит, что выборные Янакочи «следующим летом восстановят календарь». Ильдефонсо Куцый отправился вокруг озера к Сесилио Лукано и сообщил: Сесилио выпала нелегкая честь быть устроителем следующего праздника. Лукано должен устроить празднование дня волхвов – приятно, не так ли? «Напивайтесь на свои! У меня пятеро детей на шее. Не люблю я эти праздники. На своей свадьбе и то еле уговорили поплясать немного». Куцый принялся прочищать пальцем уши – неужто он в самом деле слышит такое?
В надвинутой на глаза шапочке сидел судья Монтенегро за столом. Разбил ложечкой яйцо, выпил, вытер губы белой салфеткой. И только тогда взглянул на Сесилио Лукано – худого, с изжелта-бледным лицом и зеленоватыми зубами.
– Ты католик?
– Да, доктор.
– А почему не. признаешь церковные праздники?
– Я признаю, доктор.
– Ты меня знаешь, Сесилио. Я человек благочестивый. И пекусь о спасении твоей души. Как отец о вас забочусь. Помогаю, защищаю, никому не отказываю в совете. Не шути со святыми!
– Я не шучу, доктор.
– Значит, устроишь праздник?
– Бедный я.
– Мы тебе дадим в долг все, что понадобится. Чего ты хочешь? Быков, лошадей, коров, денег на водку и на музыкантов?
– Ничего я не хочу. Освободите меня, доктор.
Судья Монтенегро повернулся к Куцему.
– Сесилио Лукано до сих пор был хорошим парнем. Никто на него не жаловался. Видно, напели ему в уши. Пусть он подумает, чем рискует, и завтра даст ответ тебе. Я надеюсь, он поступит как добрый католик, ибо я не позволю никому в своем поместье непочтительно относиться к святым.
Господский дом, высокий, тяжеловесный, стоял на самом солнцепеке, как бы дымился в солнечном мареве. Рядом была тюрьма, в крошечное, с кулак, окошко едва проникал свет. Лукано вспомнил о бывшем учителе, Хулио Карвахале, – говорят, это единственный человек, посмевший спорить с судьей. Теперь он живет в Янакоче. Лукано решил пойти к Хулио Карвахалю. Едва стемнело, он отправился в путь. Опасливо озираясь, вошел в дом учителя. Рассказал о своей беде:
– Как мне быть, учитель? Я сказал, что нас заставляют двадцать пятого декабря пасху праздновать. За это меня назначили устроителем. Мне все равно, праздновать ли в июле, мае или декабре. Я не могу взять на себя такое дело. У меня пятеро детей. Если соглашусь, устрою праздник, всю жизнь придется долги платить.
Хулио Карвахаль поглядел сурово.
– Хорошо сделал, что отказался, Сесилио. Эта история с календарем – дьявольская выдумка. Человек не может по своему капризу остановить время. Святые, наверное, гневаются. И скоро наступит возмездие. Не соглашайся. Лучше тебе бежать отсюда. Почему ты не уезжаешь, Сесилио?
– Я никогда не выходил за пределы поместья. Куда мне деваться?
– Слушай, Лукано, и похорони мои слова навеки в своем сердце: община Янакочи решила возвратить свои земли, незаконно захваченные твоими хозяевами. Я знаю от брата Исаака, что выборный Роблес готовится поднять народ на борьбу.
– Агапито умер, дон Хулио.
– Он жив, мы вступим во владение землями Уараутамбо, и он войдет в поместье со знаменем в руках.
– Даже если он жив, что он может сделать? Гарабомбо тоже хотел освободить нас. Он был невидимый, тело его просвечивало насквозь. А все равно пуля его достала, убили его на мосту Чиркуак. Я помогал искать тело. Три дня мы боролись с бурным течением. Река Чаупиуаранга тогда еще текла. Что же сможет Агапито?
– Он сможет.
Лицо Лукано оживилось.
– Я не хочу умереть рабом.
– Много радостей дает человеку свобода, Сесилио. У вас в поместье этого не знают.
Лукано возвратился в Уараутамбо. Едва он вошел в дом, появился сторожевой пес судьи Ильдефонсо Куцый со своими бандитами. Помахивая веточкой, Куцый остановился в дверях.
– Ну! Какой же твой ответ, Сесилио?
Лукано глядел на лицо Куцего, на его винчестер, на озеро разлившееся там, где прежде была долина, на семь неподвижных водопадов, нависших над кручей.
– Я не буду устраивать праздник, сеньор Ильдефонсо.
– У тебя ведь дети, Сесилио. Подумай хорошенько!
– Сейчас июнь, а не декабрь. И год сейчас не тот. Я не буду праздновать рождество, сеньор Ильдефонсо.
– Это твой последний ответ?
– Именно так, сеньор Ильдефонсо.
– Ну, тогда я должен выдворить тебя из поместья. Таков приказ.
Желтым цветком дрока поросли застывшие водопады, и таким же желтым стало лицо Лукано.
– Завтра уеду.
– Ты уедешь сию минуту, Сесилио.
Лукано вошел в свою лачугу. Встали в ряд пятеро тощих ребятишек, захныкали.
Под дулами винчестеров погрузил Лукано на осла бараньи шкуры, два мешка картофеля, кастрюли, пожитки. Пеоны надеялись повеселиться на празднике – и теперь осыпали Сесилио проклятиями. По приказу судьи они шли вслед за ослом, кричали: «Еретик! Богоотступник! Лодырь!» Не оглядываясь, бледный, спустился Лукано вниз.
– Лодырь! Лодырь! – кричали обманутые в своих ожиданиях любители попировать на чужой счет. Лукано не поднимал глаз. Проехали километр, свернули с дороги по чьему-то следу. К вечеру увидали пещеру.
– Дети, – сказал Лукано, – вот знаменитая пещера Уманкатай. Ступайте туда. Пещера будет теперь вашим домом, а я поеду по свету искать правду.
– А она большая, папа?
– Больше поместья.
Видно, в самом деле велика оказалась пещера – ни один из детей не вернулся.
Глава двадцать третья
О том, как Исаак Карвахаль получил известие с того света, где, хоть и не слишком хорошо живется, а все лучше, чем на этом
Однажды утром Исаак Карвахаль отправился к кузнецу Ампудии – надо было подковать лошадь. Только что начали они торговаться, как вдруг появился человек, закутанный в пончо.
– Вы Исаак Карвахаль?
– К вашим услугам.
– Можно вас на два слова?
Отошли в сторону. Незнакомец сунул руку под пончо, достал сложенный в виде конверта тетрадный листок.
– Это для вас.
Исаак Карвахаль развернул листок, прочитал: «Почтенный Исаак. Я готов уступить тебе баранов за сходную цену. Если ты согласен, встретимся через семь дней в пещере Уманкатай. Привет». Исаак узнал почерк Агапито Роблеса.
– Вернулся! – воскликнул он.
И не обращая внимания на изумленного кузнеца, вскочил на Победителя и поскакал от одной фермы к другой – сообщать радостную весть. Но люди не верили. Агапито жив? Быть не может! Увидел бы его кто-нибудь, как он там ни прячься, пастух высоко в горах или еще кто. Столько зим прошло, жена Агапито все глаза выплакала. И все-таки загорелась безумная надежда. Сам учитель Сото – человек рассудительный, стал зачеркивать числа на своем самодельном календаре. А вдруг и вправду жив Агапито? Медлительные, словно мулы, спускались дни со склонов гор. Исаак Карвахаль, Николас Сото и Сиприано Гуадалупе отправились к пещере Уманкатай за несколько, дней. Остальные, кто будто бы покупать скот, кто еще по каким-то делам, выехали накануне.
Сошлись в пещере Уманкатай. Прождали все утро. Роблеса не было. Начался дождь. Настроение упало. Стемнело. Никто не двигался, не разжигал костер.
– Лучше нам вернуться, – грустно сказал Сото.
– День еще не кончился, подождем до двенадцати.
Сели, закурили, расстроенные. Снова пошел дождь. Задремали на ледяной земле. Когда проснулись, светало. И вдруг: «Агапито!» – вскричал Сиприано. У входа в пещеру в непобедимо сверкающем пончо стоял Агапито Роблес или человек, до ужаса на него похожий.
Обнялись, прослезились.
– Когда ты приехал?
– Вчера вечером.
– Почему же не вошел в пещеру?
– Когда за тобой гоняются, никогда не знаешь – может, тебя предали.
– В селении говорят, будто тебя нет в живых, Агапито. И семья твоя тоже так думает.
– Тем лучше.
Выборный уселся на камень.
– Весь мир объехал я, братья. Всюду честные чахнут, а нечестные жиреют. Терпел я голод да холод, видел разных людей. Слушайте, братья: мы все – выборные Паско, Хунина и Уануко – поклялись покончить с господами. Мы отнимем у них свои земли силой. В каждом селении организовал я Комитет по борьбе за возврат земель. Все согласны.
– А селение Тинго? Там тоже согласны?
– Эпифанио Кинтана ждет только приказа, чтобы выступить.
– Жители Сантьяго-Пампы слепы и высокомерны.
– Они теперь стали другими. Сакарйас Уаман ручается за них.
– В Уачосе дона Раймундо Эрреру встретили когда-то камнями.
– Эваристо Канчари растолковал им, как они были неправы.
– Качипампа не изменит?
– Все нас поддержат.
– Что говорит Бенхамин Лопес?
– И этот почтенный человек за нас. «Действуйте, – сказал он. – Я отвечаю за своих земляков, я их наставлю на путь истинный».
– А арендаторы Фернандини, они же словно глухие. Сказали они что-нибудь?
– Ригоберто Басилио руководит ими. Он дает сто человек, пятьдесят лошадей и продовольствие.
– Раби за нас?
– Аркадио и Нисефоро Герра обещали, что Раби не подведет.
– А что думают арендаторы из УарауТамбо?
– Себастьян Альбино и Бернардо Чакон стараются уговорить их. Это нелегко. За нас меньше дюжины человек, но и того хватит – лишь бы мосты опустили.
– Жители поместья закоснели в рабстве. Когда Лукано выгнали, так они чуть ли не километр бежали следом да проклинали его, – сказал Сиприано Гуадалуле.
– Не по своей воле они это делали. Монтенегро их заставили, – отвечал Хулио Карвахаль.
Поднялся Агапито. Вот стоит он, казалось бы, здесь, рядом, но годы страданий разделяют их.
– Кому суждено погибнуть – погибнет, – сказал он, – но мы возвратим себе земли Уараутамбо. И я, Агапито Роблес Бронкано, выборный селения Янакоча, объявляю вам: мы – Комитет борьбы за возврат земель. Члены его облекаются неограниченной властью: Им дается право мобилизовать людей, перекрывать дороги, производить работы, вершить суд вплоть до смертной казни. Всякий, кто не пойдет за своей общиной, да погибнет! Прошу избрать делегатов от других общин. Называйте имена.
– Предлагаю от общины Кольяс Хувеналя Ловатона, Германа Лаласиоса и Эусебио Минайю, – сказал Крисостомо Криспин.
– Согласны!
– Пусть Мардонио Луна организует людей общины Тамбочака. Он участвовал в походе.
– Идет!
– Фабиан Льянки тоже годится. Как думаете?
– Это человек верный.
– А кто от Хупайкочи?
Хосе Рекис, маленький, жилистый, покачал головой.
– Жители Хупайкочи не хотят.
– Что они. говорят?
– Ничего не говорят. Не хотят, и все тут.
– В Чинче тоже некоторые сомневаются. Трухильо и Рамос мутят народ.
– Уговорим их или казним.
– Лучше бы уговорить.
– Конечно. Мы должны собрать воедино все свои силы. Бедность заставила многих, самых лучших членов общины покинуть родное селение. Кто в Паско уехал, кто в Ла-Оройю, кто в Лиму. Хорошо бы и с ними тоже сговориться.
– Исаак верно сказал: самый смелый человек в нашей общине – Лисица. Вот бы кого позвать!
– Если община позовет, он вернется.
Кто-то заварил мелиссовый чай. Вдруг Сиприано Гуадалупе воскликнул в волнении:
– Чичи!
Все вышли из пещеры. Сотни чичи распевали на влажных скалах. Серенькая эта птичка – предвестник удачи. Жадно ждут ее крестьяне во время сева. Прилетит чичи – значит, урожай будет славный. Редко их видят больше одной. А тут вдруг – целая стая чичи весело чирикала, рассевшись по Скалам. Добрый знак! Воодушевленные, воротились они в пещеру, снова принялись обсуждать, кто войдет в Комитет борьбы за возврат земель.
Лето близилось к концу. В последние теплые деньки донья Аньяда кончила ткать еще одно пончо. «Убиение невинных» называлось оно, и выборные не решились показать это пончо жителям селений.
Глава двадцать четвертая
Еще кое-что о разговоре, который до смерти хотелось бы слышать господам, что разгуливают с автоматами
Курился над озером и в ущелье розовый туман. Горемыка поглядел на озабоченные лица представителей общин. Живые глазки его блеснули.
– Вот бы сейчас чашечку кофе, – сказал делегат от Паско.
– Золотые слова.
– Да еще бы сальца, закусить чашечку кофе.
– У, змий!
Делегат от Чинче сунул руку под пончо, вытащил узелок. Он улыбался от уха до уха.
– Это у тебя что?
– Сальце, сеньор.
– Издеваешься, да?
Тот развязал узелок, достал увесистый кус.
– Прошу вас, сеньор.
– Что же ты столько времени скрывал такое богатство?
– Всему свой час, приятель.
Он роздал всем сало.
– Откуда такая роскошь?
– Селение Чинче благодарит вас за труды.
Жидкий кофе и сало показались изумительно вкусными.
– Светает.
– А мы еще не кончили.
– Сеньоры делегаты, у нас еще масса вопросов, которые необходимо выяснить.
– Столько народу здесь, в пустынных местах. Это может показаться подозрительным. Найдется один какой-нибудь сукин сын – и довольно. Донесет – всех нас расстреляют.
Горемыка поковырял ногтем в зубах.
– Надо поискать какую-нибудь незаметную пещерку.
– Только сначала прошу рюмочку анисовой.
– Пью за тот день, когда мы будем есть сало в столовой господского дома в Уараутамбо. Выпьем, Агапито!
– Я не пью, дон, но от души благодарю вас.
– Пошли по этому ущелью, там где-то знаменитая Обезьянья пещера должна быть.
Выборный селения Ярусиакан поднялся. Это был единственный человек, одетый не как индеец. Свитер не слишком-то грел его, он дрожал. Отправились. Вдруг выборный селения Ярусиакан остановился, указал на запад.
– Если Чинче выступит, а Ярусиакан и Ранкас займут те земли, что им положены, мы встретимся в поместье «Парья».
– Как русские с американцами.
– Вот этого-то и хотел Гарабомбо! Он всегда говорил: «Члены общины Чинче должны встретиться с членами общины Ярусиакан в поместье «Парья», словно русские с американцами в конце войны».
Вдали виднелась Обезьянья пещера. Стая диких уток пролетела над их головами.
– Ты Гарабомбо знавал?
– Сидели вместе в тюрьме, на Фронтоне. Морской воздух не для нас – горцев. Вреден для наших легких. Привезли меня на Фронтон в январе, в разгар лета, а туман стоял такой, что домов не видно. Можете представить? Это в январе-то! Гарабомбо уже третий год там сидел. Туберкулезный он был или нет, не могу сказать. А только кашлял сильно. Обрадовался, как узнал, что я тоже горец. Представляете, что значит там земляка встретить? Мы с ним сговорились жить вместе, в одной пещере. Ты остров-то знаешь?
– Не имел удовольствия.
– Будешь по-прежнему угонять чужой скот, получишь приглашение.
Рябой засмеялся.
– Я, сеньор, только господский скот угоняю. Мне дон Хенаро так и сказал: «Ты, говорит, Рябой, экспроприируешь экспроприаторов».
– Мы с Гарабомбо в одной пещере жили. Раз как-то удим мы рыбу, вдруг кричат: «Кто из Чинче – в комендатуру!» Мы бегом туда. Тюремщик нам и говорит: «Готовьтесь, сей же час вас на катер посадим, в Лиму поедете». – «А что случилось, сеньор?» – «На Совете по урегулированию конфликтов вам надо присутствовать, в Министерстве труда». Сели мы на катер, он нас уже ждал у пристани. «А вдруг нас отпустят, Акилино?» – говорит Гарабомбо. Солнце пекло, а он дрожит весь. Море было бурное, насилу пришвартовался наш катер в Камотале. Волны большущие, а мы в кандалах. Страшно. Ну, прибыли. В порту ожидали грузовики. Повезли нас в Лиму. Высадили перед Министерством труда. Идем мы вверх по лестнице, а навстречу Сильверио Бонилья, земляк наш, тоже под караулом и в кандалах. Входим. Вдруг Гарабомбо как побледнеет весь! – «Что с тобой, Фермин? Укачало тебя на катере?» – «Жена моя тут, вон она. Два года я ее не видал». Обняла его Амалия Куэльяр, плачет. И еще земляки подошли. – «Можно мне с женою поговорить?» – спрашивает Гарабомбо у солдата. – «Запрещено, ну да уж ладно», – отвечает солдат, хороший попался парень. – «Мы отойдем немного в сторону, ладно?» – «Только помни, чуть что – стреляю». Я-то вовсе ни при чем там был. По ошибке меня привезли. Земляки рассказали потом Гарабомбо: в тот день слушание дела назначили, в суд вызвали помещиков Лопесов и их двоих – Гарабомбо да Сильверио Бонилью, мятежников то есть.
– Интересно, – пробурчал Горемыка.
– Поговорил Гарабомбо пять минут с женой и с земляками. Тут явились Лопесы со своими адвокатами. Вводят нас в зал, обоих, хоть я и был совсем ни при чем. Председатель комиссии по урегулированию, толстенький такой, в очках, и говорит: «Мы собрались здесь, дабы выяснить, нет ли возможности достигнуть договоренности между тяжущимися сторонами. Слово имеет владелец поместья «Чинче» сеньор Амадор Лопес». Ну, чего тут рассказывать? Как завел он насчет значения скотоводства для страны, и это, дескать, возможно, при наличии в Паско именно таких громадных пастбищ. Перу, дескать, скот импортирует, и пошел, и пошел. Что тут рассказывать? Так у него получалось, Что страна у нас бедная по вашей вине, а поместью надо очень много земли, потому что оно разводит тонкорунных овец, содействует развитию правильного скотоводства, ну и значит, требования общины Чинче никакого не имеют смысла. А под конец он вот что сказал: «Землю я вам дать не могу. Если хотите, положу вам жалованье». – «Ну и сколько же вы стали бы нам платить?» – спросил Гарабомбо. – «Я мог бы платить вам по одному солю в день, но вы обязаны вносить арендную плату за землю, да по пятьдесят сентаво за каждую овцу, что пасется на моей земле». – «Так нам будет еще хуже, господин судья». Толстенький рассердился, – «Я вас не спрашиваю, хуже вам или лучше. Принимаете вы предложение сеньора Лопеса или нет?» – «Совсем нам тогда пропадать, если согласимся». – «До сего дня вы работали даром. Сеньор Лопео предлагает вам плату да вдобавок разрешает пользоваться его пастбищами. Что вам еще надо? Соглашайтесь! Подпишете от имени своей общины договор, и я вас сейчас же отпущу на свободу. Откажетесь – останетесь за решеткой». Гарамбомбо даже вспотел от волнения, Я ясно видел – капельки пота выступили у него на лбу. – «Решайте сию минуту. Выходите на свободу или остаетесь в тюрьме?» – «Не согласен я, сеньор». – «Подумайте хорошенько! Ваша судьба в ваших руках. Свобода или тюрьма. Вы сильно рискуете, заключение может оказаться длительным». – «Не согласен!» – «Остаетесь, значит, в тюрьме?» – «Остаюсь, сеньор».
– Сейчас сколько времени? – спросил Горемыка.
– Да уж восьмой час, – отвечал делегат Ярусиакана.
– В это время передача с Кубы легко ловится. Давайте послушаем, что там бородачи говорят?
Глава двадцать пятая
Сны и кошмары Бернардо Чакона
Вернулся Бернардо из заключения – он сидел в тюрьме в Уануко за скотокрадство – и видит как-то раз сон: будто вся община Янакоча бежит по бесконечной степи. Бегут мужчины, женщины, бегут дети, качаются их тени, хватают за пончо бегущих и падают в изнеможении. Оглядываются люди изредка – мчатся вдогонку за ними всадники. Так бегут они недели, месяцы, годы, и вот стена перед ними, такая высокая, что даже кондоры не могут перелететь ее, разбиваются тысячами. Мчатся яростные всадники, бегут в ужасе люди, а между ними летит по степи конный в маске. И вдруг останавливается конный, спешивается, поднимает плиты с могил на кладбище Уараутамбо. Встают из могил всадники, тысячи всадников, всю степь заполонили. И тогда повернули преследователи вспять. А спаситель снимает с лица маску, и видит Бернардо Чакон ясную улыбку Агапито Роблеса.
– Бернардо, – говорит выборный, – все это случилось по твоей вине. Если бы ты помог нам, не пришлось бы так страдать жителям Янакочи.
– Темны слова твои, Агапито.
– Когда сменится луна, приходи в дом Макарио Валье.
Проснулся Бернардо Чакон весь в поту. Светало. Закутался Бернардо в пончо, пошел к соседу Себастьяну Альбино – посоветоваться, к чему бы такой сон.
– Это весть тебе, Бернардо, – сказал Альбино, смуглолицый, с недоверчивым взглядом, с жидкими усиками. – Значит, нужен ты Агапито. Может, в опасности он. Ступай к нему!
– Только за одним может звать меня Агапито. Много мы с ним говорили в тюрьме в Уануко. Он хочет поднять мятеж против поместья. У него есть копии наших грамот на владение землей. St видел. «Пока не возьмем Уараутамбо, не будет Янакоча свободной. Придет день, Янакоча поднимется на борьбу за свою землю, но ничего нам не сделать, если арендаторы поместья «Уараутамбо» не поднимутся тоже».
– Янакоча поднимается, говорят.
– Значит, Агапито зовет меня готовить восстание.
– Настал, видно, час, Бернардо. Нет больше сил терпеть наши муки. Ступай к нему!
Бернардо Чакон выпросил разрешение уйти из поместья – картошку, дескать, надо поехать продать в Гойльярискиску. И отправился в Уачос. День клонился к вечеру, когда въехал Бернардо в селение. Спрятал лошадь, пошел пешком. Из дома Макарио Валье смутно слышались голоса. Кто мог быть там? Лошадей возле дома не было. Спрятаны лошади – значит, собрались в доме представители общин. Бернардо постучал в дверь.
– Кто ты, добрый человек?
– Бернардо Чакон из Уараутамбы приветствует дона Макарио Валье.
– Входи.
В комнате толпились незнакомые люди, но Бернардо тотчас увидел тихую улыбку Агапито Роблеса.
– Я ждал тебя, Бернардо, – сказал Агапито.
– Откуда ты знал, что я приеду?
– Во сне тебя видел.
– Добрый вечер, сеньоры, – сказал Бернардо и почтительно обнажил голову.
Роблес представил его.
– Это Бернардо Чакон, член общины Уараутамбо, был со мной вместе в тюрьме в Уануко. Он племянник Эктора Чакона.
В ответ послышался гул дружеских приветствий.
– Эти сеньоры из общины Хупайкоча, Бернардо. Они пришли послушать, что написано в нашей Грамоте.
Агапито Роблес снова начал читать Грамоту. Целый час перечислял он границы владений общины Янакоча. Жители Хупайкочи слушали молча. Темнело.
– Что скажете, сеньоры? – спросил Агапито.
Поднялся человек, толстый, медлительный.
– Уачос примет участие в борьбе за возврат земли. Мы готовы идти с вами. Поднимемся, пусть только Янакоча поддержит. Даем сто человек.
– Янакоча запомнит, твои благородные слова, Макарио Валье, – отвечал Агапито Роблес.
Они обнялись.
Появились женщины, подали картошку в соусе, вяленое мясо. Поели, выпили мате из коки. Жители Уачос ушли. Агапито Роблес и Бернардо Чакон остались одни.
– Помнишь ты наши разговоры в тюрьме?
– Еще бы! Я в тот же день, как вернулся в поместье, стал говорить с арендаторами.
– Ну и как они?
– Мало кто согласен подняться против судьи.
– Живут хуже, чем свиньи, а бороться не хотят. Почему так?
– На их взгляд, простым смертным не справиться с судьей Монтенегро. Он остановил время, может, если захочет, и солнце остановить. Так говорят. Вот и боятся люди. Несколько месяцев тому назад судья выгнал из поместья Сесилио Лукано. Заставил нас проклинать его.
– Слышно что-нибудь о Сесилио?
– Кто говорит, будто на рудники ушел, кто – будто в Уануко спустился. Не видать его больше в наших местах.
– Чего же боятся в Уараутамбо?
– Судья всегда все знает. Три раза мы собирались, каждый раз он об этом узнавал и велел плетьми нас бить. Вот и боятся. Судья, он все может, так они говорят.
– Конечно, все может, раз деньги есть. Нанимает доносчиков, подкупает судебные власти в Уануко, вот и сидит вечно в своем судейском кресле. А на жалобы да протесты никто внимания не обращает.
– Я, как вышел из тюрьмы, стал говорить с арендаторами. На другой день зовут меня к Монтенегро. Прихожу в господский дом. А судья и говорит мне: «Я знаю, что у тебя там всякие разговоры с выборным Янакочи. Очень плохо ты поступаешь, Бернардо. Я всегда был добр к тебе. Но если свяжешься с мятежниками, у меня выбора не останется. Должен же я защищать своих верных крестьян, вот и выдворяю дурных, а в поместье приходится приглашать работников из других селений».
– Никто в поместье нас не поддержит?
– Мало кто.
– Ну, а все-таки?
– Дон Руфино Торибио сказал мне как-то раз: «Мы, Бернардо, все равно как мулы покорные». Еще мой шурин Синасио поддержит.
– Давай действуй, Бернардо. Уговаривай их, а после мне скажешь.
– Испугаются.
– Жажда свободы, Бернардо, что корни дерева, под землей путь себе находит. Дважды поднималась провинция Паско, и дважды нас расстреливали. Поднимемся же в третий раз. В тысячный, если придется! Ремихио Вильена готовится покончить с поместьем «Харрия». Братья Чаморро пьянствуют в публичных домах в Серро, а в это время Ремихио роет им могилу. Горемыка поднимает общину Амбо. И есть еще много других, ты даже не слышал их имен, но все они готовятся – мы добудем землю, мы уничтожим все на свете поместья. Кончится сбор урожая, и Уараутамбо будет свободно'
Г лава двадцать шестая ,
которая не нуждается в названии
Я помогла тебе. Господа твоей провинций, подлые властители Серро-де-Паско, все разорены. Ты открываешь глаза пеонам, ты поднимаешь рабов, ты стремишься сделать свободными наши степи, а эти… они пляшут, негодяи! «Моя королева – то, да моя королева – это, на все я готов ради моей королевы, продаю усадьбу, лишь бы угодить моей королеве, кормлю и пою всех по приказу моей королевы». Проклятые! Я разоряю их, из дерьма они вышли, пусть в дерьме и потонут. Даже мои дурачки смеются над ними! «Музыканты, играйте еще для моей королевы!» А в это время ты переходил Змеиную Гору. «Десять ящиков пива за мой счет!» А ты собрал делегатов от общин в пещере Уманкатай. «Я уже отправил деньги, моя королева; как ты велела, пожертвовал на святую деву Чакайянскую». А ты, переодетый торговцем, явился в Раби, чтобы говорить с пеонами. «Если эта лодка вам не нравится, моя королева, я распоряжусь, чтобы сделали другую». Я знала, что ты отправился в Помайярос, оттого и велела изменить курс, плыть на Успачаку. «Почему так плохо играют эти музыканты?» Я плясала, чтобы хоть как-то утишить свою ярость. Я могла бы плясать так до самого Судного дня. Лишь бы забыть то, что надо забыть, и помнить то, что надо помнить. А есть ли у Меня, что помнить? Да, есть, и я радуюсь. В этой провинции, в этой жизни я сумела растоптать тех, что топтали других. Помещики, власть имущие, надменные судьи – все ползали передо мной на коленях. «Позвольте преподнести вам драгоценности моей матери». Несчастные чучела! Надевайте лучшие свои наряды, завивайтесь, обливайтесь духами! Готовьтесь, скоро Агапито Роблес устроит вам праздник!
Мака едет на красную зарю, едва видную из-за белых перистых облаков. Мака вспоминает тот день. Где это было? Они поехали завтракать в Пакараос. На площади стоял продавец красок, она узнала его. Солнце поднялось. Оно было красное, оранжевое, желтое, розовое, зеленое, черное – как разноцветные пакетики, что лежали перед ним на лотке. Завтракали, потом обедали. Потом плясали, потом ужинали. На обратном пути вновь ехали через площадь. Он стоял на прежнем месте. Мака заговорила с ним. Ее спутники думали, что она торгуется, а она предсказывала удачу, успокаивала, ободряла… И тогда Агапито Роблес Поглядел ей в глаза. «Поедемте в поместье, будем плясать в господском доме. Только надо сменить музыкантов». И я ушла, так и не ответив на твой взгляд. «Если вам угодно, моя королева, я, разумеется, готов нанять другой оркестр и заплатить вдвое». Я не ответила на твой взгляд, Зачем? Ты и так знаешь, что я выполнила свой долг.
Глава двадцать седьмая
О том, как конь Белоногий, честь и слава общинного табуна, отправился в последний путь
Теплая августовская ночь 1962 года по грегорианскому календарю, или ночь в маябре 2386 года по монтенегрианскому. Выборные Янакочи собрались в пещере Уманкатай.
Агапито сидел на камне. Он вспоминал то утро, когда поклялся, что не вернется в свой дом, пока не исчезнет с лица земли поместье «Уараутамбо», и лишь пустынная дорога слышала его клятву. Сколько «лет» протекло с той поры? Тысячи лиг проехал Агапито. Вот сидят перед ним члены Комитета борьбы за возврат земель, но он не смотрит на них. Он видит перед собою Эктора Чакона, Сесилио Лукано, горящие глаза дона Раймуядо Эрреры. Все новые и новые люди входили в пещеру. Все общины провинции прислали своих делегатов. И вот во влажной тишине пещеры Уманкатай раздался голос Агапито Роблеса:
– Много лет езжу я по свету, братья, все стараюсь растолковать людям, что до тех пор, пока существует «Уараутамбо», не вздохнуть им свободно. Я выполнил свой долг. Последний нищий в последней каморке знает: «Уараутамбо» должно погибнуть. Сегодня первое августа. Двадцать девятого «Уараутамбо» падет. В этот день мы захватим поместье. Вы должны накануне предупредить жителей своих селений. Встаньте на колени, поклянитесь, что даже под угрозой смерти не назовете число.
Перед знаменем общины клянутся взволнованные делегаты.
Обнялись. Разошлись но своим селениям. И тихо потекли дни августа тысяча девятьсот шестьдесят второго года. Было приказано: с помещиками обращаться почтительно, не давать поводов для провокаций. Вот и двадцать пятое августа. А двадцать шестого прошел слух, что выборный Роблес спускается по дороге в селение Пильяо. В пончо с загадочными рисунками, в красном сомбреро, украшенном черно-белыми цветами, появился Агапито на тропе. Достигнув вершины, остановил Белоногого, глядел на дома Янакочи, фермы на том берегу, дальние крыши, сверкающее озеро, лодки на нем… И тут заметил, что Белоногий стал зеленым.
– Белоногий!
Конь повернул голову.
– Зеленый я? – спросил он. В первый раз заговорил Белоногий с Агапито на человечьем языке.
– Да, зеленый, – отвечал Агапито. Он не удивился, а лишь опечалился.
– Значит, умираю.
Агапито спешился.
– Что ты говоришь, брат мой?
Белоногий поглядел благодарно, тихо заржал. С каждой минутой он делался все зеленее.
– Не дойду я до Янакочи, Агапито. Здесь положен предел моей жизни.
Белоногий лег. Он кашлял. Агапито обнял коня.
– Я выполнил свой долг, Агапито. Я возвращаю тебя землякам живым и здоровым. Верно служил я тебе. Ты не можешь пожаловаться. Или чем недоволен? – Конь дышал с трудом – Надо сломать все ограды, смести все границы, Агапито Вы люди, не то, что мы. Недобрые вы звери, Агапито, а пуще того – несчастные…
– Не умирай, друг! В Янакоче тебя ждут. Жалеть станут.
Белоногий задыхался.
– Продолжай борьбу, Агапито. Те, что сегодня с тобой, могут завтра предать. Не падай духом. Позаботься-о…
Глаза коня закатились.
Агапито видел сквозь слезы веселую толпу. Вышли ему навстречу члены Совета общины и приближались с радостными криками. Но вот увидели Белоногого и перестали смеяться.
– Оставьте меня с ним, – сказал Агапито. И в эту минуту но приказу Исаака Карвахаля загремели двенадцать колокольных ударов, что возвещали начало восстания. И никто уже не мог скрыться. Вооруженные патрули перекрыли дороги.
Всю ночь провел Агапито у трупа Белоногого. На рассвете Гуадалупе и другие помогли ему зарыть коня. Похоронили Белоногого, украсили могилу желтыми цветами дрока. Солнце обливало золотом эвкалипты. Агапито услыхал далекое конское ржание. Час настал. Он понял – некогда предаваться печали, сам Белоногий не одобрил бы его.
– Есть другая лошадь?
Ему почтительно подвели Победителя. Агапито нагнулся, сунул пальцы в навоз Белоногого, вымазал себе лицо. Зеленый от навоза и горя, сел он на коня, поднял голову.
– Хахайльяс! – возопил он и поскакал к притихшей Янакоче.
Глава двадцать восьмая,
доказывающая то, что в свое время хотели доказать люди, которые стремились к этому доказательству, чтобы доказать то, что они напрасно хотели доказать
Говорит радиостанция «Куба», говорит Гавана, говорит Куба – первая свободная страна на территории Америки. Начинаем программу на кечуа для крестьян Перу, Эквадора и Боливии.
Делегаты, сидевшие вокруг транзистора, улыбались гордо, по-детски.
Крестьяне Анд, примите еще раз революционный привет от Кубы и пожелание успехов в вашей борьбе против перуанской олигархии, прислужницы империализма. Эта борьба является решающей для Перу и для всей Америки. Решающей главным образом потому, что она ведется за восстановление справедливости в стране, находящейся под игом олигархии, которая еще в средние века завладела землей Перу. Цифры говорят сами за себя.
– Слышно так, будто здесь, рядом. Прямо не верится!
– Ах, черт побери!
Даже буржуазные источники не в силах опровергнуть факты. Пять процентов землевладельцев владеют в Перу 95% обрабатываемой земли, а 95% крестьян ведут жалкое существование в тяжелейших условиях, ибо им принадлежит всего 5% обрабатываемой земли. Сами помещики не решаются скрывать эти цифры. Статистические данные, опубликованные Службой исследования и реформ в области сельского хозяйства, СИПА, учреждением, финансируемым Америкой и ориентирующимся на Америку, подтверждают эти позорные факты.
– Вот чешет-то! Златоуст!
СИПА сообщает также, что 1,4% жителей Перу владеет 1529 750 гектарами обрабатываемой земли. Средние землевладельцы, то есть те, что имеют в своем владении от 11 до 100 гектаров, владеют 285 000 гектарами, а крестьяне и члены индейских общин, составляющие 95% населения, занимающегося сельскохозяйственным трудом, ютятся на 614 753 гектарах. Мы не придумали эти цифры. Мы взяли их из империалистических источников.
Бутылка водки переходила из рук в руки. В горах, за снежной иглой Хиришанки загрохотал гром.
Контраст поразителен, но и эти цифры еще не полностью открывают истину. Крестьяне Перу, слушающие нас сейчас, знают, что действительность еще более трагична. В Перу есть помещики, владеющие асьендами, которые превосходят своими размерами некоторые страны.
– Верно, черт побери!
– Конечно, верно!
В одном только Куско, где работники чайных плантаций долины JIa-Конвенсьон бастуют уже два месяца, шестерым землевладельцам принадлежит более 340 000 гектаров. Крестьяне Ла-Конвенсьон хорошо это знают. Асьенда «Уадкинья» занимает 144 000 гектаров, асьенда «Итма» – 50 000. асьенда «Тобалуаси» – 20 000, асьенда «Санта-Роса» – 60 000, асьенда «Эчаратти» – 29 000, асьенда «Уайна» – 44 000 гектаров . Всего только шесть человек владеют 347000 гектарами земли!
– Чтоб им сдохнуть, проклятым!
… Что составляет более половины площади, принадлежащей горным общинам Перу.
– Будь они прокляты тысячу раз!
Буржуазная пресса Перу систематически замалчивает этот факт, хотя Федерация крестьян долины Ла-Конвенсьон много раз доводила цифры до ее сведения. В ноябре текущего года Федерация рассказала о потрясающих фактах. Мы процитируем дословно…
– На юге скоро начнется заваруха. Я этой зимой ездил напарником шофера «Андских щеглов». Мы весь юг объехали.
Буржуазная пресса никогда не решится опубликовать эти сведения. Федерация крестьян долины Ла-Конвенсьон сообщает следующее:
– Я в Ла-Конвенсьон был.
Помещик Альфредо Роменвиль заставляет нас вставать в 3 часа ночи и отправляться на строительство дороги. Домой мы возвращаемся в 7 часов, то есть работаем 16 часов в сутки. Если кто-либо пропускает один день, он лишается платы за всю неделю.
Мелькиадес Боканхель случайно спалил два квадратных метра соломенной крыши сарая, принадлежащего помещику Роменвилю. Крестьянин был зверски избит, затем помещик подвесил его, привязав за руки и за ноги к суку дерева, и сек плетью до тех пор, пока собственные дочери помещика не принялись умолять его пощадить несчастного.
Крестьянину Габино Гусману Роменвиль приказал привести осла или лошадь, чтобы погрузить на них в арроб кофе. Крестьянин не смог найти ни осла, ни лошади. Тогда помещик приказал запрячь Габино Гусмана, погрузить ему па спину шесть арроб кофе и гонял его плетью по двору на четвереньках.
Кармен Кандия, Эстебана Гонгору, Хулиана Гусмана и других помещик заставил бежать восемь километров по камням и рытвинам, а сам ехал за ними на муле и многим нанес увечья, Сирило Гусмана, Фиделя Карриона и Эрнана Санта-Крус он заставил тащить тяжелые стальные трубы на расстояние пятнадцать лиг.
У Мартина Вильянуэвы он отнял все имущество и избил так, что тот целый день пролежал без сознания.
Мартина Кандию и Алехандра Алегрию он заставил скручивать чайные листья в течение недели, заперев их в сарае, откуда выпускал лишь на пятнадцать минут в день.
– Мы хоть нужду справляем не торопясь.
– На юге все так вот и кипит.
– Кто его знает. – Горемыка почмокал губами. – Кто его знает, – повторил он. – В Куско есть союзы крестьянские, ими Уго Бланко заправляет.
– Он же коммунист.
– Ну и что?
– Да ничего.
– На юге скоро начнется.
Концентрация земель в одних руках на юге Перу доходит до поразительных размеров. В департаменте Пуно несколько лет назад был голод, в результате которого погибли десятки тысяч людей. В этом департаменте одно только семейство Муньос Нахар владеет более чем 300 000 гектаров. Усадьба Муньос Нахар простирается от Пуно до Мокегуа, то есть захватывает и горные районы, и побережье.
Делегат от Туси достал из мешка от муки фирмы Николини сыр и несколько хлебцев. Распахнув куртку, он с гордостью показал рубашку, сшитую из той же ткани, что и мешок, красные буквы «Никол…» виднелись на рубашке.
Крестьяне Анд! Есть только один путь покончить с эксплуатацией и издевательствами – вооруженная борьба.
Идите по стопам вашего славного предка Тупака Амару!
– Ух ты! Ну и ловко!
В заключение нашей передачи послушайте индейскую музыку. Выступает знаменитый ансамбль…
– Прошу прощения, боюсь, батарейки сядут. – Хромой, улыбаясь, выключил транзистор.
– Этот кубинец правду говорит. Правда и то, что настанет день, когда сойдемся мы с помещичками и начнем выпускать друт другу кишки. Тогда уж не остановишь.
– В октябре поднимемся.
Горемыка повернулся к Агапито Роблесу.
– Как бы то ни было, Янакоча должна захватить «Уараутамбо». Рябой правильно говорит. Падет «Уараутамбо» – другие поднимутся. Надо начать до дождей.
Появились часовой и еще двое в пончо.
– Завтрак принесли, – вздохнул Рябой.
– Думаешь, сегодня кончим?
– Надо еще делегатов от Уануко дождаться.
– А дон Хенаро где? – обратился Хромой к одному из жителей Ярусиакана.
– Явится нынче.
– Он же вчера обещал.
– Не так-то это просто.
Горемыка затянул поплотнее шарф. Пососал остаток сигареты.
– Полицейские учуяли – что-то готовится, – объяснил он. – Каждый День прибывают сыщики из Лимы. От Хенаро они не отстают ни на шаг. Знаете, что удумали? Неделю тому назад нарядились двое сыщиков, будто они крестьяне. Выбрали таких, что говорить умеют по-нашему…
Опять включили приемник:
И именно сейчас люди всех континентов, всех рас и цветов кожи поднимаются против империализма…
– Не работает больше, сели батареи, – извиняющимся тоном проговорил Хромой.
– Нарядили в шерстяные плащи да в пончо и сунули в тюрьму в Серро, чтоб они там поговорили с арестованными, вроде как свои, да разнюхали бы. А чтоб арестованные не сомневались тюремщик этих сыщиков стукнул пару раз. Вот как ловчат! Ну, там в тюрьме дон Ремихио Вильена обретается, земляк мой. Он сразу разобрался, что к чему, и другим знак дал: молчите, Дескать, ничего не отвечайте…
– А вот и наш доктор Хенаро Ледесма идет!
Глава двадцать девятая
о том, как пришлось потрудиться Исааку Карвахалю накануне великой битвы, ибо и в Янакоче нашлись трусы
Отставной сержант Атала, кум судьи Монтенегро, явился в селение Вилкабамба с тремя бочонками водки и уговорил членов общины. Решили они поладить с судьей; Атала пообещал им от его имени участок, на который претендовала и Янакоча. Водка свое дело сделала – надумали жители Вилкабамбы подать в суд на Янакочу. В Янакоче упали духом.
– Придется отложить выступление. Не под силу нам бороться одновременно и с полицией, и с Вилкабамбой, – сказал Теодосио Рекис.
– Что надо от нас жителям Вилкабамбы?
– Не сможем мы воевать на два фронта. Отложить надо выступление, – настаивал Рекис.
– Сколько лет ждали, так трудно было уговорить людей. Если сейчас их остановить, больше уж никогда не поднимутся, – сказал Исаак Карвахаль. В этот день он надел свою старую сержантскую гимнастерку.
– Это верно, и говорить нечего. Выступать надо, – сказал Ригоберто Басилио.
– Триста всадников уже выступили из Вилкабамбы, – сообщил Сиприано Гуадалупе.
– Скоро ли Агапито появится?
– Он уже в пути.
– Я за то, чтобы начать переговоры с жителями Вилкабамбы, – заявил Рекис.
– Тяжкая ответственность ляжет на нас, – сказал учитель Сото.
– Рабство еще тяжелее, – гневно отвечал Басилио.
– Отложим выступление на восемь дней, а за это время договоримся, – предложил де ла Бега.
Исаак Карвахаль сидел, понурив голову. Он предчувствовал худое. Наконец поднялся.
– Я за то, чтобы начать выступление и одновременно переговоры. Выберем комиссию для переговоров с Вилкабамбой. А все прочее пусть идет как намечено.
Никогда еще не бывало такого вечера летом. Потом они поняли – так и следовало, ибо серый этот вечер был предвестником роковой ночи. Площадь наполнилась людьми.
– Вилкабамба приближается, хочет напасть на нас. Почему мы должны рисковать своей жизнью ради арендаторов «Уараутамбо?» – кричали они.
– Правильно!
– Зачем нам это надо?
– Вот увидите – арендаторы из поместья продадут нас. Не выступят, а мы ни за что ни про что пропадем либо в тюрьму сядем.
– Что мы выиграем в этой войне? Отвечай, мошенник! – крикнула Теодора Кондор прямо в лицо главе общины Карвахалю.
– Свободу, донья Теодора.
– Свободой сыт не будешь. А родственников в «Уараутамбо» у меня нет.
– У меня тоже нет родных в поместье. Пока «Уараутамбо» цветет да кровь пьет, добра не будет.
Максимилиана Марин подскочила к Исааку Карвахалю.
– Бессовестный! Ты зачем мужа моего с толку сбиваешь? Заставляешь идти, а он ведь не хочет! Завтра прольется кровь. Умрешь ты – одним негодяем станет меньше на свете, а вот кто ответит за гибель моего мужа?
– Поймите же, донья Максимилиана…
– Если моего мужа убьют, я буду кормить детей твоей кукурузой, дом у тебя отниму! Знаю я вас! Главари! Дураки побегут вперед, а вы за их спинами все попрячетесь.
Женщины продолжали бранить Карвахаля.
– Мой муж болен, – робко вступилась жена Сиприано Гуадалупе. – Он не может идти. Прости его, не сердись.
– Пусть он сам скажет, – резко прервал ее Карвахаль.
– Кто будет меня содержать? Ты? Кто будет меня кормить? Ты? Кто будет мне детей делать? Ты? – вопила Максимилиана Марин.
И вот, освещенная последними лучами заходящего солнца, появилась на площади худая женщина – вдова дона Раймундо Эрреры, Мардония. Много месяцев не снимала она траура. Но сегодня нарядилась: юбка цвета красной смородины, украшенная серебряными сердцами, серая шаль, затканная желтыми, зелеными, оранжевыми цветами. Посверкивали большие серебряные серьги. Мардония приблизилась.
– Послушай, сестра.
При виде величественной вдовы Максимилиана притихла.
– Откуда ты знаешь, сестра, что мужу твоему суждено умереть? Разве мы можем предсказывать будущее?
– Нет.
– Я не знаю будущего, но познала прошедшее – мужа моего нет больше. Он обмерял земли. На том самом месте стою я сейчас, где стоял когда-то мой муж и глядел на трусливых жителей селения Янакоча.
Максимилиана Марин не посмела ответить.
– Если муж твой умрет, он умрет как боец. Зачем оскорбляешь ты главу общины? Не браниться тебе следует, а помочь ему. Кто у вас глава семьи? Ты или твой муж?
Женщины приумолкли. Исаак Карвахаль отправился в Комитет. По пути он встретил жену Октавино Куэнки.
– Мой муж упал с лошади. Он не сможет прийти.
Проходя мимо дома дона Раймундо Эрреры, Карвахаль замедлил шаг. Как поступил бы старый Эррера? Потом он поглядел на дом Совы, дом стоял на углу, открытый ветрам из ущелья. Со стороны улицы Эстрелья он был одноэтажный, с другой стороны, по спуску – двухэтажный, со скотным двором внизу. Крыша покрыта посеревшей соломой, стены почти развалились, и только балкон висел на тонких стропилах, отчаянный и бесстрашный, как бывший хозяин этого дома Эктор Чакон. Но думы о Сове' тотчас же рассеялись. Навстречу Карвахалю шел бывший член Совета общины Маладино Руэда.
– Стой! Ну-ка, ответь! – закричал он. – Кто ты такой есть? Зачем народ баламутишь? Что ты о себе вообразил? Я был членом Совета – не сумел землю вернуть, а ты сумеешь?
– Не оскорбляйте публично главу общины, дон Маладино. Я могу ведь и приказать арестовать вас.
– Арестовать? Меня? Маладино Руэду? Ты? Да ты знаешь, кто я такой? Меня все знают! Ну, говори, кто я?
Исаак сжал кулаки, вонзил ногти в ладони.
– Ты человек, который потерял копии нашей Грамоты.
Руэда отшатнулся, словно его ударили.
До того, как отправиться в свой поход, Агапито Роблес послал Маладино Руэду в Лиму снять копию с Грамоты. На обратном пути Маладино остановился в Серро. Зашел в погребок, выпил порядком. И там, в погребке, познакомился с крючкотвором Эсниносой, доверенным помещика Масиаса. Захмелев, Маладино стал хвастаться» что везет Грамоту.
– Поздравляю, братец, – сказал Эспиноса. – Я ведь тоже из вашей общины. Как адвокату, мне приходится с вами бороться, но я – горец и горжусь своими земляками, что сумели справиться с самим министром президента Прадо. Позволь, я тебя обниму и выпью за твою победу!
Эспиноса заказал бутылку водки. Снова поднял тост за Маладино. Гордый тем, что даже противник признал его – Эспиноса выступал иногда при разборе дел в качестве доверенного помещика Масиаса, – Руэда все пил и пил, не замечая, что Эспиноса дашь слегка пригубливал свой стакан. Заказали еще бутылку. Потом Эспиноса пригласил Руэду к себе. И там снова принялись пить. Проснулся Руэда в холодной пустой комнате. И тут только хватился копии. Слишком поздно! Эспиноса продал копию Масиасу. А Руэда вернулся в Янакочу. Жители Янакочи хотели убить его, но судья Монтенегро приказал передать, что тому, кто хоть пальцем тронет Маладино, придется иметь дело с самим судьей.
– Завтра прольется кровь! – орал Маладино Руэда. – Завтра я погляжу, как вам всем ноги повыдергивают. Мочиться буду на ваших поминках.
Исаак понял, что, если сейчас смолчать, жители поколеблются. Он схватился за револьвер.
– Ступай отсюда, пьянчуга! Ступай лучше сам в тюрьму, пока я не разозлился, – вмешался стражник Магдалено Нейра.
Исаак Карвахаль направился к школе. Там собрались командиры: Теодоро Рекис, Максимо Coca, Сиприано Гуадалупе, Николас Сото, делегаты различных селений. Исаак обратился к Сиприано Гуадалупе.
– Что это с твоей женой, Сиприано? Она говорит, будто ты болен. Правда это? Ты не сможешь пойти с нами?
– Нет, брат мой, я пойду. Женщины трусливы. Я на все готов.
В дверях появился огромный Лисица. Все повернулись к нему, с тревогой ждали, что он скажет. Лисица вернулся из Вилкабамбы.
– Выпить есть?
Ему подали стакан, одним глотком Лисица осушил его.
– Ну, как дела в Вилкабамбе?
– Порядок. В Вилкабамбе все спокойно. Разговоры одни, сплетни. Магно Валье и его приятели распустили слух, будто Вилкабамба выступила против нас. Не зря они это сделали.
– А как другие общины?
Глава Янакочи Карвахаль обратился к соседним общинам с просьбой о поддержке. Пришлют ли они подкрепление, если понадобится? Спрячут ли преследуемых, дадут ли кров беглецам? Станут ли кормить жен и детей тех, кто скрылся в недоступных горах?
– Паукар, Чаупимарка и Якан согласны выступить, – сказал Константино Лукас.
– Чакайян и Тапук поддержат нас, – сообщил Максимо Coca.
– Ярусиакан тоже поддержит.
– Санта-Ана-де-Туси и Пальянчакра тоже.
– Тангор не дает ответа.
– Уайласхирка и Миту тоже не отвечают.
– Они предадут нас?
– Предать-то не предадут. Но помогать не станут.
Половина общин не дала ответа. Члены советов двадцати селений знают, что Янакоча решила выступить. Не предадут ли они? Может быть, уже предали? Может, потому Маладино и осмелился оскорблять главу общины? Тяжким гнетом, легли на сердца дурные предчувствия.
– Сколько у нас отставных солдат? – спросил Исаак Карвахаль.
– Семьдесят, – отвечал Федерико Фалькон. Он тоже надел свою старую военную форму.
– Впереди каждого отряда поедет отставной солдат.
– Лучше двое, – сказал Фалькон. – Одного убьют, Другой его заменит.
В двери глядел грязно-серый рассвет.
– Там Маладино стоит, – доложил Максимо Coca.
Бывший член Совета общины стоял у дверей со шляпой в руке, смущенный.
– Пришел просить у вас прощения, сеньор Карвахаль.
– В чем?
– Вчера вечером оскорбил я вас. Ничего не помню, но Магдалено Нейра говорит, что я ругался.
– Я тебе сейчас мозги-то прочищу, негодяй. Ты – кум Монтенегро.
Лицо Маладино вытянулось.
– Откуда ты знаешь?
– Как же мне не знать! Я на крестинах твоего сына был. Маладино пошатнулся.
– Ты знаешь, что завтра мы штурмуем поместье?
– Знаю.
– Пойдешь с нами?
– Если позволишь.
– Но сначала напишешь бумагу, что идешь по своей воле.
– Нет уж, писать ничего не буду.
Послышался щелчок – Сиприано Гуадалупе взвел курок винчестера. Вмиг разлетелись веселые воробьи.
– Ладно, напишу.
Я, Маладино Руэда, – писал бывший член Совета общины, – сим удостоверяю, что по собственной воле решился сопровождать руководителей Янакочи и просил их позволить мне принять участие в занятии земель поместья «Уараутамбо».
– Хватит, – сказал Гуадалупе.
– Нет, – отвечал Маладино, – еще кое-что надо прибавить.
И приписал:
Обязуюсь быть твердым, верным и храбрым, даже если придется мне погибнуть.
И поставил подпись.
Глава тридцатая
О том, как накануне великой битвы за «Уараутамбо» Агапито Роблес приказал, чтобы каждый расплатился со своими долгами
Стал посреди площади Агапито Роблес, крикнул:
– Братья! Как-то раз я спросил у своего отца: «Скажи мне, батюшка, неужто всегда жили господа на нашей земле?» И отец отвечал так: «Сто лет мне, помню я, как господа стали владеть нашей землей. Тебя не было еще на свете; вся земля принадлежала Янакоче. Однажды человек из Уараутамбо построил дом на склоне Эскапаты. Альгвасилы наши стали бранить его: «Кто тебе разрешил строить дом на чужой земле? Ну-ка, пошли в Янакочу, там разберемся». Арестовали его и повели в Янакочу. А он успел крикнуть своим братьям. Те сообщили жителям. Уараутамбо. а жители Уараутамбо послали вестников по вершинам, сговорились и догнали их в Чийяне. Отбили арестованного. Наши вернулись избитые да израненные. Разгневались жители Янакочи. Глава общины приказал ударить в набат. Решили наказать жителей Уараутамбо. Послали в Уараутамбо гонца, чтобы они, дерзкие, готовились на следующий день к бою. На рассвете Янакоча выступила в поход. Двери всех домов Уараутамбо оказались запертыми. «Выходите на бой, трусы!» – кричали жители Янакочи. Гордые, въехали они на площадь. Но не трусы были жители Уараутамбо, а хитрецы. Когда все войско скопилось на площади, в один миг перекрыли они дороги к отступлению. И начали осыпать жителей Янакочи камнями. Одного убили. Жители Янакочи бежали, поджигая по пути вражеские дома. Вот тут-то и подвернулся Хулио Барда. Был он белый, из мелких арендаторов, наша община отдавала ему внаем клочок земли. От этого-то человека и пошли все наши беды. Решил он насолить членам Совета общины, взял да и донес в полицию о том, что случилось. Забрали их всех. Приговорили к семи годам каторги. Перепугались жители Янакочи, а Хулио Барде только того и надо. Захватил наши земли. От Барды и ведут род помещики, что владеют землей Уараутамбо.
Агапито пришпорил Победителя. Конь помчался вокруг площади. Люди стояли неподвижно. Снова вернулся Агапито на середину.
– Только завтра – конец поместью «Уараутамбо»!
Гул пошел по толпе.
– Завтра мы возьмем «Уараутамбо» штурмом. Силой, только силой можно добиться справедливости в нашей стране. В тюрьме Уануко встретился я с учителем Муэласом. Все там стулья плели, а он сидит да книжки читает. Вижу я – человек ученый, вот и спрашиваю как-то раз: «Много вы книжек прочли, учитель можете вы мне сказать, какая книжка больше всех вам запомнилась?». Подумал он и говорит: «Уголовный кодекс, Агапито». – «А почему, сеньор Муэлас?» – «А потому, что очень уж долгие годы тюрьмы там назначены таким мятежникам, как мы с тобой». Запомнил я его слова. А еще запомнил, как однажды член Совета Нинао рассказал нам, что община его собирается подавать в суд, Добиваться возврата своих земель. «Прежде чем в суд подавать, койку себе купи», – учитель Муэлас ему сказал. «Зачем, учитель?» – «Чтоб решения ожидать с удобствами, бестолковый ты человек». – «За что ж вы меня браните, учитель?» – «Ты разве не знаешь, черт тебя побери, в Перу ни один индеец ни разу еще не выиграл судебного дела. И не думай, что я, жалкий бедняк, сам такое сочинил. В книге про это написано, знаменитый адвокат писал, а книга здоровенная, больше твоей деревянной башки. Неужто ты надеешься добиться справедливости у судей, умолить их?» Запомнил я и эти слова. Мы – хозяева, нечего нам их упрашивать, мы должны силой взять обратно то, что нам принадлежит. Слушайте меня, члены общины! Завтра – конец походу, который начали наши прадеды двести пятьдесят семь лет тому назад. Слушайте меня, жители Янакочи! Как пойдет по свету весть, что взято великое поместье «Уараутамбо», наши братья поднимутся и начнут по всему Паско силой забирать обратно свою землю. И разгорится тогда война пожаром по всей провинции. Да будет так! Завтра падет «Уараутамбо»! Кому суждено погибнуть, да погибнет! Готовы ли вы отдать свою жизнь?
Загремела в ответ толпа.
– Многих ожидает смерть. Но мы не заплачем. Пусть завтра погибнут моя жена и мои дети, я не заплачу. Мы знаем, за что идем на смерть. Знаем?
– Знаем!
– Будем плакать?
– Не будем!
Агапито еще раз, теперь медленно, объезжает площадь.
– Если нам суждено умереть, давайте простимся, как братья. В нашей общине есть люди, которые ненавидят друг друга. Пусть помирятся, мы должны умереть с чистой душой.
Агапито остановил коня перед Ильдефонсо.
– Дедикасьон Ильдефонсо, ты в ссоре с Хулианом Минайей.
– Он снял урожай с моей полосы.
– Это моя полоса! Посредник Магно Валье решил, что я прав.
– Ты ему несколько сыров подарил.
– Прости его, Дедикасьон, – вмешался Агапито Роблес.
Ильдефонсо опустил голову, шагнул вперед. Лицо его было серьезно. Он обнял Минайю. Тот припал к его груди, разрыдался.
– Прощаю тебя.
– Гуадалупе враждуют с Романами. Подойдите!
Как-то давно случилась в селении драка. Дело разбиралось в суде, один из членов семьи Роман выступил свидетелем, и кто-то из семьи Гуадалупе попал в тюрьму на девять месяцев. С той поры Гуадалупе и Романы ненавидят друг друга. Потом маленький сын Романа придумал игру – каждый вечер забрасывал он камни на крышу соседского дома. Чуть было ножами не порезались. Выступили вперед Роман и Гуадалупе, оба мрачные.
– Не сержусь я, – пробормотал Иларио Роман.
– Благослови тебя бог, батюшка, – отвечал Гуадалупе.
Агапито Роблес приблизился к Рекисам.
– Никасио Рекис, ты проклинал семью Эррера, желал им болезни и смерти.
– Они обвинили меня в скотокрадстве.
– Не умирать же с ненавистью в душе.
Обнялись Эрреры и Рекисы. Мальпика подошли вдруг к Валье. Покойный Хакобо Мальпика судился с Валье из-за участка Укупайяку. Так и умер, не дождавшись решения суда. Дети его судиться не стали, но зло не забыли. И вот теперь все прошло, смылось навек.
Долго еще мирил врагов Агапито Роблес, Жители Янакочи сами удивились, сколько у них семей враждует между собой. Но никто не упорствовал, один только Эрмитаньо ушел с площади – не захотел мириться с Иполито Комитет назначил командиров. Оба квартала Янакочи выступят в поход.
Отрядом квартала Раби командуют Теодоро Чакон, брат Совы. Блас Валье и Эркулано Криспин; кварталом Тамбо – Эстефания Моралес, Хулио Карвахаль и Дамасо Уаман.
Эстефания Моралес, маленькая, пылкая, шестидесяти лет ей никто бы не дал. Ненавидит Эстефания господ, горячо ненавидит, но совсем по-другому, чем, например, Теодоро Чакон – этот полон горечи, скорби, а Эстефания всегда смеется, издевается над помещиками. Даже полицейские побаиваются острого ее язычка. Эстефания Моралес отдает приказания, весело поругивает своих помощников Хулио Карвахаля и Дамасо Уамана.
– У всех хуторов и кварталов есть командиры, – сказал Сиприано Гуадалупе. – Остается только выбрать командующего пехотой и командующего кавалерией.
– Кто будет командовать кавалерией?
– Лисица! – крикнул Ригоберто Иполито.
– Лисица! Лисица! Лисица!
Все глядели на Примитиво Родригеса по прозвищу Лисица. Не зря прозвали его так. Маленькие глазки, длинный нос, да и повадка вся хитрая, лисья. Выступил вперед Лисица. Синий комбинезон на нем, кожаная истертая, когда-то коричневая куртка.
– Примитиво Родригес, – сказал Агапито Роблес, – ты человек храбрый и опытный. Ты был командиром в армии. В казарме научили тебя военному искусству. Сможешь ты взять «Уараутамбо», не потеряв ни одного человека?
– Нет.
Изумленные, обступили земляки Лисицу.
– Есть люди более подходящие и молодые. Вот Акилес Берроспи, вот Федерико Фалькон – бывшие сержанты. Берроспи всего два года назад вернулся из армии. Я же – двенадцать лет назад. Поискано Чаморро тоже бывший сержант. Он отличный стрелок.
– Ты сильней, здоровее телом, – сказал с достоинством Берроспи. – Соглашайся.
– Не могу.
Двенадцати лет Лисица ушел из дому. В «Сокровищах учения» увидел он фотографии Лимы и словно обезумел, так пленили его площади, улицы, памятники и дома столицы, где мало кто бывал из его земляков. Он решил бежать. Ночью отпер баул, в котором родители хранили письма Сиркунсисьона Рекиса, бывшего жителя Янакочи, уехавшего в Лиму. Прочел на конвертах адрес. Набил сумку жареной кукурузой, положил туда же смену белья, купил билет за десять солей и отправился в Серро-де-Паско, где жила его тетка Дионисия Валье. Увидев мальчика, тетка изумилась.
– Как это ты оказался в городе один-одинешенек?
– Наш конь подрался с кобылой и упал в Чаучак. Папа хотел меня выпороть за это. Я испугался и убежал.
– Что же ты думаешь делать?
– Хочу поискать работу в Лиме. Если вы мне немножко поможете.
– Я могу дать тебе десять солей.
Как раз десять солей стоил билет до Лимы. Наутро мальчик сел в поезд. Какая-то женщина из Хаухи пожалела бесприютного ребенка.
– Ты куда едешь? – спросила она.
– К брату, – снова соврал Примитиво.
В Лиме, на вокзале, он растерялся. Женщина снова подошла к нему:
– Чем бродить без толку по улицам, идем-ка ко мне.
Она устроила Примитиво в дом адвоката в квартале Хесус Мария. Обязанностью его было мыть окна и полы. Выходить на улицу не разрешалось. Через месяц его послали за покупками, и он решил не возвращаться. Он шел по улицам, сам не зная куда, шел и шел. Наконец оказался на Марсовом поле. Он узнал памятник Хорхе Чавеса, который видел в «Сокровищах учения». Подошел к сторожу.
– Будьте добры, скажите, пожалуйста, как найти район Либертад?
Он показал сторожу захваченный из дому конверт с адресом Сиркунсисьона Рекиса.
– Садись в этот автобус. Сойдешь у Каменного моста.
Сторож поглядел на него.
– Деньги-то на билет есть?
– Совсем нету.
Сторож дал ему десять сентаво, посадил в автобус я сказал шоферу:
– Этого мальчишку высади у Каменного моста.
Он пришел к Сиркунсисьону Рекису.
– Ты кто такой?
– Вирхинии Валье сын.
– Моей, крестной?
– Да, дядя.
– Я рад, что ты удрал из дому, человеком, значит, стать хочешь. Только здесь, в Лиме, чтобы жить, надо много работать.
Примитиво начал работать, и кем только он не был – мойщиком посуды, слугой, продавцом мороженого, чистильщиком ботинок, маклером, пастухом в поместье Ньяньи, сторожем на пляже в Агуа-Дульсе и, наконец, солдатом. Он служил в воинских частях, которые пополнялись курсантами Военной школы. Дослужился до сержанта. В течение пятнадцати лет на родине не знали о нем ничего. В 1950 году он заболел воспалением легких. «Сырость опасна для ваших легких. Возвращайтесь-ка домой». – посоветовал ему врач. И Примитиво вернулся в Серро. Завербовался на рудник компании «Серро-де-Паско корпорейшн». Жизнь научила его всяким хитростям. «Вот уж Лисица, настоящая Лисица», – говорили инженеры. Жители Янакочи узнали, что на рудниках Серро-де-Паско работает их земляк, до того ловкий человек, что даже гринго прозвали его Лисицей. «Такой-то нам и нужен», – решил Агапито Роблес.
Константине Лукас отправился в Серро, понес письмо от выборного:
Сеньор Примитиво Родригес! Податель письма расскажет Вам о деле, которое я.подготовляю. Нам известно, что Вы повидали свет и владеете многими как мирными, так и военными профессиями. Вы нужны нам. Вспомните землю, на которой Вы родились.
– Что такое готовится в Янакоче, дон Константино?
– Хотим занять земли поместья «Уараутамбо».
– Это дело не под силу простым смертным, дон Константино.
– «А мы сумеем», – говорит наш выборный Агапито Роблес.
– А я вам зачем?
– Для нашего дела нужны лучшие люди селения, храбрые, опытные. Агапито Роблес надеется, что вы поможете. Вы – человек смелый, вы понесете знамя общины в тот день, когда начнется штурм. Многие хотели бы удостоиться такой честя, но выборный всегда говорит: «Это предоставим Лисице.
– Значит, он уверен, что я вернусь в селение?
– «Если Лисица спросит, уверен ли я, что он вернется в селение, скажи – нет. Но зато уверен, что если уж он вернется то выполнит свой долг до конца».
Лисица дерзко смотрит на членов Комитета.
– Не принимаю командования! Есть в общине более подходящие люди.
– Ты в армии служил.
– Не один я. Не меньше пятидесяти отставных солдат у нас, десять капралов, пять сержантов.
– Ты самый храбрый, – сказал отставной сержант Фалькон. – Соглашайся! Имя того, кто первым войдет в Уараутамбо, навеки останется в памяти людей. Правнуки твоих внуков будут говорить: «Мой предок Лисица первым вступил на возвращенную землю».
Горячо желал Лисица удостоиться такой чести, а все же колебался.
– Ну, согласен ты или нет? – спросил Агапито Роблес.
– Согласен.
В толпе раздались одобрительные возгласы.
– Будешь командовать конницей. Командующим пехотой предлагаю избрать Исаака Карвахаля. Когда-то он проявил слабость, и община заклеймила его, прозвала «желтяком», но он сумел доказать, что мы ошибались. Он честно выполнял все поручения общины. И он тоже – бывший солдат. Пусть поведет наши пешие отряды. Ты согласен?
– Согласен, – отвечал Карвахаль и сглотнул подступивший к горлу комок.
– Если струсишь, правнуки твоих внуков во всю свою жизнь не посмеют поднять головы от стыда.
– Я не струшу.
– Примитиво Родригес, Лисица, назначается командующим конницей. Исаак Карвахаль назначается командующим пехотой. С этой минуты оба они властны в жизни и смерти каждого члена общины. Да будет так!
Выступили вперед – гордый, высокий Родригес и сгорбленный, хмурый Карвахаль. Лисица смотрел все так же вызывающе.
– Жители Янакочи! Вы избрали меня своим вождем. Знайте – со мной шутки плохи. Выступаем в двенадцать часов ночи: Хахайльяс! Делитесь на отряды по тридцать человек в каждом. Я – впереди с двадцатью всадниками. Дальше – Хорхе Ортис еще с двадцатью, за ним – Нисефоро Руэда еще с двадцатью. Держать расстояние в пятьдесят метров. Остальные – за нами. Я – впереди. – Лисица захохотал. – В случае опасности даю сигнал фонарем. Три вспышки подряд – опасность. Все врассыпную, ложись. В случае перестрелки отставные солдаты – бегом на свет фонаря. Ну, их-то учить нечего. – Он снова засмеялся. – Фонарь будет показывать также, когда остановиться, когда снова трогаться в путь. Один длинный сигнал и два коротких – в путь, два длинных – привал. К рассвету будем на месте.
– Правильно, – сказал Агапито Роблес. – Община двинется по трем дорогам: через Качапунко, через Пунуайпунту и через Чагамачай. Впереди пойдет сам святой Иоанн, покровитель Янакочи. Шесть мантий у нашего святого. Пусть наденет все шесть.
– Будет выполнено, – отвечал Лисица. И в третий раз послышался его хохот. – Эй, вы, разбойники, бандиты, ко мне!
Из-под навеса вышли Рябой – человек с изуродованным оспой лицом; хромой, слабый, но быстрый и ловкий Сехисмундо Эренья и Хулка, прозванный Святошей за то, что вечно молился, притворялся очень уж набожным.
Лисица снова захохотал.
– Это я позвал их. Год тому назад выгнали их из общины за всякие безобразия. Запретили жить на территории общины. А я их позвал.
– Здесь я, – сказал Рябой с достоинством.
– Нам не до шуток. Завтра мы все, быть может, умрем. Общине нужны сейчас все ее сыновья, даже и. те, что пошли по дурной дорожке. Вы – люди ловкие. Оружие у вас есть?
– Есть, – отвечал Рябой.
– Сколько?
– Дюжина.
– Согласны идти с нами?
– Согласны.
И снова загремел хохот Лисицы. Казалось, издевался Лисица и над скотокрадами, и над тревогой, владевшей всеми сердцами, и над чернотой ночи.
– Нам не до шуток! Дозорное охранение поручается отставному сержанту Федерико Фалькону. В случае опасности он нас предупредит. Отправляйтесь спокойно в путь. Фалькон расставит дозорных на вершинах и в пещерах. Поставь также часовых в пещере Янаруми. В случае чего они разожгут костер. Огонь будет виден из пещеры Вискамачай, а костер пещеры Вискамачай виден из пещеры Юрахирка, а огонь в Юрахирке виден из Крусхирки. Даже если дождь пойдет, можно будет разглядеть. А теперь – по домам, готовьте еду в поход. В двенадцать колокол призовет вас. Кто опоздает – заплатит штраф.
Люди начали расходиться. В эту минуту появился со стороны Сан-Педро всадник. Вежливо поздоровался, соскочил с лошади, юный, безбородый, крикнул:
– Мир храбрым крестьянам общины Янакоча!
И тут все узнали Симеона Барду, сына Себастьяна Барды, брата Пепиты Барда де Монтенегро.
– Дороги перекрыты. Как ты проехал? – спросил Лисица.
– Поднялся на Рунтупуйо.
– Разве дорога на Рунтупуйо свободна?
– Свободна, сеньор.
– Что тебе надо, чертов сын? – яростно крикнула Эстефания Моралес.
– Приветствую непобедимую общину Янакочи.
Юноша поклонился. Эстефания Моралес растерялась. Она не ожидала такой любезности.
– Мой отец, Себастьян Барда, приказал кланяться общине Янакочи. Он знает, что на рассвете вы возьмете «Уараутамбо». Никому не остановить могущественную общину. Отец просит, чтобы не трогали его овец. Он тоже бедный. Досталось ему от сестры. Вы сами знаете. Судья Монтенегро вконец его разорил. А ведь настоящий хозяин-то – мой отец. Даже воду брать из реки Уараутамбо, когда она текла, и то ему не давали. От имени отца моего Себастьяна Барды прошу: пощадите наших овец.
– Откуда твой отец знает, что завтра мы идем отвоевывать свою землю?
– Да уж знает.
– Он может предать нас.
– Мы – не предатели. Я пришел к вам с просьбой. Мой отец никогда никого не притеснял. Оставьте ему немного земли и овец.
– Это правда, – подтвердил Фелисио де ла Вега, – его отец никого не обижает.
– Не может, вот и не обижает! – крикнула Эстефания Моралес. – Белые – они добрые, когда силы нет злыми быть.
– Пусть выборный решает, Эстефания. Что скажешь, Агапито?
– Правда, его отец никого не трогает. Оставим ему овец, он заслужил, – решил Агапито.
– Благодарю щедрую общину Янакочи.
Молодой Барда опять поклонился, махнул рукой и исчез.
– Откуда Себастьян Барда знает, что мы идем завтра на «Уараутамбо»? Кто-нибудь проболтался?
– Если кто-то предал, в поместье нас ожидает полиция, – сказал Лисица.
– Предали, конечно. Субпрефект Валерио знает, что мы собираемся завтра штурмовать «Уараутамбо», и другие тоже, Притаились – хотят захватить нас в поместье и перестрелять всех, – сказал Исаак Карвахаль.
– Вот почему Магно Валье так обнаглел.
Вспомнили они, как ухмылялся кум судьи Магно Валье, когда услышал, что по распоряжению Совета общины ему запрещено выходить из дому.
– Будь что будет, отступать уже поздно, – сказал Агапито Роблес. – Приготовить знамена!
Глава тридцать первая,
в которой рассказывается, как Янакоча сокрушила владычество злодеев
Стали готовить знамена. Дети мешали, шумели. Но Агапито был непреклонен: «Я хочу, чтобы все дети, все до одного видели падение Уараутамбо. Они будут рассказывать своим внукам, как мы избавились от помещиков. Они скажут: «Я видел конец великого поместья «Уараутамбо». В Совет общины явились посланные от стариков. Они просили, чтобы и их тоже взяли с собой. «Нам немного осталось жить, мы хотим видеть, как придет конец страданиям народа». Спросили у Агапито, выборный разрешил. Стали готовить носилки для тех, кто не сможет идти сам.
Явились делегаты от хуторов – «все, как договорились».
– Идемте в школу, – приказал Агапито.
Двадцать четыре делегата расселись в классе. Агапито поместился за столом сеньора Венто.
– Спросим коку, победит ли Янакоча, – сказал он.
Долго жевали они листья коки. Молчали. В одиннадцать часов Агапито сказал:
– Говорите, не бойтесь. Что сказала вам кока? Победим мы или погибнем? Выступать нам или нет?
– Сладкая у меня кока. Мы победим, – сказал глава общины Исаак Карвахаль.
– И у меня тоже сладкая, – сказал Элисео Карвахаль.
– Мне кока предсказывает победу, – сверкая глазами, заявил Лисица.
– Мне кока предвещает опасность, – сказал Сиприано Гуадалупе.
– Много убитых будет, – сказал Николас Сото.
Девятнадцать человек сказали: «Кока одобряет наш поход», пятеро заявили, что кока предвещает несчастье.
– Дон Раймундо! – вскричал Агапито Роблес.
В дверях, согнувшись, Весь в пыли, стоял дон Раймундо Эррера. Он улыбался. В руках он держал обрывок веревки. Такой веревкой связали в тюрьме Уануко мозолистые руки Муэласа в тот день, когда его хоронили. Такой уж порядок в тюрьме Уануко – перед тем, как похоронить, связывают покойнику руки, боятся, как бы не притворился кто мертвым, да не сбежал. «Не хочу я, чтобы руки мне связывали, Агапито, – рыдал умирающий Муэлас. – Попроси их, пожалуйста, попроси, чтоб не связывали мне руки. Как я без рук соберу свои кости в день Страшного суда?» Пот градом лил по его искаженному ужасом лицу. Да и сам Агапито, хоть и не рассказывал никому о своем страхе, больше всего боялся умереть в тюрьме – не дай бог, похоронят со связанными руками. И вот стоит в дверях дон Раймундо, размахивает обрывком веревки. Видно, на том свете не признают никаких уз. Серьезное лицо у старого Эрреры, бормочет он что-то, словно предупредить хочет, а что бормочет – не поймешь никак. И вдруг исчез старью Эррера, растаял.
– Ты в порядке, Агапито? – спросил Исаак Карвахаль.
– Я в порядке. – Агапито очнулся весь в поту.
– Двенадцать часов, – сказал Исаак.
– Бейте в колокол, – приказал выборный.
Зазвенел колокол. Посыпались из домов люди. Каждый – мужчины, женщины, дети – знал свое место. Площадь была полна. Выли собаки. Плакал ребенок.
– Отправить вперед дозорных, – приказал Исаак Карвахаль.
Начали появляться отряды из хуторов, сначала из ближних, лотом из дальних. В мертвой тишине въезжали они на площадь под своими знаменами, делегаты – впереди. Почуяв чужих собак, залаяли тревожно псы Янакочи. Сто человек явились из хутора Вирхен-де-Фатима, триста человек из Ракре, двести из Тамбочаки, триста из Кольяса, пятьсот из ' Сан-Хуан-де-Тинго, триста из Сан-Хуан-де-Б аньос-де-Раби, четыреста из Сан-Хуан-де-Уачос, пятьсот из Сантьяго Пампы, пятьсот из Помайяроса; несколько пастухов – из Янарамоны и Хупайкочи – малолюдно в этих местах» зиму и лето идет там снег. Люди въезжали на площадь, слезали с коней и становились на колени перед святым Иоанном, покровителем Янакочи; Члены Совета общины Янакочи понесут его впереди.
– Все отряды готовы в поход? – спросил Агапито Роблес.
– Все отряды готовы в поход, – отвечал Исаак Карвахаль.
– Вперед! – крикнул Лисица. И засвистел в свисток.
Двинулись тремя колоннами. Пешие шли через Парнамачай. Овец погнали через Уахоруюк. Вооруженные всадники направились к Айоуилке. Хутора присоединились к разным отрядам. Хутор Шингуай пошел за старым Иларио Романом. Хутор Пумакуло – за Хулио Карвахалем. Ракре и хутор Вирхен-де-Фатима – на мост, за отрядом невозмутимо спокойного отставного сержанта Федерико Фалькона. Хутор Кольяс двинулся к вершине Альтомачай, следом за рассудительным отставным капралом Сиркунсисьоном Роблесом. Отставной сержант Мигель Валье, заместитель Лисицы, повел своих людей к Мачайкуэве. Двигались по скользкой, покрытой конским навозом дороге. Каждые полчаса вспыхивал фонарь Лисицы, долгий сигнал – отдых на пятнадцать минут. Командиры пересчитывали своих людей. Вдруг фонарь вспыхнул и тотчас погас – еще раз, два, три… Около пяти часов показалась крыша господского дома в Уараутамбо. Вот откуда все муки индейцев, бессонные ночи, отчаяние… Здесь, за этими стенами, в глубине коридоров, в комнатах, увешанных коврами, уставленных цветами, живет человек, который остановил время. Из этого дома был отдан приказ изменить календарь. С этих высоких башен прозвучал дерзкий голос того, кто покорил святых. В этих салонах поколение за поколением кружились в вальсе господа, а вот здесь, в этом дворе, Эктор Сова напрасно пускал пулю за пулей в неуязвимую каменную грудь судьи Монтенегро. Они увидели поле Майопампа, на котором Хуан Глухарь строил свою бесконечную стену, увидели двор, где Пепита Монтенегро, изнемогая от скуки, разматывала бесконечную нить праздничных пиров. Вот показалась вдали бессильная река Уараутамбо, повисли над скалами семь бесшумных, недвижных водопадов. Святой Иоанн, покровитель Янакочи, окруженный членами Совета общины, плыл по тропе Чаучак.
– Исаак, – сказал Агапито Роблес. – Если меня убьют, командовать будешь ты.
– А если меня убьют?
– Лисица.
– А убьют Лисицу?
– Сиприано Гуадалупе.
Лисица презирал всякие предчувствия. Он смеялся.
– Приглашаю всех на ужин. Зажарим барашка, молоденького, нежного! Эй, Молчун! – крикнул он.
Молчуном звали Максимо Роблеса. Редко слышался голос Максимо Роблеса на собраниях общины, зато всегда брался он за самые трудные дела. Он и Константино Лукас были вестниками общины. Всю жизнь шагали они по горным тропам, пряча под пончо письма и обращения Совета общины. Опасное это дело.
– Я здесь.
– Бей в колокол.
Так было условлено – колокольный звон предупредит пеонов Уараутамбо. Бернардо Чакон и Себастьян Альбино сумели все же уговорить человек двенадцать, однако большинство – и среди них те, кто совсем недавно сидел в колодках, – отказалось участвовать в восстании. Низкорослый Молчун скрылся среди скал – незамеченным проберется он в долину.
На другом склоне виднелись знамена Кольяса, Чаркиканчи и Тамбочаки. Они тоже ждали сигнала. Молчун обогнул озеро, пересек долину, прижимаясь к стенам домов, добрался до площади. Поднялся на колокольню. Ледяной ветер пробирал до костей, внизу расстилалась недвижная река, поднимался туман, и, едва видная в тумане, чернела толпа – люди ждут, жадно ждут, когда зазвенит, наконец, колокол, И тут… бешено заколотилось сердце Молчуна. Колокол был без языка! Какой-то предатель разнюхал, видно, что колокольный звон будет сигналом к штурму, и вырвал у колокола язык. Светало. В загонах, под мастиковыми деревьями, виднелись вооруженные люди. Дот выступил на лбу у Молчуна. Он проклинал Лисицу: придумал же сигнал к выступлению – колокольный звон, а языка-то вот и нету! Вооруженные люди шли от поместья к площади. Задыхаясь, скользя на птичьем помете, Молчун сбежал вниз, распахнул дверь, выскочил на улицу. Схватил камень, снова взбежал наверх и изо всех сил ударил канем по колоколу. Молчун бил и бил камнем, и колокол пел, пел радостно, тревожно, сзывал на битву. С колокольни было видно, как выбегали из домов пеоны, как двинулись вниз индейские отряды, как разворачивалось войско поместья. Ильдефонсо Куцый смотрел, как, громко крича, с развевающимися знаменами валили со склонов отряды общины. Первый надсмотрщик уселся покрепче в украшенном серебром седле, пустил своего коня рысью. Тридцать всадников галопом помчались за ним. Они ворвались в стадо овец и, разделив его, вылетели в поле. Остановились. С другой стороны подступал Пачо Ильдефонсо и с ним еще тридцать всадников. Куцый крикнул:
– Стойте, разбойники! Агапито Роблес, не прячься.
Куцый, Пачо и все их люди целились прямо в яркое пончо выборного.
– Много раз слышали мы, будто умер ты, окаянный Агапито Роблес, – крикнул Куцый. – Вранье, хитришь все! Многих ты обманул, а на этот раз не на такого напал. Я Ильдефонсо Куцый.
– Я здесь, – сказал Агапито.
Куцый выехал вперед. Солнце освещало его, гордого, сильного.
– Агапито Роблес, ты не таков, как эти несчастные, что идут за тобою. Ты много повидал на своем веку. Они-то думают только, как бы пожрать. Видишь, как глядят на овец! Ты главарь. Подумай, что делаешь. Ты хочешь взять землю силой, мир хочешь перевернуть. Ведь мир на том и стоит – кому положено, те наверху, а кому положено, те внизу. Те, что наверху, заботятся о тех, что внизу. Что ж ты хочешь все переиначить? Если ты захватишь землю силой, мир перевернется.
– Зря говоришь. Уходи, раб!
– Так просто вы в поместье не войдете. Готовь пулемет, Пачо! Слушай, Агапито Роблес, пока я не отправил тебя к праотцам, подумай. Как падшей деве не вернуть свою чистоту, так и нарушенный порядок на земле не восстановить никогда. Ты хочешь нарушить порядок. А знаешь, куда ведет эта дорожка? Будешь ты в старости горько оплакивать свой грех, вспомнишь этот час, станешь рыдать, биться о стену седой своей головой. «Куцый был прав», – скажешь ты.
В ответ послышался хохот Лисицы.
– Эй, Куцый, лизоблюд! Разрешаю тебе вернуться в общину. Брось оружие, становись на колени, проси прощения у благородной общины Янакочи. Оставим тебе твою землю и овец. Так и быть, простим тебя, подлая твоя душа!
Куцый задохнулся от ярости. Дым повалил у него из ноздрей.
– Лисица хитрая, родных обманул, слезай с коня, будем драться.
– Ладно. Хахайльяс!
– Если ты мужчина, давай биться плетьми! – взревел Куцый.
– Ладно! Я с тебя шкуру спущу, раб! Хахайльяс! Тут тебе не дорога – привык грабить несчастных путников! Грязная душонка! Седые матери, одинокие вдовы плачут о тех, кто на беду свою встретился с тобой на дороге! Хахайльяс!
Куцый стал огромным. Он ударил плетью по камню. Осколки осыпали толпу. Лисица смеялся, но лицо его вытянулось.
– Только и умеешь с бабами возиться да по кухням еду Таскать, Лисица хитрая!
Ильдефонсо Куцый снова ударил плетью по камню. Взлетели испуганные сичас.
Дым все валил из ноздрей Куцего, едва виднелись в дыму крепкое его тело, презрительный взгляд да насмешливо улыбавшиеся всадники его отряда. «Хахайльяс!» – воскликнул Лисица, но в голосе его послышался жителям Янакочи страх. Куцый совсем исчез в клубах дыма. Ночь пала на землю. Во тьме раздавались крики, потом – вопль Лисицы. Куцый ударил его плетью. Исполненные ужаса, слушали жители Янакочи, как свистят в темноте плети. Вот взревел от боли Куцый. Противники прыгали, приседали, уклоняясь от ударов. «Хахайльяс!» – восклицал Лисица. Куцый только фыркал.
Прошел час. Голос Лисицы становился все слабее. Куцый хохотал, свистела плеть. Вот вскрикнул Куцый, замолк, потом вскрикнул Лисица… Еще час прошел. Вдруг загремело победное «Хахайльяс», послышались удары… Дым рассеялся. Куцый лежал на земле. Но он поднялся.
– Ну-ка! – крикнул Лисица.
Он подпрыгнул, взлетел, повернул в воздухе и опустился на скалу. Солнце светило ему в спину. Он снова бросился на Куцего, Под градом ударов Куцый снова скрылся в облаке дыма. Но Лисица продолжал наступать. Оба обливались кровью. Бой продолжался. Куцый снова упал. Поднялся с трудом. Он шатался. Толпа завыла. Глянул Куцый в глаза Лисице, и страх отразился на распухшем его лице. Лисица наступал. Куцый опустился на колени, закрыл лицо окровавленными руками.
– Не убивай! У меня тоже дети! – взмолился он.
– Прикончи его! – крикнула Эстефания Моралес.
Женщины похватали камни, окружили Куцего.
– Нет! – крикнул Лисица.
– Кому он нужен? Пусть подыхает!
– Не смейте его убивать! Слышишь, Эстефания Моралес? Куцый бился, как настоящий мужчина.
– А издохнет, как собака! – воскликнула старуха.
– Не трогайте его, – сказал Агапито Роблес.
Агапито подошел к лежавшему на земле Куцему. Пачо и всадники умчались, спрятались в господском доме. Кровь засыхала на лице Куцего, и потом снова лилась. Но он смеялся.
– Пачо готовит пулемет. Наступайте, если можете!
Агапито, Лисица и Сиприано Гуадалупе двинулись к площади. Остальные – с песнями – за ними. Пачо и его люди, подкрепившись водкой, явились опять, заняли улицы, ведущие к площади. Люди шли и пели. Росла, крепла победная гневная песнь, и у стрелков Пачо дрожали руки. Чуял Пачо – близка гибель, побьют его камнями.
– Я не виноват! Меня заставили! – закричал он и упал на колени. – Простите меня!
Стрелки побросали оружие и тоже встали на колени. Агапито Роблес прошел мимо, и песня прокатилась следом за ним. Много сменилось поколений, и никогда еще никто не входил в поместье «Уараутамбо» без разрешения господ. Песня лилась. Мимо школы, мимо церкви, мимо амбаров, лавок. Солнце играло на огромных замках, висевших на дверях школы и церкви. Агапито Роблес нагнулся, захватил горсть земли, стал тереть лицо. Вдруг он упал не землю, принялся кататься, закричал:
– Наша земля! Наша! Наша!
Песня ширилась, захватывала все вокруг: синее небо, далекие снежные вершины, равнодушное озеро, испуганные стада овец.
Агапито поднялся, крикнул:
– Община Янакочи по воле всего народа, во имя бога и справедливости объявляет Уараутамбо свободным и независимым.
Теми же словами Освободитель Сан-Мартин провозгласил в 1821 году свободу Перу. Через 142 года снова прозвучали эти слова в Уараутамбо.
Песня гремела, и каменные стены господского дома дрожали.
– Победа, победа!
– Конец «Уараутамбо»!
– Смерть судье!
– Победа, победа, победа!
Бернардо Чакон и другие арендаторы стояли в стороне, не решались приблизиться. Выборный подошел к ним. С колокольни несся звон – колокол починили. Федерико Фалькон поджег ракеты, длинной вереницей прочертили они небо.
– Сбить замки! – приказал выборный Роблес.
Лисица приблизился к дверям тюрьмы. Из поколения в поколение наполняли страхом сердца рассказы об этой легендарной тюрьме.
Лисица продел в петлю железный прут, замок отскочил.
– Победа, победа, победа!
Глава тридцать вторая
О том, как был положен конец разговорам, будто судья Монтенегро не может уме…
По тропе, вьющейся между развалин, заросших колючим кустарником, спускались на великолепных конях судья Монтенегро и донья Пепита. За ними – на лошадях похуже – субпрефект Валерио, Арутинго, Чакон, Атала, капитан Реатеги, сержант Астокури и двадцать полицейских. Они обогнули озеро, потом двинулись по полю, миновали ивы и через мост въехали на площадь Уараутамбо.
– Где они? – спросил сержант Астокури.
– В долине, – отвечал какой-то мальчик. Мальчик был в одних трусиках, весь мокрый, в тонкой руке держал он форель.
Когда-то долина шла до самых отрогов гор, теперь же озеро Уараутамбо поглотило долину.
Неподвижно застыли индейские отряды. Не колышутся знамена общин. Никто не шелохнется. Полицейские подъехали ближе. Капитан Реатеги трижды просвистел в свой свисток. Стал развертываться полицейский отряд. И тогда выступил вперед выборный Агапито Роблес.
– Ты кто такой? – спросил субпрефект Валерио.
Многим задавал субпрефект Валерио этот вопрос и привык – всякий раз люди пугались. Но не испугался Агапито Роблес, сказал просто:
– Ты хорошо меня знаешь, сеньор Валерио.
Субпрефект пришел в ярость – какой-то индеец смеет говорить ему «ты»! «Давно пора покончить с этим негодяем», – подумал он. Но взглянул на черную от сомбреро равнину и подавил свой гнев.
– Выделите десять человек вести переговоры.
– Не надо. Можешь говорить со мной.
Субпрефект снова затрясся от злобы.
– Роблес, ты меня знаешь. Тебе лучше других известно – я человек покладистый. Верно?
Никто не ответил.
– Я говорю сейчас с вами не как глава провинции, а как ваш друг. Послушайтесь-ка моего совета – уходите подобру-поздорову, Поместье есть частная: собственность, а захват чужих земель – преступление, за которое положено пять лет тюрьмы. Я-то понимаю, нищета толкает вас на такой поступок. Даю тебе честное слово – я все забуду. Ты, Агапито, из тюрьмы бежал, но и ты останешься на свободе, если только вы уйдете отсюда. Не рискуй, Агапито. Не бери на себя вину за кровь и смерть.
– Я здесь не главный, господин субпрефект.
– Кто же главный?
– У нас главного нет. Мы, члены Совета, поступаем так, как велит община. Янакоча решила отобрать землю. Я выполняю ее решение. Мы не чужую землю берем, мы свою возвращаем. Эта земля – наша с тысяча семьсот пятого года. Скажу я своим – уходите, и больше я не выборный.
– Я дело говорю, Роблес. Двадцать лет я служу. Не рискуйте. Начнут стрелять – поздно будет. Чего добились жители Чинче своим упрямством? Тоже так, не хотели слушать, когда их предупреждали. Штурмовой отряд стер селение с лица земли, камня на камне не осталось. Даю вам возможность уладить все Мирно. С полицейскими разговор будет другой. Ну, что скажешь?
– Спроси народ, сеньор.
Субпрефект Валерио крикнул:
– Уходите! Иначе члены Совета вашей общины ответят за все. За каждый день, что останетесь вы здесь, на захваченной земле, прибавится им по году тюрьмы. Подумайте!
– Если члены Совета столкуются с вами, мы их перевешаем всех! – крикнул Лисица.
– Тебя как зовут? – спросил субпрефект.
– Это Примитиво Родригес, – сказал Ильдефонсо Куцый.
Агапито вскочил.на лошадь, встал ногами на седло, крикнул:
– Остаемся или уходим?
– Остаемся! – взревела толпа.
– Пусть они уходят!
– Долой «Уараутамбо»!
– Смерть Монтенегро!
– Захватчики! Кровопийцы!
– Лучше умереть, чем отдать землю!
И тут Агапито Роблес словно обезумел. Соскочил с лошади, достал разноцветный платок и пустился в пляс. Щелкали маузеры, а Агапито подпрыгивал в бурном уайно. И тогда хрипло вскрикнул Сиприано Гуадалупе и тоже пошел плясать, за ним – Эстефания Моралес. Через несколько секунд танцевали все. Кричал субпрефект, ругались, грозились полицейские – все напрасно! Община плясала уайно.
– Хватит, не то открою огонь! – крикнул капитан Реатеги.
Пляска разгоралась. Танцоры делились на пары, меняли ритм, снова сходились. Густым облаком поднялась пыль из-под ног, заволокла все вокруг, не стало видно ни овец, ни далеких снежных вершил.
И тут странное случилось дело, никто бы такого не подумал: громко вдруг зарыдала донья Пепита Монтенегро. Сперва она словно бы смеялась тихонько, потом стала всхлипывать, громче, громче, и, наконец, все увидели – плачет донья Пепита, высоко поднимается ее грудь, катятся по постаревшему лицу слезы. Часа еще не прошло, как въезжала она на мост, такая надменная, гордая, а теперь льются по ее лицу слезы, задыхается от рыданий донья Пепита, бормочет что-то, слова непонятные, может быть, на другом языке, на языке господ, хриплом и колючем. Долго рыдала донья Пепита, а потом закричала странным каким-то голосом:
– Нехорошие вы, жители Янакочи. Пришли сюда, хотите отнять у меня землю. А я родилась здесь и умереть здесь хочу. Я возделывала эту землю, я любила ее. – Донья Пепита повернулась к пеонам. – А вы, неблагодарные! Как мать, я об вас пеклась.
Кое-кто из стариков начал всхлипывать. Полидоро Леандро снял шляпу. Бернардо Чакон и Себастьян Альбино – тоже.
– Если я что не так сделала, простите. Никогда больше не обижу вас. Ни одной жалобы не услышите вы на владелицу «Уараутамбо». Оставьте мне мою землю. Простите меня. Обливается кровью мое сердце. Не хочу уезжать отсюда. Куда я денусь? Есть на свете теплые страны, прекрасные, где расцветают цветы и плоды наливаются соком. Только не могу я жить без снега, без ветра. Неужто проснусь я утром и не услышу песенки сичи? Буду пить чужую воду и есть чужой картофель? Горькими покажутся они мне! Не гоните меня. Все теперь по-другому пойдет. Клянусь святым Иоанном, покровителем Янакочи!
Донья Пепита приложила к губам обшитый серебром. край красной мантии святого Иоанна.
Капитан Реатеги, сержант Астокури, полицейские отводили глаза. Субпрефект Валерио прижал руки к груди, словно изнемогал от боли. Чакон, Арутинго, Атала стояли бледные, опустив головы.
– Сеньор Роблес, – пробормотал судья Монтенегро. Но поглядел в глаза Агапито и отвернулся. – Нет у меня детей, – обратился судья к своим арендаторам. – Не захотел господь. Наследников нету. Никогда не принадлежала эта земля Янакоче. Она – моя. Но я завещаю ее вам. Назначаю вас своими наследниками. Завтра же составлю завещание. Сегодня, если хотите… – Судья стоял перед ними старый, усталый. Куда девалась вся его важность? – Мы ссорились с вами, что ж тут особенного? Бывает, что соседи ссорятся. – Он прижал руку к груди. – Всем сердцем люблю я вас. Члены Совета Янакочи вас обманули. Не верьте им.
'Рыдания доньи Пепиты прервали его речь:
– Не гоните Меня! Дайте мне умереть здесь! Я буду жить тут как гостья, как служанка, если хотите, только не выгоняйте! Здесь – моя родина. Растут же на этой земле колючки, кактусы не трогаете вы их. Вот й меня не трогайте!
– Это верно, – пробормотал Иларио Роман. – Колючка, она тоже жить хочет.
– Я пристроюсь где-нибудь в уголке, буду ночевать на кухне. Позвольте мне кончить свои дни в Уараутамбо!
– Хозяюшка!
Прослезились крестьяне Уараутамбо, А судья Монтенегро продолжал:
– Агапито Роблес гонит меня отсюда, он выгонит и вас тоже. Агапито станет хозяином поместья. Но будет ли он так заботиться о вас» как заботился я? Что таит он в хитрой своей душе? Как поступит, когда сделается помещиком? – Судья вскинул голову. – Освобождаю всех!
– Доктор, – воскликнул в слезах Леандро, – родной вы наш!
– Этот человек лжет! – крикнул выборный Роблес.
– Я не лгу! Я сию минуту назначу вас наследниками. Сейчас же напишу завещание.
Крестьяне колебались.
– Мне немного осталось жить. Я Завещаю вам свою землю, дома, стада. Недолго останемся мы в поместье, недолго еще протянем.
– Нет! – закричал Агапито. – Мы не согласны. Зачем получать землю в подарок? Она – наша, мы берем ее обратно. Не верьте этому человеку, беспамятные люди! Он притворяется! Как только вы его простите, он вернется сюда с карателями. Решайте же! Остаемся или уходим?
– Не уйдем никогда!
– Земля или смерть!
– А если я прикажу вам уйти?
– Повесим тебя!
– Уйдете вы отсюда?
– Никогда не уйдем!
– Кто владелец «Уараутамбо»?
– Янакоча!
– Члены общины… – начал было судья Монтенегро. Смех Лисицы прервал его. Так громко захохотал он, что лошади шарахнулись. Судья побледнел. Дрогнула его душа, и заблестела, повисла на реснице слеза. Покатилась слеза по щеке, и резкий порыв ветра сорвал ее, понес к озеру. Первая за всю жизнь судьи Монтенегро слеза упала в озеро, и вздыбились волны.
– Смотрите! – крикнул Исаак Карвахаль.
Сонные воды озера Уараутамбо извивались, ходили ходуном, корчились, словно от боли. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее поднималась стоячая, неподвижная вода, бурлила в поисках прежнего русла. Будто слепой, внезапно обретший зрение, потопталась немного на месте река Уараутамбо, отступила и вдруг ринулась по старому своему руслу вниз к ущелью, по которому поднимался в это время конный эскадрон 21-го военного округа. Взбесившиеся волны смывали все на своем пути. Появились на горизонте три катера с карательными войсками – «Тапукский смельчак», «Пепита» и «Уаскар». Воды рвались из озера вниз, уже обнажилось местами дно, яростно обрушились волны на катера, закружили, подняли, опустили, опрокинули. «Пените» удалось кое-как добраться до берега возле горы Пукакака. Но никто не успел выскочить на берег. Семь застывших водопадов, что повисли, мертвые, над скалами, взревели, раскололись брызгами, ринулись с высоты на громадные камни, и в клочьях пены исчезли перепуганные солдаты. С каждой секундой река Уараутамбо разливалась все шире. Обезумевшие воды влекли деревья, обломки лодок, животных, трупы солдат. Через несколько дней по реке поплыли тела давным-давно утонувших в озере людей.
Ветер сорвал шляпу с судьи Монтенегро. Никто никогда не видел его без шляпы. Ошеломленные, глядели люди на судью. Он был сед. Значит, время все-таки идет, время не остановилось! Реки текут, и судья Монтенегро стареет.
– Радость! Радость! – вскричал Агапито Роблес.
И снова пустился в пляс.
– Стой! Стрелять буду! – крикнул капитан Реатеги.
– Радость, радость! – взревел Молчун и затопотал изо всех сил, выделывая уайно, а за ним сотни, тысячи людей закружились, будто громадный разноцветный волчок. Они плясали, ибо сумели победить свой страх. Никому больше не Запугать их и не обмануть!
– Спятили они, что ли, – воскликнул капитан Реатеги, изменившись в лице.
Толпа с пляской двинулась туда, на земли, что недавно еще скрыты были водами озера. Судья Монтенегро поглядел ей вслед и съежился в своем седле. Дернул поводья, галопом помчался прочь. За ним Чакон, Арутинго и Анхель Монтенегро.
– Жители Янакочи! – крикнул капитан Реатеги. – Если не уйдете из поместья, прикажу открыть огонь!
Эстефания Моралес нагнулась и подняла камень.
– Умрем, а не стронемся с места! – отвечала она.
Глава тридцать третья
О том, где и когда хотели вероломно убить Агапито Роблеса
Сиприано Сото поглаживал лиловую шишку за ухом. Он был высок, робок, заикался.
– Пойду, что ли?
– Дай тебе бог прийти раньше, чем каратели.
Сиприано Сото оживился.
– А куда мне идти-то?
– Ступай прямо в спальню сеньоры.
Мир перевернулся! И во сне не снилось Сиприано Сото такое: община захватила «Уараутамбо». Стоят по берегу реки домики, выстроенные общиной, – целая деревня. Мало того: община строит здесь по обету святому Иоанну, покровителю Янакочи, часовню. Поднимается часовенка всего лишь в пятистах метрах от господского дома, скрипят в бессильной злобе зубами судья и донья Пепита. Уже крышу начали крыть. Одно плохо: каждый день пируют победители, пляшут, едят жареную баранину, а откуда она берется – никто и не спрашивает. Лисица первый завел такую моду – отнимает у желтяков да у трусов овец и режет. Да вдобавок еще штраф наложил на тех, кто в день возврата земли не явился на зов общины. Всякий, кто оказался в тот день нерешительным, слабым или недоверчивым, плати штраф. А старый Магно Валье, кум судьи Монтенегро, и вовсе в горы удрал. «Я, – говорит, – не за этих и не за тех». Наказали его плетьми на площади Янакочи. И еще десятерых в Уараутамбо наказали. И у каждого приказал Лисица отобрать по овце. Зарезали овец и начали пировать. Если кто в карауле задремал – тоже давай овцу. Так и пируют день за днем.
– В спальню? – спросил изумленный Сото. За сорок лет жизни не слыхал он еще, чтобы пеон вошел в господские комнаты.
– У тебя что, шишки вместо ушей-то, не слышишь? – Засмеялся Куцый.
Сиприано Сото пересек двор, вошел в господский дом. Пачо Ильдефонсо повел его по длинному коридору. Донья Пепита сидела в кресле, величественная, вся в черном, в горячем, яростном свете солнца сверкали золотые и серебряные кольца на жирных ее пальцах.
– Входи, Сиприано. Садись.
– Я тут постою, сеньора.
– Садись, я тебе говорю.
Она не плакала больше, не умоляла. Стало снова надменным смуглое ее лицо. Поглядела донья Пепита в глаза Сиприано Сото.
– Ты родился в Уараутамбо, Сиприано. Отцы и деды твои верно служили нам. Ни в чем не могу упрекнуть я семью Сото.
– Спасибо, сеньора.
Донья Пепита засмеялась.
– Сукин сын этот Роблес, затеял заваруху, думает, получится у него. Ладно, пускай потешится, недолго осталось. Карательный: отряд уже близко, не беспокойся. Скоро плясать буду в лужах его крови, кишки топтать. Псы неблагодарные! Руку кусают, которая кормит их!
Сиприано Сото зажмурился – сверкали кольца, слепили глаза.
– У доктора Монтенегро есть недостаток – слишком уж он добрый. Я не такая, нет. Лопнуло мое терпение. Эти негодяи из Янакочи вывели меня из себя. Карательный отряд уничтожит всех, всех до последнего, даже на племя ни одного не оставим. Но я не хочу губить верных своих слуг. Ты всегда был предан нам, Сиприано. Может, не хватает тебе чего?
– Я всем доволен, сеньора.
– Может, мало ценили тебя?
– Я ни на что не жалуюсь, сеньора.
– За кого же ты – за общину или за меня?
– Не вмешиваюсь я, сеньора.
– Сколько у тебя детей?
– Восемь человек, сеньора.
– И ты думаешь, будто жалкое это ничтожество, Агапито, может победить судью, который по своей воле отпирает и запирает двери темниц?
– Не думаю, сеньора.
– Так за кого же ты?
– Семья у меня большая, хозяйка. Я… я… не за общину я.
– И хорошо делаешь. Сиприано. Я помогу тебе. Одеяла дам, семена, шкуры овечьи. Сию же минуту дам. И земли прибавлю. Прямо сегодня возьму и припишу еще столько же. А лошадей у тебя сколько?
– Одна, хозяюшка.
– Считай, что три.
– Спасибо, хозяюшка.
– Но ты должен доказать, что ты верный слуга.
– А как доказать, хозяюшка?
– Убей Агапито Роб леса.
– Что ты сказала, хозяюшка?
– Тебе ничего не будет. Ничего, Сиприано.
– Не могу.
Донья Пепита переплела сверкающие пальцы. На стене за ее спиной висели изображения Пресвятой Девы, и словно потускнело их сияние – такой дьявольской силой дышало оливковое лицо доньи Пепиты. Сото дрожал. Блистали кольца на руках доньи Пепиты. Эти руки владели временем, переносили святые праздники, повелевали миром, вся власть, земная и небесная, сосредоточилась в этих руках.
– И прежде бывали в Уараутамбо мятежники. Не так ли?
– Я никогда никого не убивал, сеньора.
– Ты получишь восемь тысяч солей.
– Я не могу.
– Ты сможешь, Сиприано.
– Меня посадят в Тюрьму, сеньора.
– Только для вида. Судья вынесет решение – убит в драке. Тебя и отпустят. Земля у тебя будет, деньги.
– Я не могу.
– Мне не нужны трусы в моем поместье!
Донья Пепита отперла ящик комода, достала револьвер, разорвала картонную коробочку – посыпались на стол пули. Один такой кусочек свинца разорвет сердце Агапито Роблеса. Сиприано Сото понял: пусть охраняют выборного сколько угодно всадников – участь его решена. Нельзя безнаказанно выступать против господ. От его ли, Сиприано, руки умрет Агапито или нет, а только не сносить ему головы. Сотни лет поднимаются на борьбу угнетенные, а конец всегда один. И соблазнился тогда Сиприано, возмечтал о земле, о конях.
– Не умею я обращаться с оружием, – прошептал он, обливаясь потом.
– Это просто. Смотри, вот так заряжаешь.
Донья Пепита выбрала шесть пулек, вложила в барабан.
– Агапито умрет, и мир вернется на нашу землю. Никто и не вспомнит об этом несчастном. Ты не будешь ни в чем нуждаться. Мы с судьей позаботимся о тебе.
Сото вышел, пошатываясь. Агапито Роблес тоже обещал дать пеонам землю. Да где ему? Никогда ничего не сумеет он сделать! Виднелись неподалеку костры. Сиприано Сото нахлобучил поглубже меховую шапку.
Сидел на берегу у костра Агапито Роблес, грыз баранью кость.
Его все равно убьют, не я, так солдаты, подумал Сото. Карательный отряд уже близко. Так было в Ранкасе, так было в Чинче, завтра на рассвете пламя охватит Уараутамбо.
– Нет, спасибо, Бернардо, – сказал Агапито и отвел руку Чакона с бутылкой.
Сото подошел ближе. Выборный грелся у костра.
Гуадалупе, Бернардо Чакон и Карвахаль ушли куда-то. Агапито сидел один, беззащитный, под лучами бесчисленных звезд. И тут появился Сатурнино Паласиос, самый старый в поместье человек. Много вечеров подряд подходил он к костру Агапито и все не решался заговорить.
– Выборный Роблес, – сказал Сатурнино Паласиос.
– Чего вам, дедушка?
Старик оперся на свой ивовый посох.
– Правда, что пришел конец нашим страданиям?
– Правда, дедушка.
– И я теперь свободный человек?
– Ты свободный человек.
– Я могу идти, куда хочу?
– Можешь идти, куда хочешь.
– Слава господу богу нашему!
Вдруг (Роблес не успел помешать ему) старик схватил руку выборного и поцеловал. Агапито отступил, смущенный.
– Не надо, дедушка. Никогда и никому не целуй руки.
– Разрешите, дон Агапито?
– Что тебе, Сиприано?
– Хотел сказать вам словечко.
– Что тебе? – повторил Агапито и положил руку на горло. Повалился на колени Сиприано, зарыдал.
– Прости меня, дон Агапито!
– В чем дело, Сиприано?
– Прости! Сеньора Пепита наняла меня, убить я тебя хотел. Испугался я, согласился.
Сиприано бросил на траву револьвер.
– Сколько же она тебе обещала?
– Восемь тысяч солей за тебя и сорок тысяч за всех членов Совета. Скоро придет карательный отряд. Все сметут с лица земли. И ты умрешь, и все, кто пошел за тобой против судьи.
– Что ж ты не выстрелил?
– Увидел, как старый человек руку тебе целовал. Прости меня, батюшка!
– Где же мне сравниться с судьей?
– Прости, Агапито. Испугался я. Донья Пепита грозилась выгнать меня из поместья.
– У этой женщины нет больше поместья, Сиприано.
– Я сделаю, что велит община, Агапито.
– Покаешься при всех. Пусть община решает.
– Когда?
– Сейчас, сию минуту.
Агапито засвистел в свой свисток. С криками сбегались отовсюду люди. Встал на скалу Агапито Роблес. Часовые подняли факелы, неровный их свет пал на суровое лицо выборного.
– Жители Янакочи! Я остался живым, ибо Сиприано Сото покаялся передо мной. Сеньора Пепита уговаривала его убить меня, но он не соблазнился. Монтенегро задумали убить всех членов Совета общины. Говори, Сиприано. Подкупила тебя сеньора Пепита, велела убить меня?
– Да, велела. Грозилась выгнать из поместья, если я не соглашусь.
– Сколько она тебе обещала?
– Восемь тысяч солей и участок земли.
Поднялся шум.
– Покарать их!
– Сжечь поместье!
– Убить старуху!
– Хочу помочиться на ее гроб!
– Не надо никого убивать, не надо жечь. Мы сообщим властям. Ты согласен, Сиприано?
– Согласен.
– Засвидетельствуешь перед нотариусом?
– Да.
– За кого же ты, Сиприано? За общину или за господ?
– Хочу быть членом общины Янакочи.
– В общину принимаем тех, кто плясать умеет. Ну-ка, музыку!
Братья Уаман заиграли уайно.
Глава тридцать четвертая
О том, как Агапито Роблес пустился в пляс и как от пляски его ночь превратилась в день
Чужеземцы, что посещают в наши дни Янауанку, удивляются, глядя на ее дома, покосившиеся так, что городу Пизе вовсе нечем перед ней хвастаться – там всего лишь одна башня наклонная. А в Янауанку кто приедет, так и отшатывается то в одну сторону, то в другую, боится, что стены, того и гляди, на голову обрушатся. Местные лавочники со смеху прямо лопаются, на приезжих глядя. А только не всегда так было. Не так еще давно эти самые шутники дрожали от страха, сидели, затаившись, в своих домах (некоторые недоброжелатели уверяют, будто дома у нас не валятся только оттого, что даже на это сил у них не хватает). На площади все лавки, Полицейское управление, префектура, муниципалитет словно бы назад откинулись, к дворам. Жители Янауанки утверждают, будто благодаря стараниям Симеона Забывчивого дома их искривлены ревматизмом. Не хочется им признаваться, что от страха искривились дома в тот день, когда решила община Янакоча покарать судью Монтенегро. Ибо едва только стало рассветать и пьяный до бесчувствия Сото свалился на землю, начался у членов Совета общины жестокий спор:
– Сжечь надо поместье начисто. Монтенегро только землю пакостят. Покончить с ними, и все тут!
– Поджечь «Уараутамбо», а мосты поднять, чтоб карательный отряд не вошел.
– А по-моему, надо на них в суд подать.
– Не смеши меня.
– Сиприано Сото засвидетельствует перед нотариусом, что сеньора Монтенегро посылала его убить нас. В письменной форме.
– По-другому надо их наказать.
– А как?
– Есть способ.
– Какой?
– Эти люди свое богатство больше жизни ценят. Что, если прогнать с пастбищ все их стада?
– Вот это правильно! Все их добро окаянное, до последнего кролика!
– Нет, кроликов трогать не надо. Донья Аньяда расстроится.
Совет одобрил решение – изгнать с пастбищ стада Монтенегро. Жители с восторгом приняли это известие. Глава общины. Карвахаль приказал согнать в одно место все стада поместья «Уараутамбо». Множество коров, быков, телят, баранов, козлят наполнило долину. Альгвасилы с письменными приказами отправились в горы. На следующий день с гор стали спускаться стада. Все знали, что судья Монтенегро богат, но такого никто не ожидал: целый день шли стада – и конца им не было видно.
Рев и мычание заглушали шум реки Уараутамбо. К концу дня стада были уже на главной дороге. На рассвете прошли они через Ракре. К полудню перешли мост Янауанки. Второй день клонился к вечеру, когда стада прибыли на площадь поместья «Уараутамбо». Вскоре площадь оказалась забитой до отказа, проламывались деревянные тротуары, валились ограды. Лавочники смеялись, стоя в дверях своих лавок. Но вид у них был слегка испуганный. А стада все прибывали. Было время сиесты, но капрал Бехарано решился разбудить начальника полиции.
– Что случилось?
Капрал Бехарано указал за окно. Сержант Астокури выглянул на улицу. Тысячи голов скота толклись на площади, они уже не вмещались на ней.
– С ума народ посходил, господин сержант.
– Какой там народ! Этот голодранец Роблес еще один номер выкинул.
Агапито Роблес въехал на площадь верхом. Яростно сверкало, переливалось всеми цветами радуги его пончо. Агапито глянул на расстилавшееся перед ним бескрайнее море рогатых голов, с трудом добрался до знаменитого балкона, с которого в течение тридцати лет любовался судья Монтенегро скромным деревенским закатом.
– Монтенегро супайпагуагуа! – крикнул Агапито. – Эй, судья, чертов сын! Янакоча возвращает тебе твои стада! Лопай! Ты отнял их у вдов, у невинно осужденных, у бесприютных сирот! Возьми их себе, пусть пасутся в твоих дворах, в твоих тюрьмах, в домах твоих кумовьев и лизоблюдов! Вот оно, твое богатство – наш пот, кровь наших мертвецов, годы жизни заключенных в тюрьмы! Нет больше в Уараутамбо пастбищ для скота, отнятого у разоренных вдов, нет воды в родниках для баранов, отобранных у осужденных! Пусть живут у тебя в гостиных, в спальне, все же они лучше твоей жены! Отныне поместье «Уараутамбо» свободно! Солнце взошло!
На площади не поместился бы больше даже самый крошечный козленок, а альгвасилы все гнали и гнали стада с гор. Агапито Роблес стоял перед балконом господского дома. Стены дома подрагивали. Наконец, распахнулись двери балкона. Появился судья Монтенегро. Бледный как смерть, глядел он на бесконечную равнину, всю заполненную стадами. Со всех сторон раздавалось мычание, блеянье, рев, фырканье, храп.
– Жители Янакочи, – простонал судья Монтенегро, – если мести вы жаждете, так мстите людям. За что мучить бедных животных? Они не виноваты ни в чем.
Вышла на балкон донья Пепита.
– Не надо унижаться, Пако, перед этими негодяями. Не надо просить их!
Стада все прибывали. Господский дом, другие дома, стоявшие на площади, сотрясались. Пошатнулось здание Полицейского управления. Полицейские в страхе выбежали на балкон. Дома Айялы и Сиснеросов тоже покосились. Эдмундо Руис и секретарь суда Пасьон издавна враждовали, а дома их склонились друг к другу, будто обняться хотели. Вопили лавочники, уверяли в своей преданности общине, кричали полицейские, угрожали начать стрельбу, а лавина скота все катилась и катилась со склонов. Животные взбирались друг на друга. Изогнулся фасад дома Ловатонов. Мычание заглушало вопли лавочников. Судья кричал что-то с балкона, но ничего не было слышно. Откачнулся назад дом Сиснеросов.
До поздней ночи праздновали жители Янакочи свою победу. Братья Хулка зарезали двух великолепных племенных быков. Зажарили на кострах на берегу молодой реки Чаупиуаранга. Наелись мяса, отправились в Янакочу продолжать праздник. Там учителя Венто и Сото приготовили пышную встречу. Сото соорудил триумфальную арку, увитую цветами, нанял оркестр. Уже совсем стемнело, когда показались на дороге победители.
– Вон они! – крикнул один из школьников.
– Ударить в колокола, – приказал учитель.
Кто-то из ребят кинулся к колокольне.
– Начать парад знамен!
Таким парадом полагается встречать президента республики, но все казалось мало устроителям празднества. Директор Венто, Николас Сото, учителя и школьники двух школ шагали навстречу со знаменами. Красный, торжественный, выступал впереди директор школы Венто. Целое поколение жителей Янакочи воспитал он. В синем костюме, который надевал лишь в дни национальных праздников, подошел директор Венто к Агапито Роблесу, горячо обнял забрызганного грязью выборного. Начал приветственную речь. Много лет готовил свою речь директор школы Венто, много лет ждал этого дня. Но тут появился Лисица, а с ним музыканты – совсем пропащие пьянчужки. Дон Эулохио Венто между тем разглагольствовал: «Дамы и господа! Хоть я и не готовился к выступлению и не владею ораторским искусством, мне хотелось бы тем не менее…» Дальше никто ничего не слышал – трещали ракеты, вскрикивали плясуны, визжали скрипки, ржали лошади.
Но это было всего лишь начало праздника. К вечеру во всех домах горел свет, люди обезумели от счастья. Трезвым оставался один только Агапито Роблес – он никогда не пил. Остальные набросились на жареную баранину, на водку – лавочники на радостях кормили и поили всех даром. Люди пили, плясали, пьяные валялись на улицах. Выборный сел на площади на скамейку. Он вспоминал, как смеялся Белоногий в тот день, когда спас его на реке Андачака, вспоминал скорбный взор Тупака Катари, горящие глаза Ангела из Пумакучо, ярость капитана Реатеги, озера, снежные вершины, степи… Сколько лет пролетело, сколько дорог пройдено! И вот – свершилось. Агапито смотрит на тихую, прекрасную луну. Надо рассказать обо всем дону Раймундо Эррере. Поднимается Агапито, идет вверх но улице знаменосца Минайи к кладбищу. Тишина, наполненная звездами, охватила его, он чувствует, что в этой тишине сверкают, искрятся не только нынешние, но все звезды, сущие и будущие, горящие над миром во все времена. Пала тишина на сердце Агапито, смирила, наполнила любовью. Ко всем. Даже к Монтенегро. Нет больше у Агапито врагов. Зачем враждовать? Начинается другая жизнь, «я иду, дон Раймундо!» – воскликнул он. Поднялся по склону и… замер. В пещере Альтомачай горел костер. Тревога! Может, показалось? Агапито зажмурился, потом снова широко раскрыл глаза – огонь по-прежнему мерцал. Кто-то мочился у стены дома.
– Лисица, ты?
– Что случилось, братец?
– Тревога, Лисица.
Лисица выпрямился.
– Может, ошибка?
– Давай выше поднимемся.
Лисица расставил караулы на всех вершинах, чтобы сразу предупредили, если увидят приближающиеся вражеские войска. В случае тревоги часовым приказано разжигать костры. Лисица предусмотрел все. Если ночь дождливая – костры разжигать в пещерах. И вот – в пещере Альтомачай горит костер.
Поднялись. И в другой стороне ярко полыхали в тьме костры.
– В пещере Крусхирка – тоже.
– И на Чипипате! – воскликнул Агапито Роблес. Там, на холме, вспыхивал и гас фонарь – что-то передают!
– Говори, что там?
– Вой-ска и-дут, – прочел Лисица.
И протрезвел мгновенно.
– Че-рез Там-бо-пам-пу вой-ска и-дут.
– Что ты говоришь, Лисичка?
– Че-рез Там-бо-пам-пу мно-го вой-ска и-дет.
Заскрипела, заплакала горько в эвкалиптах птица пакапака. И тут словно обезумел вдруг выборный. Засмеялся – сначала тихонько, потом все громче, громче, весь затрясся от смеха. Отбросил на спину свое пончо и как пустится плясать! В ужасе глядел на него Лисица.
– Вифала! Вифала! – вскрикивал Агапито.
Взметнулось облако пыли, совсем скрыло Агапито. Одно только пончо виднелось – разноцветный бешеный вихрь. Спустилось с холма, будто огромная свеча промчалось среди эвкалиптов. Загорелись эвкалипты. Я сам все видел. Я шел за ним следом на расстояний, чтоб не обжечься. Горели поля маиса, били копытами кони в конюшнях. Вифала! Вифала! – вниз, все вниз, прямо в селение. Братья Лопесы тоже видали, как загорелась сначала трава на выгоне, а после вспыхнула ферма Полидоро Кинто. Вифала! Огромнsй язык пламени охватил дерево во дворе Рекисов. Вифала! Пар поднимался над ручьем, что течет со склона Альтомачай. Вифала! Загорелся фасад муниципалитета. Языки пламени лизали колокольню (до сих пор стоит она вся черная). Даже собачка моя загорелась нечаянно. А мы в это время сидели по домам за пиршественными столами. Жарко нам было, пот лился по лицам ручьями. Все сильней становился жар, будто в адской печи. Задыхаться мы стали. И вышли тогда из домов – и увидели. Пылала долина. Плясал по долине разноцветный смерч, и все загоралось вокруг.