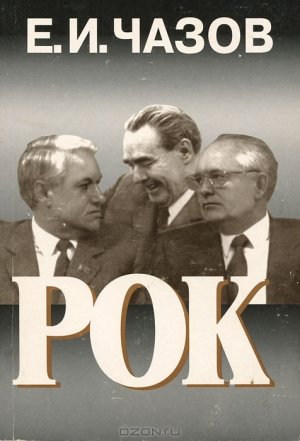
От издателя
Автор этой книги — врач-кардиолог с мировым именем, хорошо известный не только в медицинских кругах, один из организаторов всемирного движения «Врачи за предупреждение ядерной войны».
Что же побудило академика Е.И. Чазова вновь взяться за перо? Думаем, все та же активная жизненная позиция, которая несколько лет назад привела к появлению его книги «Здоровье и власть».
Судьба распорядилась так, что долгие годы — когда Е.И. Чазов возглавлял 4-е Главное медицинское управление, был министром здравоохранения СССР, создавал Кардиологический центр, которым руководит и поныне, — он находился в эпицентре политической жизни в стране: в названную «застоем» эпоху Л. Брежнева, при недолгом правлении Ю. Андропова и еще более скоротечном пребывании у власти К. Черненко, в период противостояния М. Горбачева и Б. Ельцина, во времена распада Советского Союза, в годы правления первого Президента СССР и первого Президента России. Именно в последние годы нахождения Ельцина у власти и писалась книга «Рок».
Автор не был сторонним наблюдателем описываемых событий, он участвовал в заседаниях правительства, выступал на партийных съездах и конференциях, занимался организацией здравоохранения в стране, оставаясь при этом врачом-практиком. Со многими известными государственными деятелями прошлого его связывали не просто доверительные отношения, складывающиеся между врачом и пациентом, но и более тесные, подчас дружеские узы. Так что автору не понаслышке известны истинные мотивы решений, принимавшихся на «политической кухне» тех лет, решений, печальным итогом которых стало крушение надежд, связанных и с горбачевской перестройкой, и с демократией Ельцина… Как видим, автору было ЧТО сказать читателям.
Задумав написать эту книгу, Е.И. Чазов решал очень трудную для себя задачу, и об этом он не раз пишет сам: имеет ли право врач, которому пациент доверил самое сокровенное — свое здоровье, нарушить по сути клятву Гиппократа и предать гласности сведения о болезни своего подопечного в случае, если речь идет не о рядовом гражданине, а о руководителе, причем самого высокого ранга, в чьих руках находятся судьбы миллионов сограждан, да и самой страны, но который по состоянию здоровья не может принимать самостоятельные решения или организм которого не справляется с перегрузками, связанными со столь ответственной руководящей деятельностью? И что является большим преступлением перед согражданами: соблюдение в такой ситуации врачебной тайны или ее разглашение во имя спасения страны? Написав эту книгу, автор сделал свой выбор, хотя, возможно, не всеми читателями такое решение будет одобрено.
Не менее важен и вопрос о том, С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ автор обращается к недавнему прошлому страны. Им двигало вовсе не желание, приоткрыв завесу «кремлевских тайн», продемонстрировать свою близость к верхним эшелонам власти, как это делают подчас в своих мемуарах некоторые из приближенных, оказавшиеся в последнее время не у дел. Автор выражает надежду, что почерпнутые из его книги сведения и критическая оценка недавних событий позволят в будущем избежать трагических ошибок, расплачиваться за которые придется нашим детям и внукам.
И, наконец, о том, КАК написана книга. Нет, речь не о ее языке и стиле, хотя читатель с первых же страниц оценит мастерское владение автора словом, и в этом тоже достоинство книг Е.И. Чазова. И все же главное в другом: «Рок» — это исповедь сердца, искренняя и ничем не приукрашенная, без всякого снисхождения к участникам описываемых событий и к себе в том числе; это боль за судьбу страны, за искалеченные жизни обнищавших сограждан. Действительно ли злой рок тому причиной, что наша страна не может свернуть с пути «великих потрясений» в русло мирной цивилизованной жизни, или это вина бездарных или немощных прежних ее правителей, отстраненность простых людей от участия в своей судьбе, в судьбе Отчизны, пассивность и долготерпение русского народа? «Должна же наконец наша Родина, — пишет автор, — страна с огромным потенциалом, обрести былое величие и вновь ощутить себя на равных с другими великими державами!»
Пожелаем же и мы, вслед за автором книги «Рок», скорейшего возрождения России.
От автора
В августе 1991 года, за две недели до известного «путча» я сдал в издательство «Новости» свою книгу «Здоровье и власть». Это было предупреждение политикам и общественности о тех опасностях для страны и народа, которые сопровождают борьбу за власть.
Книга заканчивалась словами: «Шел март 1985 года, перевернувший многое в жизни нашей планеты, в жизни моей страны, каждого из нас: начался период драматических и трагических событий». К сожалению, они оказались пророческими. История последнего десятилетия подтвердила драматическую, а во многом и трагическую суть произошедших событий.
Воспоминания, которые я представляю читателям, в определенной степени являются продолжением книги «Здоровье и власть». Новая книга писалась долго и мучительно, меня мучили постоянные сомнения в отношении возможности публикации того или иного представляемого фактического материала. Но тот поток различной дезинформации, домыслов, да иногда и просто клеветы убедил меня в необходимости изложить на основании известных мне фактов свое видение некоторых причин, обусловивших гибель Советского Союза и последовавших за этим событий, приведших к обнищанию народа, безработице, разрухе, экономическому кризису, кризису науки и здравоохранения.
В 1998 году книга была закончена. Мой хороший знакомый блестящий журналист Артем Боровик, познакомившись с ней, тут же предложил ее опубликовать. Верный своему принципу не бросать в огонь политической борьбы своих знаний, известных мне фактов, которые могут быть использованы теми или иными противоборствующими сторонами, я отказался от ее издания и согласился лишь на публикацию отрывка в газете «Версия».
Сейчас, когда утихли политические страсти, я не вижу препятствий для себя в представлении материалов, фактов, которые могут иметь определенную ценность для осмысления произошедших событий и быть еще одним предупреждением политикам и общественности.
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу.
А.С. Пушкин
Пусть мне дороги друзья и истина,
однако долг повелевает отдать предпочтение истине.
Аристотель
Все происходившее ранним утром 5 ноября 1996 года казалось мне фантасмагорией. В замкнутом круге операционной с серыми металлическими стенами, массой аппаратуры с мигающими разноцветными датчиками и ползущими кривыми возвышался стол, на котором лежал Президент России. Тишина в операционной, изредка прерываемая голосами хирургов и анестезиологов, окруживших президента, звучавшая как будто бы издалека прекрасная мелодия Вивальди усиливали впечатление отрешенности, неестественности происходящего. И в то же время за этим спокойствием чувствовалась колоссальная напряженность тех, кто вошел в этот операционный круг и кто поставил на карту свое благополучие, престиж, а может быть, и саму жизнь, потому что на операционном столе с открытой грудной клеткой лежал Борис Николаевич Ельцин. Судьба России в который раз находилась в руках врачей…
Я смотрел на искусственно остановленное сердце, которое уже опутали белые шунты из вен, вживленные Ренатом Акчуриным, и молил Бога только об одном — чтобы оно «завелось», чтобы оно вновь начало работать. Парадокс состоял в том, что я отдавал всего себя, все свои знания, больше чем знания — я вкладывал душу в спасение человека, который принес в мою жизнь немало неприятностей и тяжелых переживаний.
И не страх определял мое поведение, мою позицию, хотя и доходили до меня по разным каналам предупреждения о том, что плохой исход операции равносилен моей гибели и гибели моих коллег. Чего мне было бояться в 67 лет, когда прожита такая бурная жизнь, когда уже никто не сможет перечеркнуть в истории медицины сделанное тобой, когда на века останется созданный Кардиологический центр и многое другое, что будет долго служить людям. Нет, не страх, а чувство порядочности, человечности, наконец, чувство врачебного долга, которое всегда помогало мне в подобных ситуациях.
Помню, как мне, пережившему тяжелые часы операции, с трудом удалось сдержать слезы, когда дочь Ельцина Елена прервала Наину Иосифовну, благодарившую нас за спасение Президента России: «Мама, да при чем тут президент, скажи лучше спасибо за то, что они спасли нам отца и мужа». Это была лучшая благодарность. Я отдавал себя борьбе не за жизнь Президента, а за жизнь Человека! Не знаю кто — Бог, судьба, моя мать с небес, но кто-то нам очень помог, потому что, несмотря на наши опасения, сердце Ельцина «завелось» самостоятельно.
Когда его вывозили из операционной, я все еще не мог прийти в себя и думал о превратностях жизни, судьбы… Мог ли я представить, что буду спасать человека, которого наряду с моим бывшим другом М. Горбачевым считал виновниками того, что произошло с моей великой страной, с моим народом, перенесшим неописуемые страдания.
Я еще и еще раз обращался к вечному вопросу русской интеллигенции: «почему?». И в этом «почему?» возвращался в прошлое. Пытался восстановить, проследить тот путь, который привел нас к десятилетию разрухи, кризиса и криминала, к падению России в ту пропасть, из которой она еще долго не выберется. Как и почему это произошло? Какую роль в этом сыграло противостояние М. Горбачева и Б. Ельцина? Какие силы вознесли их на Олимп власти, которую они так бездарно использовали?
Многое из их жизни, политической карьеры прошло на моих глазах — глазах человека, волею судьбы заброшенного в центр политической борьбы и политических интриг и со стороны смотревшего на восхождение первого Президента СССР и первого Президента России.
Надо ли ворошить прошлое? Смотря зачем и как это делать — ведь от прошлого многое зависит в будущем. Оценить роль той или иной личности в судьбе страны и народа не так-то просто. Процент субъективизма, как правило, велик и в значительной степени определяется политической, да и личностной конъюнктурой. Даже исторические факты могут трактоваться по-разному, в зависимости от симпатий авторов к этим свершениям. Вспомним Л. Толстого, сказавшего: «Главное препятствие познанию истины есть не ложь, а подобие истины». Сколько такого «подобия истины» прозвучало о Л. Брежневе и Ю. Андропове, А. Громыко и Д. Устинове, да и о многих других деятелях прошлого, определявших жизнь страны!
В своих воспоминаниях «Здоровье и власть» я попытался честно воссоздать истину ради будущего. Но, как оказалось, многое, что сыграло роковую роль в судьбе страны, в худшем варианте повторилось в настоящем. По-человечески мне жаль М.С. Горбачева, искренне верившего в то, что предложенный им путь приведет к процветанию страны и народа, а в конце концов отвергнутого большинством соотечественников. Мне жаль и Б.Н. Ельцина, алкоголем и обезболивающими средствами размотавшего свое богатырское здоровье и окончившего триумфально начавшийся политический путь в полном одиночестве, брошенным, а может быть, и презираемым большинством из тех, кто ему верил. Но еще больше мне жаль разрушенную великую державу, жаль народ, ввергнутый в нищету, безработицу, войны, криминал, лишенный идеалов и веры в будущее. Вот почему я снова взялся за перо. Взялся для того, чтобы не только оставить для истории факты, о которых могут умолчать или, как нередко бывает, извратить, но и для того, чтобы в будущем не повторялись ошибки прошлого.
Читатель может задать вопрос: почему все эти факты нельзя было обнародовать раньше? Вновь вопрос, который мучает меня более тридцати лет и на который никто не может ответить. Где грань между гражданским долгом и врачебной этикой? Не преступник ли врач, скрывающий от общества беспомощность и недееспособность своего пациента — лидера страны, определяющего ее жизнь и благополучие народа? Но с позиций личности: может ли врач раскрыть тайны пациента? Долгое время я придерживался компромиссной и ненавидимой мной самим позиции «соглашательства» — открывать истину тогда, когда она не может повлиять на политическую судьбу пациента или бывшего лидера страны, но сохранит для истории правду и, может быть, будет уроком для будущего. Жизненный опыт уверил меня в том, что если мы хотим создавать открытое, свободное общество, то самой открытой фигурой во всех отношениях (включая и здоровье, особенно психическое) должен быть лидер страны. Не сомневаюсь, что отношение к книге будет неоднозначным. Могу только сказать, что она создавалась искренне. Хочу повторить вслед за Д. Писаревым: «Я пишу не чернилами, как другие… я пишу кровью своего сердца и соком моих нервов. Так и только так должен писать каждый писатель».
Пусть читатель критикует и порицает книгу, лишь бы он внимательно ее прочел и задумался над судьбой страны, народа, над их будущим.
На пути к Олимпу
Твои слова, деянья судят люди,
Намеренья единый видит Бог.
А. С. Пушкин
18 мая 1989 года в Пекине стояла жара. Но, вероятно, не она, а события, разыгравшиеся на площади Тяньаньминь в связи со студенческими беспорядками, скомкали ритуал проводов советской официальной делегации во главе с М. Горбачевым. Какая-то неловкость царила среди провожавших и отъезжавших. Чувствовалось нетерпение китайцев, которые мечтали только об одном — чтобы поскорее исчезли эти русские и можно было бы навести порядок в собственном доме.
Перед моими глазами стояла незабываемая встреча двух коммунистических реформаторов: советского — М. Горбачева и китайского — Дэн-Сяопина. Сравнение было не в пользу отца советской «перестройки». Дэн-Сяопин предстал мудрым политиком, тонким дипломатом и в то же время человеком большой силы воли. Когда Горбачев пытался высказаться в защиту студентов и демократии, он резко отреагировал, приведя народную пословицу: «На улице иногда появляется мусор, но налетает ветер и все очищает. Так будет и у нас». Да, прав был Софокл: «Много говорить и много сказать — не одно и то же». Я не сомневался, что на следующий же день после нашего отъезда налетит этот ветер на площадь Тяньаньминь и закончится китайская попытка идти по новому, советскому пути.
Шагая к самолету, я думал о непредсказуемых поворотах истории. Что в ближайшем будущем ждет всех нас — страну, правительство, в состав которого я входил, партию, Горбачева? Что принесет еще одно нововведение, навеянное ему А. Яковлевым, — открывающийся через неделю съезд народных депутатов? Вспоминая популистские выступления многих депутатов (и тех, кто составлял серое безответственное большинство, и тех, кто называл себя демократами и для которых съезд представлялся трамплином для завоевания власти и утоления политического тщеславия), я не сомневался в том, что страна стоит перед тяжелыми испытаниями. Что могли сделать те немногие, кто шел на съезд с искренним желанием помочь стране, помочь народу найти правильный путь в будущее? Угнетенное настроение было, несомненно, навеяно и самой атмосферой визита.
Мне нередко приходилось бывать за рубежом с Л.И. Брежневым. Можно многое говорить о нем как о политике и руководителе страны: больше хорошего — в первые годы его работы в качестве Генерального секретаря, больше плохого — в последние годы, хотя это целиком и не зависело от него. Однако надо отдать ему должное: его сугубо деловые визиты за границу, которые, кстати, его тяготили, не шли ни в какое сравнение с амбициозными и грандиозными политическими шоу, которые устраивали P.M. и М.С. Горбачевы.
Помню, как помощники Брежнева А. Александров и А. Блатов убеждали его в необходимости включить по деловым соображениям в список сопровождающих ту или иную персону и как, несмотря на их уговоры, он «кромсал» список делегации.
Когда я попал в Пекин вместе с Горбачевым, меня поразило даже не количество охраны, а число сопровождающих лиц. Кого здесь только не было — писатели и артисты, ученые и общественные деятели, не говоря уж о дипломатах и советниках всех рангов! Чья была идея создания этих «групп поддержки», сказать трудно, возможно, эта выдумка тешила тщеславие Р. Горбачевой (уверен, что не самого М. Горбачева), но не шла на пользу делу.
Видные писатели, артисты, ученые вынуждены были играть роль марионеток, создавая соответствующий фон для главного действующего лица. Конечно, некоторые воспринимали это как честь, признание своих заслуг, как утверждение своего положения и всеми способами пытались попасть в окружение генсека во время его зарубежных вояжей. Но у многих это вызывало раздражение.
Так, во время пекинской встречи как-то ко мне в резиденцию, где остановилась советская делегация, зашли Кирилл Лавров и Леонид Филатов. Их, как и меня, мягко говоря, тяготила та обстановка, которая царила во время визита. Разговор наш был откровенным, в этот вечер было сказано немало нелицеприятных слов…
Перед отъездом из Пекина Горбачевы собрали всю делегацию в своем особняке на прощальный ужин. Полились заздравные речи, вызывавшие порой чувство неловкости. Стыдно стало, когда известный писатель С. Залыгин, которого я всегда считал честным и откровенным человеком, начал льстиво восхвалять заслуги не столько М. Горбачева, сколько его верного товарища, друга и жены Раисы Максимовны. Возможно, эти слова были бы уместны в узком кругу на семейном празднике, но не здесь — в большом, а главное, пестром по составу обществе. Но больше всего меня поразила реакция Горбачевых на подобные выступления. Они воспринимали их как должное, без тени смущения, не чувствуя лицемерия многих из окружающих, Невольно вспомнились те скромные, немного провинциальные Раиса Максимовна и Михаил Сергеевич, которых «коробило» московское высшее общество, в котором они оказались в 1978 году. Господи! Почему большинство людей не выдерживают «испытание властью»?
Минут через двадцать после того, как самолет поднялся в воздух, Горбачев пригласил меня в свой салон пообедать. За столом, кроме него и Раисы Максимовны, сидели А. Яковлев и Э. Шеварднадзе. То ли из-за усталости, то ли из-за пережитых трудных переговоров, но обед быстро закончился. Я уже хотел откланяться, как Горбачев обратился к двум своим самым близким в то время соратникам: «Вы извините, но мне хотелось бы обсудить с Евгением Ивановичем некоторые медицинские проблемы». Мы остались втроем. Меня мучил вопрос: что случилось, о чем хочет поговорить со мной в семейной доверительной обстановке Михаил Сергеевич? Не было сомнений в том, что предмет разговора — не здоровье Горбачевых, которые чувствовали себя прекрасно, и не мои министерские проблемы здравоохранения, которые в последнее время перестали интересовать руководство страны. Так о чем же пойдет речь, тем более что само включение в состав официальной делегации было для меня загадкой: дань ли это старой дружбе, благодарность за советы и поддержку в прошлом или какие-то далеко идущие планы?
Горбачев начал издалека, с воспоминаний о прошлом, поинтересовался, как дела в созданном мной Кардиологическом центре, куда перешла работать его дочь. Раиса Максимовна в восторженных тонах поделилась своими впечатлениями от визита в Китай, подчеркнув, как всегда, заслуги своего мужа. Постепенно разговор перешел в плоскость политических проблем.
Я во все времена — при Брежневе и Андропове, Черненко и Горбачеве — давал себе зарок: оставаться на позициях профессионализма и не лезть в котел политических страстей и борьбы за власть, зная, какие грязь, лицемерие и предательство часто скрываются за красивыми словами и «ореолом» политических лидеров. Но, к сожалению, жизнь иногда непроизвольно бросала меня в сети такой борьбы, причем, откровенно говоря, в некоторых случаях я искренне верил, что все это делается во благо моей Родины, моего народа, и только потом, осознав истину, разочарованный и опустошенный, в очередной раз убеждался в правильности своего зарока.
Я хотел уйти от обсуждения этих вопросов, к тому же Горбачев последние два года из наших почти двадцати лет дружеских отношений при встречах никогда не касался политических проблем или путей перестройки. Не знаю, что меня подтолкнуло — самоуверенность Горбачева в его рассуждениях, оторванных от жизни, отсутствие в его политике предвидения и силы, а может, просто желание высказать все, о чем думаешь и что переживаешь, но в конце концов я не сдержался и включился в жаркую полемику.
Это был очень откровенный и острый разговор. Трудно сейчас вспомнить все его детали. Помню, Михаила Сергеевича особенно задели мои слова, что у руководства нет четко продуманной политики и оно тащится в хвосте событий — жизнь опережает его решения. Нельзя жить на компромиссах, в том числе и со своими врагами. «Если Вы стараетесь нравиться всем, — говорил я, — то кончите тем, что не будете нравиться никому». Конечно, можно вспомнить мнение К. Маркса и В. Ленина о компромиссах, но тот же Маркс сказал, что ради известной цели можно заключить союз даже с самим чертом, только нужно быть уверенным, что ты проведешь черта, а не он тебя. А сегодня все — и в стране, и за рубежом — проводят нас. И еще, власть — это не абстрактное понятие, ее определяют люди.
У Л. Брежнева, который сам не блистал талантами политика и дипломата, были Ю. Андропов, А. Косыгин, А. Громыко, да и советники были достаточно толковые. А что сейчас? Большинство из окружения Генерального секретаря — хорошие, честные люди, и их можно за это уважать, но ведь этого мало для тех, кто определяет политику, экономику и дипломатию такой сверхдержавы, как СССР. А сколько людей на всех уровнях используют «перестройку» в своих целях?!
Зная, что в семействе Горбачевых многие государственные и кадровые вопросы решаются с подачи Раисы Максимовны, я был крайне удивлен, что, включившись в разговор, она меня поддержала, особенно когда речь шла об окружении Михаила Сергеевича. Я никогда не видел Горбачева таким раздраженным. Он покраснел, вскочил и начал ходить по салону, перебивая нас. Его слова окончательно разрушили тот образ передового, мудрого, сильного генсека правящей партии, который я создал себе много лет назад. Передо мной был обычный партийный секретарь, борющийся за уходящую от него власть и пытающийся всеми средствами утвердить свою политическую неординарность. «Вы ничего не понимаете ни в политике, ни в руководстве страной, — говорил он. — Мне надо быть избранным Председателем Президиума Верховного Совета. А для этого я должен заручиться поддержкой как консерваторов, так и демократов. А что о людях вокруг меня — главное, чтобы они были преданы нашему делу, преданы мне».
Личная преданность окружения всегда была главной заботой руководителей нашей страны. Из этого принципа в высших эшелонах власти рождались землячество, клановость. Сколько днепропетровцев переехало в Москву при Брежневе, сколько свердловчан пришло в Кремль, правительство и Думу с помощью Ельцина… Но это была и их ахиллесова пята, поскольку нередко за личной преданностью скрывались серость, глупость, карьеризм, притом с высокой степенью лести и подобострастия. А многое ли изменилось сейчас? Не успел А. Чубайс возглавить аппарат президента, как назначил своими заместителями бывших земляков и друзей. Да и Б. Немцов после своего назначения в правительство перетащил в Москву немало нижегородцев. Забываются заповеди древних греческих мудрецов. Еще Солон предупреждал: «Будучи поставлен во власть, не употребляй на должности при себе лукавых людей, ибо в чем они погрешат, за то обвинят тебя как начальника». Так и получилось. Не многим удавалось, как Л. Брежневу, создавать окружение, до конца ему преданное и деловое. И что бы ни говорил М. Горбачев о своей принципиальности в подборе кадров, ему не удавалось сохранить объективность. Можно привести массу примеров.
На заре своей деятельности на посту Генерального секретаря Михаил Сергеевич, создавая новую, молодую команду руководителей, но не желая обострять отношения со «старой гвардией», обратился ко мне с просьбой уговорить Н. Тихонова, которому уже исполнилось 80 лет, оставить пост Председателя Совета Министров. Выполнить эту просьбу не составило большого труда — нужно сказать, что Николай Александрович давно страдал тяжелым атеросклерозом мозговых сосудов и не мог работать в полную силу, а потому легко согласился уйти на пенсию (благодаря чему и смог прожить до 93 лет).
Однако, обсуждая проблему замены, Горбачев проговорился: «У меня есть очень хорошая кандидатура — В. Воротников, толковый человек, опытный руководитель, из нашей среды партийных секретарей». Каково же было мое удивление, когда вскоре, сообщив ему о согласии Н. Тихонова уйти на пенсию, я услышал, что он на это место нашел подходящего человека — Н.И. Рыжкова. К тому времени я уже знал Николая Ивановича и считал, что по деловым качествам он на голову выше В. Воротникова, но меня удивило столь быстрое изменение решения Горбачева. «Знаешь, — заявил Горбачев, — мне сказали, что он претендовал на то место, которое я занял». Кстати, именно эта внушаемость — свойство, непозволительное для любого руководителя, сыграло роковую роль в судьбе М. Горбачева.
Тогда, в самолете, я понял, что мой голос — глас вопиющего, не достигающий цели, понял, что ничего хорошего нас не ждет, впереди тяжелые потрясения и первое, что необходимо делать, — уйти из политической жизни и сосредоточиться на своей профессиональной деятельности. Медицина, врачевание, наука — вот что вечно и непогрешимо. Вот что может принести успокоение и счастье.
Покидая самолет, я покидал Горбачева. Мне было жаль себя, связывавшего с ним надежды на будущее страны и сделавшего многое для его восхождения на пьедестал главы страны, но обманувшегося в этих надеждах. Мне было страшно за непредсказуемое будущее моего народа. Что же случилось? Почему злой рок преследует нас? Самое страшное, что мы не знаем и даже не можем предполагать, чем обернутся в будущем те или иные события, активными участниками которых мы были, как повлияют они на наши судьбы, на судьбу страны. Извечный гамлетовский вопрос «быть или не быть?» звучит для нас так: правилен или неправилен был наш выбор?
Почему, встретив в далеком январе 1971 года М. Горбачева, малоизвестного в то время партийного функционерa, я поверил в него? Тогда мне удалось вырваться на короткий семидневный отдых в Кисловодск. Таких подарков судьбы в те годы у меня бывало немного. В первый же день пребывания в Кисловодске ко мне подошел руководитель нашего управления на Северном Кавказе А. Перекрестов и, несколько смущаясь, сказал: «Евгений Иванович, у нас сейчас отдыхает новый первый секретарь Ставропольского крайкома Михаил Сергеевич Горбачев. Он много слышал о Вас и хотел бы с Вами познакомиться». К этому времени я уже разбирался в азах партийной иерархии и знал, что первые секретари крайкомов и обкомов — это своеобразные генерал-губернаторы, от которых во многом зависит жизнь на местах. Если же учесть, что мы, заново создавая систему охраны здоровья руководящих, научных и творческих кадров, развернули в то время большое строительство реабилитационных центров в Пятигорске, Железноводске и Ессентуках, станет понятным мое встречное желание познакомиться с первым человеком в крае. Понимал я и Горбачева, человека нового в периферийной партийной элите, ему было интересно познакомиться с молодым академиком, близким к высшему партийному руководству.
М. Горбачев тоже приехал на короткий отдых, кажется, после краевой партийной конференции. С той первой встречи у нас возникла взаимная симпатия. М.С. Горбачев мне понравился. Было приятно на фоне закостеневших партийных функционеров с их догматическими воззрениями или просто партийных карьеристов встретить человека с неординарным и смелым мышлением, лишенного так называемого «коммунистического чванства» и чиновничьих амбиций. Держался он естественно и непринужденно, во всем его облике была какая-то простота, которая поначалу казалась мне провинциальной. Разговорившись, мы пришли к заключению, что у нас много общего.
Те давние, почти тридцать лет назад, прогулки по зимним дорожкам Кисловодска на «Большое седло», легкий мороз, солнце, чудесный воздух, какая-то непередаваемая словами обстановка покоя и умиротворения, приятный собеседник настраивали на откровенный разговор. Вначале мы, как и все в тот период при встрече с незнакомыми, были осторожны в высказываниях и больше вспоминали прошлое, чем обсуждали настоящее, однако чем больше узнавали друг друга, тем все чаще переходили на обсуждение современных, в том числе и политических, проблем.
Думается, пальма первенства в этом принадлежала мне. Молодой секретарь Ставропольского крайкома был далек от «политической кухни», царившей в Москве, от той борьбы за власть, которая разъедала верхушку КПСС. По крайней мере многое, что я рассказал Горбачеву о борьбе между группами А.Н. Шелепина и Л.И. Брежнева, о взаимоотношениях Л. Брежнева и А. Косыгина, причинах замены на посту Председателя Совета Министров РСФСР Г.И. Воронова М.С. Соломенцевым, о Ю.В. Андропове и других из окружения Л. Брежнева, было для него откровением.
Сложно вспомнить все, что мы тогда обсуждали, но, покидая Кисловодск, я увозил не только теплые чувства к молодому секретарю крайкома КПСС, но и определенный оптимизм, связанный с появлением нового поколения партийных руководителей, отличавшихся честностью и оригинальным мышлением. Конечно, как и многие бывшие комсомольские работники, он был в некоторых вопросах ортодоксален и, главное, не до конца представлял себе весь комплекс сложных личностных и групповых интересов, которые царили в высшем руководстве и оказывали большое влияние на политику и жизнь в стране.
С этой декабрьской встречи в Кисловодске зародилась, как это не раз говорил Горбачев, наша дружба, которая продолжалась почти двадцать лет. Тогда я не мог даже представить, что придет время разочарований и наши пути разойдутся. Счастлив только в одном, что это случилось в конце 1989-го, когда еще «светилась звезда» Горбачева и когда он достиг того, о чем мечтал, — стал президентом великой сверхдержавы; еще до того, как деяния и позиция Горбачева, его противостояние с Ельциным поставили страну на грань катастрофы, привели ее к распаду. Мне было бы постоянным укором, если б наше отчуждение произошло в тот трагический для М. Горбачева момент, когда Б. Ельцин изгнал его из президентской резиденции в Раздорах и из Кремля, а те, кто еще недавно, как, например, А. Яковлев, пели ему панегирики, переметнулись в лагерь врагов.
Разрыв с М. Горбачевым дался мне нелегко. В одном прав В. Лигостаев в своей статье об истории прихода Горбачева к власти — в том, что я был одним из тех, кто помогал ему на жизненном пути, помогал честно, бескорыстно, в полной уверенности, что это делается не просто по дружбе, но на пользу моей стране. Могу ли я укорять себя за это? Могу ли простить себе безграничную веру в М. Горбачева как благо для будущего моей многострадальной Родины? Сегодня находится немало тех, кто обвиняет нас в создании в 1985 году «культа» Горбачева. Им бы вспомнить слова Иисуса, сказанные (в защиту блудницы) фарисеям: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Один из этих камней должен был бы полететь даже в Б. Ельцина, активно способствовавшего избранию М. Горбачева Генеральным секретарем. Вспомним, с каким вздохом облегчения, с какой надеждой на будущее встретили партия и страна появление на политической арене молодого энергичного Генерального секретаря.
Недавно мы встретились с одним из ближайших друзей Горбачева в период его становления как партийного руководителя. Это бывший председатель Ставропольского КГБ Э.Б. Нордман. Я хорошо знал среду КГБ, в которой было немало честных, порядочных людей, но даже среди них Нордман, бывший белорусский партизан, выделялся своей прямотой, простотой и честностью. Он был далек от интриг, которые любили «закручивать» некоторые деятели КГБ, чтобы утвердить свое положение, проявить активность перед начальством, снабдить его необходимой информацией, которую оно в свою очередь могло использовать в своих целях. Так что М. Горбачеву повезло с начальником управления КГБ, да он этого и не скрывал. В определенной степени именно Э. Нордману Горбачев был обязан первыми шагами в своей карьере, в частности избранием первым секретарем Ставропольского крайкома.
Как рассказывал Нордман, незадолго до пленума крайкома КПСС, на котором должен был решаться вопрос о первом секретаре, его пригласил к себе первый заместитель председателя КГБ С. Цвигун. Надо сказать, что в тот период КГБ становился организацией, которая во многом определяла не только жизнь страны, но и жизнь партии. Все кадровые назначения, в том числе и партийные, согласовывались с руководством КГБ. Если учесть, что во главе этой организации стояли люди, близкие Л. Брежневу — Андропов, Цвигун, Цинев, то понятно, почему так много значило мнение КГБ в подобных решениях. Цвигуна интересовало, насколько связан Горбачев как бывший руководящий комсомольский функционер с группой А. Шелепина — В. Семичастного, которые были руководителями комсомола страны в бытность М. Горбачева на посту секретаря обкома комсомола. Считалось, что именно они составляют основную оппозицию Л. Брежневу. Э. Нордман убедил С. Цвигуна, что Горбачев далек от Шелепина и от Семичастного и ничего общего с этой группой не имеет. Это один из штрихов существовавшей тогда сложной системы подбора руководящих кадров, но в конце концов именно такие штрихи определяли вхождение тех или иных личностей в круг власти.
Жизнь Э. Нордмана сложилась непросто. Ю.В. Андропов, который познакомился с ним во время отдыха в Кисловодске, оценив его честность и, считая преданным себе человеком, предложил ему возглавить республиканское управление КГБ Узбекистана. Тот, к сожалению, согласился. К сожалению потому, что Э. Нордман, лишенный способности к интригам, открытый и честный, не мог спокойно относиться к ситуации в республике и остро ставил нелицеприятные вопросы перед Ш. Рашидовым. Тот, понимая, что обо всем, что творится в республике, Э. Нордман информирует Москву, Ю. Андропова, не потерпел рядом с собой такого человека. Что произошло, почему Ю. Андропов не мог защитить Э. Нордмана, я не знаю, помню только, что в течение буквально нескольких дней он переехал из Ташкента в ГДР. Я так и не понял, спасали его или, наоборот, хотели упрятать подальше. По крайней мере, приезжая из ГДР и встречаясь со мной, он говорил, что многие относятся к нему, как к ссыльному.
Ничего не сделал для него и бывший друг М. Горбачев. Свою принципиальность Э. Нордман сохранил до конца. Его откровенные высказывания еще в первые годы прихода М. Горбачева к власти тому не понравились, как, впрочем, и Р. Горбачевой, а мнение жены всегда было для него решающим. Были забыты, как это уже стало обычным для Горбачева, и старая дружба, и поддержка в тяжелые моменты жизни. О дружбе с семьей Э. Нордмана в мемуарах P.M. Горбачевой даже не упоминается. В этом характерная черта четы Горбачевых — забывать людей и друзей, которые становятся ненужными и вспоминать о них, когда появляется нужда. Я хорошо ощутил это на себе.
Вновь и вновь вспоминаю свои взаимоотношения с М. Горбачевым, оцениваю свой возможный вклад в его восхождение на пьедестал власти. Конечно, это был не тот путь, о котором писал в своей иезуитской и мерзкой статье в газете «Правда» (10 марта 1995 г.) В. Легостаев, бывший сотрудник аппарата ЦК КПСС, утверждавший, что все высшее руководство партии и страны было уничтожено только для того, чтобы власть в стране захватил М. Горбачев. От статьи так и веяло духом известного дела врачей 1953 года, чуть было не кончившегося трагедией для выдающихся деятелей медицины. Хотелось мне ответить резко на эту статью, да вспомнился А.С. Пушкин:
Фу! Надоел Курилка журналист.
Как загасить вонючую лучинку?
Как уморить Курилку моего?
Дай мне совет. — Да… плюнуть на него.
Что я и сделал. Но Академия медицинских наук возмутилась, так как в лечении руководителей страны принимали участие многие из ее членов, и газета «Правда» не посмела не напечатать возмущенное письмо членов академии, принятое на ее сессии.
Естественно, что в дружбе с М. Горбачевым я надеялся на его искренность, но, вспоминая хотя бы историю с моим переводом, вопреки моим возражениям, из 4-го Управления в Министерство здравоохранения, начинаю сомневаться, была ли она.
Все это грустно. Поэтому, встретившись с Э. Нордманом и вспоминая наше знакомство, состоявшееся в Архызе благодаря М. Горбачеву, мы с болью говорили о том, как два очень близких ему человека не могли представить ни того, что он приведет к гибели великую державу, ни того, что, достигнув вершин власти, и сам изменится до неузнаваемости. А может быть, просто было два разных Горбачева — как было и два Л. Брежнева, и два Б. Ельцина?
Я хорошо знал первого Горбачева — секретаря крайкома и члена ЦК КПСС, затем секретаря ЦК КПСС при Брежневе, Андропове и Черненко. Передового партийного функционера, полного планов совершенствования жизни в руководимом им Ставропольском крае, а потом и совершенствования сельского хозяйства в СССР; далекого от политических интриг, общительного и доброго человека, который привлекал к себе простотой и интеллигентностью, который легко вписывался в любое общество, в любую компанию. Это несомненно, одаренный человек, широких взглядов, любящий театр, литературу, искусство. Тогда мне казалось, что он представляет тот круг партийных руководителей, которые не на словах, а на деле преданы социалистической и коммунистической идее и работают ради нее, а не ради карьеры. Может быть, я ошибался, но тогда, значит, ошибался и Ю. Андропов, поверивший Горбачеву.
В этой связи мне памятна встреча в Архызе летом 1971 года. После обеда в туристическом пансионате мы вышли с Горбачевым погулять. Была прекрасная погода, невдалеке высились отроги Кавказского хребта, рядом шумела бурная река Зеленчук. Все вокруг, казалось, дышало покоем и вечностью, как это бывает в горах. На землю меня вернул Горбачев, который начал расспрашивать о событиях, происходящих в Москве, о здоровье Л. Брежнева, Ю. Андропова, А. Косыгина, о невидимой даже верхнему эшелону партийной власти на местах борьбе в Политбюро и правительстве. Как всегда, я был откровенен с ним и рассказал о проблемах, которые начинают появляться у Л.И. Брежнева, о роли Ю.В. Андропова в его окружении, положении Д.Ф. Кулакова, которого Горбачев хорошо знал.
Согласившись с тем, что Ю. Андропов — личность в Политбюро неординарная, что это, вероятно, самый талантливый и умный руководитель, честнейший человек. М. Горбачев сказал, что хотел бы более близко познакомиться с ним. Судьба, судьба! Как она бывает непредсказуема! Не выезжай Ю. Андропов в связи с болезнью в Кисловодск на протяжении двенадцати лет, М. Горбачев не встретил бы своего покровителя, который во многом обеспечил его карьеру. И что бы ни говорил, ни писал Михаил Сергеевич, но встреча с Ю. Андроповым на Северном Кавказе во многом определила его судьбу. И надо сказать, что, в отличие от сегодняшнего дня, тогда он это понимал и не раз говорил мне об этом. «Может быть, тебе удастся уговорить и Леонида Ильича приехать к нам на отдых, тем более что он когда-то бывал в Кисловодске, — сказал он. — Проблема одна: негде на хорошем уровне принять его да и других руководителей. Может быть, ты поговоришь с Андроповым о строительстве госдач в Кисловодске, Архызе, Домбае?» Я обещал сделать это, пошутив, что утром мы можем забить колышки на месте будущей дачи в Архызе. И действительно, утром мы вместе со всеми совершили такой обряд, а через два года отмечали открытие на этом месте новой туристической базы. Впоследствии здесь отдыхали не только многие руководители нашей страны, но и главы ряда других государств.
Сегодня архызская дача вошла в печальную историю нашей страны, так как именно там во время встречи М. Горбачева и Г. Коля были приняты решения о будущем Германии. Наверное, на стене дачи можно было бы установить мемориальную доску, на которой начертать, что именно здесь М. Горбачев и Э. Шеварднадзе капитулировали перед «великой Германией», перед Г. Колем и X. Геншером. Как рассказывал нам бывший посол в США А. Бессмертных, даже американцы были удивлены позицией М. Горбачева и Э. Шеварднадзе. Они, в принципе, были готовы подписать соглашение, в котором указывались бы гарантии нераспространения НАТО на Восток и предусматривалось размещение ограниченного контингента советских войск на территории Восточной Германии. Конечно, действующие лица этих событий приведут массу оправданий своим решениям и ссылок на обстоятельства. Михаил Сергеевич любит философию и, наверное, помнит высказывание Платона: «В своих бедствиях люди склонны винить судьбу, богов и все что угодно, только не самих себя». Но зачем обращаться к столь далекому прошлому, когда поучиться защищать свои интересы можно бы у Р. Рейгана, Д. Буша, да и у самой Германии.
Когда я узнал о сути подписанного соглашения, невольно вспомнил слова Г.К. Жукова, произнесенные в разговоре со мной, но обращенные ко всему моему поколению: «Столько жизней отдано за Победу, что, если вы не сохраните ее результатов, потомки вас проклянут». Последние годы жизни Жукова я был тесно связан с ним, да и умирал он на моих руках. Как бы он воспринял эти соглашения?
Судьба этого великого человека неповторима, полна взлетов и падений, но, несмотря ни на что, он сохранил необыкновенную силу воли, порядочность, честность и великую любовь к своему народу и своей Родине. Таких людей я мало встречал на своем большом жизненном пути. Мы познакомились с ним в 1967 году, когда он перенес инфаркт миокарда. В этот период официальные круги относились к нему, мягко говоря, прохладно. Мое высочайшее к нему уважение и постоянная забота способствовали возникновению между нами добрых, дружеских отношений. Понимал он и то, что остался жив только благодаря предложенной мной методике тромболитической терапии.
А было это так. Вскоре после нашего знакомства Г. Жуков попал в больницу с нарастающим тромбозом мозговых сосудов в стволовой части мозга, где расположены жизненно важные центры. Состояние его было безысходным, оставались считанные часы. Помню, как к нему, несмотря на наши возражения, приехал от имени всех военачальников маршал А. Гречко, в то время министр обороны, и испуганный, растерянный оказался около умирающего, ни на что уже не реагирующего Г. Жукова. Для чего нужно было это показное внимание? Видимо, кто-то «наверху», как тогда говорили, хотел, чтобы не было кривотолков вокруг последнего периода жизни героя Великой Отечественной войны.
Приговор расширенного консилиума был единогласным — через несколько часов наступит смерть. Тогда я был моложе на 30 лет, полон оптимизма и научного энтузиазма, мог рисковать. Многое, что мы делаем в годы творческой молодости, не укладывается в рамки сложившихся представлений; сегодня сердце сжимается только при воспоминаниях о подобных случаях. Судьба меня хранила — мне везло, и у нас не было срывов. Так было и в случае с Георгием Константиновичем, когда, получив молчаливое согласие консилиума во главе с нашим ведущим невропатологом, прекрасным врачом и человеком Е.В. Шмидтом, мы рискнули ввести новый препарат, разрушающий тромб. Это был величайший риск, ибо в 70 % случаев его введение могло вызвать кровотечение из поврежденной артерии и ускорить гибель. Но, наверное, судьба хранила Г. Жукова — нам повезло: буквально на наших глазах восстановились дыхание, глотание, речь, исчезли признаки сердечной недостаточности.
Вместе с нами была безумно счастлива жена Георгия Константиновича Галина Александровна. Она была его ангелом-хранителем. Немного видел я жен, с такой силой воли и с такой любовью боровшихся за жизнь и благополучие своего мужа (может быть, по характеру и по ведению близка к ней была жена К. Симонова).
Потом, когда Г. Жуков написал свои известные мемуары, он, вручая их мне на память, сказал: «А ведь без Вас их могло и не быть».
Рок преследовал Г. Жукова до последних дней жизни. У его жены, которая была гораздо моложе его, обнаружился рак с быстрым прогрессированием процесса, она «сгорела» буквально на глазах. Г. Жуков, не раз смотревший смерти в глаза, не перенес гибели жены и буквально через месяц попал в больницу с повторным нарушением мозгового кровообращения. Несколько месяцев — с февраля по июнь 1974 года — он лежал в больнице на улице Грановского, забытый не только официальными кругами, но и своими бывшими товарищами. Мало кто навещал его, помню лишь приезд А. Косыгина, который, думаю, еще раз этим подтвердил свою высокую честность и порядочность. Я часто бывал в этот период у Г. Жукова, и мне всегда было грустно смотреть на его одиночество. Почему жизнь бывает так несправедлива?
Вспоминая суровую жизнь Г. Жукова, одного из тех, кто спас Россию, я смотрю на многих процветающих сегодня, но ограниченных, серых военачальников — как же такая вот серость и «перевертыши» пытаются стереть память о нем, сбросить с того пьедестала, на который его поднял русский народ?!
Георгий Константинович Жуков… Сколько человеческого горя принес ему И. Сталин — ссылка, изоляция, арест и гибель близких друзей. Казалось, ничего, кроме ненависти, не должно было остаться у этого человека по отношению к генералиссимусу. Но когда речь заходила о войне, он нередко вспоминал Сталина. «Глупости говорил Н. Хрущев, что И. Сталин руководил войной по глобусу. Он не хуже нас разбирался в военной обстановке», — не раз слышал я от него. Может быть, и хорошо, что Жуков не дожил до позорного ухода наших войск из Германии и не увидел танцующего под аккомпанемент немецкого оркестра главу нашей страны Б. Ельцина.
Но вернемся в Архыз, в 1971 год. Там я впервые познакомился с P.M. Горбачевой, сыгравшей большую роль в событиях, которые привели к трагическим последствиям — распаду страны и возникшему вслед за этим кризису. Вы спросите, может быть, она была одной из тех, кто стал «роком» для Советского Союза? В истории немало таких роковых женщин, менявших сложившийся государственный и политический строй, способствовавших вознесению или падению лидеров государств. Несомненно одно: ее мнение для Михаила Сергеевича было решающим не только в домашних делах. Тогда, на Северном Кавказе, она не произвела на меня большого впечатления. Ничем не выделявшаяся жена руководителя соответствующего масштаба, типичная не только своей манерой одеваться, но и манерой держаться — то ли жеманностью, то ли стремлением к наставлениям. Узнав, что она преподает в институте философию, я даже подумал, что назидательный стиль своего поведения и разговора со студентами она перенесла в обыденную жизнь. При наших встречах она никогда не обсуждала политические вопросы или темы, связанные с жизнью «в верхах». Разговоры носили больше житейский характер или касались проблем медицины, тем более что ее дочь поступила в медицинский институт. При всех дружеских отношениях Раиса Максимовна казалась мне суховатой дамой, создающей себе имидж мыслящей женщины с определенным философским подходом к жизни, окружающему миру. Может быть, я в чем-то ошибаюсь, но такой ее образ сложился у меня в 70-е годы.
Что привлекало, так это ее отношение к мужу. В тоне и характере ее обращения к нему «Михаил Сергеевич» даже в очень узком кругу сквозило ощущение уважения, любви и в то же время какого-то товарищества. Мне казалось, что именно Раиса Максимовна, а не Михаил Сергеевич являлась тем стержнем, который объединяет семью определяет ее жизненное кредо и стиль поведения. Да и он сам невольно своим поведением, высказываниями, а часто и сознательно подчеркивал не только свою любовь, уважение к ней, но и значимость ее мнения при принятии им тех или иных решений. Не скрою, в те годы меня порой удивляло, как Михаил Сергеевич если не обожествлял, то по крайней мере превозносил в общем-то обычную женщину. То же самое как-то, уже будучи Генеральным секретарем, сказал мне и Ю. Андропов: «Всем хорош Михаил Сергеевич, но уж слишком часто по всем вопросам советуется с женой».
У нас сложились в целом дружеские отношения с Раисой Максимовной, к которой я всегда относился как к жене доброго товарища. Я чувствовал, что в ответ и она относится ко мне по-доброму. По крайней мере в сложный момент жизни, когда P.M. Горбачева, еще находясь в Ставрополе, заболела и решался вопрос, продолжать ей педагогическую деятельность или оставить работу, она обратилась ко мне, ценя, как она сказала, мои человеческие и профессиональные качества. Когда я увидел эту издерганную, представлявшую собой «комок нервов» женщину, у которой на этой почве начали появляться изменения со стороны сердца, я порекомендовал ей немедленно оставить работу и посвятить себя семье. Так она и сделала и, думаю, спасла не только себя, но и помогла М.С. Горбачеву в его нелегкой жизни.
Вспоминаю, как одинока она была сразу после переезда в Москву, как скромно и незаметно держалась в «кремлевском обществе», среди кремлевских жен. И вдруг — такая метаморфоза, причем очень быстрая, которая произошла, когда она стала «первой леди» страны; эту роль она блестяще играла на всем протяжении «царствования» Михаила Сергеевича. Тем не менее ее манера поведения, безапелляционные высказывания многих раздражали и создавали врагов не только для нее, но и для Михаила Сергеевича. Мне кажется, что свои семейные принципы — а в семье, по словам Горбачева, именно она была «секретарем парткома» (мы еще помним, что значил этот пост) — она пыталась перенести на весь Советский Союз. Лавры политического деятеля, пусть даже теневого, не давали ей покоя. Причем это стремление иногда принимало гротескные формы.
Как-то ей пришла мысль создать своеобразный клуб жен членов Политбюро и секретарей ЦК. И вот в моем кабинете министра здравоохранения раздается звонок — Раиса Максимовна приглашает меня сделать сообщение о проблемах охраны здоровья народа на встрече с «высокопоставленными» женами. В доме приемов на Ленинских горах собрались пожилые и средних лет женщины, самые разные по внешнему виду и интересам. Глядя на лица многих из них во время изложения проблем нашего здравоохранения, я почему-то вспомнил обязательные лекции, которые мы как члены партии или члены профсоюза должны были периодически прослушивать. У каждой из пришедших на встречу были свои домашние заботы, дети и внуки, свои проблемы, и я чувствовал, что они как повинность отбывают эти обязательные часы. Но попробуй откажись, когда приглашает жена генсека! Лишь Р. Горбачева искренне верила в значимость подобных заседаний. После того как я изложил плачевное состояние системы здравоохранения, она сказала: «Мы Ваши единомышленники, и мы Вам поможем». Но, как часто бывало при Михаиле Сергеевиче, «суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано»; так ничем все и закончилось.
Вспоминая судьбу Наполеона, Н. Соколов написал еще в середине прошлого века:
Судьба играет человеком,
Она изменчива всегда
To вознесет его высоко,
То бросит в бездну без стыда.
Лучше не скажешь и об истории взлета и падения семьи Горбачевых. Но самое страшное, что это не только судьба одной, пусть даже неординарной семьи, — за ней распад великой державы, политический и экономический кризис, войны, искалеченные судьбы миллионов. Почему рок преследует Россию в лице наших руководителей? Я многократно обращался к прошлому, оценивая путь Горбачева к власти, который он прошел на моих глазах. Тысячу раз задавал себе вопрос: ну ладно, другие — они не были так близки к Горбачеву, но почему я так искренне верил в него, в его талант политического предвидения, в его особую миссию?
В те далекие 70-е годы я все же четко осознавал, что М. Горбачеву далеко до политической мудрости и организаторских способностей тех же А.Н. Косыгина и Ю.В. Андропова, в которых я видел эталон возможного руководителя страны. К сожалению, оба не смогли в силу различных обстоятельств раскрыть свои возможности. На их фоне М. Горбачев выглядел хорошим партийным руководителем, с новыми идеями и мыслями, но не лидером великой державы. Да он и сам не представлял себе, что его ждет такое будущее. С другой стороны, если не М. Горбачев, то кто из более молодого поколения мог бы потенциально претендовать на эту роль: В. Долгих, В. Воротников, К. Катушев, Г. Романов, Я. Рябов, С. Манякин — можно было бы вспомнить еще десяток фамилий. Но все они (может быть, хорошие организаторы) не смогли бы, как мне представляется, вырваться из рамок сложившейся партийной догмы, предложить новые пути в развитии нашей страны.
И еще раз надо сказать, что, несомненно, решающую роль в судьбе М. Горбачева, в его становлении как политического деятеля, вхождении в элиту руководителей страны — в Политбюро — сыграл Ю. Андропов. С Андроповым нас соединяли не только близость, возникающая между тяжелобольным пациентом и лечащим врачом, не только общие проблемы, связанные со здоровьем руководителей нашей страны и друзей за рубежом, но и чувство уважения друг к другу, какое трудно передать словами. Даже в личном плане у нас сложились доверительные отношения. Моя память и сегодня хранит многое, что характеризует высокие человеческие качества Ю. Андропова, которому ничто не было чуждо — ни любовь, ни искусство, ни романтика. Но это уйдет со мной, потому что я даже представить не хочу, что все это может стать предметом досужих обсуждений журналистов и писателей.
Сейчас, когда М. Горбачев сошел со сцены как ведущий политический лидер, чего только не говорят и не пишут о нем! В телевизионной передаче о Ю. Андропове профессор Н. Яковлев договорился до того, будто Михаил Сергеевич выпрашивал у Ю. Андропова пост секретаря ЦК. Эту глупость и комментировать не хочется.
После первых встреч с Горбачевым однажды я завел разговор с Ю. Андроповым об оригинальных взглядах, интересных планах и нестандартном мышлении молодого секретаря Ставропольского крайкома КПСС. Андропов, всегда немногословный в оценке людей, сказал: «Я встречаюсь с ним, когда отдыхаю в Кисловодске, и он производит впечатление неординарного партийного руководителя, да и человек он приятный».
Умный и расчетливый политик, опиравшийся в те времена в основном на поддержку Л. Брежнева и такую всемогущественную организацию, как КГБ, Ю. Андропов понимал, что один из его главных недостатков — отрыв от широких кругов партийных руководителей, где он не мог, в отличие от А. Кириленко или К. Черненко, иметь достаточную опору. Одновременно он хорошо осознавал, какой властью обладает этот круг людей. Понимая, что его время еще не пришло, Ю. Андропов делал все возможное для сохранения на посту Генерального секретаря дряхлого, с прогрессирующим склерозом Леонида Ильича. Как часто я слышал от него, когда заходила речь о здоровье Л.Брежнева: «Да, Вы и я знаем тяжелую ситуацию, да, многие догадываются об истине. Но мы должны сохранять Леонида Ильича, ибо он гарант стабильности в партии и стране».
Я искренне любил и уважал Леонида Ильича. На моих глазах произошло трагическое превращение активного, полного жизненных сил и оптимизма человека в инвалида, требующего ухода за собой. Он прожил непростую жизнь, прошел войну, пережил тяжелые годы послевоенной разрухи, в его политической карьере были взлеты и падения, в 50-е годы он перенес тяжелый инфаркт миокарда, усугубил тяжесть своего состояния злоупотреблением снотворными, и к середине 70-х, что бы ни утверждали мемуаристы типа В. Медведева, это был дряхлый старик. Его превращение из хитрого и умного политика, умелого организатора, мастера политической и дипломатической интриги, знатока «человеческой души» в своеобразного робота, высказывающего чужие мысли и зачитывающего чужие речи, — это не только его личная трагедия, это трагедия его партии и такой великой страны, как СССР. Может быть, именно тогда закладывались корни гибели великой державы. Сегодня я прекрасно осознаю, что, если бы Л. Брежнев, торжественно отметив в Георгиевском зале свое 70-летие, ушел на заслуженный почетный отдых, история нашей Родины сложилась бы по-иному. Но опять злую шутку сыграли с нами борьба за власть, пресловутый принцип стабильности, в который поверил и я.
Ю.В. Андропов, думая о будущем, как дальновидный политик пытался найти в среде партийных работников и привлечь на свою сторону прогрессивных, умных людей, избегая карьеристов, пропитанных догматизмом и чванством. На Северном Кавказе не только во время официальных встреч и проводов, но главным образом в ходе неофициальных бесед и дискуссий за шашлыком на природе, где все располагало к откровенности, состоялось знакомство и с каждым годом крепли товарищеские отношения между Ю. Андроповым и М. Горбачевым.
Андропов не афишировал своих планов в отношении Горбачева. Я узнал о них в определенной степени случайно. Однажды, когда мы встретились с М. Горбачевым в Архызе, у меня возникла неординарная ситуация, каких, по правде сказать, было немало в моей жизни. Только мы сели вокруг приготовленного нами шашлыка, как из поселка приехал вестовой и передал просьбу срочно позвонить Андропову. Архыз еще не был обустроен, и связь работала только в поселке. Горбачев начал волноваться — что-то случилось в Москве, если вот так внезапно, вечером в горах ищут начальника 4-го Управления. Я более спокойно воспринимал такие звонки и внезапные вызовы, понимая, что для Ю. Андропова состояние здоровья Л. Брежнева было залогом благополучия и поэтому он бурно реагировал на малейшие его изменения. Связь с Москвой работала плохо, но все же минут через десять я разговаривал с Андроповым. Связь была открытой, поэтому разговор шел намеками. Я понял, что у Брежнева, который отдыхал в Крыму, возникли проблемы со здоровьем и что я должен срочно вылететь в Крым. «Дмитрий Федорович обеспечит Вам переезд, — сказал Андропов. — Передайте привет Михаилу Сергеевичу и извините, что пришлось прервать вашу встречу». И тут я еще раз уяснил, что каждый шаг, каждое знакомство мое (да, вероятно, и Горбачева) находятся под пристальным вниманием такой могущественной организации, как КГБ. Затем в трубке послышался голос Дмитрия Федоровича Устинова, не только моего пациента, но и «доброго товарища», как он сам представлялся мне и которого я очень уважал и высоко ценил: «Евгений, сейчас темно, вертолет в горы, да еще в ущелье, прилететь не может, Но как только начнется рассвет, он будет у тебя, доставит на военный аэродром в Гудауту, а оттуда ты вылетишь в Крым. Так что будь к рассвету готов».
Возвращаясь, я увидел, как плотный туман начинает окутывать долину. «Куда в такой туман лететь? — искренне волновался Михаил Сергеевич. — Разобьется вертолет. Да я думаю, он и не прилетит. Давайте садиться за стол, а то шашлык остынет». Вечер прошел весело, шумно, как бывает всегда, когда встречаются хорошие знакомые.
Утром действительно стоял плотный туман, и я уже думал, что прав окажется Михаил Сергеевич, как вдруг услышал нарастающий шум, и вскоре над нами завис военный вертолет. Поскольку приземлиться он не мог, летчики спустили для меня веревочную лестницу. Через 30 минут мы уже были в Гудауте, а через полтора часа я садился в автомашину в Симферополе.
Л. Брежнев удивился, увидев меня утром у своей постели. «Ты же, говорят, где-то в горах Кавказа с Горбачевым, как ты тут оказался?» Конечно, я не стал все ему рассказывать, но вызов на сей раз оказался действительно своевременным — у Брежнева начиналось воспаление легких. Из Крыма я вернулся в Москву и, как всегда после таких поездок, встретился с Ю. Андроповым. Подробно обсудив все вопросы, связанные со здоровьем Брежнева, Андропов вдруг неожиданно завел разговор о Горбачеве. «Ну как там Горбачев? Успели вы шашлык съесть? Я люблю бывать в Архызе. Место Вы с Горбачевым выбрали чудесное. Я знаю, что Вы очень разборчивы в знакомствах и живете замкнуто. Это в наше время правильно. Сколько проходимцев, сплетников, карьеристов, льстецов вокруг, иногда и разобраться трудно. Но на Михаила Сергеевича можно положиться. Это другой человек, и я думаю, что Вы не ошибаетесь в нем. С ним можно дружить. Конечно, было бы хорошо, если бы он был в Москве. Но на сегодня я не знаю, как это сделать».
Летом 1978 года в Москве состоялись Пленум ЦК КПСС и сессия Верховного Совета СССР. М.С. Горбачев приехал на заседание вместе с женой. Мы встретились, как старые друзья. Незадолго до этого мне было присвоено звание Героя Социалистического Труда, и я предложил вместе отметить это событие.
Мы были втроем, поэтому разговор, как бывает среди старых знакомых, сразу принял непринужденный и откровенный характер. Даже Раису Максимовну покинула некая чопорность, которая бывала при других наших встречах, тогда это была простая милая женщина, «без комплексов», как сейчас принято говорить. Мы обсуждали все: театр, который любили Горбачевы, литературу, философию, 4-е Управление и Северный Кавказ. Незаметно разговор перешел на ситуацию в партии, стране, положение в руководящей верхушке. Я рассказал о разговоре с Ю. Андроповым, о его желании видеть Михаила Сергеевича среди руководства в Москве. Горбачев ответил, что некоторые предложения были, но они его не устраивают и пока он перспектив для себя в центре не видит. Мы расстались с надеждой на лучшее будущее для М.С. Горбачева, которого он заслуживал, но пока, к сожалению, без реальной перспективы.
И опять, как не раз я наблюдал в жизни, вмешалась судьба. Я не отвергаю ни значимости политической ситуации, ни влияния определенных общественных сил, ни состояния экономики, ни, как еще недавно было принято говорить, роли «народных масс» и их влияния на ход исторических событий, на борьбу за власть. Не отвергаю я и личностных качеств лидеров. Но сколько раз рок, другого слова не подберешь, на моих глазах возносил человека на пьедестал и свергал его оттуда. В истории восхождения к власти многих политических деятелей — Брежнева и Андропова, Черненко и Горбачева, Ельцина — были такие непредсказуемые повороты судьбы, и не будь их, неизвестно, как сложилась бы их жизнь. Для Горбачева одна из таких ситуаций возникла в июле 1978 года.
Расставаясь с ним в первых числах июля, я, да и, уверен, он сам не предполагали, что развитие событий примет такой оборот. 17 июля 1978 года я, как всегда, в 8 утра уже был в своем кабинете. Не успел я ознакомиться с рапортами дежурных, как раздался звонок правительственной связи, и я услышал срывающийся на рыдания голос жены Ф. Кулакова. Она просила меня срочно приехать на дачу — ей кажется, что с мужем что-то случилось. Я очень хорошо знал Федора Давыдовича. В 1969 году мы случайно обнаружили у него рак желудка; к счастью, процесс находился в ранней стадии и операция, выполненная главным хирургом 4-го Управления профессором B.C. Маятом, привела к полному излечению, по крайней мере при тщательном ежегодном обследовании мы не обнаруживали рецидивов болезни. Естественно, у нас сложились добрые отношения пациента и врача. На них накладывало отпечаток и то, что Ф. Кулаков входил в группу доверенных лиц Брежнева. По крайней мере во встречах самых приближенных лиц, которые устраивал Леонид Ильич, когда находился в больнице, постоянно участвовал и Кулаков.
Это был человек, искренне преданный Брежневу. На его глазах произошло разительное изменение личности генсека, он тяжело переживал складывающуюся обстановку, связанную с утратой Леонидом Ильичом Брежневым активности, конкретного мышления, а отсюда — способности к руководству. Трудно сказать, что именно повлияло: понимание политической обстановки, которая не сулила впереди ничего хорошего, диагноз рака, который хотя и не проявлялся, но мог в любой момент рецидивировать, непростые семейные обстоятельства, но врачи и близкое окружение стали замечать, что Федор Давыдович начал злоупотреблять алкоголем. Мы предупреждали его, что организм ослаблен болезнью, что появились признаки коронарной недостаточности, поэтому употребление алкоголя может вызвать тяжелые осложнения.
Он как будто соглашался с нами, какое-то время держался, а потом опять происходили срывы. Я вынужден был рассказать Л. Брежневу и Ю. Андропову о проблемах, которые у нас возникли с Ф. Кулаковым. Брежнев никак не отреагировал на сообщение, а Андропов обещал мне по-товарищески поговорить с Кулаковым, с которым он был в хороших отношениях. Не знаю, состоялся ли такой разговор, но в поведении Кулакова ничего не изменилось.
Дача Ф. Кулакова находилась на Рублевском шоссе в районе станции Усово. Потребовалось минут тридцать, чтобы добраться, и все же я был первым, кто вошел в спальню, где находился Федор Давыдович. Для меня стало ясно, что у него наступила внезапная остановка сердца в связи с болезнью. Я искренне переживал смерть этого доброго, простого, по-своему несчастного человека, который хоть и не блистал талантами, но ответственно относился к своему делу.
Буквально за две недели до его смерти Л. Брежнев выступил на пленуме ЦК КПСС с изложением аграрной программы, которая была подготовлена Ф. Кулаковым. Пройдет всего четыре года, и Брежнев на майском пленуме ЦК КПСС в 1982 году будет вновь выступать с программой аграрных преобразований, на сей раз подготовленной уже М. Горбачевым. Сколько таких программ было принято, только от этого сельское хозяйство в нашей стране лучше не стало…
Л. Брежнев, Ю. Андропов, да и другие члены Политбюро без больших эмоций восприняли сообщение о смерти Ф. Кулакова. Брежнев сказал: «Жалко Федю, хороший был человек и специалист отменный. Кто его теперь заменит?» — и попросил Черненко и Андропова сделать все возможное, чтобы не было ненужных разговоров вокруг этой трагедии. Ю. Андропов попросил меня подъехать к нему, и, после того как я изложил ему причины смерти Кулакова, он, как мне показалось, искренне посетовав на смерть одного из своих товарищей, близких Брежневу, сказал: «На это место надо выдвигать Горбачева. Это не только умный и толковый руководитель, но и наш человек». Возвращаясь от него, я думал о логике жизни: уходит человек, но его уход определяет судьбу другого, который приходит ему на смену.
Я понял, что Андропов начал действовать. Мне стало известно, что он и Д. Устинов встречались с Брежневым и речь шла о назначении Горбачева на место скончавшегося Кулакова. Не знаю, что ответил им Брежнев, но в первых числах августа мы опять разговаривали с Андроповым. Человек осторожный, не раскрывавшийся до конца даже с самыми близкими людьми, он, хотя и знал о наших дружеских отношениях с М. Горбачевым, лишь в общих чертах обрисовал складывающуюся ситуацию: «Леонид Ильич хорошо отзывается о Горбачеве, вроде, и поддерживает, но что-то мнется с решением. Нет ли тут влияния Черненко? Возможно, у него есть своя кандидатура. Правда, нам об этом ничего не известно. Да и не знает Черненко о наших дружеских отношениях с Горбачевым. Я знаю, что Вы в ближайшие дни будете у Леонида Ильича (он отдыхал в Крыму), хорошо, если бы Вы нашли способ выяснить его мнение о Михаиле Сергеевиче. Вероятно, будете и у Черненко (тот после отставки Н. Подгорного отдыхал в Крыму, рядом с дачей Л.И. Брежнева). Может быть, удастся узнать и его позицию в отношении Горбачева».
В это время, учитывая состояние Л. Брежнева, я очень часто бывал у него в Крыму. Почему-то мне запомнилось число: 6 августа 1978 года — день, когда я впервые после разговора с Андроповым встретился с Брежневым. Стояла жаркая даже для Крыма погода, но в спальне, где мы вместе с лечащим врачом М. Косаревым проводили консультации, было прохладно. Л. Брежнев, который из-за действия снотворных средств просыпался поздно и очень долго приходил в себя, был в таком состоянии, что начинать с ним разговор, о котором говорил Ю. Андропов, было бессмысленно. Выручил сам Брежнев: «Знаешь, Евгений, ты подожди. Я сейчас соберусь, и мы пойдем на пирс. Посмотришь, как я плаваю».
Действительно, минут через тридцать он появился, и мы пошли к морю. По мере того как Л. Брежнев дряхлел и у него усугублялся склероз, все более четко обозначались две его навязчивые идеи — несмотря ни на что он должен плавать в море и охотиться. Видимо, этим он хотел доказать окружающим, а возможно, прежде всего самому себе, что еще сохранил свою активность и форму, которой всегда гордился.
Как это похоже на Б. Ельцина, который, перенеся инфаркт миокарда, пытался играть в теннис и охотиться в том же Завидово, которое было любимым местом Л. Брежнева. До чего же желанна, сладка и в то же время коварна власть, если ради нее мучаются, страдают больные и дряхлые политические лидеры, создавая видимость здоровья, бодрости и работоспособности, — и вот кто-то плавает в бассейне или в море, кто-то охотится, кто-то играет в теннис, не сознавая, что эта показная активность вызывает у врагов злорадство, а у обычного обывателя — раздражение, смешанное с иронией.
До пирса было всего метров двести, но мы дошли до него минут за пятнадцать. Я не знал, как начать разговор, но Л. Брежнев сам его завел. Пошла речь о Москве, о событиях в политике и жизни, о недавней смерти Ф. Кулакова. Брежнев стал перебирать по памяти возможные кандидатуры на освободившееся место секретаря ЦК и первым назвал Горбачева. «Правда, есть и возражения, — добавил он, — хотя большинство говорят, что он стоящий партийный руководитель. Вернусь в Москву — все взвесим». Конечно, я сказал в адрес Горбачева все добрые слова, которые были возможны в этой обстановке.
Выразив свое удовольствие по поводу того, что Брежнев плавает, стремится вести активный образ жизни, я откланялся и по дорожке вдоль моря отправился на соседнюю дачу, к Черненко. Он был в домике около моря и весьма радушно принял меня. За чаем шел разговор в общем и ни о чем. Обсуждали проблемы его здоровья, наконец, перешли на тему, которая его весьма волновала, — состояние здоровья Брежнева. Он часто, даже на отдыхе, встречался с ним и реально представлял, как быстро идет процесс разрушения личности. «В этой ситуации, — заметил он, — важно, чтобы вокруг него были настоящие друзья, преданные люди». Перечисляя окружение, он с сожалением сказал, что ушел из жизни близкий Брежневу ф. Кулаков. «На его место, — продолжал он, — есть целый ряд кандидатур. Леонид Ильич хочет выдвинуть Горбачева. Отзывы о нем неплохие. Но я его мало знаю с позиций человеческих качеств, с позиций отношения к Брежневу. Вы, случайно, его не знаете?» К этому времени я уже выучил азбуку поведения в политической борьбе или интриге — называйте это как угодно. Нельзя раскрывать свои карты, надо больше молчать, больше спрашивать и узнавать, делая вид, что и ты многое знаешь. Да и верить в искренность слов надо с определенной натяжкой. Вот почему я не стал раскрывать К. Черненко наших дружеских отношений с М. Горбачевым, а, будто между прочим, сказал, что, часто бывая на Северном Кавказе, слышал о нем много хорошего. Из этого разговора я понял, что Черненко не знает о том, что выдвижения Горбачева добивается Андропов. Кстати, о наших дружеских отношениях с Горбачевым Черненко не знал и позднее, когда стал Генеральным секретарем.
Вернувшись в Москву, я рассказал Ю. Андропову о наших встречах с Брежневым и Черненко. Он не скрывал своего удовлетворения тем, что Брежнев думает выдвинуть на пост секретаря ЦК М. Горбачева. «Для нас очень хорошо, что Горбачев будет в Москве», — заявил он в заключение. Кого он подразумевал, говоря «нас», я тогда так и не понял; было бы правильнее сказать не «нас», а «меня».
И вот 27 ноября 1978 года Пленум ЦК КПСС избирает М.С. Горбачева секретарем ЦК КПСС по проблемам сельского хозяйства. Знаменательно, что на этом же пленуме К.У. Черненко переводится из кандидатов в члены Политбюро, а Н.А. Тихонов и Э.А. Шеварднадзе избираются кандидатами в члены Политбюро.
В судьбе Горбачева это было решающее событие: он переезжает в Москву, входит в состав высшего руководства, и перед ним открывается дорога к вершинам власти. Неизвестно, как бы сложилась его жизнь да и судьба страны, если бы он остался в Ставрополе, если бы не было ноября 1978 года. Зная все перипетии, предшествовавшие этому назначению (изложение, как видите, заняло несколько страниц), я никак не могу согласиться с Р. Горбачевой — она явно лукавила, заявляя в своих мемуарах, что переезд в Москву был неожиданным для их семьи.
Начало конца
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.
А. С. Пушкин
Итак, свершилось роковое предначертание — М. Горбачев переехал в Москву и вошел в ту когорту из 25 человек, которая определяла настоящее и будущее такой великой державы, как СССР.
Меня всегда увлекала философия медицины. К удивлению, мне даже однажды предложили (что я и сделал) выступить на страницах известного партийного теоретического журнала «Коммунист». Естественно, я часто обращался к истории и обнаружил массу интересных фактов. Многим известны философские воззрения Гиппократа, Авиценны, И. Сеченова, И. Павлова и многих других корифеев медицины. Но мало, например, кто знает, что первым, кто прочитал и написал восторженный отзыв на философские письма П. Чаадаева (в частности, на «Некрополис»), был его врач и друг, один из основоположников русской медицины М. Мудров.
Особенно меня поразили две личности из далекого прошлого медицины. Поразили не только своей удивительной врачебной судьбой, но и философскими взглядами, стремлением познать суть процессов, определяющих будущее человека и человечества. Во многом история их жизни схожа. Оба — выходцы из еврейских семей, оба подвергались преследованиям церкви, были прекрасными врачами, наряду с медицинской практикой занимались астрологией и философией. Один, Маймонид, жил в XII веке и был лейб-медиком и приближенным великого арабского завоевателя Саладина; другой, М. Нотр-Дам (Нострадамус), жил в XVI веке, был врачом французской королевской семьи — короля Карла IX. Можно по-разному относиться к предсказаниям М. Нотр-Дама, изложенным в книге «Centuries» (1555): они настолько запутанны и туманны, что каждый может трактовать их по-своему. Однако объективности ради надо признать среди них и весьма впечатляющие совпадения. Предсказать в середине XVI века открытие телескопа и космической эры мог только неординарный человек. М. Нотр-Дам писал:
Мы звезды откроем оптическим глазом,
Невидимый мир воссияет во мгле.
Нас Бог вдохновит сокровенным указом,
Космический путь приближая к Земле.
А как пророчески сегодня звучат его слова:
Он власть захватил как поборник свободы.
Народ обольщенный его поддержал.
Но рухнули им возведенные своды,
И в прах превратился былой идеал.
Можно критиковать философские позиции Маймонида (близкие к философии Аристотеля), изложенные в его основном труде «Учитель заблудших». Но и он, и Нотр-Дам, хотя и с разных позиций (один — с позиций веры в высшее предназначение судьбы человека и народов, другой — с верой в истину, познаваемую разумом), утверждали бренность человеческого существования, его частую зависимость от ситуаций и обстоятельств, на которые невозможно повлиять. Маймонид искал спасение для человека в свободе воли, утверждая лишь бессмертие души, а Нотр-Дам считал, что судьба государства и народов пред определена и неотвратима.
Так что же, они правы и действительно многое не зависит от нас и надо верить только в бессмертие души? Или же, как недавно утверждалось, только сам человек — творец своей судьбы? Мне кажется, не стоит спорить по этому вопросу. Просто каждому надо оглянуться на свою жизнь и попытаться объективно, без предвзятости, оценить отдельные факты из истории страны и народа.
Оглядываясь назад и вспоминая переезд М. Горбачева в Москву, я задаюсь вопросом: а думал ли кто-нибудь всерьез, в том числе и сам Михаил Сергеевич, что тогда он прошел первую ступень на пути к высшей власти, которая в то время отождествлялась с должностью Генерального секретаря ЦК КПСС? Представляли ли мы, знавшие Горбачева, что среди нас политик, который «перевернет весь мир»? Другой вопрос: во имя чего и что за этим последует, что будет со страной, с народами великой державы?! Уверен, никто даже представить себе этого не мог.
В Москве после назначения секретарем ЦК КПСС, через год — кандидатом в члены Политбюро, а еще через год — членом Политбюро М. Горбачев держался крайне осторожно, стараясь не выделяться. Его высказывания и выступления были взвешенны. Видимо, перед его глазами была печальная судьба коллег, подобных ему молодых секретарей ЦК, выходцев из среды местных партийных руководителей К. Катушева и Я. Рябова. Но мне кажется, во многом его линия поведения определялась советами Ю. Андропова. Постепенно Горбачев занял почетное место в элите партийных руководителей, все больше и больше становился «нашим» в центральном аппарате партии.
Из случайных высказываний и коротких замечаний Брежнева я уловил, что он начал симпатизировать молодому секретарю ЦК КПСС по сельскому хозяйству и поддерживать его; ему импонировали активность Горбачева, определенная новизна в его подходах к аграрной политике. Только за первый год работы под руководством Горбачева было выпущено шесть или семь постановлений по вопросам сельского хозяйства. Другое дело, как эти решения воплощались в жизнь; но, впрочем, этот вопрос можно было бы в дальнейшем обратить к М. Горбачеву и как к руководителю страны. Да и Б. Ельцин недалеко ушел от своего предшественника.
М. Горбачеву, как я понимал, было нелегко не только в партийном аппарате, но и в руководимом им аграрном комплексе. Министр мелиорации и водного хозяйства Н. Васильев был тесно связан с днепропетровским окружением Л. Брежнева и играл немалую роль в формировании мнения о том или ином руководителе. К. Беляк — министр машиностроения для животноводства и кормопроизводства (министерства явно надуманного) был женат на сестре Виктории Петровны Брежневой, и этим все сказано. Пустой, амбициозный и к тому же хамоватый, он был среди «косыгинских» министров одиозной личностью. Другие руководители аграрного комплекса — В. Месяц, Л. Хитрун — были тесно связаны с центральным партийным аппаратом, имели большой вес и широкие связи с руководством страны. Объединить столь разных людей, остаться со всеми в хороших отношениях, пользоваться их поддержкой мог только очень искусный дипломат и политик.
В этом отношении мне запомнился 50-летний юбилей Михаила Сергеевича. У него на даче собралось все руководство агропромышленного комплекса. И хотя торжество проходило в дружеской, «домашней» атмосфере, я ощущал внутреннее напряжение Горбачева. Надо сказать, что и в Политбюро многие (Н. Тихонов, В. Гришин, А. Громыко) относились к М. Горбачеву в тот период по меньшей мере снисходительно.
После переезда в Москву Горбачевы жили замкнуто. Их поселили, согласно существовавшей табели о рангах, в деревянной даче старой постройки в Сосновке, близ пересечения Рублевского шоссе с Московской кольцевой автомобильной дорогой. Место было неудачное — неподалеку находилась Кунцевская птицефабрика, «ароматы» которой при определенном направлении ветра заполняли всю округу. С облегчением вздохнула семья Горбачевых, когда всвязи с переходом Михаила Сергеевича на новую ступень в партийной иерархии ему предоставили в районе Усово комфортабельную дачу, которая когда-то была построена для Ф. Кулакова.
Наши дружеские отношения сохранились и после переезда Горбачева в Москву. Традиционно, по старой памяти, Михаил Сергеевич приглашал меня «на шашлык». Это были встречи в узком кругу: он, Раиса Максимовна и их дочь с мужем. Мне нравилось бывать у Горбачевых, где царила обстановка взаимопонимания и доброжелательства. Пока готовились шашлыки, мы с Михаилом Сергеевичем бродили по дорожкам дачи и обсуждали наиболее острые вопросы жизни страны и политики. Ситуация с каждым годом становилась все сложнее. Руководство страны, олицетворявшееся в те времена Политбюро, дряхлело: М.А. Суслову было за 75, А.П. Кириленко далеко за 70, в 1979 году А.Я. Пельше исполнилось 80, А.Н. Косыгину — 75, А.А. Громыко — 70, Л.И. Брежнев приближался к своему 75-летию. Что-то нас ждет, что ждет партию, учитывая, что КПСС стоит перед своим XXVI съездом? Эти вопросы волновали многих.
Но мы, зная ситуацию в Политбюро и настроение в руководящих кругах партии, прекрасно понимали, что съезд вряд ли что-то изменит и в расстановке сил, и в жизни страны и народа. Статус-кво вполне устраивало не только престарелых членов Политбюро, но и большинство партийного аппарата на всех уровнях, боявшегося потерять насиженные места и определенное положение в обществе.
Партия, а значит, и страна жили, исходя из двух оказавшихся роковыми принципов, которые чаще всего провозглашал М. Суслов: «Этого не может быть, потому что такого не было» и «Стабильность кадров обеспечивает спокойствие в партии и стране».
Ох уж этот тезис о «стабильности»! Его, как правило, использует заинтересованное в сохранении своего положения окружение больного или одряхлевшего властителя. Причем ему, этому окружению, многих удается убедить в искренности своих побуждений, убедить в том числе и самого лидера, которому внушают, что в «стабильности» залог спокойствия и процветания страны, о нем мечтают простые люди.
Я сам искренне верил в то, что, сохранив Брежнева, мы, как не раз говорил мне Ю. Андропов, сохраняем благополучие Советского Союза и его народов. И я отдавал все свои силы и знания поддержанию хоть какой-то видимости работоспособности Л. Брежнева не только в силу своего врачебного долга, но и с верой в то, что совершаю благое для своего народа дело.
Те, кто проповедовал «стабильность», способствовали формированию в конце 70-х — начале 80-х годов периода, который М. Горбачев окрестил периодом застоя (хотя дай Бог, чтобы сегодня в промышленности, сельском хозяйстве, науке у нас были бы такие показатели!). Современные политологи и историки связывают этот период с именем Брежнева, но это справедливо лишь отчасти.
Чтобы не было кривотолков, хочу еще раз сказать, что в истории партии и страны, в жизни было два Л. Брежнева. Один — победивший в сложной политической борьбе Н. Хрущева, группу А. Шелепина, способствовавший не только созданию сверхдержавы, но и принятию ряда решений, улучшивших жизнь советских людей (установление пенсионного возраста для женщин с 55, а для мужчин с 60 лет, введение оплаты труда и пенсий колхозникам, снижение цен на многие товары, провозглашение принципов мирного сосуществования с капиталистическими странами, выгодное для страны решение германского вопроса и т. д.). Другой Брежнев, где-то начиная с 1975–1976 годов, — добрый, все глубже уходящий в склероз «дедушка», потерявший конкретные нити управления партией и страной, передоверивший решение всех вопросов своему окружению.
И опять встает роковой вопрос: почему? Почему никто ничего не предпринимал для того, чтобы изменить ситуацию; почему все молчали — тот же Ю. Андропов, тот же М. Горбачев, который еще в 1980 году стал членом Политбюро? Все мы виноваты. Мы молчали и принимали все как должное. Виноваты и входившие в то время в состав ЦК КПСС Б. Ельцин, И. Силаев, Э. Шеварднадзе и многие другие, сваливающие сегодня все наши беды на застойные годы. Почему Ельцин не поднял свой голос, который громко звучал при Горбачеве, тогда, в период Брежнева и Андропова? Нет же, молчали. Кто-то скажет: было диссидентское движение, был академик А. Сахаров. Но будем откровенны: они были далеки от народа, от его нужд. Ничего конкретного, особенно в области экономики, что могло бы изменить жизнь страны, в их выступлениях не было. Абстрактные призывы к свободе и демократии вряд ли могли привлечь простого рабочего или колхозника.
Судьба страны, судьба народа, судьба каждого из нас — как часто она зависит от складывающихся обстоятельств. История полна примеров, когда все понимают, что надо что-то предпринимать, чтобы изменить ситуацию, что она грозит бедой и так больше жить нельзя, но в силу личной заинтересованности, страха за свое благополучие одних и равнодушия и страха перед возможным будущим других ничто не меняется. Так было, так есть.
Сегодня мы можем только предполагать, как изменилась бы судьба нашей страны, передай Брежнев в 1976 году, перед XXV съездом КПСС, руководство в другие, более молодые руки — того же Андропова. Почему этого не случилось? Почему все мирились со сложившимся положением? Некоторые из окружения Брежнева пытались утверждать, что не знали истины. Ироническую улыбку вызывают воспоминания одного из охранников Л. Брежнева, который, свалив всю ответственность за его дряхление (вполне возможный вариант даже для здорового человека старше 70 лет) на медицину, пытается доказать, что, если бы Брежнева убедили не принимать большие дозы снотворных и организовали постоянное дежурство врачебной бригады на дому, все было бы прекрасно.
В конце концов дело не в уговорах: и уговаривали, и пугали, предрекая то будущее, к которому он пришел, и собирали консилиумы ведущих специалистов, которые аккуратно записывали свои рекомендации, а Брежнев их не соблюдал. И суть даже не в том, что никто, кроме медиков, в силу их профессионального долга, не боролся за сохранение его интеллекта и здоровья. Остальные просто делали вид, что все прекрасно, что страной руководит мудрый и прозорливый Генеральный секретарь. Более того, наиболее приближенные к нему (Тихонов, Черненко, Цвигун), чтобы добиться расположения Брежнева, снабжали его снотворными, которые врачи запрещали. Андропов по моей рекомендации, когда Брежнев потребовал от него снотворное, вышел из положения, передавая ему «пустышки», похожие на венгерский препарат ативан, которыми его снабжал В. Чебриков. Они и сегодня хранятся у меня в кабинете. Кстати, передавал их Брежневу один из его охранников, В. Медведев, который, как мне говорил Андропов, был его человеком в семействе Брежневых. Позднее Р. Горбачева сделает его начальником охраны своего мужа.
Суть прежде всего вот в чем: может ли в принципе руководить такой страной, как бывший Советский Союз или Россия, лидер, нуждающийся в постоянном медицинском контроле и лечении, в постоянном уходе, а главное, теряющий способность аналитического мышления? Лидер, лишь подписывающий, не вникая в их смысл, решения, которые ему подсовывает его окружение. Хорошо еще, что около Брежнева был в принципе честный и преданный ему Черненко, который контролировал этот процесс и не допускал больших ляпсусов.
Когда после победы группы, назвавшей себя «демократами», был поднят вопрос о необходимости оценки здоровья лиц, приходящих в руководство, я скептически воспринял эти заявления. Вращаясь почти 25 лет в верхних эшелонах власти, я знал, что это — самое сокровенное и тщательно охраняемое. И вряд ли истина, как и в прошлом, станет достоянием широких кругов. Мой скептицизм оправдался. Никаких решений законодатели так и не приняли.
Всегда следует искать: а кому это выгодно? Конечно, не народу, который в таких случаях, как всегда, «безмолвствует». Это выгодно прежде всего окружению генсека или президента, которое захватило власть и отдавать ее не хочет, понимая, что новая метла по-новому метет, а оставлять теплые, насиженные места, притом сегодня нередко еще и доходные, никому не хочется.
При Л. Брежневе сыграла роль и та ситуация, которая сложилась в последние годы его правления. Устранив с политической арены двух возможных конкурентов — А. Шелепина и Н. Подгорного, он остался в кругу лидеров, которые не могли претендовать на его место в силу своего возраста (М. Суслов, А. Кириленко), либо тех, кто хотел бы занять это место, но понимал, что в существующем раскладе сил они ничего предпринять не могут. Все видели, что Л. Брежнев теряет способность к аналитическому мышлению, превращается в «робота», зачитывающего чужие речи и даже ведущего переговоры с главами других государств «по бумажке». С 1972 года официально о его состоянии и будущем знал Ю. Андропов; с 1975 года официальная информация о состоянии здоровья Брежнева была передана второму человеку в партии — М. Суслову; с 1978 года официальные заключения о состоянии здоровья Генерального секретаря неоднократно передавались в Политбюро. Никакой реакции не последовало, да ее и не могло быть, потому что Брежнев устраивал на этом посту всех. Дальновидный Леонид Ильич, еще будучи в хорошем состоянии, так расставил кадры на всех уровнях, что мог быть спокоен за свое будущее при любых условиях, даже утратив способность к личному руководству партией и государством. Ни Суслов, ни Подгорный, ни Кириленко не имели такой поддержки в партийном аппарате, который составлял основу, как сейчас принято говорить, командно-административной системы. Несомненно, два человека в окружении Л. Брежнева в значительной степени обеспечили ему сохранение поста Генерального секретаря ЦК КПСС. Это были Ю. Андропов с руководимой им могущественной системой КГБ и К. Черненко с не менее могущественным партийным аппаратом.
Брежнев исповедовал испытанный за годы власти принцип «разделяй и властвуй». В Политбюро друг против друга сидели два антипода — Косыгин и Подгорный; в КГБ, которым руководил преданный ему до конца Андропов, он, понимая значимость этой организации, поставил еще двух близких ему Цвигуна и Цинева, которые терпеть не могли друг друга.
Один-два раза в месяц мы регулярно встречались с Ю. Андроповым. Обычно это было по субботам в его уютном кабинете на площади Дзержинского, когда пустели коридоры власти, затихали «вертушки» и можно было спокойно обсудить общие для нас проблемы. Несколько раз наши встречи проходили на его конспиративной квартире в доме сталинской постройки на Садовом кольце недалеко от Театра сатиры. В этих случаях организовывался весьма скромный обед с учетом строгой диеты, которой из-за тяжелой болезни почек придерживался Андропов. Разговор шел в основном о состоянии здоровья Брежнева, наших шагах в связи с его болезнью, обстановке в верхних эшелонах власти. Умный и дальновидный политик, с аналитическим складом ума, Ю. Андропов, как шахматист, проигрывал возможные варианты поведения тех или иных политических деятелей, различных кругов — от членов ЦК, близкого окружения Л. Брежнева до первых заместителей председателя КГБ. Андропов понимал, что его первые замы поставлены Брежневым для контроля за тем, что творится в этой всемогущественной организации.
Опытный дипломат, Ю. Андропов избрал самый верный путь — он сделал и Цвигуна, и Цинева своими самыми близкими помощниками, постоянно подчеркивая свое уважение к ним и дружеское расположение. Уверен в том, что Брежнев высоко ценил и по-своему любил Андропова, определенное значение имело и мнение двух его доверенных людей в КГБ. Но Ю. Андропов четко знал суть каждого, знал грань допустимого и в обсуждении острых проблем, и в отношениях с ними. Меня он не раз предупреждал: это можно обсуждать с Циневым или Цвигуном, это можно раскрыть только Циневу, а вот об этом вообще не стоит говорить.
Когда возникала сложная, весьма конфиденциальная ситуация (как, например, с передачей Брежневу вместо разрушающих его личность снотворных средств, которые он требовал от своих друзей, «пустышек», заполненных безвредным нейтральным порошком), Ю. Андропов обращался к В. Чебрикову, которому беспредельно доверял. Недаром на второй или третий день после избрания Генеральным секретарем ЦК КПСС он освободил с поста председателя КГБ ставленника К. Черненко — Федорчука и назначил на его место Чебрикова.
Одна из самых больших ошибок М. Горбачева заключалась в переводе В. Чебрикова секретарем ЦК КПСС с поста председателя КГБ и назначении на эту должность В. Крючкова, бывшего помощника Андропова, начальника его секретариата, а затем руководителя разведки. В. Крючков, честный, принципиальный, несколько прямолинейный, конечно, все же уступал Чебрикову в возможностях организации работы такой системы, как КГБ, а главное, в оценке складывающейся политической ситуации и возможных ее последствий. И, к сожалению, ни тот ни другой не имели тех талантов, которыми обладал Ю. Андропов. Зная многих сотрудников КГБ тех лет, могу утверждать, что Ю. Андропова не только уважали и признавали в этой организации, но и в определенной степени гордились им.
Наши встречи с Андроповым были весьма откровенными. Я полностью доверял ему и, зная его честность, верил: все, что он делает, — на благо страны, на благо народа. Может быть, я ошибался, как, например, тогда, когда он убедил меня, что сохранение хотя бы минимальной активности Брежнева и его пребывание на посту генсека — в интересах страны, ибо обеспечивает спокойствие, стабильность и мир. Мне кажется, что и Ю. Андропов при всей присущей ему осторожности чувствовал себя со мной раскованным, хотя, конечно, и не раскрывался до конца.
Часто наши беседы выходили за рамки обсуждения только здоровья Брежнева. Я видел разного Ю. Андропова. Видел я его и растерянным, непохожим на себя, перед вступлением наших войск в Афганистан. Помню, как он волновался, когда пытался перед штурмом дворца Амина выманить из Кабула брата Амина — Абдулу, начальника госбезопасности Афганистана. (Это был, по его словам, не только жестокий человек, виновник гибели многих видных афганских политических и общественных деятелей, но и человек, державший в руках охрану Кабула.) Когда с нашей помощью это удалось, по реакции Ю. Андропова я понял, в каком напряжении находится этот внешне спокойный и уравновешенный человек. Я не услышал от него «спасибо», но его слова после завершения операции были точно рассчитаны на нас: «Вы, наверное, не представляете, что она (операция по вызову брата Амина в Москву) сохранила не один десяток жизней наших людей».
Редко я видел его эмоции — радость по поводу успехов, возмущение и горечь в связи с неудачами. Это был очень рациональный, расчетливый человек. Однажды, как бы предчувствуя ту критику, которая обрушится на нас, врачей, после смерти Брежнева от некоторых деятелей из его окружения, я предложил Ю. Андропову, чтобы кто-нибудь предупредил членов Политбюро и друзей генсека о пагубности приема им снотворных средств и так называемых транквилизаторов. Подумав, Андропов ответил: «Не будьте наивным. Неужели Вы думаете, что запретительными мерами можно что-то сделать? Ну, я прислушиваюсь к Вам, Дмитрий Федорович (Устинов), Громыко, может быть, еще один-два человека. Да если Леонид Ильич захочет, найдутся десятки людей, которые тут же побегут доставать эти лекарства, чтобы услужить генсеку или чтобы извлечь выгоду для себя». Так и было: многие, в том числе и члены Политбюро, зная о запрете, поставляли Брежневу его любимые лекарства. (Позже, при Б. Ельцине, было то же самое, только речь шла не о лекарствах, а об алкоголе.)
Однажды Ю. Андропов встретил меня в необычном для него радостном возбуждении. Чувствовалось, что ему хочется выговориться. «Вы знаете, у нас (конечно, он подразумевал не Политбюро или ЦК, а КГБ) большая радость. Нам удалось отправить на Запад А. Солженицына. Спасибо немцам, они нам очень помогли». Зная отношение многих в руководстве страной к А. Солженицыну и их требования принять необходимые меры по пресечению его антисоветской и антигосударственной деятельности, я понял, что Ю. Андропов радуется, найдя такой вариант решения, который устраивает всех, и прежде всего его самого. Именно так, думал я, лидер должен решать вопросы, четко просчитывая возможные варианты, реально оценивая действительность, не поддаваясь сиюминутным настроениям. Надо сказать, что он искренне, а не ради карьеры и не на словах, как многие «перевертыши», был предан идеалам социализма, пролетарской революции, которая сделала из него, волжского матроса, видного государственного деятеля. Можно по-разному относиться к нему, к его деятельности, но нельзя не уважать его за искреннюю веру в принципы, которые он отстаивал, ибо считал, что это — во благо страны и народа. Конечно, такой человек будет до конца защищать и свои идеалы, и взрастивший его строй, причем защищать любыми средствами, искренне веря, что делает это для пользы страны. Иногда в воспоминаниях об Андропове проскальзывает утверждение, что, если бы он жил подольше, оставаясь на посту Генерального секретаря, произошла бы трансформация государственного строя. Это не заблуждение — это незнание Андропова. Уверен, что при нем никогда бы не претерпел изменений социалистический строй. Точно так же он сознательно, а не под чьим-то давлением, как пытаются доказать, вел борьбу с диссидентским движением, считая, что диссиденты — враги существовавшего строя, пытающиеся, прикрываясь демагогическими лозунгами, разрушить государство. Он искренне верил в необходимость такой борьбы и ее законность.
В то же время как интеллигентный, широко образованный человек он хотел сохранить себя и не превратиться в ординарного руководителя «тайной полиции», как Ж. Фуше, или, еще хуже, как Л. Берия. Он не хотел обвинений в терроре, насилии, внутренне симпатизировал прогрессивным взглядам, если они не шли вразрез с его мировоззрением. Ко мне он неоднократно обращался с просьбой помочь видным деятелям науки, литературы, искусства, например создателю детского музыкального театра Н. Сац.
Но если он считал, что чья-то деятельность вредит существующему строю, может способствовать его разрушению, этот человек становился его врагом. Таким, конечно, был для него А. Сахаров. У меня сложилось впечатление, что в то же время Ю. Андропов ценил его как умного и талантливого ученого, считая, что он превратился в игрушку в руках второй жены, Е. Боннер, стал «рупором ее взглядов». Сейчас говорят, что Андропов пытался сделать из Сахарова сумасшедшего. Ну если бы он хотел, что могло бы помешать ему это сделать? Однако я хорошо помню, как однажды, еще в 70-е годы, он сказал: «Ну и недалекие некоторые наши с Вами знакомые. Они предлагают заняться формированием общественного мнения в том плане, что высказывания А. Сахарова — это высказывания психически неуравновешенного человека. Ну кто в это поверит? Кто же тогда у нас создавал атомное оружие — сумасшедшие? Кого у нас избирают в Академию наук — сумасшедших? Высказывания Сахарова — это высказывания умного талантливого врага нашего социалистического строя, а не бред сумасшедшего».
В 1973 году меня как-то пригласил к себе Н.Н. Блохин, президент Академии медицинских наук, и сказал: «Знаешь, мы подготовили письмо, критикующее позицию академика А. Сахарова. Его подписали все ведущие ученые, согласишься ли и ты его подписать?» Мы в те годы были в близких, дружеских отношениях с Н. Блохиным, и я спросил, почему нам, медикам, надо подписывать это письмо, не зная к тому же, что говорил или писал А. Сахаров в США? Н. Блохин ответил: «В своих обращениях он призывает к разрыву отношений с нами, к экономическим санкциям».
В это время только забрезжил рассвет в наших отношениях с США, было подписано соглашение о сотрудничестве в области медицины, мы стали работать вместе с нашими коллегами — американскими учеными. Выступать против всего этого, казалось мне, было просто глупо и непростительно со всех точек зрения.
Не помню, кто еще присутствовал при разговоре, но, встретившись со мной, Ю. Андропов спросил, почему у меня возникли колебания при подписании заявления по поводу Сахарова. Когда я повторил ему свой вопрос, который раньше задавал Н. Блохину, он ответил тоже вопросом: «А Вы как считаете, если кто-то выступает за срыв переговоров, которые несут спокойствие и мир, уменьшают военную опасность, предлагает экономически давить на страну, он что — патриот своей Родины, своего народа? Ведь в конце концов он выступает не только против правительства, потому что все, что произойдет, ляжет на плечи народа. Бросьте свои интеллигентские угрызения совести».
Кстати, через десять лет, когда уже не было ни Брежнева, ни Андропова, изъятое из архивов заявление Академии медицинских наук, подписанное в том числе и мной, определенные круги пытались использовать в борьбе с организованным известным американским кардиологом Б. Лауном и мной международным движением врачей, выступавших против ядерного оружия. Грустно было сознавать, что имя Сахарова пытаются использовать в борьбе против тех, кто выступает за уничтожение ядерного оружия, за создание атмосферы доверия между народами.
Несмотря на замечание Ю. Андропова о моих интеллигентских угрызениях совести, я по просьбе представителей международного движения врачей, моих зарубежных друзей неоднократно обращался к нему по поводу положения Сахарова и каждый раз чувствовал его недовольство, хотя и скрытое под маской доброжелательства. Считая, что в судьбе Сахарова роковую роль сыграла Е. Боннер, он как-то в сердцах сказал: «Упустили мы Сахарова. Глупо поступил Хрущев, да и мы были не лучше. Даже поговорить с ним никто не захотел. Не было больших проблем, особенно когда он жил с первой женой».
По роду работы я знал историю первой семьи Андрея Дмитриевича, тяжелую болезнь жены, историю его детей от первого брака. Когда А.Д. Сахаров находился в ссылке в г. Горьком (решение о которой было величайшей ошибкой, о чем я честно говорил и Ю. Андропову и Д. Устинову), я, передавая очередную просьбу Ю. Андропову, спросил: «Почему, если он враг существующего строя и народа, нельзя выпустить его за границу, тем более что имеются многочисленные просьбы, есть и предлог: лечение? Ссылка в Горький только укрепит позиции Сахарова, создаст ореол мученика и борца за счастье народа». Андропов раздраженно ответил: «Это было бы лучшее для нас и для меня в первую очередь. Но есть официальное заключение министра среднего машиностроения Е. Славского и президента Академии наук А. Александрова о том, что Сахаров продолжает оставаться носителем строго секретных государственных тайн и его выезд за рубеж нежелателен. И переступить эту бумагу никто не хочет, а я не могу».
То, что это было действительно так, подтвердилось позднее. 18 декабря 1985 года, после вручения Нобелевской премии мира, меня и профессора Б. Лауна принимал М. Горбачев. В Осло нас с Лауном буквально атаковали вопросами о положении А. Сахарова, все еще находившегося в ссылке. Там я не считал возможным объяснять общественности и прессе, что все наши обращения в отношении А. Сахарова не давали результата. Мы договорились с Б. Лауном, что одним из вопросов, которые мы поднимем при встрече с М. Горбачевым, будет наряду с ядерным разоружением и запрещением испытаний ядерного оружия вопрос о Сахарове.
Когда мы завели разговор о А. Сахарове, его выезде за рубеж, первой реакцией М. Горбачева, несмотря на наши дружеские отношения, было желание отмахнуться от нас, как от назойливых мух. Видимо, ему уже надоела эта тема. Он заметил, что есть заключение о том, что Сахаров является носителем государственной тайны. Б. Лаун стал убеждать М. Горбачева, что продолжение ссылки Сахарова подрывает авторитет Горбачева среди широкой массы интеллигенции и общественности США. Михаил Сергеевич заявил, что вопрос сложный, с ходу не может быть решен, но он обещает его рассмотреть. Как известно, на это рассмотрение ему потребовался почти год.
Может быть, я субъективен, но, встань Ю. Андропов во главе государства в конце 70-х годов, история нашей страны писалась бы по-иному. А.Н. Яковлев пытается убедить всех, что Андропов создал бы «казарменный социализм». Думаю, это заявление либо от незнания Андропова, его высказываний, либо дань моде, которая сегодня царит в обществе и служит сиюминутным интересам определенных кругов. К сожалению, в те годы у Ю. Андропова не было никаких шансов стать руководителем страны.
И дело даже не в том, что Брежнев (которому к тому же Ю. Андропов был предан до конца) считал себя, как и многие старики, активным, незаменимым руководителем, которого любит и уважает народ. Главное — верхушку партийной иерархии, определяющую жизнь страны, устраивало сложившееся статус-кво, сохраняющее положение каждого из них. Мне бывает стыдно и неловко, когда многие из этой верхушки, сохранив свои «кресла» или приобретя новые, сегодня клянут годы застоя. А где же вы были тогда? Почему молчали или произносили панегирики в честь Брежнева и социалистического строя? Помимо того что Брежнев всех устраивал, многие боялись прихода к власти Андропова, понимая, что при нем кончится их спокойная жизнь, кончится время карьеристов и демагогов, потребуются профессионализм, дисциплина, конкретные дела, многие потеряют теплые, насиженные места. Это в первую очередь касалось партийной верхушки. И Андропов искал в этой среде тех, на кого смог бы опираться. Таким был для него Горбачев.
Был еще один момент, который беспокоил Ю. Андропова и о котором многие не только не знали, но даже не догадывались: это разгоравшееся соперничество между ним и Черненко. Долгое время умный и хитрый Ю.В. Андропов, располагавший к тому же мощной информационно-аналитической системой, какой являлся КГБ, был не только самым близким советчиком, но и другом Брежнева. Для Л.И. Брежнева мнение преданного ему «Юры» было одним из самых главных критериев при принятии решений. Однако по мере того, как Л. Брежнев терял способность к руководству и принятию решений, в его ближайшем окружении начал выдвигаться на первый план К.У. Черненко.
В чем же причина быстрого роста скромного, не блиставшего талантами, не имевшего особого политического веса заведующего общим отделом ЦК КПСС? Брежнев при всем распаде мышления понимал, что в аппарате ЦК КПСС, его секретариате должен быть до конца преданный ему человек, который будет не только следить за всем, что происходит в ЦК, в среде партийных руководителей, и информировать его, но и создаст видимость его активного участия в деятельности партии и государства, скроет немощь и неспособность к самостоятельному принятию решений. Черненко прекрасно справлялся с этой задачей и в определенной степени стал вторым «я» Брежнева. По крайней мере после 1976 года я не раз был свидетелем того, как Л. Брежнев подписывал документы, присланные и завизированные К. Черненко, не вчитываясь и не вдумываясь в них.
Состоявшийся в конце февраля 1981 года XXVI съезд КПСС прошел строго по намеченному Политбюро плану, «без сучка без задоринки», в атмосфере «дружеской встречи» руководства и представителей партийных масс. Не было даже намека на острую дискуссию. А ведь в его работе принимали участие будущие борцы за «демократию» М. Горбачев, Э. Шеварднадзе, Б. Ельцин, будущие борцы за национальную независимость. Почему они мирились с начавшимся застоем, что их удерживало? Конечно, в первую очередь сильная власть, которую еще не «раскачали» решения М. Горбачева. Но не меньшее значение имело и то, что всех устраивала обстановка в стране и все боялись только одного — лишь бы что-то не нарушило плавного течения жизни. Таковы были политическая обстановка и расклад сил на вершине Олимпа, когда съезд окончательно утвердил положение М. Горбачева как члена Политбюро. «Белой вороной» выделялся он, молодой, среди престарелого состава руководства страны.
Мы встретились с ним через два месяца после окончания съезда, когда улеглась волна славословий в честь съезда и его решений, открывающих, как писалось, «новую страницу в развитии коммунистического общества». Началась обыденная жизнь, полная проблем и нерешенных вопросов. Мы оба понимали, что страна в предстоящем пятилетии стоит перед большими событиями. Лучше всего это ощущение передавало выражение, ходившее среди врачей 4-го Главного управления, прекрасно ориентировавшихся в состоянии здоровья членов Политбюро: «Мы вступили, — говорили они, — в период трех "П" — пятилетку пышных похорон». Конечно, это звучало цинично, но отражало истину. По-человечески мне был понятен интерес Горбачева к состоянию здоровья Брежнева. Никто в Политбюро, видя его угасание, не сомневался, что будущее печально. Но когда наступит трагический исход, никто не мог знать, тем более что нам, хотя и с трудом, но удавалось поддерживать Л.И. Брежнева.
Был прекрасный майский день, мы ходили по дорожкам дачи на высоком берегу Москвы-реки, смотрели плантации, посаженные еще Ф.Д. Кулаковым, но я понимал, что у Горбачева, как и у меня, из головы не выходит один вопрос: что будет, если Брежнев уйдет из жизни? Горбачев сделал ставку на Андропова и понимал, что при других вариантах ему будет трудно сохранить свое положение. Как бы читая его мысли, я заметил: «Думаю, что Брежнев потянет еще год, максимум — два, не больше. Я сказал об этом Андропову, но он, видимо, не до конца оценивает создавшееся положение. Здесь и моя вина, потому что об угрожающем состоянии Брежнева я говорю ему уже с 1975 года и, возможно, он уже привык к моим заявлениям. Ему надо что-то срочно предпринимать, чтобы перейти из КГБ в ЦК». М. Горбачев согласился, что это был бы, конечно, лучший вариант, но, насколько он понимает, сделать это в настоящее время невозможно. «Конечно, сейчас Брежнев нужен Андропову, — сказал он, — поэтому тебе надо постараться его сохранить».
М. Горбачев понимал, что сложившаяся ситуация в руководстве страной уже привела к негативным последствиям и в жизни общества, и в развитии народного хозяйства. Однако, оценивая политическую ситуацию, он стоял за сохранение статус-кво, обеспечивающее его положение и положение Ю.В. Андропова. Он хорошо знал проблемы со здоровьем у Андропова и, как и я, переживал за его будущее. И не только с позиций личной заинтересованности, учитывая его близость к Андропову, но и понимая, что именно этот человек — единственный в Политбюро, кто способен вывести страну из тупика, в который она зашла. Он не раз мне говорил об этом и раньше.
В общем, обстановка не настраивала на оптимистический лад. Тяжелые мысли прервал зять М.С. Горбачева — Анатолий, объявивший, что шашлыки готовы. За столом в саду мы забыли о политический ситуации, об интригах в высших эшелонах власти, о том, «что день грядущий нам готовит». Разговор шел о новых театральных постановках, об искусстве и литературе. Раиса Максимовна с горечью говорила, что не может найти общий язык с женами членов и кандидатов в члены Политбюро, кругозор большинства которых не шел дальше дачи, нарядов, драгоценностей и карт. «У нас с Михаилом Сергеевичем, — продолжала она, — одна отрада — театр. За это время мы столько раз побывали в театре, сколько не были за всю предыдущую жизнь».
Разговор перешел на будущее дочери и зятя, которые в этом, 1981 году, закончили институт. Дочь хотела идти в какой-то степени по стопам Раисы Максимовны и предполагала работать в области философских социальных проблем медицины. В дальнейшем она и начала работать на кафедре социальной гигиены II Московского мединститута, но во второй половине 80-х годов, сложно сказать, по какой причине, перешла в руководимый мной Кардиологический центр. Зятю, который хотел стать хирургом, я рекомендовал работу в клинике моего близкого товарища академика B.C. Савельева, которую считал одной из лучших клиник страны, и надо сказать, что в этом учреждении он показал себя с лучшей стороны и как хирург, и как человек. Что меня прельщало в младших Горбачевых — это их скромность, отзывчивость и ответственность. Чувствовалось воспитание Раисы Максимовны. В те годы для детей членов Политбюро были открыты любые возможности. Многие, как бы хвастаясь друг перед другом, заводили автомашины иностранных марок, в основном «Мерседесы». Когда речь о покупке машины зашла у Горбачевых, старшие сказали: купите только «Жигули». Зять Горбачева так и ездил на машине этой марки, даже после 1985 года.
Тогда, весной 1981 года, мы простились с Горбачевым, не предполагая, как быстро и круто начнут разворачиваться события. В сентябре тяжелый инфаркт перенес А.Н. Косыгин. С учетом ранее произошедшего кровоизлияния в мозг он был вынужден покинуть пост Председателя Совета Министров СССР, на который в конце октября назначается близкий Брежневу Н.А. Тихонов.
Однако наиболее драматические события развернулись после смерти в конце января 1982 года М.А. Суслова. Формально он был вторым человеком в Политбюро, и его влияние во многом определяло жизнь КПСС и соответственно жизнь страны. И если в стране царили консерватизм, бюрократизм и догматизм, то в значительной степени это определялось взглядами и характером Суслова. Невероятно, но факт: его мнение часто бывало решающим для Брежнева, его остерегался такой могущественный человек, как Андропов. В партии Суслов олицетворял старое сталинское крыло, которое имело глубокие корни и определенную поддержку в среде партийных руководителей различных рангов. Восьмидесятилетний Суслов страдал тяжелым атеросклерозом сосудов сердца и мозга. Возникший тромбоз сосудов мозга с развитием инсульта привел к смерти в течение двух дней. Кресло «серого кардинала» стало свободным.
У меня не было сомнений в том, что на это место Брежнев выдвинет преданного ему и в то же время самого талантливого в Политбюро Ю.В. Андропова. На сообщение о смерти М. Суслова Брежнев прореагировал (по моему мнению, в связи со своим состоянием) спокойно, сказав: «Замена ему есть. Лучше Юрия (он всех из близкого окружения называл по имени) нет никого». Мне казалось, что вопрос решен, и я по телефону сказал об этом М.С. Горбачеву. Тот не скрывал радости по поводу возможного назначения Ю.В. Андропова. Однако неожиданно в ход событий вмешались политические амбиции группы, поддерживающей К.У. Черненко, быстро набиравшего вес в окружении Брежнева.
В разговорах со мной Ю. Андропов не скрывал своего стремления поскорее перейти с площади Дзержинского (где размещался КГБ) на Старую площадь (где размещался ЦК КПСС). При всей его активности, способности вести политическую борьбу и политическую интригу у него временами появлялись неоправданная мнительность и осторожность. Так было и после смерти Суслова. Колебания Брежнева, как мне казалось, были связаны с важнейшей проблемой. С одной стороны, у него не было сомнений в том, что лучшей фигуры, чем Ю. Андропов, на посту второго секретаря ЦК нет. Но, с другой стороны, он прекрасно сознавал значимость поста председателя КГБ для сохранения не только господствующего общественно-политического строя, но и его собственных позиций как генерального секретаря ЦК КПСС. Он был уверен в личной преданности Ю.В. Андропова. А какова будет степень преданности нового председателя КГБ?
Близкий ему заместитель председателя КГБ С. Цвигун покончил жизнь самоубийством, второй заместитель — близкий друг Г. Цинев — тяжело болен. Кого ставить на этот важный и ответственный пост? Этот вопрос не давал покоя Брежневу. Тем более что вокруг него развернулась «невидимая миру» борьба двух группировок — Андропова и Черненко. Андропов предлагал на пост председателя КГБ одного из своих заместителей — Чебрикова. К. Черненко, резонно опасаясь усиления политического влияния Андропова, предложил на это место более близкого ему или по крайней мере нейтрального председателя КГБ Украины В.В. Федорчука. Эта политическая интрига, связанная с борьбой за власть, продолжалась несколько месяцев.
М. Горбачев знал досконально всю подоплеку развернувшейся политической борьбы, однако оставался в стороне от нее, так как не обладал ни большим влиянием в высших эшелонах партийной власти, ни возможностями плести политическую интригу. В это время он во всем — в высказываниях, в поведении — типичный представитель, как сегодня говорят, коммунистической командно-административной системы. Стоит только ознакомиться с его выступлением в апреле 1981 года на совещании идеологических работников в Москве или с его статьей в журнале «Коммунист» № 10 за 1982 год: в них и намека нет на те принципы, которые он начал выдвигать через 3 года, особенно после XIX партийной конференции.
Его, наконец, начинают направлять во главе официальных делегаций на съезды коммунистических партий социалистических стран. И пусть пока это лишь Монголия и Вьетнам, но сам факт говорил уже о многом. Вспоминая официальные выступления на этих съездах главы советской делегации М. Горбачева, трудно даже представить, что этот же человек через 3–4 года начнет демонтаж советской внешней политики и разрушение сложившейся системы международного коммунизма. Чего стоит его выступление во Вьетнаме, где он говорил: «В роли организатора очередного "крестового похода" против мира и прогресса выступает американский империализм. Силы агрессии и милитаризма угрожают поставить человечество на грань мировой термоядерной катастрофы. Идеологи американской реакции вновь призывают распространить господство Соединенных Штатов на весь земной шар. Практически нет сейчас на земле такого района, где бы в результате действия Вашингтона и его усердных подручных не осложнилась обстановка». Правда, в это время его будущий партнер по мирным переговорам и соглашениям об ограничении ядерного оружия Президент США Р. Рейган еще более резко высказывался в отношении Советского Союза — «империи зла», по его выражению.
Пока Ю. Андропов боролся за переход из КГБ в ЦК КПСС, за вторую позицию в партии, М. Горбачев усиленно подготавливал пленум ЦК, на котором должна была рассматриваться Продовольственная программа партии. Вопрос продовольствия всегда был «ахиллесовой пятой» КПСС, таил в себе постоянный источник для недовольства народа. Вот почему организуемому пленуму ЦК КПСС придавалось большое значение. Значимость его подчеркивалась и тем, что с докладом должен был выступать Л. Брежнев. Зная его возможности в этот период, я четко представлял, что на большее, чем плохо прочитать подготовленный доклад, он не способен. М. Горбачев волновался по поводу того, как пройдет пленум, учитывая, что отрасль находится в запущенном состоянии, а продовольственное обеспечение было притчей во языцех на всех пленумах, конференциях, собраниях.
Не могу восстановить в памяти всех подробностей пленума, состоявшегося в конце мая 1982 года. Это был последний пленум ЦК, который проходил под руководством Л. Брежнева. Мне он запомнился таким же стандартным, показным, как и все предыдущие. Так же «шепелявил» Брежнев, выступая с докладом, так же приветствовалась линия Политбюро и ЦК КПСС, как и всегда, было много лозунговых выступлений без аналитической критики и конкретных предложений. Для меня единственным важным событием на этом пленуме было избрание Андропова секретарем ЦК КПСС. Его приход в ЦК, как нам казалось, знаменовал собой новый этап в развитии нашего государства и общества.
Для меня эти дни были знаменательны двумя событиями — окончанием строительства руководимого мной кардиоцентра и проведением IX Международного конгресса кардиологов, на который съехалось около восьми тысяч делегатов из разных стран мира. Обе эти акции стали большими событиями в жизни страны, и их успех во многом поднял престиж советской медицины. Слух о высоком архитектурном, технологическом и медицинском уровне кардиоцентра быстро распространился не только в среде ученых и врачей, но и в «московском обществе». По крайней мере А.А. Громыко просил меня принять и познакомить с центром жену Президента Филиппин Э. Маркос, находившуюся в это время с официальным визитом в Москве. А сколько других официальных делегаций нам тогда пришлось принимать!
Позвонил М. Горбачев, поздравил с успехами и сказал: «Что же ты своим друзьям не показываешь новый дворец науки? Сколько разговоров о нем! Мы с Раисой Максимовной хотели бы побывать у тебя в гостях в центре. Посмотрим, а потом поедем к нам на шашлыки». Центр понравился Горбачевым, понравилась молодежь, которой были тогда полны наши лаборатории. М. Горбачев заинтересовался работами по синтезу пептидов, которые составляют основу ряда гормонов. Кстати, по его просьбе в центре очень быстро был синтезирован гормон, увеличивающий продуктивность скота. Горбачевы понравились моим ученикам и сотрудникам своей простотой, демократичностью, интеллектом. Встреча была непринужденной и как-то по-дружески теплой.
На даче, куда мы приехали из кардиоцентра, Горбачев не скрывал своего хорошего настроения, он был полон планов совместной с Ю. Андроповым работы в ЦК. Я хорошо представлял себе, как он нужен в данный момент Андропову. Понимал это и Горбачев, говоривший, что «нашему другу» придется первое время нелегко, учитывая сложный характер взаимоотношений в ЦК, где были сильны позиции К. Черненко, где непонятную позицию нередко занимал И.В. Капитонов, руководивший организационным отделом, а управляющий делами ЦК Г.С. Павлов вообще никого, кроме Брежнева, не признавал. Но главное — это, конечно, добиться признания и поддержки руководителей крупных партийных организаций на местах. Чувствовалось, что Горбачев полон желания начать действовать, работать по-новому, внедрять новые идеи. В них, конечно, даже намека не было на те основополагающие принципы «перестройки», которые он начал выдвигать после апреля 1985 года.
А жизнь продолжалась по-старому. Переход Ю. Андропова в ЦК КПСС на том, первом этапе не изменил стиля и принципов работы партии, а тем самым ничего не изменил в жизни общества и страны. Дальновидный и тонкий политик, Андропов понимал, что в окружении сложившейся консервативной и бюрократической партийной олигархии провести даже минимальные реформы невозможно.
С переходом его на Старую площадь мы стали встречаться гораздо реже, только как врач с пациентом. Но даже в эти редкие встречи я чувствовал его колоссальное напряжение и большую осторожность. Как-то при разговоре о необходимости кадровых изменений у него невольно вырвалось признание: «Что можно сделать, если даже на пустяковое решение Кириленко заявляет: так ведь ты нас всех разгонишь».
Приход Андропова в ЦК КПСС не всем был по душе, но открыто выступать против него боялись, зная не только их близкую дружбу с Брежневым, но и то, что за его спиной стоит всемогущий аппарат КГБ, который, хотя его и пытается «приручить» новый шеф, Федорчук, по-прежнему верит в Андропова и поддерживает его.
Перед Ю. Андроповым стояла задача завоевать твердые позиции в партийной среде, привлечь на свою сторону руководителей среднего ранга, создать определенное общественное мнение в отношении его возможностей, тем более учитывая ярлык «шефа КГБ». В завоевании симпатий и поддержки партийного аппарата и, что не менее важно, секретарей крайкомов и обкомов, во многом определявших не только жизнь в стране, но и общественное мнение, незаменимым был М. Горбачев.
Вышедший из среды местных партийных руководителей, тесно связанный с многими членами ЦК, Горбачев хорошо знал не только их чаяния, но и их суть и мог ориентировать далекого от партийной жизни Ю. Андропова в той или иной ситуации. Из моих общений с Андроповым я мог заключить, что в это непростое для него время его ближайшим советчиком и помощником в ЦК становится Горбачев. Пожалуй, из всего состава Политбюро Ю. Андропов мог рассчитывать в полной мере лишь на него, на А. Громыко да на своего близкого друга Д. Устинова. Андропов полностью доверился мнению Горбачева в отношении партийных кадров, что привело, по его же словам, к целому ряду ошибок.
Сейчас иногда даже некоторые бывшие работники аппарата ЦК КПСС говорят о дружеских отношениях Ю. Андропова и К. Черненко. Действительно, внешне казалось, что в Политбюро нет ближе товарищей, чем они. Оба — ставленники Л. Брежнева, оба — самые преданные ему члены Политбюро, вместе решают вопросы, и у них не возникает разногласий. Но надо знать простейшую арифметику политической жизни, чтобы за этой внешней стороной медали увидеть политические и человеческие интриги. (Так было, так есть и может быть в современном мире, во многом потерявшем порядочность. И выглядит это весьма неприглядно, если не мерзко.) Продолжалась невидимая борьба за близость к Брежневу, а с учетом состояния его здоровья и работоспособности — борьба за власть.
Я отчетливо это понял в октябре 1982 года, когда начали разыгрывать карту, связанную с болезнью Ю. Андропова. К этому времени я уже хорошо познал сценарий закулисных политических интриг, грязную логику борьбы за власть, когда все средства хороши. Болезнь, настоящую или мнимую, придуманную авторами политической интриги, начинают использовать, когда нет других путей устранить противника в борьбе за власть. В моей профессиональной жизни это был не единственный случай.
Один из самых интригующих эпизодов, чуть было не изменивший ситуацию на Ближнем Востоке, связан с историей болезни президента Сирии X. Асада. Это началось весной 1983 года, когда нашей страной руководил Ю. Андропов. Однажды поздно вечером у меня в кабинете раздался звонок, и я услышал знакомый, ставший в последнее время из-за болезни хриплым голос Андропова. Он, как всегда вежливо, спросил, не мог бы я подъехать к нему в Кремль. К этому времени ему из-за полной остановки функции почек уже начали проводить сеансы гемодиализа. Естественно, в моей голове пронеслись вопросы, один страшнее другого: не случилось ли что-то неожиданное с ним, тем более что он скрывал тяжесть своей болезни даже от близких. От улицы Грановского, где помещалось Управление, до Кремля в те времена можно было доехать за пять минут, так что я даже не успел перебрать в голове все возможные причины для такого неожиданного и позднего визита, тем более что мы из-за медицинских процедур часто встречались в Центральной клинической больнице. Видимо, у меня был взволнованный и напряженный вид, когда я вошел в кабинет Андропова, потому что он, улыбнувшись, спросил: «А как Вы себя чувствуете, Евгений Иванович?» У меня отлегло от сердца. Вопрос не в его состоянии здоровья, решил я, а остальное в то время было для меня не самым главным.
Ю. Андропов продолжал: «Вы извините за поздний звонок, но пришла несколько странная просьба от президента Сирии X. Асада. Он обратился прямо ко мне, по нашим каналам, с просьбой прислать специалистов, занимающихся проблемой болезней сердца. В этом не было бы ничего странного, учитывая международный авторитет наших профессоров в этой области, но почему-то он просил не информировать об этом сирийское посольство в Москве и направить врачей в Дамаск конфиденциально и как можно быстрее. Я бы просил Вас организовать эту консультацию. Ситуация в Сирии складывается сложная. Мы не знаем подробностей, но в руководстве Сирии что-то происходит, а нам важно сохранить на посту лидера этой страны нашего друга X. Асада».
Учитывая, что через несколько дней Ю. Андропову предстоял очередной сеанс гемодиализа, на котором мне необходимо было присутствовать, я предложил сначала направить в Дамаск двух наших ведущих кардиологов, которых считал и считаю прекрасными специалистами, — профессоров B.C. Гасилина и И.В. Мартынова. Уже на следующий день они вылетели в Сирию. Когда через несколько дней я встретился с ними в Дамаске, они выглядели несколько растерянными. «Мы ничего не понимаем, — рассказывали они мне перед нашей совместной консультацией X. Асада. — Кто-то убедил президента Сирии, что он тяжело болен, что ему противопоказаны любые физические и психические нагрузки и что если он хочет жить, то должен сменить стиль жизни и работы. Сирийские врачи соглашаются с такими предложениями, а X. Асад находится в состоянии депрессии, не зная что делать: продолжать активную политическую деятельность или согласиться с мнением некоторых "доброжелателей" (неизвестно — из президентского окружения или из членов его семьи и близких родственников)».
Когда мы встретились с X. Асадом, меня поразили его глаза, в которых были тревога, ожидание врачебного приговора, грусть обреченности. Докладывавшие историю болезни сирийские врачи заключили ее диагнозом: тяжелая форма ишемической кардиомиопатии. У нас, как и в большинстве стран, такой формулировки диагноза нет, мы трактуем его так: ишемическая болезнь сердца с явлениями кардиосклероза. И клиническая картина, и данные объективного обследования не укладывались в рамки тяжелой формы ишемической болезни сердца, на которой настаивали сирийские специалисты. Пациентов, подобных X. Асаду, тысячи, и все они ведут активный образ жизни и обычно не меняют ни ее стиль, ни стиль работы.
После консультации все это мы высказали X. Асаду. Чтобы полностью снять всякие сомнения и у президента, и у его окружения и отвергнуть тяжелый диагноз, мы предложили провести дополнительно исследование сердца с помощью радиоизотопной методики. Она подтвердила наше заключение о характере процесса. Помню, как на наших глазах менялся X. Асад — его настроение, поведение, даже голос. Можно было его понять: ведь мы вернули ему веру в жизнь, веру в будущее, а что может быть дороже здоровья и жизни! Даже власть теряет свою прелесть для больного и обреченного человека.
Больше всех радовался Саид. Не знаю даже, какое место в табели о рангах в президентском окружении он занимал, знаю только, что это был один из очень близких и доверенных X. Асаду людей. Именно он обеспечивал не только наше общение с президентом, прекрасно зная русский язык, но и организацию нашей поездки в Сирию. По просьбе Асада именно он поддерживал на протяжении последующих лет связь со мной. Дело в том, что, помня слова Ю. Андропова о необходимости для нашей страны сохранения здоровья и работоспособности Асада и учитывая наличие признаков ишемической болезни сердца, я оставил рекомендации на случай, если течение болезни осложнится инфарктом миокарда. В них был пункт об обязательном срочном раннем использовании предложенных нами тромболитических средств. Через каждые шесть месяцев (срок годности этих препаратов) Саид приезжал в Москву и забирал их с собой. К счастью, они так и не потребовались.
Но история на этом не закончилась. Осенью 1987 года, когда я уже возглавлял Министерство здравоохранения, мне передали, что во время визита в Москву со мной очень хочет встретиться X. Асад. Он всегда импонировал мне своей интеллигентностью, восточной сдержанностью, прекрасным сочетанием величия арабского лидера и простоты в общении. Я знал многих восточных лидеров, но, пожалуй, только Г. Насер и он произвели на меня впечатление очень умных талантливых политиков и руководителей страны, преданных своему делу и своему народу.
Конечно, я с большим удовольствием вновь, через четыре года, встретился с X. Асадом. Каково же было мое удивление, когда я опять увидел его в состоянии депрессии, может быть, несколько меньшей, чем в 1983 году, но с той же тревогой и внутренней обреченностью. Оказалось, на этот раз ему сказали, что у него онкологическое заболевание. Не надо объяснять, что значит этот диагноз для любого человека, а тем более для руководителя страны.
И опять, проведя тщательное обследование, мы полностью исключили диагноз злокачественной опухоли. Асад покидал нас, окрыленный сознанием того, что он здоров и может оставаться лидером своего народа.
Эта история еще раз подтверждает, каким острым оружием может быть состояние здоровья политической элиты в борьбе за власть. Хорошо, что в сложной обстановке рядом с Асадом были честные, преданные своему врачебному долгу и к тому же квалифицированные специалисты. А окажись на нашем месте врачи, которые бы слепо исполняли чужую волю или просто не способные разобраться в сути болезни и ее прогнозе? Они бы не только сломали жизнь и судьбу X. Асада, но и вызвали бы тяжелый политический кризис, который отразился бы на судьбе Сирии и ее народа.
Я не хотел бы, чтобы мои очередные оппоненты заявили в связи с изложенной историей, что Чазов пытается защищать больных или одряхлевших руководителей страны, которые цепляются за власть, хотя уже не способны управлять страной. Нет, нет и еще раз нет! Если состояние здоровья ограничивает работоспособность руководителя, если он вследствие своей болезни представляет угрозу будущему страны и народа, такой лидер или политический деятель, конечно, вызывает сочувствие, но должен с почестями уйти с политической арены. Власть — это не представительство и не подписи под указами и постановлениями, это тяжелый, ответственный труд, который может выполняться только сильной личностью с ясным мышлением. Наша страна приобрела горький опыт в этом отношении.
К сожалению, мы, врачи, связанные клятвой Гиппократа, бессильны помочь обществу в решении этих проблем. Несомненно, должны быть четкая правовая база, специальные законы, как, например, в США, регламентирующие очень тонкую, полную этических и в то же время политических вопросов проблему здоровья руководителей страны. К такому мнению меня привела работа на протяжении 25 лет с первыми лицами государства, и было много моментов, когда мое врачебное кредо, врачебные принципы шли вразрез с моим общественным долгом. Если общество хочет знать правду и, главное, действовать, оно должно брать на себя ответственность за последствия, связанные с разглашением данных о состоянии здоровья руководителей, а не взваливать ее на врачей.
В ситуации с болезнью Ю. Андропова была другая подоплека. Несмотря на ее тяжесть, он активно работал, с его аналитическим мышлением трудно было тягаться любому члену Политбюро, и в то время он не лежал месяцами в Центральной клинической больнице или санатории «Барвиха». Но его надо было хоть чем-то скомпрометировать в глазах Брежнева, постараться доказать, что он поступил опрометчиво, недальновидно, поставив Андропова на второе место в иерархии руководства СССР.
Совершенно неожиданно для меня Брежнев поставил передо мной вопрос о характере болезни Андропова и ее прогнозе. Этот интерес был для меня удивителен, учитывая, что, во-первых, я ему неоднократно рассказывал о тяжести болезни Андропова, на что он отвечал, что «Юрий работает больше, чем все здоровые члены Политбюро», а во-вторых, он уже давно перестал интересоваться всем, что не касалось лично его. Он прямо заявил: «Знаешь, Константин Устинович (Черненко) говорит, что идут разговоры о тяжелой, неизлечимой болезни Андропова, о том, что он обречен. А мы на него очень рассчитываем. Ты должен четко доложить о его возможностях и о его будущем». Вслед за этим мне позвонил взволнованный Ю. Андропов и рассказал, что его пригласил к себе Брежнев и очень долго расспрашивал о состоянии здоровья, самочувствии, работоспособности и в заключение сказал, что обязательно поговорит с Евгением (он меня всегда так называл) и потребует сделать все возможное для сохранения его здоровья.
Ю. Андропов опасался, что Л. Брежнев, выражая заботу о нем, постарается выяснить все подробности его болезни, ее тяжесть, перспективы. «Вы постарайтесь развеять сомнения Леонида Ильича, — попросил он. — Я уверен, что кто-то под видом заботы хочет представить меня тяжелобольным, инвалидом».
Я понимал Андропова, который однажды уже пережил подобную ситуацию, когда летом 1966 года его пытались убрать с политической сцены, используя проблемы здоровья. Это был сложный период в становлении Брежнева и его окружения после смещения Хрущева, когда обострилось противостояние с группой Шелепина. В этот период Ю. Андропов попадает в Центральную клиническую больницу с диагнозом: «гипертоническая болезнь; инфаркт миокарда». Чувствовал он себя хорошо, и лишь изменения на электрокардиограмме позволяли врачам утверждать, что он перенес инфаркт. Ставился вопрос о его переводе на инвалидность. В то время я еще не работал в 4-м Управлении и был весьма удивлен, когда меня пригласили на консультацию к Ю. Андропову. Как оказалось, это было сделано по просьбе академика Е.М. Тареева, замечательного клинициста и ученого, у которого закрались сомнения в правильности диагноза. Он был знаком с нашими работами в области диагностики и лечения инфаркта миокарда, знал и исследования института, который я в то время возглавлял, касавшиеся артериальной гипертонии. После изучения истории болезни и обследования Ю. Андропова у нас сложилось единое мнение, что в данном случае нет никакой гипертонической болезни, нет никакого инфаркта миокарда, а речь идет о так называемом альдостеронизме в связи с болезнью почек и реакцией надпочечника. Лабораторные данные подтвердили наше мнение, а прием назначенных нами препаратов через три-четыре дня полностью нормализовал электрокардиограмму. И то, что после этой неудавшейся попытки списать Андропова с политической сцены он еще 18 лет активно занимался государственной деятельностью и прошел путь от заведующего отделом ЦК КПСС до Генерального секретаря, несомненно, и наша с Евгением Михайловичем Тареевым заслуга.
Не знаю, чем это объяснить — тем, что одряхлевший Л. Брежнев забыл об этом разговоре или были какие-то другие причины, только больше он к вопросу о состоянии здоровья Ю. Андропова не возвращался.
«Ничто не ново под луною: что есть, то было, будет ввек», — писал великий историк земли русской Н.М. Карамзин. Эту истину я ощущал на протяжении всего своего жизненного пути — при Брежневе и Андропове, Горбачеве и Ельцине.
В 1985 году я вновь столкнулся с ситуацией, напоминавшей историю Ю. Андропова и X. Асада. Это был период, когда новый генсек М. Горбачев собирал свою команду, чтобы заменить старую брежневскую гвардию Тихонова, Гришина, Капитонова, Павлова и других, которые, мягко говоря, недолюбливали М. Горбачева.
Однажды мне позвонил один из самых уважаемых мной в верхушке партийного руководства того периода Е.К. Лигачев. Еще в бытность его секретарем Томского обкома мы по его просьбе создали в этом городе прекрасный филиал Кардиологического центра. В организации филиала и его строительстве решающую роль сыграл Е. Лигачев. В этот период зародились наши теплые, дружеские отношения, на которые не влияли превратности судьбы. Вот почему он без излишней дипломатии сразу изложил суть просьбы: «Михаил Сергеевич хочет привлечь для работы в ЦК новые кадры, умных талантливых организаторов, людей с новыми взглядами. Я только что вернулся из Свердловска, поближе познакомился с Ельциным, его работой и рекомендовал Михаилу Сергеевичу перевести его в Москву, в ЦК.
Нам надо менять кадры, и такие люди, как Ельцин, нам нужны. Естественно, многим придется не по душе его переезд в Москву, и сейчас уже начинают муссировать слухи о его здоровье, о том, что он очень больной человек и вряд ли его целесообразно брать на работу в ЦК. Так что могут выходить и на Вас с вопросами о здоровье Ельцина. Мы с Михаилом Сергеевичем просили бы это учесть».
Звонок Е. Лигачева меня не удивил. Я уже давно не был тем молодым наивным академиком, которого судьба забросила в водоворот политических интриг и борьбы за власть. Я осознавал, что этот, как и возможные другие звонки с противоположными предложениями, исходят не из заботы о здоровье Ельцина, а из определенных интересов каких-то политических или властных структур, а может быть, и отдельных личностей. Но меня удивило, что первый, кто позвонил после Лигачева, был В.И. Долгих. Я всегда с большим уважением относился к нему, зная его трудный путь к вершинам власти, демократичность в общении, интеллигентность. Его ценили как хорошего организатора и прочили ему большое будущее. А удивило меня то, что именно Владимир Иванович оказался одним из тех, о ком говорил Лигачев. Как он и предвидел, Долгих завел разговор о здоровье Б. Ельцина: «Вы, вероятно, в курсе, что предполагается перевод Ельцина в Москву, в ЦК, на руководящую должность. Но Вы должны что-то предпринять, учитывая, что он очень больной человек. Работа, которую ему предлагают, требует большого напряжения, и он может сорваться. Надо подумать о Борисе Николаевиче и о деле, которое он возглавит». Не знаю, что подвигло Владимира Ивановича на такой разговор. Может быть, и искреннее чувство заботы о ближнем, если учесть, что незадолго до этого разговора, во время командировки в Свердловск, он, как мне рассказывали, явился свидетелем сосудистого криза, который возник у Б. Ельцина на фоне психоэмоционального стресса. Но я склонен был больше верить Лигачеву, который считал, что за заботой о здоровье Ельцина скрывались политические и личные интересы: кому захочется иметь нового и весьма сильного конкурента на крутой лестнице власти? Я был уже знаком с Борисом Николаевичем, знал истинное состояние его здоровья и не погрешил против истины, когда, поблагодарив Владимира Ивановича, сказал, что по своим физическим возможностям Ельцин превосходит очень многих из руководства партией и государством.
Один из моих оппонентов-злопыхателей после выхода моих воспоминаний «Здоровье и власть» задал риторический вопрос: зачем нужно автору обнажать политические интриги, выставлять напоказ сокровенные тайны, демонстрировать истинную суть тех, кто встречался ему на профессиональном жизненном пути?! Но вспомним, что говорил А. Моруа о Плутархе: «Нет науки без обобщений, но и нет человеческой истины без индивидуальных черт. Если историк, паря в облаках документов, хартий и статистических сведений, не умеет показать нам людей из плоти и крови, он не в состоянии глубоко захватить читателя. Искусство состоит не из законов и не из общих идей, его объект — конкретные люди». И не надо ханжески умиляться и восторгаться тем или иным политическим лидером, надо четко представлять себе, что даже лучший из них, как и все мы, человек со своими добродетелями и слабостями, хорошими и плохими сторонами характера, поведения, воспитания. Каждый со своими особенностями. Другой вопрос, у одних больше хорошего, у других — плохого, один идет по избранному пути честно, соблюдая законы порядочности, другой может прибегнуть и к недозволенным приемам. Но это — история, и она должна в назидание потомкам говорить правду без прикрас и искажений, ибо иначе вместо истинного повествования о событиях мы создадим, как это часто бывает, лакированную подделку.
Конечно, труд этот тяжелый и неблагодарный, и как здесь не вспомнить великого А. Пушкина:
Печальной истины поэт,
Зачем я должен для потомства
Порок и злобу обнажать,
И тайны козни вероломства
В правдивых песнях обличать?
В моем повествовании о временах, которые предшествовали гибели великой державы, и о том, как мы шли и кто вел нас к роковому концу, каждое слово — правда. Мне нет необходимости кривить душой, что-то скрывать и кого-то оправдывать. У меня нет личных причин кого-то очернить, а кого-то облагородить. Я был в хороших отношениях и делал все, что мог, одинаково для Брежнева и Андропова, Черненко и Горбачева. Может быть, только с Ельциным у нас не сложились отношения, да и то из-за событий, в которых я сохранил свое врачебное и человеческое кредо — быть честным и правдивым. Но об этом отдельный разговор.
Казалось, ничто не предвещало печального конца правления Л. Брежнева. Мы расстались с ним в первых числах ноября, с тем чтобы встретиться после праздников. Однако в ночь с 9 на 10 ноября его не стало. Он ушел из жизни спокойно, во сне, как это нередко бывает у стариков. Когда я приехал на дачу, его охранник В. Собаченков пытался проводить реанимационные мероприятия, с которыми его познакомили врачи. Мне было ясно, что смерть наступила уже несколько часов назад и сделать что-либо невозможно.
По правительственной связи я нашел Ю. Андропова в машине по дороге на работу. У меня не было никаких сомнений в том, что единственный человек, которого я должен информировать о смерти Брежнева, это Андропов, И не потому, что в партийной и государственной иерархии он занимал второе место, просто не было в моем представлении другого человека, который мог бы претендовать на место Генерального секретаря. Он должен был, отдав дань умершему, решать, что делать дальше.
Приехавший на дачу Андропов выглядел растерянным. Успокаивая жену Брежнева Викторию Петровну, почему-то спросил, не надо ли пригласить на дачу Черненко, на что та резонно ответила: зачем? Константин Устинович ей мужа не вернет, а она хотела бы побыть одна с близкими. Ю. Андропов засуетился, стал говорить, что надо подумать, как сообщить народу о случившейся для страны трагедии. Откровенно говоря, это меня покоробило, потому что все прекрасно видели, во что превратился Леонид Ильич, видели его недееспособность. Его уход из жизни не был для большинства ни неожиданностью, ни трагедией. Это была трагедия семьи, близких, его окружения, но не всего народа.
Ю. Андропов «вдруг», как будто придя в себя, заторопился, попрощался с Викторией Петровной и быстро уехал. Когда я его провожал, то увидел, что это был уже тот Андропов, которого я знал, — собранный, твердый, видимо, принявший решение. На ходу, как будто разговаривая с самим собой, он сказал: «Надо срочно собирать пленум ЦК».
Мы вышли во двор дачи. Тусклое, серое ноябрьское утро соответствовало моему настроению. Кончилась эпоха Брежнева, полная противоречивых событий — успехов и разочарований, радостей побед и горечи поражений. Каждый будет оценивать ее по-своему, думал я. Лично для меня это время больших свершений, успехов и тяжелейшего труда, без выходных и отпусков, без счастья личной жизни, но с сознанием честно выполненного долга.
Мне было жаль Л. Брежнева, в целом доброго человека, который прожил сложную жизнь, в которой были и падения, но судьба вознесла его так высоко, как он и не мечтал. Я представлял, как обрушатся с течением времени насмешки и обвинения, часто несправедливые, в его адрес в связи с последними годами его правления. Ах, если бы он ушел пятью годами раньше… История сохранила бы память о другом Л. Брежневе — дальновидном политике, сильном руководителе страны, много сделавшем для ее превращения в сверхдержаву. Но из песни слова не выкинешь. Что-то ждет нас с приходом к власти Ю. Андропова… А в том, что это произойдет, я не сомневался.
«Король умер, да здравствует король».
Несбывшиеся надежды
Народ безмолвствует
А.С. Пушкин
Власть, казалось бы, обычное, простое слово, одно из многих в русском языке. Но каким же оно может быть манящим и опьяняющим, если из-за него часто губят себя, а иногда, не задумываясь, и народы!
Около 25 лет я был невольным свидетелем борьбы за власть. За нее боролись Хрущев и Брежнев, Андропов и Черненко, Горбачев и Ельцин, да и другие, рангом пониже и менее удачливые политики. Иногда она приносила пользу стране и народу, а иногда, как в случае борьбы М. Горбачева и Б. Ельцина, — страдания, разруху, гибель великой державы.
Меня всегда поражало, в какие красочные одежды облачали эту борьбу, какие высокопарные речи о всеобщем благе при этом произносились, но как быстро все забывалось там, на Олимпе власти… Так было в коммунистическом Советском Союзе, так остается в демократической России. Даже, может быть, при коммунистическом тоталитарном строе было меньше лицемерия: борьба за власть велась в верхних ее эшелонах и не затрагивала широкие массы; для победы не надо было плясать перед народом, дарить автомашины и давать несбыточные обещания. Надо было договориться с «товарищами», найти политический компромисс с противниками, провести работу с колеблющимися, пообещав им кусок от жирного пирога, кого-то припугнуть, и победа обеспечена. Был еще один неписаный закон власти, тот, что еще Борис Годунов внушал своему сыну: «Не изменяй теченья дел. Привычка — душа держав».
Освободившееся после смерти лидера место занимал второй человек в партии и государстве, вот почему после смерти Л. Брежнева ни у кого не возникало сомнений в том, что на его место придет Ю. Андропов. К тому же никто не знал истинного состояния его здоровья. И все-таки Ю. Андропов спешил, понимая, что ему выгодно не затягивать избрание Генерального секретаря. Уже по прошествии полутора суток после кончины Л. Брежнева, 12 ноября, он собрал пленум ЦК КПСС.
Команда Андропова, в которую входил и М. Горбачев, поработала весьма продуктивно. Не на многих пленумах ЦК КПСС я встречал такое единодушие, как при избрании Ю. Андропова Генеральным секретарем. Даже враги смирились с его неизбежным приходом. И все же удивлению моему, хотя я уже был искушен в «иезуитстве» политической борьбы за власть, не было предела, когда от имени Политбюро с предложением избрать Андропова Генеральным секретарем выступил его оппонент Черненко. Зная закулисную сторону их отношений, я предполагал, что это сделает один из старейших членов партии и Политбюро А. Громыко. Выступление Черненко снимало все возможные вопросы о кандидатуре на пост Генерального секретаря. И пусть это выступление больше напоминало надгробную речь в память о Брежневе, чем представление Андропова, о качествах которого было сказано всего несколько фраз, главное для всех было ясно: сегодня по праву торжествует Ю. Андропов.
Много позднее, когда зашла речь о Черненко, я спросил у Андропова: «Выступление Черненко — это верх дипломатии Андропова или искреннее желание того?» Уклонившись от прямого ответа, он ответил: «Мы с товарищами решили, что лучше, если с представлением выступит Черненко. Это подчеркнуло бы единство Политбюро и ЦК КПСС». Кстати сказать, эта мысль прозвучала и в выступлении Андропова на этом пленуме: «У нас, товарищи, есть такая сила, которая помогла и помогает нам в самые тяжелые моменты, которая позволяет нам решать самые сложные задачи. Эта сила — единство наших партийных рядов, эта сила — коллективная мудрость партии, ее коллективное руководство».
Ю. Андропов понимал, что руководство партией и государством должно демонстрировать единство и единодушие в принятии решений. Борьба мнений, борьба за власть внутри Политбюро неизбежна, но она должна ограничиваться лишь его рамками; выйдя из этих рамок, она может стать причиной раскола в партии. Может быть, поэтому, зная отношение К. Черненко к нему и даже зная, какой собирается «материал» на него, Ю. Андропов ни словом, ни поступком ни разу не продемонстрировал своего истинного к этому отношения. Их борьба никак не отражалась на делах — партийных и государственных. К сожалению, его ближайший помощник и ученик М. Горбачев с годами своего правления забыл этот принцип. А в те времена победа Андропова была и победой Горбачева. Андропов не скрывал, что намерен создать новую команду, которая могла бы предложить реформы, способные вывести страну и общество из тупика, в который они попали в последние несколько лет.
Зная по прошлому определенную осторожность Ю. Андропова, я удивился, как быстро, энергично и смело он начал действовать после избрания. Прекрасно сознавая значимость КГБ в жизни страны и общества, в сохранении позиций Генерального секретаря, он буквально через несколько дней назначает председателем КГБ вместо В. Федорчука бесконечно преданного ему В.М. Чебрикова. Федорчук переводится на место Н.А. Щелокова министром внутренних дел. Считая Щелокова взяточником, коррумпированным дельцом, Ю. Андропов не просто не воспринимал его как государственного деятеля, но относился к нему как к преступнику. Он начинает избавляться от «балласта» в ЦК КПСС. На первом же пленуме, который он проводил 22 ноября 1982 года, через десять дней после своего избрания, освобождается от обязанностей члена Политбюро и переводится на пенсию А.П. Кириленко, длительное время, еще со времен Хрущева, работавший секретарем ЦК КПСС. Все знали, что он давно неработоспособен и не может не то что мыслить, но даже говорить осмысленно, однако из-за пресловутой доктрины «стабильности кадров» его продолжали сохранять в Политбюро.
Еще при жизни Брежнева я как-то сказал Андропову, что вряд ли мы далеко уйдем, если страной руководят люди, у которых при компьютерной томографии мозга обнаруживается атрофия его коры. На это Андропов довольно резко ответил: «Если бы это было только у одного Кириленко. Посмотреть на некоторых других, так Вы не у одного обнаружите те же самые изменения».
Бедная Россия! Ее ничем не удивишь. Вот уже и в новые времена, во времена «демократии», у руководящих деятелей страны находят подобные изменения в мозгу…
Ю. Андропов прекрасно понимал значимость решения кадровых вопросов. Надо было создавать новое руководство партией и страной, которое было бы не только коллективом единомышленников, но и командой профессионалов. Четко представляя, что политическая стабильность, стабильность государства и общества в значительной степени зависят от того, будет ли накормлен и одет народ, он придает большое значение решению экономических вопросов, выходу страны из застоя и начинающегося кризиса. Именно с этой целью создается экономический отдел ЦК КПСС, во главе которого ставят Н.И. Рыжкова, молодого, прогрессивно мыслящего организатора промышленности, до этого работавшего заместителем председателя Госплана СССР. Чтобы придать значимость экономическому разделу работы партии, которым при прежних руководителях занимались очень мало, Рыжков на первом же пленуме избирается секретарем ЦК КПСС.
Признаком того, что Ю. Андропов намерен серьезно заняться укреплением кадров, и в первую очередь партийных, было отстранение от руководства организационным отделом ЦК КПСС, которое отвечало за кадровую политику, И.В. Капитонова. Андропов по роду своей деятельности в КГБ был прекрасно осведомлен об уровне подбора кадров на руководящие позиции в партии. Как в аппарате ЦК КПСС, так и на уровне республик и областей было немало карьеристов, людей случайных, с низким уровнем знаний и ограниченным кругозором, достигавших политических вершин по принципу клановости, связей, личной преданности вышестоящему начальству. За громкими лозунгами и призывами нередко скрывались серость и беспринципность. Именно эти кадры в конце концов погубили партию и страну.
Откровенно говоря, я был удивлен, узнав о назначении на должность руководителя отдела, определяющего кадровую политику, Е. Лигачева, хотя хорошо знал его как прекрасного организатора, человека, полного энтузиазма, в жизни скромного и честного. Может быть, мое впечатление тех лет обманчиво, но в те времена Томская область, которой он руководил, жила «под знаком Лигачева». Удивлялся я решению Андропова и радовался его принципиальности потому, что знал сложность отношений Лигачева с Брежневым, Сусловым и некоторыми другими членами Политбюро. Мне казалось, что в Томске он находился в почетной ссылке. Во время прогремевшей поездки по Сибири Брежнев даже не вышел из поезда, чтобы встретиться с Лигачевым. Особенно тяжелая для него обстановка сложилась перед XXVI съездом КПСС. С подачи Суслова ему предложили пост посла в Венгрии. Помню, расстроенный Лигачев, который не хотел оставлять свою работу, советовался, как ему быть в сложившейся обстановке. Зная состояние Брежнева, я порекомендовал обратиться к К. Черненко, который по своей натуре был отзывчивым и добрым человеком. Я позвонил ему и рассказал о болезни жены Лигачева, которой могла повредить перемена обстановки и климата. Трудно сказать, что сыграло свою роль, но он остался в стране.
Судьба и еще раз судьба! Сколько раз я видел непредсказуемые ее повороты, которые меняли жизнь людей, а с ней — историю общества и страны. Поверни судьба так, что М. Суслов настоял бы на своем, не было бы в руководстве страной в 1985 году человека, оказавшего большое влияние на ход политического процесса. По крайней мере неизвестно, как бы сложилась судьба Б. Ельцина. Я понимал Ю. Андропова, который, зная сущность многих партийных руководителей, хотел иметь во главе своей кадровой политики не карьериста и ловкача, а принципиального, честного человека, искренне преданного провозглашенным идеалам. Но меня пугали ортодоксальность Егора Кузьмича, приверженность силовым решениям, нередко поспешность в оценке людей и принятии решений. Это могло повредить ему и делу в таких деликатных вопросах, как подбор кадров и организационная работа.
Несомненно, что в осуществлении кадровой проблемы Андропов опирался на мнение Горбачева. Лишь одно из первых решений — избрание членом Политбюро и перевод в Москву Г.А. Алиева — было, по словам Горбачева, для него неожиданностью и вызвало недоумение. Это остается загадкой и для меня. Несомненно, Алиев был талантливым руководителем, умным и хитрым политиком, но он никогда не числился среди друзей Андропова и в большей степени олицетворял окружение Брежнева, который искренне любил его и его подарки. Более того, я помню, как возмущался Андропов строительством в Баку роскошного (конечно, по тем, а не по современным меркам) особняка для приема Брежнева. Единственное, что можно предположить, — это был продуманный ход, направленный на укрепление позиций Политбюро и самого Ю. Андропова в Совете Министров, где с назначением Громыко первым заместителем Председателя и приходом Алиева Н.А. Тихонов был окружен двумя членами Политбюро и находился как бы под контролем этого руководящего органа партии.
Как раз назначение Алиева, прекрасного организатора, было обоснованным решением в отличие от многих других кадровых назначений, в которых принимал участие М. Горбачев. Однажды он сказал мне, что зря критикует Устинов Ю. Андропова за приглашение в Москву из Ленинграда на должность секретаря ЦК КПСС Г. Романова, что это его ошибка, а не Андропова. Д. Устинов, сам ленинградец, хорошо знавший руководящие кадры города, довольно резко высказывался по этому поводу. Тем не менее надо сказать, что и сам Андропов не всегда хорошо разбирался в людях.
Кадровая борьба продолжалась все лето 1983 года. Особенно напряженной она была вокруг принципиально важной позиции управляющего делами ЦК КПСС, в руках которого сосредоточены все вопросы финансово-хозяйственной деятельности КПСС. В определенной степени это был банкир партии, державший в своих руках многие нити управления деятельностью КПСС. В период после смещения Н.С. Хрущева Брежневу в борьбе с Шелепиным, который хотел видеть на этом месте своего человека (Г.Т. Григоряна), удалось поставить во главе Управления делами Г. С. Павлова, которого он хорошо знал по Днепропетровску. Это действительно был хороший руководитель, неплохой человек, с которым мы были близко знакомы и тесно работали, но, получив, особенно в последние годы жизни Брежнева, большую самостоятельность и оказавшись благодаря близости к нему вне контроля и критики, он, к сожалению, не выдержал испытания властью и из скромного секретаря Марийского обкома превратился в партийного босса, полного амбициозности и гонора.
Мне кажется, что с периода его руководства в партии и начало процветать расточительство, что вызывало раздражение не только у простых людей, но и у членов ЦК КПСС. Разрабатывались и воплощались в жизнь дорогостоящие (на десятки и сотни миллионов рублей) проекты вроде строительства грандиозного комплекса отдыха в Форосе для небольшой группы руководящего состава партии или гостиницы «Октябрьская» в Москве (ныне «Президент-отель»).
А глядя на это, и в областях начали соревнование по строительству зданий обкомов и райкомов партии вместо необходимых социальных объектов. Будучи министром здравоохранения СССР в 1987–1990 годах, я побывал в различных районах Советского Союза, и не раз мне приходилось слышать справедливый упрек: почему у нас прекрасные здания обкомов и райкомов и старые, разваливающиеся больницы?
Мне кажется, что политика расточительства, амбициозность власти в последние годы правления Брежнева, ее отрыв от насущных нужд людей были одним из факторов, обусловивших в будущем развал партии и страны. Немногие задумывались тогда о последствиях такой политики, большинство, в том числе и я, считали ее как бы само собой разумеющейся. А разве не то же самое было при Б. Ельцине? То же расточительство в президентских структурах на фоне отсутствия зарплаты, пенсий в сочетании с бедностью низов. Когда я встретился с управляющим делами президента П.П. Бородиным, мне он показался по амбициозности и расточительности таким же, как Павлов, только в худшем варианте.
Ю. Андропов понимал, да и знал из материалов КГБ, что существующие в партии показуха и расточительность могут нанести ей непоправимый вред и требовал подобающих скромности и честности от партийных руководителей. Показателен в этом отношении пленум ЦК КПСС, на котором обсуждалось дело Н. Щелокова и С. Медунова, обвиненных в нечестности и стяжательстве.
Павлов «не вписывался» в команду нового Генерального секретаря, однако Андропов не спешил с его освобождением. Больше всех нерешительностью Андропова возмущался Горбачев, который, как мне кажется, помимо деловых причин, имел в этом вопросе и личную заинтересованность. Со времени переезда М. Горбачева в Москву Павлов не то чтобы его третировал, но относился к нему с определенным высокомерием и снисходительностью, как к человеку второго сорта в партийной иерархии. Естественно, Горбачеву, пользующемуся поддержкой и доверием Андропова, хотелось поставить на это место своего, преданного ему человека, тем более что была подходящая кандидатура — заместитель заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК КПСС Н.Е. Кручина.
Сравнение их было не в пользу Павлова. Деловой, простой в общении, доступный и демократичный, Н. Кручина отличался как небо от земли от Г. Павлова, для которого его «я» было основным в принятии решений. Конечно, я высказываю свою точку зрения, и она, может быть, не совпадает с мнением других, знавших Н. Кручину и Г. Павлова.
Какими же непредсказуемыми могут быть судьбы людей! Два совершенно разных по характеру, взглядам, принципам человека одинаково трагически закончили жизнь в августе 1991-го, выбросившись с балконов своих квартир. Меня поразили эти самоубийства тогда и даже сегодня остаются загадкой. Я не верю в то, что Н. Кручина участвовал в темных делах. Вероятнее, это была реакция человека, потерявшего все, во что он верил и чему служил.
Тогда, в 1983 году, я понимал, почему осторожный Андропов медлил с решением вопроса о замене Павлова. За 15 лет работы Павлову удалось создать в аппарате ЦК КПСС, в среде секретарей обкомов и крайкомов партии определенный авторитет, наладить связи. Немаловажной была и поддержка К. Черненко, которого с Павловым связывало многое. Все-таки в конце концов М. Горбачеву удалось добиться своего. Это лишь один эпизод в сложной кадровой борьбе, развернувшейся при Ю. Андропове. К сожалению для Горбачева, она не была доведена до логического конца. В верхних эшелонах власти оставались Черненко, Тихонов, Гришин, которых нельзя было отнести к друзьям Андропова и которые не любили Горбачева.
Невидимая миру и обществу борьба за власть внутри Политбюро и ЦК КПСС, которая обострилась с приходом Ю. Андропова на пост Генерального секретаря, никак не отражалась на той политике реформ, которую он постепенно начал проводить в жизнь. Надо подчеркнуть, что если Ю. Андропов спешил в утверждении своей позиции как лидера партии и страны, то в проведении реформ и нововведений он был очень осторожен. Прекрасно зная ситуацию в стране, полную скрытых противоречий, подавляемого национализма, недовольства плохим снабжением продовольственными товарами, оппозиции определенной части интеллигенции, он понимал, что любое неверное решение, дестабилизируя обстановку, может вызвать непредсказуемые последствия.
Век Ю. Андропова как руководителя партии и страны был очень короток — около года, и трудно сказать, как развернулись бы дальше события, в каком направлении пошли бы реформы, какова была бы его внешняя и внутренняя политика. Я не политик, не экономист, не дипломат и не могу профессионально оценивать значимость первых шагов в деятельности Андропова. Судить о тех планах, которые он вынашивал, могу лишь по разговорам, возникавшим иногда во время его пребывания в больнице. А такие встречи с Ю. Андроповым в 1983 году, после того как мы были вынуждены начать использование искусственной почки в связи с прекращением деятельности его собственных почек, становились все более частыми и продолжительными. Надо знать, что такое больничное одиночество и что значит, если рядом с тобой врач, которому ты в течение 16 лет доверяешь самое дорогое — свою жизнь и здоровье, с которым немало пережито, чтобы понять непринужденность складывающихся отношений и определенную откровенность высказываний.
Да даже если основываться не на наших доверительных беседах, а обратиться к первым официальным выступлениям Ю. Андропова 22 ноября 1982 года на пленуме ЦК КПСС и в конце декабря 1982 года на праздновании 60-летия СССР, можно четко представить те пути, которые, по его мнению, могли не только вывести страну из начинающегося кризиса, но и обеспечить ее прогресс. Пожалуй, впервые за многие годы с высокой трибуны глава государства говорил не об успехах социалистического строя, а прежде всего о том, что тормозит его развитие. И главная мысль, прозвучавшая в первом же выступлении Ю. Андропова, полного самокритичной оценки ситуации, вселяла надежду в пересмотр экономической политики партии и государства. На ноябрьском пленуме, через десять дней после избрания, он говорил: «В общем, товарищи, в народном хозяйстве много назревших задач. У меня, разумеется, нет готовых рецептов их решения. Но именно всем нам — Центральному комитету партии предстоит эти ответы найти. Найти, обобщая отечественный и мировой опыт, аккумулируя знания лучших практических работников и ученых. В общем, одними лозунгами дела с места не сдвинешь».
Понимая, что нужна глубокая проработка новой экономической политики, Ю. Андропов в то же время высказывает свое мнение о некоторых путях ее реформирования. Несколько скупых строк из его выступлений дают представление об их характере.
«Необходимо создать такие условия — экономические и организационные, которые стимулировали бы качественный, производительный труд, инициативу и предприимчивость».
«В последнее время немало говорят о том, что надо расширять самостоятельность объединений и предприятий, колхозов и совхозов. Думается, что настала пора для того, чтобы практически подойти к решению этого вопроса».
«Эти резервы надо искать в ускорении научно-технического прогресса, широком и быстром внедрении в производство достижений науки, техники и передового опыта. Вопрос этот, разумеется, не новый. И тем не менее дело движется медленно. Почему? Ответ тоже давно известен: чтобы внедрить новую технику, нужно так или иначе реорганизовать производство, а это сказывается на выполнении плана… Надо, чтобы те, кто смело идет на внедрение новой техники, не оказывались в невыгодном положении».
И в принципах внешнеполитической деятельности зазвучали новые ноты: «Мы считаем, что трудности и напряженность, которые характеризуют сегодняшнюю международную обстановку, могут и должны быть преодолены… По нашему глубокому убеждению, 70-е годы, прошедшие под знаком разрядки, не были, как утверждают сегодня некоторые империалистические деятели, случайным эпизодом в трудной истории человечества. Нет, политика разрядки — отнюдь не пройденный этап. Ей принадлежит будущее».
«Смысл переговоров с США и другими западными странами, в первую очередь по вопросам сдерживания гонки вооружений, мы видим не в том, чтобы фиксировать разногласия. Для нас переговоры — способ соединения усилий различных государств ради достижения полезных для всех сторон результатов. Проблемы не исчезнут сами собой, если вести переговоры ради переговоров, как это, к сожалению, нередко бывает».
Как много из того, что предлагал Ю. Андропов возьмет в свой арсенал политика в первые годы своей деятельности М. Горбачев.
Чего не воспримет от Андропова Горбачев, так это предупреждения об опасности, которую представляет собой национализм в такой стране, как СССР. Ю. Андропов и в частных разговорах, и в записках в ЦК КПСС, и в своем выступлении на праздновании 60-летия образования СССР подчеркивал, что важнейший вопрос, который должен всегда находиться в центре внимания, — это вопрос межнациональных отношений. М. Горбачев, провозгласив курс на перестройку, гласность как основу жизни страны и общества, забыл или не придал значения этому предупреждению своего «крестного отца». И именно здесь таилась первая «мина», на которой подорвались его престиж и авторитет. Национализм, как и предсказывал Андропов, оказался действенным оружием в борьбе за власть, которая развернулась с невиданной силой на просторах нашего бывшего Отечества — «оплота дружбы народов».
Ю. Андропов прекрасно понимал угрозу национализма для будущего страны и то, что лозунгами и призывами погасить его нельзя. Он говорил: «Нет отпора националистическим настроениям, и возникают межгосударственные конфликты».
Возникает вопрос: зачем, характеризуя короткий период правления Ю. Андропова, нужно подробно, со ссылкой на официальные документы излагать его идеи, мнения, предложения? Дело в том, что многие не только историки, но и политики, в том числе и из прошлого, как, например, А.Н. Яковлев, пытаются представить его ортодоксальным партийным лидером, ограниченным догмами марксизма, не поднявшимся выше председателя КГБ, мечтающего о формировании «казарменного социализма». Они, служа политической ситуации и господствующему, а может быть, и искусственно созданному общественному мнению, обходят молчанием предложения Ю. Андропова и возможные последствия претворения их в жизнь. Замалчивает их и М. Горбачев, будто он не был одним из тех, кто участвовал в формировании предложений и политики Андропова.
Уверен, что окружение Андропова помнит, как он тщательно готовился к пленуму ЦК КПСС в июне 1983 года. К этому времени у него и его близкого окружения сформировались предложения по выводу страны из кризиса. Не будем голословны и вспомним, о чем говорил Ю. Андропов на этом пленуме: «Партия исходит из того, что предстоящие годы и десятилетия принесут значительные изменения также в политической и идеологической надстройке, в духовной жизни общества». Ставится вопрос о трансформировании, «перестройке» советского строя, советского общества. В этом выступлении впервые в устах руководителя советского государства прозвучало понятие «гласность». «А разве не поможет, — говорил Ю. Андропов, — приблизить деятельность партийных и государственных органов к нуждам и интересам народа большая гласность в работе?»
Век Андропова как руководителя был недолог. И, конечно, трудно представить, как воплотились бы в жизнь его предложения или официальные заявления типа «постепенное перерастание советской государственности в общественное самоуправление», «выбор принципов научно обоснованного ценообразования» и т. п.
Зная Ю. Андропова, я верил, что страна стоит на пороге существенных перемен. Может быть, в чем-то я был наивен и идеализировал новые предложения и идеи Андропова. Но, вспоминая наше общество в последние годы жизни Брежнева, когда большинство из нас жили сегодняшним днем, по принципу французских королей «после нас хоть потоп», я, как мне казалось, ощутил дуновение свежего ветра, который разгонит формирующийся застой.
Вокруг этих идей складывалось и новое «андроповское» руководство, первым в котором был ближайший сподвижник Андропова М. Горбачев. Мы оба были тесно связаны с Андроповым, а дружеские отношения позволяли нам быть в то время весьма откровенными. За традиционным «шашлыком» Горбачев с энтузиазмом говорил о наступивших новых временах, намечаемых преобразованиях. И что бы сегодня ни утверждали историки, политологи, да и сам Михаил Сергеевич, его взгляды полностью отражали предложения и идеи Андропова.
Чтобы подчеркнуть упрочившиеся позиции М. Горбачева, его близость к Генеральному секретарю, Андропов предложил, чтобы на заседании, посвященном 113-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина, выступил Горбачев. Традиционно такой чести удостаивались наиболее высокие по рангу в партийной иерархии члены Политбюро. И было знаменательно, что на первом таком заседании в годы правления Ю. Андропова эта привилегия была предоставлена именно Горбачеву, а не, например, Черненко или другому члену Политбюро.
То выступление М. Горбачева полностью отражает его кредо как активного защитника социалистического строя, господствующей коммунистической идеологии и в то же время содержит новые взгляды, которые выдвигал Ю. Андропов. Это и совершенствование хозяйственного механизма, и «поиск новых форм социалистического демократизма» и «оптимального сочетания централизованного планирования и хозяйственной самостоятельности предприятий, местных органов, их инициативы и предприимчивости с экономической ответственностью перед обществом». Как созвучны идеи, высказанные Андроповым на пленуме ЦК КПСС, тому, что говорил Горбачев 22 апреля 1983 года: «Принятие оптимальных решений немыслимо без тщательного учета имеющегося опыта, научных рекомендаций, сопоставления разных точек зрения, без широкой гласности в работе органов управления».
М. Горбачев все активнее выдвигается на первые роли в руководстве страной. Даже «старики» — Н. Тихонов, В. Гришин, А. Громыко — вынуждены считаться с ним. У него складываются дружеские отношения с Д. Устиновым, самым близким Андропову человеком. Меняется и сам М. Горбачев. Это уже не скромный секретарь ЦК КПСС, курирующий вопросы сельского хозяйства. Это один из руководителей, определяющих жизнь партии и страны, — появляются уверенность, широта взглядов и политическая амбициозность.
Его дебют на международной политической арене после прихода к власти Ю. Андропова был весьма успешным. Во время поездки в Канаду во главе парламентской делегации в мае 1983 года он впервые предстал в роли дипломата и человека, активно выступающего за ядерное разоружение. В чем-то в ходе поездки и выступления в парламенте Канады обозначился будущий М. Горбачев.
Однако эта поездка в определенной степени была роковой для Горбачева: здесь он познакомился с А.Н. Яковлевым, оказавшим на него колоссальное влияние. Мне трудно представить, чем покорил Горбачева Яковлев в тот период, но, вернувшись в страну, он восторженно отзывался о нем. Именно Горбачев способствовал его возвращению из «почетной ссылки в Канаду» и помог встать во главе весьма престижного Института мировой экономики Академии наук, чем сыграл немалую роль и в его научной карьере.
Возвращение Яковлева в страну совпало с тем, что директорское кресло в институте было в связи со смертью академика Н.Н. Иноземцева свободным. Директорство определило дальнейшую академическую карьеру Яковлева, хотя в академических кругах существовал определенный скептицизм в отношении его научных возможностей. Я могу об этом судить потому, что по просьбе моих друзей, в том числе из числа членов президиума Академии наук, поддерживал его избрание и, обсуждая в кулуарах со знакомыми академиками его кандидатуру, чувствовал их сдержанность в оценке его научного потенциала. Особенно это проявилось в 1990 году при избрании А. Яковлева академиком. Многие члены академии говорили: «Уже был такой прецедент, когда избрали академиком члена Политбюро, — это был В.М. Молотов; зачем же повторять ошибки, которые сегодня мы сами публично критикуем?» Несмотря на жесточайший «пресс» руководства академии, оппозиция его избранию была весьма весомой. Мы были всегда в добрых отношениях с Яковлевым и весьма откровенны, поэтому, подойдя ко мне в перерыве сессии, он с тревогой спросил: «Как ты считаешь, меня изберут?» — «Думаю, да, — ответил я, — но только очень небольшим большинством». Так и оказалось. Президиуму академии пришлось направлять счетную комиссию даже домой к больным и отсутствующим академикам, чтобы набрать необходимое большинство. А. Яковлев прошел с перевесом лишь в 3–4 голоса. Мне кажется, что большую роль в формировании мнения о А. Яковлеве сыграла Р. Горбачева, которая все больше не просто интересовалась делами мужа, но и активно вмешивалась в них. Надо сказать, что в целом советское общество приняло Андропова и его команду, приветствовало их начинания, но разрушить существовавшие инертность, безразличие было нелегко. Нужны были время и определенные результаты.
И опять судьба вмешалась в ход истории великой сверхдержавы — СССР. Какой-то рок преследует нас, нашу страну. Один сентябрьский день перечеркнул все надежды. В конце сентября меня срочно вызвали из Германии, где мне вручали регалии почетного доктора Университета имени Шиллера, в Крым. Там на отдыхе находился Ю. Андропов. Чувствовал он себя удовлетворительно, если учитывать тяжесть его заболевания. Однако его организм в связи с болезнью был почти полностью лишен защитных сил, и любая инфекция или простуда могла привести к тяжелейшим осложнениям. К сожалению, как это часто бывает, чувствуя себя вполне удовлетворительно, он пренебрег возражениями лечащих врачей, охраны и поехал в горы. В связи с простудой у него развился абсцесс, который оперировал академик В.Д. Федоров. К несчастью, организм потерял сопротивляемость, и ликвидировать гнойный процесс не удалось. К лечению были привлечены лучшие врачебные силы страны, из США приезжал профессор А. Рубин, который до этого консультировал Андропова, но я, лучше всех зная 18-летнюю историю его болезни, понимал, что дни его сочтены.
Сознание, что Ю. Андропову осталось жить всего несколько месяцев, было для меня не только личной трагедией врача, но и трагедией человека, верившего, что с Юрием Владимировичем придут лучшие времена, что страна и народ воспрянут, что жизнь станет лучше. И ведь это могло быть. Почему-то все забыли, что именно в 1983 году произошел всплеск активности во многих направлениях жизни страны, что, например, объем промышленного производства вырос на 4 %, национальный доход — на 3,1 %. Десять лет перестройки и реформ не дали такого роста.
Помню, как после выхода моей книги «Здоровье и власть» в 1991 году многие оппоненты, особенно близкие к тем, кто пришел тогда во власть под лозунгом демократии, убеждали, что фактор здоровья, фактор отдельной личности может играть роль только в тоталитарном государстве, что демократия создает условия для нормального развития общества и его благоденствия независимо от того, кто стоит в данный момент во главе руководства страной. Интересно, что сказали бы они в конце 90-х, когда проблемы здоровья Б. Ельцина и власти в России обсуждались не в узком кругу доверенных лиц, а на телевидении, в газетах, на международных встречах. Да и коренные изменения в жизни нашей страны и народа во многом связаны с двумя личностями — М. Горбачевым и Б. Ельциным, вернее, с их борьбой за власть.
Вот почему сентябрь 1983 года, когда стало ясно, что нам не удастся спасти Ю. Андропова, можно с полным основанием назвать роковым. Роковым еще и потому, что в этом же месяце резко ухудшилось состояние здоровья и другого претендента на власть — К. Черненко, который формально был вторым человеком в партии. Он длительное время страдал заболеванием легких, вызвавшим изменения и со стороны сердца. Инфекция, которую он перенес на отдыхе в Крыму, усугубила тяжесть заболевания, сделав его практически инвалидом. По поводу болезни Черненко ходила масса домыслов. Может быть, коварную роль в этом сыграла та завеса секретности, которая окружала все, что касалось состояния здоровья руководящего состава партии и государства, на самом же деле все было достаточно ясно и прозаично. Пищевая токсикоинфекция, которую большинство переносят без последствий, вызвала в ослабленном организме да еще с тяжелым поражением легких, которым страдал К. Черненко, тяжелые последствия. Близкий и преданный ему Федорчук прислал рыбу, которая оказалась плохо прокопченной. И никакого злого умысла, как кое-кто утверждает, не было. Да и кому нужно было в августе 1983-го, когда в партии и государстве сложилась стабильность, когда прочна была позиция Ю. Андропова, вредить Константину Устиновичу?
Сентябрь и октябрь того года прошли без политических и государственных эксцессов. Никто, кроме врачей, не знал истинного состояния Ю. Андропова. Обстановка осложнилась в ноябре. На это время был назначен пленум ЦК, на котором должны были быть подведены итоги первого года работы под руководством нового генсека и предложен перспективный план развития страны. Андропов надеялся, что ему станет лучше и он сможет выступить с докладом, поэтому он всячески оттягивал решение о проведении пленума. Естественно, это вызвало своеобразный взрыв на Старой площади, где размещался ЦК КПСС, и в Кремле, где заседало правительство. Но система секретности делала свое дело: страна ничего не знала и продолжала жить и работать по-старому. Решая сиюминутные проблемы, большинство не интересовалось тем, что происходит за стенами Кремля. А здесь, как всегда бывает в таких случаях, началась подспудная борьба за власть.
В этих неприглядных «разборках», выражаясь языком новых русских бизнесменов, во многом определяющих современную жизнь, мне не раз приходилось быть и невольным свидетелем, и даже невольным участником. За годы, прошедшие с начала перестройки, было издано много мемуаров о так называемых застойных временах. Писали президенты и министры, члены Политбюро и их охранники, военные и гражданские. Большинство пытались представить события тех времен с позиций, которые бы создавали мемуаристам имидж мудрого, дальновидного, принципиального и честного их участника. В целом это и понятно, ибо такова суть человеческого сознания. Очень трудно оставаться самокритичным и стараться беспристрастно излагать события, в водоворот которых тебя забросила судьба.
Вот почему, перечитывая каждую строчку, я еще и еще раз проверяю себя — достаточно ли точно я изложил суть проблемы и, главное, объективно ли описываю свое поведение в тот период, свое отношение к тем или иным ситуациям. Мне нелегко, тем более теперь, когда Россия отвергла М. Горбачева, вспоминать и обсуждать с читателем время стремительных политических перемен с усугубляющимся застоем в стране и обществе с конца 1983 до начала 1985 года.
К этому времени сложилась сложная расстановка политических сил. «Андроповское» руководство только формировалось и еще не завоевало прочных позиций ни в партии, ни в стране. Ю. Андропов предпринимал попытки ограничить старую гвардию, но делал это весьма осторожно. В то же время я вспоминаю, как он совершенно спокойно отнесся к моему сообщению о тяжелой болезни К. Черненко, и, когда я поинтересовался, не изменятся ли в связи с болезнью Константина Устиновича его планы уехать на отдых, он ответил, что никаких проблем нет, в ЦК со всеми делами успешно справляется М. Горбачев.
Я понимал, что Горбачева тяготит и раздражает двойственность его положения: с одной стороны, он первый в окружении Ю. Андропова, с другой — формально таким человеком является К. Черненко. К тому же у Черненко, хотя он и был очень сдержан, иногда, особенно когда он узнавал об активности Горбачева в ЦК во время его болезни, прорывались высказывания «о молодых да ранних».
В октябре — ноябре Ю. Андропов, хотя и находится постоянно в Центральной клинической больнице, пытается активно работать, проводя в больнице встречи и заседания с руководством ЦК КПСС, Совета Министров, КГБ, военачальниками. Но все мы видели, что это уже не тот Андропов, который всего несколько месяцев назад ставил вопрос о реформировании государства, экономики, жизни народа.
Он медленно угасал. Менялись его характер, отношение к людям, он становился все более немногословным и замкнутым. Появилась мнительность. Однажды после каких-то телефонных звонков и встречи с работниками КГБ, находясь в подавленном состоянии, он вдруг позвонил Н.И. Рыжкову и спросил, какое материальное обеспечение будет ему определено, если его отправят на пенсию. Я был невольным свидетелем этого разговора. Ответа я не слышал, но, видя реакцию Андропова, почувствовал, что Николай Иванович ошарашен таким вопросом и не знает, что сказать. Вскоре позвонил взволнованный М. Горбачев и, рассказав о разговоре, попросил успокоить Ю. Андропова — ни у кого и в мыслях нет ставить вопрос об отстранении его от власти.
Вероятно, среди верхушки партийной иерархии стали распространяться слухи о неизлечимой болезни Ю. Андропова, отсутствии конкретного руководства, о том, что повторяется ситуация, которая была в последние годы правления Брежнева. Видимо, Ю. Андропов хотел выяснить серьезность таких слухов, преданность своих сподвижников. Не думаю, что у него возникла мысль о том, чтобы вовремя передать бразды правления в другие руки, в частности своему ближайшему помощнику Горбачеву. Если бы это случилось, то партия и страна были бы избавлены от многих сложных перипетий борьбы за власть. Но власть тяжело завоевать, еще тяжелее с ней расстаться.
Другой штрих. Появляется письмо В. Чебрикову, бывшему тогда руководителем КГБ, за подписью Ю.С. Плеханова, начальника 9-го Управления КГБ (охрана руководящих деятелей государства) и еще одного сотрудника КГБ о необходимости более активного лечения Ю. Андропова. Это было по крайней мере глупо, учитывая, что лечение осуществляли около 20 ведущих академиков и профессоров страны. На консилиумах постоянно присутствовали представители КГБ, полностью стенографировались предложения, планы лечения, обсуждения. В. Чебриков хорошо знал наши дружеские отношения с Ю. Андроповым и все, что мы сделали для него за 16 лет, поэтому он без комментариев передал мне содержание письма. Зная Ю. Плеханова, его осторожность, дружеские отношения со мной, сейчас я почти уверен, что письмо было написано с подачи самого Андропова, чтобы было сделано все для его спасения. Тогда же он впервые заговорил со мной о бесперспективности своего положения. Это было в середине ноября 1983 года.
В ситуации с Брежневым для меня все было проще: я информировал о состоянии его здоровья Андропова, он — Суслова и, таким образом, ни моя профессиональная, ни гражданская позиция не страдала. В случае же с Ю. Андроповым я просто не знал, что делать, тем более находясь под постоянным «прессом» КГБ. Невольно помог сам Андропов. В начале ноября, видимо, под впечатлением разговоров о его несостоятельности как руководителя, он вдруг совершенно неожиданно для меня сказал: «Знаете, Евгений Иванович, мы с Вами давно близко знакомы, я знаю Вашу честность и попросил бы о моем тяжелом состоянии, о прогнозе болезни никого не информировать, в том числе и Горбачева. Я боюсь, что если сложившаяся ситуация станет достоянием многих, это может привести к обострению положения в ЦК. Если у Вас возникнет необходимость посоветоваться, обращайтесь только к Дмитрию Федоровичу, тем более что Вы его хорошо знаете». Я знал, что в Политбюро Дмитрий Федорович Устинов — единственный искренний друг Юрия Владимировича, преданный ему до конца. Я честно выполнил эту просьбу и никого, даже Горбачева, не ставил в известность об истинном состоянии Андропова.
Но во второй половине ноября, особенно после письма в КГБ, я понял, что скрывать прогноз болезни не только не могу, но и не имею права. Я позвонил Дмитрию Федоровичу и попросил о встрече. Наш первый разговор в его большом кабинете министра обороны на улице Фрунзе продолжался почти два часа. Откровенно говоря, я был удивлен, когда из разговора понял, что даже с близким товарищем Ю. Андропов никогда не делился возникшими у него проблемами со здоровьем. Д. Устинов не представлял всей тяжести его заболевания. Он растерялся, узнав прогноз болезни, и просил только об одном — никого не информировать, включая Черненко, Горбачева и Тихонова.
И хотя мы договорились о том, что будем регулярно встречаться, уже на следующий день, видимо, обдумав всю ситуацию, он попросил срочно приехать к нему. По его виду было ясно, как тяжело он переживает необратимость трагического исхода болезни Ю. Андропова. «Знаешь, Евгений, — без вступления начал он, — ситуация во всех отношениях очень сложная. Давай пригласим Чебрикова, он очень близкий Юрию Владимировичу человек, и вместе посоветуемся, что делать. К тому же он располагает большой информацией о положении в ЦК и стране». Я понял, что Д. Устинов не хочет брать на себя весь груз ответственности, связанный с недееспособностью и трагическим исходом болезни Андропова, хотя, возможно, он действительно просто хотел выслушать мнение В. Чебрикова о том, что необходимо предпринять в сложившейся ситуации.
Как бы там ни было, но уже через 30 минут после его звонка Виктор Михайлович обсуждал вместе с нами, что мы должны предпринять. Без всяких колебаний он предложил проинформировать о состоянии Ю. Андропова и возможном исходе прежде всего К. Черненко. С этим Устинов быстро согласился, добавив: «Ты только предупреди Константина Устиновича, что информация конфиденциальная и что Юрий Владимирович просил ни с кем не обсуждать тяжесть его болезни». Мне кажется, эти слова он сказал в утешение своей совести, потому что каждый из нас понимал, что так или иначе эта информация все равно станет достоянием многих.
Зашла речь и о будущем руководстве партией и страной. Д. Устинов заявил, что не видит другой кандидатуры, кроме Горбачева, который мог бы продолжить то, что задумал и начал Андропов. «Да и сам Юрий Владимирович не раз говорил, что его ближайший помощник, который может его подменять, это Горбачев».
Вечером, во время очередной консультации, я подробно рассказал К. Черненко о болезни Андропова и ее прогнозе. Откровенно говоря, меня удивило его спокойное отношение к возникающей ситуации. Возможно, он уже все знал из каких-то источников, а может быть, ему, тогда уже тяжелобольному человеку, просто было не до здоровья Ю. Андропова.
У меня не было никаких сомнений, хотя это мы и не обсуждали с Д. Устиновым, что одновременно с Черненко я должен объяснить складывающуюся ситуацию Горбачеву. Тот тяжело воспринял мое сообщение. Я чувствовал, что он переживает не только потому, что со смертью Ю. Андропова для него усложняется обстановка в Политбюро, где политику определяет старая гвардия, но и ему просто по-человечески жалко Андропова, с которым его долгое время связывали дружеские отношения.
Как я и ожидал и как предсказывал Ю. Андропов, информация для, казалось бы, узкого круга лиц всколыхнула весь политический Олимп. Ко мне посыпались телефонные звонки Н. Тихонова, А. Громыко и других деятелей, рангом пониже, которые под любым предлогом хотели выяснить, каково же истинное положение генсека. Было мерзкое ощущение начала борьбы за власть при еще живом лидере страны. Борьбы, о которой не знало и не догадывалось наше общество. Не хочу обелять себя — в этом частица и моей вины. Но что можно было сделать? Хотя я и осознавал, что время Горбачева еще не пришло, но не скрывал и не скрываю, что делал все от меня зависящее, чтобы в этой развернувшейся борьбе он победил.
Наступил декабрь, а вопрос о пленуме ЦК КПСС и сессии Верховного Совета висел в воздухе.
Позвонил М. Горбачев и попросил положить его на диспансеризацию в Центральную клиническую больницу, где находился Ю. Андропов. Одновременно добавил, что надеется там встретиться со мной. Я понял, что он хочет откровенно поговорить, а будучи осторожным, решил использовать для этого встречу в больнице, где нас никто не мог контролировать.
В главном здании больницы, на 4-м этаже, где располагались специальные апартаменты для членов Политбюро, мы просидели за чаем довольно долго. Я не скрывал от Горбачева ни того факта, что дни Андропова сочтены и речь может идти об одном-двух месяцах жизни, ни того, что мы встречаемся с Устиновым, ни того, что политическая борьба за власть вступила в новую фазу. Рассказал и о том, что Андропов окончательно согласился с нами, что не сможет лично участвовать в работе пленума и сессии Верховного Совета и обратится с письменным посланием к его участникам. Мы оба понимали, что политическая ситуация тяжелая и Горбачеву надо предпринять шаги для укрепления своих позиций в Политбюро.
Разговор был откровенным и прямым. М. Горбачев сказал, что договорился с Андроповым о встрече на следующий день и хочет уговорить его ввести в состав Политбюро В.И. Воротникова и М.С. Соломенцева, кандидатом в члены Политбюро избрать В. Чебрикова, а секретарем ЦК КПСС — Е. Лигачева. Я не удивился, когда он назвал фамилии Чебрикова и Лигачева, которые принадлежали к когорте Андропова. Понимал я и выдвижение Воротникова, с которым Горбачев был связан по прошлой работе и с которым у него сложились неплохие отношения в последнее время. Удивительным показался выбор Соломенцева, который у меня всегда ассоциировался со старыми методами руководства в партии, с ограниченностью кругозора старых кадров, и уж никак он не укладывался в мои представления о реформаторах, которые должны изменить страну и партию. Но, видимо, опять я забыл о политических интригах и компромиссах, которыми богата дорога к власти. Сколько еще таких компромиссов будет в политической жизни М. Горбачева!
Однако в тот период он казался мне человеком искренним, далеким от определенных сделок ради политических амбиций. Так что в его предложении о выдвижения В. Воротникова и М. Соломенцева я не видел личной корысти или каких-то уступок принципам политической честности и порядочности. Хотя существуют ли в принципе политическая честность и порядочность в обществе, раздираемом борьбой за власть?
Однако я был уверен, что ни Воротников, ни Соломенцев не соответствуют тем критериям, которые Ю. Андропов брал за основу при выдвижении кадров, о чем и сказал Горбачеву. «Главное, — ответил он, — что это наши люди, они будут нас твердо поддерживать в любой ситуации». Я понял, что в той обстановке, которая складывалась в связи со здоровьем Андропова и перспективами на будущее, М. Горбачев боялся остаться в Политбюро в изоляции и искал союзников. Союзниками они оказались слабыми, ни один из них не поднял голоса в защиту М. Горбачева в тяжелый для него период после смерти Ю. Андропова.
На следующий день после нашего разговора Горбачев встретился в больнице с Андроповым. Это была их последняя деловая встреча.
Письмо Ю. Андропова, с которым он обратился к пленуму ЦК, в значительной степени носило формальный характер и было выдержано в духе общих пожеланий и обычных лозунгов. Зная стиль Андропова, я не сомневался, что он просто подписал письмо, подготовленное его помощниками. К этому времени в связи с прогрессированием болезни и нарастанием интоксикации он уже находился в таком критическом состоянии, что работать не мог.
На пленуме ЦК царила угнетающая обстановка; страна и партия вновь, как и в последние годы пребывания у власти Брежнева, находились в растерянности, не зная, что их ждет завтра. Рушились надежды на обновление, предложенное и не осуществленное Ю. Андроповым. М. Горбачев был в подавленном состоянии, понимая, что в складывающейся ситуации его положение становится не просто сложным, но и шатким. «Старики» (Черненко, Тихонов, Гришин, Громыко), которые будут определять политику Политбюро после ухода со сцены Ю. Андропова, не простят М. Горбачеву первенства и сделают все, чтобы ограничить его активность, отодвинуть на задний план, если вообще не удалить из Политбюро. В те времена это было вполне возможно.
И хотя с подачи Ю. Андропова ему все-таки удалось продвинуть на руководящие должности в партии преданных, как ему казалось, Г. Романова, В. Воротникова, М. Соломенцева, В. Чебрикова, Е. Лигачева, Н. Рыжкова, это было слабое утешение. Дело в том, что никто из них в тот период не пользовался достаточным авторитетом ни в партии, ни в стране, да и по характеру не было среди них того «героя», который мог бы сломать сложившиеся традиции в партийной иерархии. В Политбюро была единственная фигура, которая могла достойно защитить М. Горбачева, что, впрочем, и произошло, когда к власти пришел больной и слабохарактерный К. Черненко. Это был ближайший друг Андропова — Д. Устинов.
Именно он внушал мне оптимизм в отношении будущего М. Горбачева, за которого я тогда искренне, по-дружески переживал. Мы часто встречались в это время с Устиновым, обсуждая проблемы здоровья Андропова. Он неоднократно повторял, что Андропов не видит в Политбюро другого человека, кроме Горбачева, который мог бы заменить его на посту Генерального секретаря ЦК КПСС. Я верил в искренность Д. Устинова, его честность, принципиальность и предполагал, что он будет отстаивать мнение Андропова перед другими членами Политбюро. И опять я ошибся…
Ю. Андропов медленно угасал. Мне было больно смотреть на него, лежащего на специальном беспролежневом матрасе, малоподвижного, с потухшим взглядом и бледно-желтым цветом лица больного, у которого не работают почки. Он все меньше и меньше реагировал на окружающее, часто бывал в забытьи. Сколько надежд на возрождение страны, на ее преобразование связывали многие, в том числе и я, с человеком, который умирал у нас на руках, и мы были бессильны что-нибудь сделать для его спасения… Для врача самое тяжкое — ощущать свою беспомощность.
В последние дни из руководства страны от имени Политбюро приехал проведать Ю. Андропова, а вернее, попрощаться с ним, К. Черненко. Это была страшная картина. Около большой специальной кровати, на которой лежал изможденный, со спутанным сознанием Андропов, стоял бледный, задыхающийся, растерянный Константин Устинович, пораженный видом и состоянием своего друга и противника в борьбе за власть.
9 февраля 1984 года Ю. Андропова не стало. Вновь неопределенность царила в стране. Что же будет, кто возглавит руководство великой сверхдержавы? И опять, как всегда, ее судьбу решало даже не Политбюро, а его небольшая верхушка.
Ох, тяжела ты шапка Мономаха!
…Рок судил
И нам, житейски испытанья,
И смерти дух средь нас ходил
И назначал свои закланья.
А.С. Пушкин
Смерть… Она неизбежна (вспомните П.А. Вяземского: «смерть жатву жизни косит»). Выражаясь научно, это лишь одна из составляющих биологического кругооборота. Но во все времена уход человека из жизни несет горе близким, а подчас влияет и на судьбу целых поколений. За свою жизнь я видел смерть тысячи раз. Она бывала разной, но я всегда вспоминал из Библии слова пророка Осии: «Смерть! Где твое жало?» На моих глазах она жалила родных, жалила науку, искусство, литературу, она меняла жизнь стран и народов.
Говорят, властители приходят и уходят, а народ остается. Да, это верно. Но для народа небезразлично, кто ушел и кто пришел. Ушел умный, волевой, осознающий реалии, устремленный в будущее Ю. Андропов. Кто заменит его? Этот вопрос обсуждался везде — от партийных кулуаров до кухонных застолий диссидентов. Формально первым претендентом на «кремлевский престол» был К. Черненко. Неужели действительно будет он, задавались многие вопросом. И дело заключалось даже не в оценке его возможностей, которых никто не знал, а в том, что страна хотела иметь молодого, прогрессивного руководителя, который бы мог внести свежую струю в решение политических и хозяйственных вопросов.
Вот почему меня не удивляло, что еще до смерти Андропова Д.Ф. Устинов, касаясь будущего страны, неоднократно возвращался к кандидатуре М. Горбачева как Генерального секретаря. Я понимал, что Устиновым движут и личные интересы, что ему было бы легко работать с Горбачевым — ведь их связывали дружеские отношения. Однако, зная расстановку сил в Политбюро и его традиции, когда вопросы решались узкой группой старейших его членов, я все же сомневался в успехе. К тому же я знал отношение к Горбачеву Черненко, Тихонова, Громыко, Гришина. Что же все-таки будет: возобладает ли здравый смысл и возрождение страны, начатое Ю. Андроповым, продолжат его молодые сподвижники или победят «старики» со старыми традициями партийных лозунгов и деклараций, деятельностью по известному принципу: «так не может быть, потому что так не было»?
Действительность превзошла мои опасения. Накануне пленума ЦК КПСС, на котором должен был обсуждаться вопрос о кандидатуре Генерального секретаря, мы встретились с Д. Устиновым в правительственной поликлинике на улице Грановского. Я помнил его недавние намерения, и мне стало не по себе, когда он сказал, что на встрече группы членов Политбюро (Черненко, Тихонов, Громыко и он) было решено выдвинуть на пост Генерального секретаря К. Черненко. Другого выхода, по его словам, не было, так как на это место претендовал А. Громыко, и это был далеко не лучший вариант. Я понял, что о кандидатуре Горбачева не было даже речи. Понимал я и то, что «не лучший вариант» — это с позиций Д. Устинова, которого больше устраивал больной и слабохарактерный Черненко, чем властный и в определенной степени упрямый Громыко. Много позднее во время одной из моих встреч с А. Громыко тот подтвердил, что кандидатуру Черненко предложил сам Устинов.
Первое, что у меня непроизвольно вырвалось после признания Д. Устинова: «Как же Вы могли, зная, что Черненко инвалид, что он не работоспособен, выдвигать его на эту должность? Все Политбюро знает этот факт — ведь еще осенью 1983 года были наши официальные заключения о состоянии его здоровья. Да и как он сам согласился с этим предложением, ведь это только ускорит его гибель?» Смущенный Д. Устинов постарался быстрее ретироваться. А я подумал: «Господи, какое же это грязное дело — борьба за власть. На какие же компромиссы, в том числе и с совестью, приходится идти, даже если такие честные люди, как Устинов, вынуждены из-за политической конъюнктуры делать и говорить не то, что думают на самом деле». Сегодня я понимаю, что я тогда «не открыл Америку».
Все это было в прошлом и еще ярче проявилось совсем недавно. Опять в борьбе за власть прежние враги становятся друзьями; идеологи коммунизма, прослужив ему верой и правдой не один десяток лет, предают его анафеме и утверждают, что нет ничего лучшего, чем капитализм; те, кто еще недавно произносил панегирик истории нашей страны, не только отрекаются от своих слов, но и обливают ее грязью; деятели, еще вчера представлявшие СССР как сверхдержаву, идут с протянутой рукой на Запад. Чего не сделаешь ради политических амбиций!
На пленуме ЦК, на котором Генеральным секретарем был единогласно избран К. Черненко, мне было стыдно и за себя, и за других членов ЦК. В то время как в ЦК, так и в Верховном Совете СССР послушно работала «машина голосования», штамповавшая решения, принятые Политбюро. Да и решения Политбюро обычно навязывались ему небольшой группой, определявшей его политику. Иерархия строго соблюдалась в этом «органе коллективного руководства партией и страной». Может быть, это пустяк, но меня всегда удивлял — и при руководстве Брежнева, и при руководстве Горбачева — строго определенный ритуал размещения за столом во время заседания членов Политбюро: в зависимости то ли от весомости их мнения, то ли от близости к Генеральному секретарю. При Брежневе рядом с ним сидели напротив друг друга Н. Подгорный и А. Косыгин, М. Суслов и А. Кириленко, а при Горбачеве — Е. Лигачев, А. Яковлев, Н. Рыжков.
В феврале 1984 года партийная иерархия и партийная дисциплина сыграли злую шутку с КПСС и со страной, обеспечив избрание заведомо слабого во всех отношениях лидера.
В конце концов не столь важно, что кто-то предложил кандидатуру тяжелобольного К. Черненко на пост Генерального секретаря, важно, что ни в Политбюро, ни в ЦК не нашлось человека, который высказал бы то, о чем думало, но молчало большинство членов ЦК: что реформирование страны и партии, начатое Ю. Андроповым, не под силу К. Черненко. И не только потому, что это связано с его болезнью, но и вследствие ограниченности кругозора, отсутствия у него представлений о путях выхода страны из кризиса. И хотя в своей речи после избрания Черненко пытался представить себя приверженцем новых идей и начинаний, предложенных Андроповым, все понимали, что с надеждами на принципиальные перемены придется подождать. Даже Тихонов, активно ратовавший за Черненко и представлявший его членам ЦК, не мог объяснить, почему все-таки выбор остановился именно на нем, и ограничился общими выражениями, более подходящими для стандартной характеристики отдела кадров, чем для представления при выборе руководителя сверхдержавы.
Меня несколько покоробило заключительное слово М. Горбачева на этом пленуме, в котором он дословно заявил следующее: «Пленум прошел в обстановке единства и сплоченности. На пленуме с чувством огромной ответственности перед партией и народом решены вопросы преемственности руководства». Не надо было Михаилу Сергеевичу, считал я, заявлять на всю страну об «огромной ответственности перед народом». Я понимал, что выступление Горбачева должно было продемонстрировать единство в Политбюро и прекратить всякие разговоры вокруг фигуры М. Горбачева как одного из лидеров страны. Не знаю, просили его выступить в поддержку Черненко или он сам, понимая обстановку и думая о своем будущем, решил не обострять отношения, только я еще раз понял, что он отнюдь не «рыцарь с открытым забралом», а дипломат, расчетливый политик, легко идущий на компромиссы, умеющий, когда необходимо, отступать, чтобы дождаться своего часа. Но тогда я (как, наверное, и многие другие не только из окружения Горбачева, но и из состава членов ЦК) усмотрел в его поведении не отсутствие бойцовских качеств, а дальновидность, мудрость политического лидера, сохраняющего единство партии и страны.
Позднее, когда я видел, как настойчиво и открыто, казалось, в безнадежных ситуациях боролся за власть Б. Ельцин, я вспоминал, как без всякого сопротивления сдавал свои позиции М. Горбачев. А ведь в отличие от Ельцина он был не одинок. Но он не решился, даже опираясь на уже значительную группу сторонников, дать бой старой номенклатуре.
В тот период главным для Горбачева было выждать, любыми путями сохранить свое положение члена Политбюро и постараться расширить круг своих сторонников. От меня он знал, что К. Черненко неизлечимо болен и дни его правления сочтены. С другой стороны, как это ни покажется парадоксальным, избрание Черненко на пост Генерального секретаря было очередным подарком судьбы Горбачеву. Приди на этот пост кто-то другой из группы старейших членов Политбюро, полный здоровья и политических амбиций, тот же А. Громыко или В. Гришин, кресло генсека было бы занято надолго, а значит, не было бы и весны 1985 года.
Но все это — гораздо более поздние размышления, а тогда, во время пленума ЦК, я просто растерялся, не зная, как вести себя в создавшейся ситуации, и мучительно переживал свою в худшем понимании «интеллигентность поведения», с одной стороны, как гражданин, как честный политический и общественный деятель, наконец, как друг М. Горбачева я должен был бы, зная состояние здоровья К. Черненко, выступить против его избрания. Не сомневаюсь, что в этом случае я оказался бы «белой вороной», а Черненко все равно был бы избран. К тому же весь состав Политбюро, да и многие члены ЦК знали истину, но делали «хорошую мину при плохой игре». Молчал будущий герой борьбы с Политбюро и коммунистической партией Б. Ельцин, молчали будущие борцы с тоталитарным режимом Э. Шеварднадзе, И. Силаев и многие другие. Конечно, я находил оправдание своему поведению. Оно, кстати, всегда создавало определенную двойственность моего положения. Могу ли я пренебречь клятвой Гиппократа и выдать самое сокровенное моего больного — состояние его здоровья, когда речь идет о судьбе государства и будущем народа? Никаких правил или законов, касающихся этого вопроса, по крайней мере в нашей стране, нет. Да и с общечеловеческих гуманных позиций можно ли говорить о неизлечимости болезни, ее тяжелом прогнозе на ближайшее будущее в широкой аудитории и в присутствии самого больного? Кроме того, К. Черненко знает о тяжести своей болезни и предупрежден о необходимости резкого ограничения рабочей нагрузки и политической активности; если он честный человек и разумный политик, то должен сам отказаться от кресла Генерального секретаря. Так я думал и тем успокаивал свою совесть.
Но судьба определила великой сверхдержаве слабого руководителя, новый период всеобщей апатии и безразличия к политической ситуации и существующему положению. Большинство понимало, что период К. Черненко недолговечен.
Став лидером страны, Черненко, надо отдать ему должное, честно пытался продолжить курс, начатый Андроповым. Но он не способен был это сделать не только из-за отсутствия таланта руководителя, должной широты мышления, знаний, но и в силу своей слабохарактерности, усугублявшейся тяжелой болезнью. Нерешительный и осторожный, он не мог противостоять ни Тихонову, ни Громыко, ни Устинову. Каждый из них проводил свою политику. В наиболее сложном положении в этот период оказался М. Горбачев. Еще недавно всемогущий сподвижник Генерального секретаря, он в одночасье становится лишь одним (и не самым авторитетным) из членов Политбюро и секретарей ЦК КПСС. Помню, с какой горечью и налетом нескрываемой злости он рассказывал мне о своих стычках с окружением К. Черненко — его помощниками, заведующим общим отделом ЦК К.М. Боголюбовым и другими. Зная уровень и возможности этих людей, я понимал возмущение Горбачева, которому надо было согласовывать с ними свои выступления и предложения.
Надо сказать, что именно в период правления Черненко я впервые понял, как много значит для руководителя его ближайшее окружение. Именно оно формирует проводимую политику, в определенной степени создает определенный имидж не только своему шефу, но и периоду его правления. И не блиставший талантами Л. Брежнев, и умный и дальновидный Ю. Андропов были сильны своим окружением, помощниками и советниками. К. Черненко просто не смог его создать, да, видимо, и не придавал ему большого значения. Серое окружение Черненко мне не запомнилось яркими идеями или предложениями. Помню лишь их активную борьбу за перенос времени проведения XXVII съезда КПСС. Представляя всю тяжесть состояния здоровья Генерального секретаря и понимая, что печальный исход может наступить в любое время и изменить их положение, они спешили провести съезд раньше срока, когда они могли рассчитывать на членство в ЦК и ревизионной комиссии, что на ближайшие пять лет обеспечивало их положение, включая и материальное.
M. Горбачев и Б. Ельцин повторили ошибку Черненко, недооценив значение своего окружения, которое они «меняли как перчатки», хотя и по разным причинам: первый — из-за незнания людей и их возможностей, второй — ради собственных интересов.
Проблемы Горбачева в период правления Черненко не ограничивались его сложными взаимоотношениями с окружением Генерального секретаря, в большей степени они определялись отношением к нему «стариков» из Политбюро — Тихонова, Громыко, Гришина и некоторых других. Они не только его третировали, но и активно, особенно Н. Тихонов, выступали против него. Д. Устинов, как мне кажется, старался держать нейтралитет, хотя в некоторых случаях и пытался помочь М. Горбачеву.
Я не мог понять отношение Черненко к Горбачеву. С одной стороны, было ясно, что М. Горбачев по меньшей мере не входит в круг его друзей и сподвижников. С другой — несмотря на давление со стороны Н. Тихонова и некоторых других членов Политбюро, он не только сохраняет его в аппарате ЦК КПСС, но и формально оставляет за ним пост второго секретаря, т. е. своего основного заместителя.
Где-то в апреле 1984 года в «кремлевских коридорах» пошли разговоры о том, что дни М. Горбачева в ЦК сочтены, что он или уходит заместителем председателя Совета Министров по сельскому хозяйству, или уезжает послом, однако это оказалось всего лишь досужими домыслами правительственных сплетников, которых много в любые времена. Горбачев продолжал активно работать в прежней должности, по крайней мере Черненко поручал ему решение многих сложных вопросов. Я знаю это не понаслышке.
Так было, например, с освобождением Ю. Цеденбала от руководства Монгольской народно-революционной партией и страной. Мне пришлось принимать в этом активное участие, поскольку его освобождение было связано с болезнью, из-за которой он полностью потерял возможность управлять государством. Кстати, это, вероятно, единственный в истории факт отстранения лидера страны по состоянию здоровья, несмотря на его сопротивление. Руководить этой сложной политической и дипломатической акцией было поручено М. Горбачеву.
Уверен, что Черненко был вынужден сохранять Горбачева, понимая, что замены ему в тот период не было. Еще раз повторю истину, которую так любят забывать ради своих интересов: настоящая история не может быть проституткой и отражает только объективную реальность. Вот почему как бы мы сегодня ни относились к М. Горбачеву, остается фактом, что в тот период в секретариате ЦК никто не мог сравниться с ним по возможностям обеспечить выполнение работы. И как бы ни пытались доказать, что были фигуры и посильнее Горбачева (вроде Г. Романова), факт остается фактом: Черненко не заменил Горбачева, несмотря на прохладное и настороженное отношение к нему.
Но я чувствовал, что М. Горбачев нервничает. Состояние здоровья К. Черненко ухудшалось с каждым днем. Все чаще он вынужден был оставаться дома либо попадал в больницу. По логике, в период его отсутствия заседания секретариата ЦК КПСС и Политбюро должен был вести второй человек в партии — М. Горбачев, однако, как он сам мне сказал, против этого категорически выступил Н. Тихонов. Нам с академиком А.Г. Чучалиным часто приходилось в этот период встречаться с К. Черненко, и было видно, в какой растерянности он находится, не зная, что предпринять. Сколько раз мы были невольными свидетелями того, как, несмотря на настойчивые попытки Н. Тихонова, К. Черненко раздраженно просил под любым предлогом не соединять его с ним. Слабохарактерный, боявшийся к тому же потерять нити управления, он не мог сопротивляться своим старейшим друзьям вроде Тихонова, поэтому принял самое простое решение — без него не проводить заседания Политбюро.
Бедная Россия! Страна погружалась в мрак и застой, а на политическом Олимпе никак не могли поделить власть. Жизнь же текла по заведенному ритму, с полным безразличием к тому, что нам принесет завтра. Все замерло в ожидании, и даже диссиденты не очень тревожили покой Кремля. В моей памяти об этом времени не сохранилось ни одного сколько-нибудь заметного события или важного для страны решения. Остаются лишь личные переживания, связанные с организацией самого длительного на тот период полета в космос моего ученика и сотрудника доктора О.Ю. Атькова, с моим активным участием в движении врачей, боровшихся за ядерное разоружение. И, конечно, в основном память хранит тяжелые воспоминания о прогрессирующей болезни К. Черненко, который с осени 1984 года появлялся на работе совсем ненадолго, и то только после проведения либо дома, либо в Центральной клинической больнице активной терапии. Уже при вступлении в должность Генерального секретаря он не мог обходиться без активного лечения, а вскоре вообще для того, чтобы работать, должен был периодически дышать кислородом — и дома, и на работе, где была установлена соответствующая аппаратура.
И опять, в очередной раз, при описании таких подробностей червь сомнения начинает грызть меня — правильно ли я поступаю, касаясь сокровенных тайн моих бывших пациентов? После таких публикаций один из моих знакомых, старый академик медицины со злым упреком сказал: «Евгений Иванович! Зачем Вы пишите о болезни своих пациентов, это неэтично и недостойно врача». Я ответил довольно резко: «А разве этично больному человеку, не способному к руководству, ради своих амбиций, своего положения хвататься или держаться за власть вопреки интересам страны, народа, нас с Вами? Я пишу для будущих руководителей и поколений, чтобы они учились на ошибках прошлого». К сожалению, это оказалось гласом вопиющего в пустыне. Все повторилось вновь, и никто не вспомнил уроков прошлого — последних лет правления Брежнева или периода нахождения у власти Черненко.
Мы часто в то время общались с М. Горбачевым, у нас не было секретов друг от друга. Но и не будь у нас товарищеских отношений, я и формально как второго человека в партии должен был информировать его о состоянии здоровья Генерального секретаря. Чувствовалось внутреннее напряжение М. Горбачева по его частым звонкам, вопросам о состоянии здоровья Черненко, темам разговоров. Периодами я видел его растерянность, нерешительность, но тогда не придавал этому большого значения и относил к естественному поведению человека, находящегося в сложной ситуации. Положение М. Горбачева осложнилось и тем, что осенью 1984 года тяжело заболел Д. Устинов.
Для меня это была большая личная трагедия, потому что наряду с Андроповым он был самым близким мне человеком среди руководителей страны. Д. Устинов обладал сильным русским характером, который помог ему стать талантливым организатором. При всех лидерах Советского Союза — Сталине, Хрущеве, Брежневе, Андропове, Черненко — он возглавлял, как теперь принято говорить, военно-промышленный комплекс. Во многом именно ему наша страна обязана превращением в мощную сверхдержаву, с которой считались самые сильные капиталистические государства. И когда сегодня я читаю в прессе рассуждения Г. Киссинджера о том, надо ли обращать внимание на мнение России в вопросе о расширении НАТО на Восток и вообще стоит ли с ней считаться после поражения в холодной войне, я вспоминаю другого, вежливого и даже несколько заискивающего Г. Киссинджера в период Л. Брежнева и А. Громыко в 70-е годы, когда он настойчиво добивался взаимопонимания с СССР и считал своим достижением диалог с советскими лидерами.
Некоторые современные политики, включая и отставных генералов, любят злословить о нашей истории, руководителях государства. Но если сегодня Россия еще что-то значит на геополитической карте мира, то это благодаря деятельности таких руководителей, как Д. Устинов. Если же сравнивать отставных генералов и подобных им критиков с теми, кто в сложнейших условиях создавал оборонный щит, сегодня разваленный, то у меня сразу возникают ассоциации с Моськой и Слоном.
Меня поражала работоспособность Д. Устинова, который начинал свой день в ЦК или Министерстве обороны в 8 утра и заканчивал в полночь, не знал выходных, он и в отпуске продолжал работать. В последний в его жизни отпуск в 1984 году я долго был с ним в любимом им санатории «Волжский Утес» в Жигулях. Больше трех дней он не выдерживал и на вертолете, который постоянно дежурил, вылетал то в Ульяновск на строительство авиазавода, то в Самару на оборонные предприятия. Это был мужественный человек. За 45 лет моей врачебной деятельности мне пришлось участвовать в лечении тысяч больных. И немногие, зная тяжелый, печальный прогноз болезни, могли сохранить уверенность, бодрость, веру в себя, в свои возможности, сохранить юмор и жизнерадостность. Устинов перенес две операции по поводу злокачественной опухоли, инфаркт миокарда, но, несмотря на мои просьбы, ни на йоту не изменил ни своей активности, ни своего режима.
Конечно, он был человек своей эпохи — расчетливый политик, который мог в сложной ситуации ради своих интересов пойти на компромисс, как это было при выдвижении К. Черненко на пост Генерального секретаря ЦК КПСС. В чем-то, особенно в политических вопросах, он был догматичен, как в ситуации с вступлением наших войск в Афганистан. Для него непререкаемыми авторитетами и его близкими друзьями были Л. Брежнев и Ю. Андропов.
За внешней суровостью и возможными «разгонами» по старым образцам скрывались доброта и широта натуры. Сколько раз он обращался ко мне с просьбой помочь генеральным конструкторам, ученым, директорам оборонных заводов, создателям ракет, авиации, ядерного оружия: А.И. Микояну, М.К. Янгелю, А.Н. Туполеву, Ю.Б. Харитону, Н.Д. Кузнецову и многим-многим другим.
После смерти Ю. Андропова, которую он тяжело пережил, Д. Устинов как-то сник, стал сдержаннее. У меня создалось впечатление, что в 1984 году его активность и страсть к работе сохранялись лишь как привычка к определенному режиму, выработанному десятилетиями жизни. Осенью 1984 года, после поездки в Чехословакию на военные маневры, у Д. Устинова на фоне сниженной сопротивляемости организма появились признаки вялотекущего инфекционного процесса вирусного происхождения. Все известные в мировой практике методы лечения не давали эффекта. Болезнь медленно прогрессировала. На этом фоне начала увеличиваться бывшая до того спокойной аневризма брюшного отдела аорты, появились признаки ее расслоения, угрожавшие разрывом сосуда. Я понимал, что теряю еще одного близкого мне человека в руководстве, а страна — человека, который на протяжении десятилетий обеспечивал ее высокий оборонный потенциал. Уходил из жизни еще один представитель «поколения победителей». Как жест отчаяния и последнюю надежду консилиум ведущих специалистов предложил оперативное лечение. Технически операция была выполнена на высоком уровне, однако в связи с перенесенным заболеванием начались осложнения, которые привели к печальному исходу.
За несколько дней до смерти, видимо, чувствуя ее приближение, Д. Устинов попросил, чтобы к нему приехал К. Черненко. Почему-то он очень нервничал и несколько раз переспросил, передал ли я его просьбу. К тому времени состояние самого Черненко было крайне тяжелым. Он находился в больнице и выезжал на работу лишь на несколько часов. Я понимал, как тяжело ему встречаться с умирающим Устиновым, последним, кроме него самого, из близкого окружения Брежнева. Но он, видимо, силой воли заставил себя собраться и пришел к Д. Устинову. Тот попросил, чтобы их оставили наедине. Вышел из палаты Черненко каким-то отрешенным, замкнутым, единственное, что он спросил: «Так ты думаешь, надежды никакой?» И, услышав, что дни Дмитрия Федоровича сочтены, коротко заметил: «Какой хороший человек погибает».
М. Горбачев в это время находился с визитом в Англии. Для него это было первым шагом в покорении Запада. Узнав о смерти Д. Устинова, он прервал визит, сказав, что не может поступить иначе в связи с гибелью своего друга. Они близко познакомились благодаря Ю. Андропову, и, хотя между ними не было таких товарищеских отношений, как между Андроповым и Горбачевым, по всему чувствовалось, что Устинов его ценил и уважал. Да и у М. Горбачева в Политбюро тогда был единственный настоящий друг — Дмитрий Федорович, а остальные были лишь товарищами по работе.
В день похорон Д. Устинова стоял сильный мороз. Вероятно, из-за этого ритуал проводов на Красной площади, часто повторявшийся за последние годы, был скомкан. Но больше поразило не это, а атмосфера какой-то безысходности и безразличия, царившая среди собравшихся. Во взглядах, обращенных ко мне, был немой вопрос: как долго продержится Черненко? Большинству из тех, кто был на похоронах, не надо было пресс-конференций с изложением информации о состоянии здоровья Генерального секретаря. Они видели его во время кратких приездов на работу, и этого было достаточно.
Первым, кто позвонил мне после похорон, был М. Горбачев. Чувствовалось, что он искренне переживает смерть Д. Устинова. Но вскоре он переключился на другую тему: каково состояние Черненко? Я подтвердил ему тяжелый прогноз, о котором он уже хорошо знал от меня. «Но все-таки, сколько он еще может протянуть — месяц, два, полгода, ты же понимаешь, что я должен знать ситуацию, чтобы решать, как дальше действовать», — настаивал он. Я понимал, что он нервничает, не знает, что предпринимать. Но что я мог сказать М. Горбачеву? Что если бы не мы, врачи, не медицина, то Константина Устиновича не было бы уже два года. И сколько он еще проживет, зависит не только от нас, но и от его организма, и в конце концов от его судьбы.
Я вспомнил нашего Патриарха Питирима. У него был обнаружен рак кишечника. На консилиуме с участием ведущих хирургов академиков В.Д. Федорова и Н.Н. Малиновского мы убеждали его оперироваться, так как это был единственный шанс продлить жизнь. На следующий день он встретил нас оживленный (как говорят в духовном мире, «просветленный») и заявил, что оперироваться не будет. «Я божий человек, и Господь знает, когда меня призвать к себе», — сказал он на прощание. К нашему великому удивлению, с тяжелейшим раковым процессом он без лечения прожил больше года…
Возможно, для того чтобы развеять неопределенность и уверить страну, что лидер жив и работает, кто-то в руководстве, по-моему, это был В.В. Гришин, решил, что К. Черненко должен выступить по телевидению, тем более был повод — выборы в Верховный Совет. Несмотря на наши категорические возражения, этот фарс был разыгран. Запись велась в Центральной клинической больнице, ставшей в последующем, в период болезни Б. Ельцина, особенно знаменитой. Было страшно смотреть, как бледный, задыхающийся Черненко с трудом добирается до кабинета и по приготовленному тексту обращается к народу. Если кто-то хотел бы показать всему миру, в каком состоянии находится лидер великой державы, то лучшего, чем это телевизионное выступление, придумать бы не мог.
Мне было искренне жаль К. Черненко. Я знал, как тяжело дались ему эти 15 минут. Поистине это было издевательством над самим собой, но чего не сделаешь ради власти!
История никого не учит… И вот уже только что перенесший инфаркт миокарда, несмотря на колоссальную опасность для жизни и здоровья, Б. Ельцин позирует перед телекамерами на выборах президента, чтобы показать, что он здоров и полон сил. Хорошо, что все обошлось.
Но продолжим наш рассказ. Состояние К. Черненко продолжало ухудшаться. Видимо, осознав ситуацию, перестали звонить Тихонов, Громыко, Гришин. Лишь Горбачев продолжал следить за развитием событий. За несколько дней до смерти в связи с гипоксией мозга у К. Черненко развилось сумеречное состояние. Мы понимали, что дни его сочтены. Я позвонил М. Горбачеву и предупредил, что трагическая развязка может наступить в любой момент.
Когда вспоминаешь историю, нельзя кривить душой и изворачиваться, надо быть честным и откровенным. Признаюсь, тогда я отдавал себе отчет в том, что мой звонок — это не соболезнование по поводу умирающего Генерального секретаря, а предупреждение возможному кандидату на этот пост, чтобы он начинал активно действовать.
10 марта К. Черненко не стало.
Жребий брошен
Ура, наш царь! так! выпьем за царя,
Он человек! им властвует мгновенье
Он раб молвы, сомнений и страстей.
А.С. Пушкин
10 марта 1985 года осталось в моей памяти, как те фильмы немого кино 30-х годов, которые вспоминаются лишь отдельными эпизодами. День был серый и пасмурный, отчего на душе, омраченной состоянием общей апатии, неуверенности, внутренней пустоты, становилось еще темнее.
Почти весь день я провел в Центральной клинической больнице, понимая, что сочтены уже не дни, а часы К. Черненко. Самое тяжелое в жизни врача — находиться у постели своего пациента, понимая, что тому осталось жить несколько часов и ты ничего не сможешь сделать. Еще тяжелее общаться с родственниками, тем более с такой милой, приятной и простой женщиной, какой была Анна Дмитриевна. На ее глазах прошла вся болезнь мужа, и она самоотверженно переносила всю тяжесть, падающую в этот период на близкого человека. Она все понимала, но разве легче от этого говорить ей о гибели самого дорогого человека?
Утром в больнице меня по телефону разыскал М. Горбачев. Разговор не клеился, я лишь сказал ему, что вряд ли Черненко переживет этот день.
Развязка наступила вечером, около половины восьмого. Вступал в силу негласный протокол, который я уже хорошо освоил, провожая в последний путь за три года третьего руководителя страны. Надо информировать второго человека в партии и никого другого, а уже он принимает решение о дальнейших шагах. 10 марта был выходной день, и я нашел М. Горбачева, позвонив на дачу. По разговору понял, что у него уже продуман весь план прихода к власти. «Я сейчас буду собирать Политбюро и секретариат, а ты к десяти часам подъезжай в Кремль, доложишь о болезни и причине смерти», — коротко ответил он, и было заметно, что он явно спешил.
Среди запомнившегося — безлюдная, освещенная яркими фонарями Ивановская площадь Кремля, длинные пустые коридоры, озадаченные, поникшие лица большинства участников заседания и уверенный в себе М. Горбачев, восседавший во главе стола. Он, видимо, не хотел выпускать из рук инициативу, поэтому и собрал Политбюро в выходной день в одиннадцатом часу вечера. Надо было не только сообщить о смерти Генерального секретаря, но и как можно быстрее назначить заседание пленума ЦК для выбора нового руководителя партии.
Из Кремля я не поехал на дачу, а остался на городской квартире. Город засыпал, за окнами домов шла своя жизнь, со своими заботами и проблемами, и никто даже не предполагал, что, может быть, это последняя ночь старой размеренной жизни в определенных рамках, традициях и установившихся представлениях о власти.
Заснуть не мог, в голову лезли мысли, вопросы, на которые не находил ответа. Почему-то вспоминал старого преподавателя латинского языка в институте, который к месту и не к месту при любых событиях повторял слова Юлия Цезаря: «Alea jacta est» — «жребий брошен». Что же, действительно, жребий был брошен. Но что он принесет стране, народу?
В какой-то степени К. Черненко — трагическая фигура в отечественной истории. Его взлет, обычного партийного функционера, заведующего отделом ЦК КПСС, не блиставшего талантами и организаторскими качествами, способностью к политической интриге, был неожиданным не только для меня и еще раз продемонстрировал непредсказуемость судьбы. Это был обычный человек, добрый, хороший семьянин, ответственный работник, но никак не посланец истории, который мог бы вывести страну из того тупика, в который она попала.
Где-то внутри «скребли кошки», и на душе было муторно. Из жизни уходила целая эпоха. Хорошая или плохая — каждый будет оценивать ее по-своему, но это жизнь моего поколения. Страшно и несправедливо, если «и сказок о нем не расскажут, и песен о нем не споют». На моих глазах вершилась история, в том числе и закулисная, со взлетами и падениями политических и государственных деятелей, принимались судьбоносные решения, открывались дружба и ненависть тех, кто во многом определял жизнь страны и народа. Во многом, но не во всем. Сколько поворотов в истории страны, в жизни отдельных личностей не укладывалось в обычные, предсказуемые рамки, и их можно было объяснить только велением судьбы.
Яркий пример — жизнь многих из тех, кто стал легендой для моего поколения и с кем мне пришлось близко общаться за 23 года работы в 4-м Управлении. К. Ворошилов и А. Косыгин, Г. Жуков и К. Рокоссовский, Л. Брежнев и Ю. Андропов, С. Буденный и Д. Устинов, К. Симонов и М. Келдыш и многие-многие другие предстали не в обрамлении святости и славы, а как обычные «Homo sapiens» (разумный человек), — с радостями и горестями, присущими каждому из нас, сочетавшие в себе и белые, и черные краски. И в то же время каждый из них был личность. Каждый прожил большую и сложную жизнь, выдержал вместе со своим поколением величайшие испытания, выпавшие на долю нашей многострадальной Родины. И как бы ни пытались очернить их годы жизни и работы, они обеспечили нам, живущим, ту основу, которая сегодня спасает нас от полного краха.
А сколько несбывшихся надежд и свершений пришлось на долю каждого из них! И не всегда вследствие объективных причин. Добейся, к примеру, А. Косыгин претворения в жизнь своих экономических реформ, вероятно, совсем другой была бы история Советского Союза. Но обычная для России вражда на Олимпе власти погубила не только реформы, в конце концов она привела к развалу великую державу.
Мысли, мысли, воспоминания — сколько прошло их за ту тяжелую для меня ночь… Утром предстояло вскрытие тела К. Черненко, которое должно было поставить последнюю точку в определении диагноза болезни и причины смерти. И хотя у нас не было сомнений в точности диагноза и мы знали, от чего погиб Черненко, каждый раз в подобных ситуациях, когда ревизуется твоя работа, да еще на таком уровне, невольно переживаешь за исход патологоанатомического исследования.
Каких только домыслов, особенно в «послеперестроечный» период, я не наслышался об уровне работы 4-го Главного управления по сохранению здоровья руководящих деятелей партии и государства. Чего только не писали о возможном использовании медицины в политических целях, вплоть до обвинений в преднамеренном построении таких схем лечения и режима пациентов, которые способствовали трагической развязке. С человеческих позиций читать эту галиматью было просто омерзительно. Но совесть была спокойна, ибо все результаты посмертной ревизии указывали на высокий профессионализм тех, кто осуществлял лечение. Наши выдающиеся патологоанатомы, которые приглашались для оценки правильности диагноза, — академики А.И. Струков, Н.А. Краевский, подписи которых стоят под медицинским заключением, удивлялись, как больные с такой патологией долгие годы могли жить и активно работать.
«Это возможно только в условиях Четвертого управления», — как правило, заканчивали они свои выводы. Да и могло ли быть иначе, если лечение коллегиально осуществлялось ведущими учеными и врачами страны? Так что различного рода «мемуаристам» надо бы знать, что профессор Чазов единолично никогда ничего в плане лечения пациентов не предпринимал, все патологоанатомические материалы подвергались специальной консервации, чтобы в любое время их можно было изъять для нового изучения.
В марте 1990 года, покидая пост министра, я пришел официально попрощаться с М. Горбачевым. К этому времени мы были уже далеки друг от друга, и визит носил больше протокольный характер. В разговоре Горбачев неожиданно затронул тему смерти Черненко, со дня которой прошло уже пять лет: «Знаешь, они (я понял, что это — о бывшем окружении Черненко, части старого аппарата ЦК, потерявшего или теряющего свои позиции и власть) распространяют слухи, что смерть Черненко была ускорена для того, чтобы я занял пост Генерального секретаря». Меня удивила не тема разговора, а та эмоциональность, с которой это было сказано. «Михаил Сергеевич, — ответил я. — Стоит ли обращать внимание на пустую болтовню? Вспомните, когда Черненко избрали Генеральным секретарем, все возмущались, как можно было передавать власть в руки тяжелобольного человека. Когда я возвращался с пленума вместе с Г. Арбатовым, он меня прямо спросил, информировал ли я Политбюро, ЦК о состоянии здоровья Черненко. Я ответил, что в Политбюро лежит не одно официальное заключение консилиума врачей о его тяжелой болезни. Если же говорить о сугубо медицинской стороне, то нам, врачам, и Константину Устиновичу повезло, что мы смогли его спасти еще в 1983 году. Его лечил не только Чазов, не только ведущие врачи страны. По просьбе самого Черненко Хаммер из США привозил ему ведущего пульмонолога, который полностью согласился и с нашим диагнозом, и с проводимым лечением». Мой ответ, как мне показалось, успокоил М. Горбачева…
Но вернемся в март 1985 года. На следующий день после смерти К. Черненко, не успел я собраться на работу; как раздался телефонный звонок. К моему удивлению, в этот ранний час из машины звонил Михаил Сергеевич Горбачев. Он начал с того, что поблагодарил меня за все то, что я искренне и бескорыстно сделал для него за годы дружбы и особенно в последнее время. Помолчав, добавил, что уверен, как бы ни менялось наше положение, мы и в будущем останемся верными друзьями. Тогда я искренне поверил в эти слова. Сейчас же вспоминаю «Горе от ума» А. Грибоедова: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». «Я долго думал, — продолжал он, — что делать в связи с обращением многих товарищей по партии, которые считают, что я должен ее возглавить. Вопрос не простой, но после долгих раздумий я решил, что надо согласиться. Надо выводить страну и партию из кризиса. Сейчас еду, чтобы сообщить им об этом решении. Сегодня проведем и пленум ЦК».
Конечно, меня поддержали этот звонок и слова М. Горбачева, учитывая состояние, в котором я находился, но не могли не покоробить заявления о долгом раздумье, о просьбах товарищей. Передо мной можно было и не лицемерить, ибо мы не раз обсуждали проблемы выборов будущего Генерального секретаря. К тому же он хорошо знал сложившуюся в партии политическую конъюнктуру. В той общественной и политической ситуации, которая царила в стране, у него не было альтернативы, хотя он и побаивался «стариков». Когда однажды зашла речь о позиции, которую может при выборах Генерального секретаря занять А. Громыко, скептически относившийся к Горбачеву, Михаил Сергеевич заметил, что у него есть возможности договориться с ним. Тогда я не обратил внимания на это замечание. Каково же было мое удивление, когда на срочно собранном, менее чем через сутки после смерти К. Черненко, пленуме ЦК с предложением об избрании М. Горбачева Генеральным секретарем выступил именно А. Громыко.
Еще в большей степени поразил меня характер представления. Были свежи в памяти сдержанные, сухие выступления К. Черненко, представлявшего на этот пост Ю. Андропова, и Н. Тихонова при представлении К. Черненко. И вот…
Стены амбициозного мраморного зала в Кремле, построенного по предложению Л. Брежнева для заседаний пленумов ЦК КПСС, такого панегирика в честь будущего Генерального секретаря еще не слышали. «Михаил Сергеевич Горбачев, — сказал А. Громыко, — человек принципов, сильных убеждений, острого и глубокого ума, он всегда умеет находить такие решения, которые отвечают линии партии». «Я сам часто поражался его умению быстро и точно схватывать суть дела, делать выводы, правильные, партийные выводы», — говорил А. Громыко. Продолжая и по сей день уважать и высоко ценить Громыко за его честность, твердость в отстаивании интересов нашей Родины, я не хочу дальше перечислять все те превосходные эпитеты, которыми он авансом наделил Горбачева. Пройдет всего три года, и Громыко будет говорить совсем другое.
Тогда же, слушая его речь и сопоставляя ее с проскользнувшим в разговоре замечанием М. Горбачева о том, что «с Громыко он договорится», я подумал о состоявшемся их компромиссе. Какова его цена? Все стало ясно 2 июля того же года, когда по предложению Горбачева мы, депутаты Верховного Совета СССР, единогласно проголосовали за избрание А. Громыко Председателем Президиума Верховного Совета СССР, формально — за главу советского государства.
Если препарировать борьбу за власть, как препарирует анатом больной орган, мы за фасадом красивых слов и заявлений увидим беспринципность, лицемерие, увидим, как объединяются бывшие враги, люди, которые терпеть не могли друг друга, начинают клясться в вечной дружбе — совсем, как в басне Крылова: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»..
Я вспомнил, что подобный властный компромисс был уже в нашей истории, когда, свергая Н. Хрущева, власть разделили Л. Брежнев и Н. Подгорный. Брежнев тогда терпел Подгорного десять лет, Горбачев отправит Громыко на «заслуженный отдых» через три года. Конечно, за компромиссом личностей стоят более сложные процессы. Договариваясь с Громыко, Горбачев не только вносил раскол в ряды «старой гвардии», но и привлекал на свою сторону значительную часть из консервативно настроенных членов партии и ЦК.
Вероятно, это один из немногих успешных и продуктивных компромиссов, которых немало было в политической жизни М. Горбачева. К сожалению, со временем из-за властных амбиций, веры в непогрешимость своих идей и деяний он потеряет политическое чутье, будет идти на такие компромиссы, которые приведут его к изоляции и, как результат, к потере власти. Но тогда, в 1988 году, находясь в зените славы, он легко освободился от А. Громыко, который был своеобразным балластом, отстаивающим старые позиции в партии и государстве.
А. Громыко тяжело переживал «измену Горбачева», как он расценивал свою отставку и изменившееся отношение к нему. «Человек с ледяным сердцем», — сказал он мне о Горбачеве, когда в связи с резким ухудшением состояния здоровья попал в больницу. Сознаюсь, я воспринимал его высказывания как естественную в такой ситуации обиду человека и оправдывал М. Горбачева. Жизнь и последующие события подтвердили правильность мнения Громыко, но было уже слишком поздно.
А. Громыко угасал на моих глазах. У него развилась большая аневризма брюшного отдела аорты, по поводу лечения которой разгорелись жаркие споры. Часть консилиума, в частности заведующий хирургическим отделением кардиоцентра Р. Акчурин, настаивала на операции, однако большинство считали, что Громыко ее не перенесет. Возобладало мнение большинства. К сожалению, вскоре у него развилось расслоение аорты с последующим разрывом. 2 июля 1989 года, через восемь месяцев после отставки, не стало А. Громыко, во многом определявшего внешнюю политику Советского Союза при Хрущеве, Брежневе, Андропове и Черненко. Из жизни ушла целая эпоха советской дипломатии.
М. Горбачев, избранный в марте 1985 года Генеральным секретарем, продолжал набирать политические очки и укреплять свои позиции в партии, государстве и особенно в обществе. Но в принципе первые два-три года правления Горбачева мало чем отличались от того, к чему мы уже привыкли. Все считали, что новой вехой в жизни партии и страны станет XXVII съезд КПСС.
Обратимся к выступлениям М. Горбачева в том 1985-м, который должен был стать судьбоносным годом в истории страны. 23 апреля, когда принималось решение о съезде, он говорил: «сегодня мы вновь подтверждаем преемственность стратегического курса», нужно «в первую очередь активизировать человеческий фактор, добиться того, чтобы каждый на своем месте работал добросовестно и с полной отдачей», «в качестве главного стратегического рычага… партия выдвигает на первый план ускорение научно-технического прогресса», «пора приступить к совершенствованию организационных структур управления…» и т. п. Все — в «лучших» традициях прошлого, без какого-либо намека на реформирование партии, страны, народного хозяйства.
Это можно понять — ведь прошел всего месяц после того, как М. Горбачев взял в свои руки бразды правления и еще не мог разработать тактику и стратегию своей политики. Но 15 октября пленум рассматривает вопросы о новой редакции Программы КПСС, изменениях в Уставе и, самое главное, об основных направлениях экономического и социального развития до конца XX столетия. В принципе, это должен был быть документ, определяющий нашу жизнь. Я внимательно слушал выступление М. Горбачева, ожидая новых, интересных идей и предложений. И что же он предложил?
Опять утверждение о «преемственности основополагающих и политических установок КПСС», амбициозное заявление, что «теперь мы лучше, точнее представляем пути совершенствования социализма, достижения нашей программной цели — коммунизма» и что «мы твердо держим курс на коммунизм». А что же экономика, каковы пути выхода из ситуации, названной Горбачевым «застоем»? Какие преобразования намечали «основные направления экономического развития», предложенные им и его командой? Ничего нового участники пленума не услышали. «Программа исходит из решающей роли экономики в развитии общества, — заявил М. Горбачев, — она нацелена на преобразования действительно исторического масштаба — осуществление новой технической революции народного хозяйства, перевода его на интенсивные рельсы развития»…
Подобное уже звучало из уст Хрущева, Брежнева, Андропова. Даже аморфное положение о развитии политической системы советского общества на основе осуществления социалистического самоуправления народа полностью совпадало с предложениями Ю. Андропова. Не знаю, как остальные участники заседания, но я понял, что у М. Горбачева еще нет конкретных предложений по выходу из кризиса и, что еще важнее, нет той команды политиков, экономистов, производственников, просто умных людей с идеями, которые могли бы создать такую программу.
В этом признался и А. Яковлев 25 декабря 1991 года — в день, когда официально со своего поста ушел Горбачев. Многие называют Яковлева «идейным отцом перестройки». В интервью «Литературной газете» он заявил: «Мне и тогда, в 1985 году, было совершенно очевидно, что любые наши наметки — обязательно сделать то-то, непременно достичь того-то — оказались бы схематичными и несерьезными». И далее, отвечая на вопросы корреспондента, пытавшегося найти истоки тех решений, которые определяли политику Горбачева, А. Яковлев сказал: «Но если кто-то станет изображать, что в 1985 или 1986 годах уже видел необходимость кардинального общественного поворота, я ему не поверю».
И опять, слушая выступление М. Горбачева, я в который раз старался найти ему оправдание. На этот раз я связывал отсутствие новых идей с присущей Горбачеву осторожностью. Зная консервативность взглядов партийной и государственной верхушки, он, как мне представлялось, не решился на реформы хотя бы по китайскому образцу, считая, что большинство в партии к этому не готово. Сегодня я уверен, что у него были возможности повести партию и страну новым курсом в рамках социализма и существовавшего строя, творчески переработав предложения А. Косыгина по реформированию народного хозяйства, предложения академиков-экономистов и т. п. К сожалению, этого не произошло. Жизнь развивалась по другому сценарию.
Но если не менялись политика, экономика, то менялись Раиса Максимовна и Михаил Сергеевич, менялись их стиль жизни, окружение. Вскоре после избрания Горбачевы переехали в большую новую дачу в Раздорах, которую начали строить еще при Андропове как резиденцию Генерального секретаря.
По традиции Михаил Сергеевич в майские праздники 1985 года пригласил меня «на шашлык». Семейство Горбачевых встретило меня около дома на красивом берегу Москвы-реки. Был чудесный майский день, и Михаил Сергеевич повел меня показывать парк. Он был в приподнятом настроении, чувствовалось, что он уже владеет ситуацией, полон энергии, желания активно работать и собирать новую команду руководителей. Именно тогда он завел разговор о Н. Тихонове. Это был его основной оппонент за время пребывания в Политбюро, и их взаимная антипатия была видна «невооруженным глазом».
Николаю Александровичу было уже 80 лет. Он считал меня членом «брежневской команды», к которой сам принадлежал, поэтому у нас сложились хорошие, добрые отношения. Много раз я помогал ему, особенно после смерти жены, когда у него резко обострился атеросклероз мозговых сосудов и нередко стали возникать динамические нарушения мозгового кровообращения. Не раз врачи говорили ему и во времена Андропова, и во времена Черненко, что работа Председателем Совета Министров с колоссальной нагрузкой может ему повредить и лучше, если он сменит стиль работы. Он слушал, вроде бы соглашался, но продолжал активно работать. По-человечески я его понимал. После смерти жены у него не осталось близких родственников, и работа была единственным утешением в жизни. Надо сказать, что он пользовался авторитетом у определенной группы руководителей. Для меня всю жизнь эталоном руководителя экономикой страны был и остается А. Косыгин. Н. Тихонов до этой планки не дотягивал и занял пост председателя в значительной степени из-за живучей во все времена клановости, поскольку был близок к Брежневу.
Конечно, М. Горбачев, справедливо считая пост Председателя Совета Министров одним из ключевых в руководстве страной, хотел видеть на этой должности, во-первых, человека своего, а во-вторых, не только с новым мышлением и взглядами, но уже признанного хозяйственными руководителями различных рангов. Для этого надо было прежде всего освободиться от Н. Тихонова. Именно об этом и завел разговор Михаил Сергеевич во время нашей прогулки. Зная об обострении у Н. Тихонова мозговой симптоматики, он попросил еще раз поговорить с ним о переходе, учитывая возраст и болезнь, на пенсию по состоянию здоровья.
Я понимал М. Горбачева, который в самом начале своей деятельности на посту Генерального секретаря не хотел обострять отношения со «старой гвардией» руководителей, поддерживающих Н. Тихонова. Человек осторожный, он хотел, чтобы тот сам покинул свой пост. Для меня было ясно, что при складывающемся положении и сам Тихонов не захочет работать вместе с Горбачевым. Я сказал Михаилу Сергеевичу, что вопрос можно решить и уверен, что на сей раз Н. Тихонов согласится с нашими доводами. Так и произошло. Мне даже показалось, что Николай Александрович искал подходящую и благопристойную причину отставки. Предложение консилиума врачей оказалось тем спасательным кругом, который позволил разрядить ситуацию. Для меня, моей врачебной совести важно, что это решение позволило продлить жизнь Н. Тихонову. Уверен, останься он на своем посту, который требовал большого физического и психоэмоционального напряжения, трагическая развязка наступила бы гораздо раньше.
Но это был единственный рабочий вопрос, который мы обсуждали в тот раз. Вечер прошел непринужденно, весело, и я с добрыми чувствами расстался с Раисой Максимовной и Михаилом Сергеевичем, радуясь, что новое положение их не испортило. Это была наша последняя дружеская встреча. Больше я ни разу не получал приглашений в большой неуютный дом Генерального секретаря. Наши отношения как будто бы оставались прежними, но постепенно менялись житейские взгляды Горбачевых.
Первый неприятный осадок на душе появился вскоре после избрания М. Горбачева Генеральным секретарем. Неожиданно я узнал, что он сменил не только всю охрану и прикрепленного, которые были с ним со дня переезда в Москву, но и почти весь обслуживающий персонал. Я хорошо знал руководителя его охраны. Это был очень скромный, молчаливый, преданный Горбачеву человек. В общем-то, я не удивился, когда на этом месте увидел В. Медведева, бывшего прикрепленного Брежнева. Среди других он выделялся определенным лоском, интеллигентностью, дипломатичностью, умением услужить. Недаром Ю. Андропов из всех четырех прикрепленных, работавших с Л. Брежневым, поддерживал контакт именно с ним. В. Медведеву повезло. Летом 1984 года, еще при жизни Черненко, Р. Горбачева поехала на отдых в Болгарию. Руководство 9-го Управления, осуществлявшего охрану руководящих деятелей страны, совершенно справедливо сочло, что самая подходящая кандидатура для ее сопровождения — В. Медведев. За время поездки он понравился придирчивой хозяйке, и, когда она стала «первой леди» страны, именно ее слово сыграло решающую роль в назначении В. Медведева начальником охраны. Как известно, конец его карьеры в семействе Горбачевых был весьма печальным.
Не обошлось и без смены медицинского персонала, осуществлявшего наблюдение за здоровьем Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны. Однажды, несколько смущаясь, Горбачев обратился ко мне с просьбой: «Знаешь, в новом положении я хотел бы иметь более квалифицированного доктора, чем Алексеев (его личный врач с 1978 года, до этого лечивший К. Мазурова). Подбери, пожалуйста, хорошего специалиста, может быть, это будет кандидат или доктор наук, но главное, чтобы это был хороший специалист, честный, скромный, интеллигентный человек и не болтун». Я не стал вдаваться в подробности взаимоотношений доктора Алексеева и семьи Горбачевых и ответил, что постараюсь найти такого человека. Я предложил кандидатуру Игоря Анатольевича Борисова, доктора наук, выходца из авторитетной терапевтической школы академика Е.М. Тареева. Он работал в Центральной клинической больнице и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны не только как профессионал, но и как порядочный, интеллигентный человек. После долгой проверки Михаил Сергеевич, а вернее, Раиса Максимовна, которая определяла окружение семьи, дал согласие на привлечение к работе И. Борисова. Рекомендация оказалась удачной, он пережил с семьей Горбачевых все перипетии, в том числе и форосский фарс, и отставку Горбачева, и продолжает оставаться с ним.
Сменить обслуживающий персонал, охрану, врача было гораздо проще, чем найти соратников, способных вывести страну из кризиса. Более двух лет М. Горбачев подбирал свою команду, которая в конце концов по составу стала напоминать ноев ковчег с «чистыми» и «нечистыми» — доставшимися по наследству от прошлого и выдвинувшимися в последнее время. А. Громыко и Г. Алиев представляли «старую гвардию», Е. Лигачев, Н. Рыжков, В. Чебриков — «андроповскую» команду, с которой Горбачев выдержал натиск Н. Тихонова и окружения К. Черненко, наконец, А. Яковлев, а позднее и Э. Шеварднадзе олицетворяли тех, кто хотел разрушить сложившуюся систему, но не имел четких представлений о том, что же предложить взамен. Надо сказать, что этот принцип «ноева ковчега» и погубил Горбачева, который забыл слова любимого им А. Пушкина: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань».
М. Горбачев пытается найти в ближайшем окружении искренне и до конца преданных ему людей. В первые годы, до XIX партийной конференции, таким близким и преданным ему человеком был, несомненно, Е. Лигачев. Он во многом определял кадровую политику в партии и государстве, а следовательно, и возможность реформирования, поиск путей выхода из кризиса. К сожалению, в этой области было сделано немало ошибок, результатом которых стала гибель коммунистической партии, а с ней — и великой державы. Достаточно вспомнить выдвижение Е. Лигачевым кандидатуры Б. Ельцина в руководство страны.
Конечно, и по характеру, и по стилю работы Е. Лигачев был типичным представителем той части партийных руководителей, которая не ради карьеры, а всем сердцем и умом была предана идеалам и принципам коммунизма и социалистического строя. Он верил в энтузиазм народа, в силу слова партии, что его и подвело. Я уверен в его личной честности, что бы там ни говорили Т. Гдлян и В. Иванов. Он и в тяжелый период запрета КПСС оставался верен своим идеалам и не предал, не отказался от партии, как это сделали его товарищи. Сегодня опять широко звучат коммунистические лозунги. Общественно-политическая ситуация вновь подняла коммунистическую партию на одно из ведущих мест в распределении властных полномочий.
Но так ли искренни многие из тех, кто клянется в верности коммунизму, как всегда был искренен Е. Лигачев? Эта преданность партии, которая его воспитала, выдвинула, подняла до больших высот власти, мне кажется, поражала даже его врагов. Но в отличие, например, от Ю. Андропова, он был ортодоксален, лишен определенной дипломатии, понимания того, что мир и общество многолики, что они постоянно меняются, и принципы власти, партийного руководства 40—50-х годов уже не подходят в 80-х.
Естественно, возникает вопрос: а мог ли Егор Кузьмич, ближайший М. Горбачеву человек в 85—88-м годах, помочь ему найти выход из создавшегося кризиса экономики и государства, предложить пути реформирования партии и страны? Был ли он хорошо информирован о складывающейся ситуации? Вряд ли. Это был прекрасный исполнитель воли партии, хороший организатор в условиях авторитарного режима, но не созидатель новых идей. Его беда заключалась в том, что он твердо верил в незыблемость строя, которому верно служил долгие десятилетия, верил в народ, который, однако, в определенных условиях легко предал его идеалы. Сыграли роль и его личная преданность в те годы М. Горбачеву, вера в его талант руководителя, способного разрешить проблемы страны. И лишь когда он увидел, что коммунистическая партия и его идеалы гибнут, он попытался что-то предпринять, но было уже слишком поздно. Да и в этой обстановке его голос не звучал «набатом».
Второй человек в близком окружении М. Горбачева в 1985–1987 годах, Н.И. Рыжков, по идее, заложенной еще Ю. Андроповым, должен был помочь изменить сложившуюся с экономикой страны ситуацию — Ю. Андропов привлек его в руководство партией с целью разработки предложений по ее реформированию. Экономика во многом определяет политику. Если бы магазины в стране были полны товаров, если бы не было проблем с продовольствием и многочисленных очередей, вряд ли демократы даже на время привлекли бы на свою сторону симпатии народа и разрушили коммунистическую партию.
С Николаем Ивановичем меня связывают и совместная работа в правительстве, и, к сожалению, его болезнь. Может быть, в своих оценках я буду не совсем объективен, поскольку испытываю к нему большое уважение и добрые чувства, благодарен ему за поддержку здравоохранения в сложный период 1987–1990 годов. В моей памяти живут как бы два Н. Рыжкова. Первый — интеллигентный, добрый, отзывчивый, честный, но легко внушаемый человек, второй — добросовестный руководитель экономикой и народным хозяйством сверхдержавы, мечущийся между различными группами и предложениями, часто идущий на компромиссы, легко сдающий свои позиции под напором авторитета Горбачева или общественного мнения, нередко искусственно создаваемого средствами массовой информации.
Жизнь научила меня не доверять первому впечатлению о человеке, хотя бывает, что оно оказывается наиболее правильным. Именно это мое первое впечатление о Н. Рыжкове не изменилось и впоследствии. Встречи в Госплане, где он был заместителем председателя, когда решалась судьба строительства Кардиологического центра, первые деловые контакты в правительстве вызвали у меня симпатию к нему. По-настоящему человек раскрывается в экстремальных условиях, и где бы я ни был с Н. Рыжковым — на Чернобыльской АЭС в первые дни после аварии, в Армении в период ликвидации последствий землетрясения, в Башкирии после взрыва газопровода, я видел, как эмоционально, всем своим существом он воспринимает чужую беду.
Мы, врачи, особенно хорошо познаем суть человека в тяжелой для него ситуации, когда он становится нашим пациентом. В последних числах декабря 1990 года по предложению врачей, которые хотели обследовать состояние моего здоровья через год после перенесенной тяжелой травмы, я поехал в санаторий «Барвиха». Не успел расположиться, как ко мне прибежала секретарь директора и попросила срочно связаться «по вертушке» с Д.Д. Щербаткиным, заместившим меня на посту руководителя 4-го Управления. Это предложение меня по крайней мере удивило. После того как я покинул пост министра здравоохранения, чувствовалось демонстративное отчуждение руководства созданной мной же системы охраны здоровья руководителей страны. Возможно, кого-то не устраивало мое знакомство с новыми тайнами «кремлевского двора», но негласное распоряжение выполнялось четко.
Я понимал, что случилось что-то экстраординарное, если все-таки обратились ко мне. Так и оказалось. Доведенный до крайности постоянными нападками депутатов, «демократов», «радикалов», прессы, выполнявшей чей-то заказ, предательством М. Горбачева, ухудшающейся ситуацией в финансах и народном хозяйстве, Н. Рыжков не выдержал напряжения и попал в Кунцевскую больницу с тяжелым инфарктом.
Все разыгралось ночью. Приехавшие врачи и консультанты то ли недооценили тяжесть состояния, то ли побоялись использовать новые методы лечения, но состояние Рыжкова к утру настолько ухудшилось, что, испугавшись возможного трагического исхода, руководство управления все-таки решилось пригласить меня и тех, с кем обычно мы работали в подобных случаях, — моего заместителя по редколлегии журнала «Терапевтический архив» профессора А.В. Сумарокова и моего ученика и соратника профессора М.Я. Руду. Мы оказались у постели Рыжкова часов через двенадцать после начала болезни. Положение было угрожающим не только в связи с обширностью инфаркта, но и в связи со сложными нарушениями ритма сердца. Не скрою, в этой тяжелой ситуации поражал сам Н. Рыжков. Меня всегда возмущал приклеенный ему ярлык «плачущего большевика». Да, его переполняли эмоции, но ведь это то, что отличает человека от робота, то, что определяет человеческую сущность. Я видел тысячи больных с инфарктом миокарда, но немногие в подобной ситуации держались так стойко, выдержанно и спокойно, как Н. Рыжков. Даже в этот тяжелый период он сохранял присущие ему мягкость и интеллигентность. Нам удалось справиться с болезнью, и в хорошем состоянии он выписался из больницы.
До чего же гадки наша современная жизнь и отношения между людьми — история с Н. Рыжковым лучшее тому подтверждение. Человек, еще вчера в буквальном смысле слова бывший вторым в иерархии руководства страной, вдруг оказывается никому не нужным и забытым. Н. Рыжков стойко перенес и эту человеческую неблагодарность, в том числе и со стороны Горбачева, который даже не поинтересовался у нас состоянием здоровья Николая Ивановича.
Я встретился с ним через несколько лет, когда он решил баллотироваться в Государственную Думу. И понятно, что, прежде чем принять решение, он хотел выяснить состояние своего здоровья. Обладая большим опытом, я был удивлен тем, как смог Николай Иванович восстановить здоровье, и не возражал с медицинской точки зрения против его участия в избирательной кампании.
Не будучи экономистом или хозяйственником, я не могу выступать экспертом в выяснении причин неудач в руководстве экономикой страны в 1985–1990 годах. Но несомненно, что определенная вина лежит и на Н. Рыжкове как Председателе Совета Министров. У меня сложилось впечатление, что многие решения основывались на сиюминутных ситуациях, складывавшихся в народном хозяйстве и в обществе. Принимались под напором легко меняющегося общественного мнения, выступлений прессы, лоббирования узких интересов определенных групп. При этом, как и в политике, не было анализа отдаленных результатов принимаемых решений. К примеру, два принципиальных решения, вокруг которых развернулась большая дискуссия на заседаниях Совета Министров, были, возможно, первыми звеньями в цепи разрушения народного хозяйства — Закон о государственном предприятии и решение о кооперативах, не подкрепленные четкой ценовой и налоговой политикой.
Нельзя сказать, что не принималось интересных, весьма прогрессивных решений в области экономики и народного хозяйства. В июне 1987 года состоялся пленум ЦК КПСС, на котором рассматривался вопрос «О задачах партии по коренной перестройке управления экономикой». Были приняты важные решения, выполнение которых могло бы трансформировать народное хозяйство, значительно улучшить экономику страны. Госзаказ, аренда, хозрасчет, оптовая торговля средствами производства вместо централизованного фондирования, изменение системы планирования, финансирования — все эти мероприятия, казалось, изменят ситуацию в стране. Но, как часто бывало в тот период, большинство из предложенных мероприятий остались благими намерениями.
Не хочу быть голословным. В докладе на пленуме М. Горбачев целый раздел посвятил проблеме ценообразования. В решении пленума было прямо указано: провести «взаимоувязанную перестройку ценового механизма — оптовых, закупочных, розничных цен и тарифов». Через несколько месяцев в Мурманске М. Горбачев возвращается к проблеме цен, убедительно, на примерах говорит о ее значении: «Это важное звено нового хозяйственного механизма, и нельзя решить задачу перехода на новые методы хозяйствования без того, чтобы по-настоящему не разобраться с ценами». Но, как не раз было с М. Горбачевым, он так и не решился внедрить эти предложения в жизнь.
Так что было бы нелепо все беды, свалившиеся на наш народ, связывать, как это сейчас делают некоторые, лишь с деятельностью Н.И. Рыжкова и его правительства. В развале экономики не менее виноваты М. Горбачев, другие члены Политбюро, да и все мы — члены ЦК КПСС, депутаты, под постоянным прессом которых находился Рыжков. Виноваты так называемые демократы, в борьбе за власть разрушавшие десятилетиями сложившуюся систему народного хозяйства, вместо того чтобы совместными усилиями постепенно трансформировать ее. Можно было бы привести немало примеров, когда рациональные предложения Н. Рыжкова, позволявшие улучшить ситуацию, «гробились» на корню. В частности, тот же вопрос о ценообразовании. Популистские лозунги некоторых демократов с протестами против повышения цен настолько испугали Горбачева, боявшегося потерять во мнении народа, что он не решился поддержать Рыжкова и в конце концов предал его.
Первое, что сделали в экономике те же демократы, придя к власти, — отпустили цены. Б.Н. Ельцин, убеждавший всех, что повышение цен — грабеж народа, и поклявшийся положить голову на рельсы, если он это сделает, придя к власти, стал после прошедшего повышения доказывать, что в этом единственное спасение России. Что, кроме улыбки, могли вызвать выступления ораторов и авторов некоторых газетных статей, которые начали восхвалять принцип «свободных цен». Хотя еще год назад, при другой власти, говорили и писали прямо противоположное?!
Вина Н. Рыжкова как Председателя Совмина, а может, и беда его в том, что по своей природе и характеру он не был борцом. Как и М. Горбачев, он легко шел на компромиссы, легко сдавал свои позиции, приспосабливался к столь изменчивому общественному мнению. В этой связи я часто вспоминал А. Косыгина, у которого были сложные взаимоотношения и с Хрущевым, и с Брежневым, но он всегда до конца отстаивал свою точку зрения, не подыгрывал ни популистским лозунгам, ни мнению своих коллег по Политбюро.
Но если Е. Лигачев и Н. Рыжков были порядочными людьми и в определенной степени умелыми организаторами, то какие новые идеи и мысли мог предложить Горбачеву В.И. Болдин, «серый кардинал» в его окружении? И как бы ни открещивался от него Горбачев после так называемого августовского путча, факт остается фактом: это был самый близкий и доверенный ему человек, Горбачев пытался ввести его в состав Совета безопасности (хотя Верховный Совет дважды отклонял его представление), кроме того, он сделал его руководителем своего аппарата.
Я знаю, что М. Горбачев беспредельно верил Болдину, и на это у него были определенные основания. Кажется, в 1981 году Горбачев вскользь упомянул, что у него наконец-то появился хороший помощник с двумя образованиями (Тимирязевская академия и партийное), прошедший школу работы в ЦК и в редакции «Правды», знающий, и, главное, судя по рекомендациям, честный человек. Когда я вскоре познакомился с В. Болдиным, он произвел на меня впечатление кабинетного партийного работника. Был он сдержан, немногословен, держался несколько особняком от большинства помощников членов Политбюро. Трудно было даже сравнивать его, например, с помощниками Брежнева — Г. Цукановым и А. Александровым, с помощником Ю. Андропова — А.И. Вольским и другими. Думаю, М. Горбачев проникся особой симпатией к Болдину в тяжелый для себя период, когда страной руководил К. Черненко. Тогда, особенно в апреле — мае 1984 года, многие из тех, кто еще недавно, при Ю. Андропове, превозносил Горбачева, отвернулись от него. Настоящих близких людей осталось немного. Среди них был и Болдин. Тогда он не изменил своему шефу, да и в других сложных ситуациях, в которых оказывался Горбачев, оставался предан ему.
Первое время после избрания М.С. Горбачева Генеральным секретарем Болдин был все тем же незаметным, скромным, пунктуальным помощником, старавшимся быть объективным, не вмешиваться в ход событий. Но власть портит мелких людей. И вот вскоре из скромного «служаки» вырастает «серый кардинал», уверенный в себе и своей непогрешимости, упивающийся близостью к высокому начальству и возможностью хоть как-то влиять на ход событий и судьбы людей. Его политические амбиции простираются до стремления стать членом Совета безопасности СССР.
Имея возможность непосредственных контактов с М. Горбачевым, я вначале не придавал значения ни роли Болдина в его окружении, ни значимости мнения того не только для Генерального секретаря, но и для его жены. Почувствовал я это влияние, когда Горбачевы искали способ с почетом удалить меня из 4-го Управления. Уверен, что к «выдвижению» моей персоны на пост министра здравоохранения СССР (несмотря на мои категорические возражения) приложил руку и Болдин, хотя в своих воспоминаниях он пытается всю эту некрасивую историю переложить на М. Горбачева. Не без оснований могу говорить о вмешательстве Болдина в тот период, когда после моего демонстративного ухода с этого поста вокруг меня искусственно стала создаваться определенная пустота — даже на консультации и консилиумы в созданное мной же 4-е Главное управление (Кремлевская больница) перестали приглашать. До сих пор не могу понять, что им двигало — неприязнь ко мне из-за моей независимой позиции или слишком рьяное исполнение желаний хозяина, переходящее границы того, чего тот хотел на самом деле.
Не хочется развивать эту тему (тем более что судьба сыграла с ним злую шутку), но я не раз говорил Горбачеву, что он переоценивает Болдина. Однажды в разговоре с дочерью Михаила Сергеевича, работавшей тогда в кардиоцентре, я сказал что-то о значимости Болдина. Она, всегда выражавшая мнение семейства, ответила: «Ну что Вы, Евгений Иванович, он всего лишь простой аппаратчик, занимающийся подготовкой документов для доклада». Что сделал этот «простой аппаратчик» и какую роль сыграл в судьбе М. Горбачева, достаточно известно.
Сколько таких, как Болдин, находилось в окружении М. Горбачева, но не было людей, способных предложить такие пути реформирования, которые бы не потрясли, а потом и не разрушили партию и государство. Не было их и среди местных руководителей, большинство из которых были поставлены М. Горбачевым и Е. Лигачевым. Именно им с проводимой ими политикой надо предъявить претензии за разрушение государства и партии, за те муки. которые выпали на долю большинства граждан Советского Союза. Хотя виноваты и все мы, члены ЦК КПСС, министры, занимавшие соглашательскую позицию.
На общем фоне выделялись некоторые руководители — Б. Ельцин, Н. Назарбаев, С. Манякин, Л. Зайков, Э. Шеварднадзе, может, еще пять-шесть республиканских и областных секретарей партийных организаций, но в те годы новых предложений не было слышно.
Вспоминаю свои первые встречи с Б. Ельциным я Свердловске. Известный на Урале профессор С.С. Барац предложил провести в этом городе Всесоюзную конференцию кардиологов, обещая хорошую организацию с учетом его добрых отношений с А.А. Мехрецовым, председателем Свердловского облисполкома. Действительно, мне приходилось участвовать во многих съездах и конференциях, но свердловская запомнилась большим вниманием руководства области к участникам конференции и нуждам здравоохранения.
В первый же вечер по приезде в Свердловск в особняк, где мы остановились, пришли А. Мехрецов с Б. Ельциным. Я немного знал Анатолия Александровича, который не раз обращался ко мне по разным вопросам. Мне он представлялся не только прекрасным человеком, но и хорошим хозяйственником, болеющим за свой город, — этакий А. Косыгин в областном масштабе, тянувший воз хозяйственных и экономических проблем. Кстати, мне показалось, что и Б. Ельцин высоко его ценил.
Мне с первой встречи понравился Б. Ельцин, располагавший к себе простотой, житейской мудростью, неуемной энергией. В то же время в нем чувствовались сила, властность и определенный популизм. Утром на следующий день он, к моему удивлению, не только приехал на конференцию, но и детально рассказывал на стендах о состоянии здравоохранения в области, хотя это мог (и должен был) сделать заведующий областным отделом здравоохранения. Позже мне рассказали, что Б. Ельцина заранее специально знакомили с представленными материалами, причем часть из них, не очень выгодных для характеристики области, он попросил заменить.
Да, Борис Николаевич умел и область представить, и себя показать. Видимо, это произвело большое впечатление и на Е. Лигачева, когда он весной 1985 года приехал в Свердловск, чтобы не только познакомиться с состоянием дел, но и еще раз посмотреть на Б. Ельцина, прежде чем выдвигать его на Олимп власти. Он был настолько очарован Ельциным, что высказывался о нем только в восторженных тонах и уговорил М. Горбачева перевести его в Москву с перспективой на выдвижение. 9 мая в Кремле состоялся большой прием в честь Дня Победы. Среди гостей я увидел Б. Ельцина. Он скромно и, как мне показалось, одиноко стоял за столиком среди малоизвестных ему представителей тогдашней московской элиты. Я подошел к нему и искренне поздравил с переездом в Москву. Он обрадовался знакомому человеку, разговорился, сетуя на то, что пока еще не может привыкнуть к новой работе и московской жизни. Я выразил надежду, что должность руководителя строительного отдела ЦК, на которую он назначен, позиция временная и вскоре его положение изменится. Мы выпили по сто граммов, пошутив, что в связи с объявлением в скором времени антиалкогольных постановлений, о которых мы уже знали, это наша последняя официальная выпивка.
Шутка оказалась правдой, как и мое предположение о скором новом выдвижении Б. Ельцина. М. Горбачев легко и быстро освободился от В. Гришина и совершил роковую для себя ошибку, рекомендовав Бориса Николаевича на пост секретаря Московского горкома партии. Правда, вину он должен разделить с Лигачевым, горячо отстаивавшим новое назначение Ельцина.
Можно согласиться с А. Яковлевым, что ни у кого в руководстве, включая и Б. Ельцина, в те годы (1985–1988) не было никаких конкретных предложений по реформированию партии и государства. Создавалось впечатление, что М. Горбачев не имеет четкого плана действий. Ничего нового не внес в жизнь партии и страны состоявшийся в начале 1986 года XXVII съезд КПСС, хотя с него началась «перестройка», объявленная Горбачевым. Слушая его выступление на очередном, июньском пленуме ЦК, с подведением, как им было заявлено, «первых уроков перестройки», я так и не понял, в чем они заключались. Он говорил: «То новое, что начато на апрельском (1985 г.) Пленуме и получило свое развитие в решениях XXVII съезда КПСС, связано с глубокой перестройкой не только экономической сферы, но и всего общества». Но жизнь продолжалась по-прежнему, и большинство населения не почувствовали «дыхания» серьезных перемен, если не считать последствий антиалкогольной кампании, доходившей до абсурда.
Вспоминаю, как на приеме в честь делегатов и гостей организованного нами I Международного конгресса по профилактике заболеваний, по указанию С.П. Буренкова, бывшего тогда министром здравоохранения СССР, было запрещено подавать любые алкогольные напитки, включая шампанское и пиво. Мои зарубежные друзья и коллеги за столами, заполненными изысканной закуской, дружески подтрунивали надо мной, заявляя, что во всем мире принято под русскую черную икру выпить рюмку русской водки.
Да, начинать перестройку надо было не с антиалкогольных решений. И как бы ни пытались связать эту кампанию только с Е. Лигачевым, в той же, а может, и в большей степени она связана с Горбачевым. Идея антиалкогольной борьбы в принципе не только правильна и имеет государственное значение, но и жизненно необходима, учитывая тяжелые последствия пьянства для здоровья нации, морального климата в обществе и даже для функционирования народного хозяйства. Вопрос лишь в том, как ее проводить. Исторический опыт показывает, что запретами и формальными решениями добиться здесь успеха невозможно. Как часто бывало в те годы, внезапные вспышки активности по тем или иным проблемам без анализа последствий, спровоцированные какими-то событиями или навеянные чьим-то мнением, к тому же нередко со ссылкой на «пожелания трудящихся», порождали не только отрицательную реакцию в обществе, но и дискредитировали само представление о путях перестройки.
Слова, слова, слова… Не продуманные до конца лозунги и решения. Сколько их было в тот период, и как они постепенно разрушали ореол гениальности Генерального секретаря! Мечущийся в поисках выхода М. Горбачев обращается к своему новому сподвижнику А. Яковлеву. О его значимости в окружении Горбачева лучше всего говорит его карьера — такой еще не знала история партии: 28 января 1987 года он избирается кандидатом в члены Политбюро, а 26 июня (через пять месяцев) — членом Политбюро. Именно его идеи и предложения стали решающими в том политическом курсе, который начал проводить Горбачев с 1988 года. Суть этого курса отражена в вопросе, поставленном на рассмотрение XIX Всесоюзной конференции КПСС, — «О задачах по углублению перестройки и мерах по дальнейшей демократизации общества».
Но что такое демократия? В идеале, это устройство общества, основанное на признании народа в качестве власти, на принципах равенства и свободы. Но демократию очень многие понимают по-своему, со своих позиций. В принципе, Конституция СССР провозглашала демократию. Провозглашают ее и государства, где жизнь общества определяет тот класс, в руках которого находятся финансы и средства производства. Наконец, анархия тоже прикрывается лозунгами свободы народа и личности. Но особенность нашей страны в том, что она 70 лет развивалась в условиях авторитарной власти одной партии, оказавшейся стержнем государственности. И, конечно, пути ее трансформирования — это проблемы не только партии, в этом жизнь всей страны. Надо было ответить на кардинальный вопрос: каким путем менять суть КПСС, кто заменит ее властные полномочия, что произойдет в обществе, когда рухнут ее влияние, идеология и структуры, цементирующие народы? Надо было быть наивным, оторванным от жизни и весьма амбициозным, чтобы верить в то, что в новых провозглашенных условиях, и прежде всего многопартийных, КПСС сможет устоять под напором проблем, ежедневно стоящих перед гражданами страны, — нехваткой продовольствия и жилья. Надо было помнить уроки капиталистических стран, в которых при подобной ситуации партии власти всегда проигрывают. И если сохранять социалистический строй, о котором на словах так заботился Горбачев, надо было сначала ему и КПСС решить экономические проблемы, создать для подавляющего большинства общества достойные условия жизни, а затем решать проблемы трансформации партии, предложенные А. Яковлевым.
Вновь сошлюсь на интервью Яковлева в «Литературной газете» от 25 декабря 1991 года. Говоря о своих предложениях по поводу реформ, он указывает: «…в конце 1985 года я направил специальную записку о необходимости разделения партии на две». Хочу подчеркнуть: не создание новой партии, а именно разрушение КПСС, потому что на вопрос корреспондента: «Что значит две партии — одна коммунистическая, а другая?» — он отвечает: «Нет, я полагал, обе должны были получить новые названия». К чему привела эта позиция, показала история. Разброд, раскол в КПСС, который начал формироваться на XIX партийной конференции, привели в конце концов к полной деградации коммунистической партии, потере ее авторитета и как результат к утрате властных полномочий, стержня государственности. О какой партии можно было говорить, если депутаты-коммунисты шли на поводу популистских лозунгов Ельцина, голосуя, например, за российский суверенитет, в решении о котором была заложена мина, взорвавшая Советский Союз.
В страхе за себя, за свое положение они в полном спокойствии похоронили державу под флагом Беловежских соглашений. А я хорошо помню, какими «принципиальными» борцами за чистоту руководства страны в лице правительства они начинали свою деятельность в Верховном Совете. Где же была их принципиальность, когда пришлось решать судьбоносные для страны вопросы?
Факты политической жизни того рокового для страны периода 1988–1991 годов хорошо известны, и я не хочу вдаваться в них. Скажу о другом. Для каждого из нас те или иные политические события, государственные решения, деяния руководителей преломляются в нашей личной жизни и работе, наших переживаниях и представлениях об обществе, идеологии, наконец, об окружающих нас людях. Они по-разному воспринимаются и оцениваются в меняющейся обстановке, от чего нередко меняется наше мнение об окружении и друзьях. Как и И.С. Тургенев, мы иногда говорим себе: «И я сжег все, чему поклонялся. Поклонился тому, что сжигал».
Но, откровенно говоря, в те годы, когда закладывались основы будущей трагедии распада страны и партии, я еще не сжигал своего уважения и веры в М. Горбачева. Что бы ни говорили и ни писали о нем сегодня, это был, несомненно, неординарный, талантливый человек, искренне пытавшийся вывести страну из кризиса. Другое дело — способны ли были он и его окружение это сделать.
Конечно, закрадывались сомнения в искренности М. Горбачева, но скорее не с политических, а с общечеловеческих, моральных, личных позиций. Я почувствовал, что Горбачевы (уверен, в первую очередь Раиса Максимовна) не хотели бы по многим причинам видеть меня во главе 4-го Управления.
При всех руководителях страны я вел большую научную и общественную работу, в связи с чем мне приходилось выезжать за границу. Все генеральные секретари с пониманием относились к этим поездкам. Однажды, когда я выступал с лекцией в Риме, у М. Горбачева возникли не очень серьезные проблемы из-за небольшой травмы головы. Когда мы встретились с ним после моего возвращения, он, рассказав о случившемся, как бы вскользь, но с укоризной заметил: «А знаешь, Б. Пономарев (тогда — секретарь ЦК) сказал мне, узнав о травме: "Чазову надо сидеть в Москве, а не разъезжать. В любой момент у Генерального секретаря могут возникнуть проблемы со здоровьем, ведь никто не застрахован, а начальник 4-го Управления в это время прохлаждается за границей"». Тогда я расценил этот инцидент как выпад Пономарева против меня и возглавляемого мной движения врачей, боровшегося с ядерной угрозой, которое он считал вредным. Попробовал бы Пономарев, подумал я, поднять в тридцати шести самых консервативных странах мира тысячи врачей на борьбу за ядерное разоружение, за мир, тогда бы он понял, как мы, небольшая группа моих коллег, советских ученых и врачей, «прохлаждались» за рубежом. И только позже, покинув 4-е Управление, я понял, что это был как бы намек мне на необходимость ограничить свою деятельность рамками заботы о благополучии руководства страны.
Конечно, не это было основным в решении убрать меня с поста руководителя медицинской службы Кремля. Главным явилось стремление сделать начальника Управления «карманным» исполнителем воли генсека и его жены, а Чазов в силу сложившихся дружеских отношений, авторитета, связей, да и жизненных принципов на такую роль не подходил.
Полной неожиданностью стал для меня в один из декабрьских дней 1986 года звонок М.В. Зимянина, секретаря ЦК, курировавшего социальный блок, включавший здравоохранение. Он попросил зайти к нему. В наших с ним отношениях были взаимоуважение и определенное доверие, поэтому я почувствовал его некоторое смущение, когда он предложил мне возглавить Министерство здравоохранения СССР. Второй раз в жизни обсуждалась моя кандидатура на эту должность.
Первый раз это было при Брежневе после освобождения от этой должности Б. Петровского. Тогда Косыгин предложил мою кандидатуру, его поддержали некоторые члены Политбюро и секретари ЦК. Обсуждение закончилось довольно быстро. Как только оно дошло до Леонида Ильича, тот без колебаний, как мне передавал Андропов, заявил: «Не Косыгин нашел Чазова, он мне нужен в 4-м Управлении, и пусть Косыгин ищет другого министра». Откровенно говоря, я был рад такому решению. Мне не хотелось покидать 4-е Управление, где удалось создать прекрасный, высококвалифицированный коллектив руководителей, профессоров, врачей, а также подобрать хороший обслуживающий персонал. Хотелось закончить строительство уникальных медицинских комплексов, создать научно-педагогическую базу. Да и возможностей заниматься научной работой в создаваемом Кардиологическом центре было гораздо больше при работе в 4-м Управлении, чем на должности министра здравоохранения.
И вот через 20 лет, когда создана не имеющая аналогов в мире медицинская система 4-го Управления, начал функционировать завоевавший мировое признание Кардиологический центр, когда впереди интереснейшая научная работа, я должен все оставить, чтобы, как говорили обсуждавшие этот вопрос со мной, «поднять уровень советского здравоохранения, приблизить его к показателям 4-го Управления, снять с повестки дня важнейший социальный вопрос».
Конечно, я ответил Зимянину категорическим отказом. Но я хорошо знал существующую систему и прекрасно понимал, что никогда он не решился бы предложить начальнику 4-го Управления перейти на другую работу, если бы не было указаний Генерального секретаря. Мне стало ясно, что за громкими словами скрывается старый кадровый прием: если надо убрать руководителя, к которому трудно придраться, надо выдвинуть его на новую должность.
Мне везет на новогодние «подарки»: вопрос о назначении начальником Управления обсуждался в последние дни 1967 года, а ровно через двадцать лет, в 1987-м, тоже в самом конце года на меня стали активно «давить», чтобы я согласился перейти на руководство Министерством здравоохранения. После Нового года позвонил Г.А. Алиев, который в Совете Министров курировал Минздрав. При разговоре с ним мне показалось, что он скорее выполняет чье-то поручение, чем искренне убеждает меня стать министром здравоохранения. И действительно, через десять лет он признался B.C. Черномырдину, что выполнял просьбу Горбачева.
Наконец, после всех моих отказов позвонил сам Горбачев. Все шло по сценарию, обычному для таких случаев, — дифирамбы о прекрасном руководстве, слова о том, что лучших кандидатур нет, о значимости назначения, мнении товарищей и, наконец, о партийном долге. Я ответил, что у меня совершенно другое представление о будущем и оно связано с моей научной и врачебной деятельностью. М. Горбачев, по-моему, даже не прислушивался к моим аргументам и продолжал упорно убеждать в необходимости занять пост министра. «Ты, конечно, можешь подумать над нашим предложением, но учти, что все мы не видим никого другого на этом месте», — заключил он наш разговор. После таких слов у меня появились даже сомнения, прав ли я, отказываясь от такой высокой должности, не слишком ли амбициозны мои заявления. Однако за двадцать лет общения с политической и властной элитой я уже перестал верить высокопарным и громким фразам, прекрасно отдавая себе отчет в том, что за ними скрываются чьи-то интересы. Хорошо, когда они совпадают с моими, но в данном случае этого не было. Я молчал.
Прошло более трех недель, когда вновь позвонил М. Горбачев. Это было в четверг утром, в день, когда проходили обычно заседания Политбюро. Разговор был очень коротким. «Я прошу тебя в три часа, — заявил он, — прийти на Политбюро. Мы хотим обсудить вопрос о твоем назначении на должность министра здравоохранения». Мое представление было недолгим и сугубо формальным. Все присутствовавшие в зале заседаний хорошо знали меня, а я — их. На предложение Горбачева о моем назначении никто не откликнулся, считая вопрос решенным, и лишь Громыко заявил, что это давно надо было сделать. М. Горбачев попросил меня высказаться. Понимая, что решение фактически принято и изменить ничего нельзя, я сказал, что сознаю всю тяжесть и ответственность назначения, но без конкретной поддержки вряд ли смогу что-нибудь сделать. Нужно в корне менять принципы организации здравоохранения и прежде всего увеличить финансирование этой важнейшей социальной отрасли. В ответ М. Горбачев заявил, что они с Н.И. Рыжковым подумают, что можно сделать, чтобы помочь здравоохранению.
Буквально через неделю после моего назначения в Москве состоялся международный форум «За безъядерный мир, за гуманизм Международных отношений», организованный по предложению Горбачева. В его работе принимали активное участие мои зарубежные друзья и коллеги. Во время приема Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна подошли к нашей группе. Друзья выразили большое сожаление, что известный ученый и общественный деятель превращается в государственного чиновника. В ответ не Михаил Сергеевич, а никогда не терявшаяся Раиса Максимовна произнесла весьма лестную для меня фразу, если она была искренней, а не предназначалась для иностранного пользования: «Евгений Иванович совершил своеобразный подвиг, согласившись возглавить в этот трудный период министерство, пожертвовав научной карьерой».
Судьба, судьба и еще раз судьба! В данном случае не абстрактная судьба — страны, народа, а своя собственная, которая опять перевернула мою жизнь, мои намерения, надежды. Бросила в новый водоворот политических и государственных страстей в период формирования рокового поворота в истории страны.
Последняя ступень
Мне стыдно идолов моих,
К чему, несчастный, я стремился?
А. С. Пушкин
Свершилось то, чего я больше всего не хотел, — мне пришлось занять пост министра здравоохранения. Было ли у меня естественное чувство удовлетворенного тщеславия? Все-таки член правительства Советского Союза — звучало очень внушительно; министр во многом определял не только состояние и будущее здравоохранения, но положение, а иногда и судьбу людей, составлявших элиту медицины.
Свое новое положение я прежде всего ощутил по той знакомой мне по прошлому волне лести и подхалимства, которая обрушилась на меня со стороны не только незнакомых мне раньше лиц, но и тех, кто мне никогда не симпатизировал. Оценил я его и по наплыву зависти, которая обычно сопровождает восходящего по любой из лестниц — власти, славы, богатства, положения в обществе. Но я, исповедуя заповеди мудрецов прошлого, всегда абсолютно равнодушно относился и к лести, и к зависти. Я помнил Эсхила, сказавшего: «Незавидна участь того, кому никто не завидует», или Диогена, предупреждавшего древнегреческих властителей: «Льстец — самый опасный из ручных животных». К сожалению, наши властители, в том числе Горбачев и Ельцин, забыли эту прописную истину.
Вероятно, я спокойно воспринял новую должность, хорошо зная, в отличие от многих, закулисную кремлевскую жизнь. Я понимал, что положение министра не выше (если не ниже) положения руководителя медицинской службы Кремля, который по заведенному еще Хрущевым порядку подчинялся Генеральному секретарю ЦК КПСС и отчитывался только перед ним. Министр здравоохранения — это фигура не только медицинская, но и политическая. Находясь на этом посту, я за три года всего лишь три раза официально встречался с Горбачевым.
В то же время я понимал, в какую непростую ситуацию попал. Многие из моих коллег с ехидством ожидали, как провалится на новом месте хваленый академик. Здравоохранение страны — это не 4-е Главное управление, обладающее колоссальными правами и многочисленными льготами. Однако тогда я не вдавался в тонкие философские и психологические оценки нового назначения, а, помня заповедь великого голландца Бенедикта Спинозы («Как только вы вообразите, что не в состоянии выполнить определенное дело, с этого момента его осуществление становится для вас невозможным»), с энтузиазмом взялся за дело.
Может встать вопрос: почему, рассказывая о политической ситуации, роковых событиях, связанных с непредсказуемыми судьбами лидеров нашей страны (СССР, или, если кому-то так больше нравится, Российской империи) я вспоминаю свою министерскую деятельность? На этом примере мне хочется показать колоссальные возможности, которые открывались перед нашей страной во многих областях жизни в период, предшествовавший распаду великой державы, и как рухнули наши надежды.
Ко времени вхождения в министерскую должность я достаточно хорошо разбирался в ситуации, сложившейся в советском здравоохранении. Было ясно, что необходимо обновление во всем: в принципах организации финансирования, управления, подготовки и совершенствования кадров, наконец, в определении приоритетов. Собственно, это то, в чем нуждалась вся советская система хозяйствования, финансирования и управления. Лозунг М. Горбачева и его команды на обновление полностью совпадал с интересами здравоохранения. В отличие от Горбачева, который за время своего руководства так и не смог создать команду единомышленников, способную обеспечить перестройку и выход страны из кризиса, у нас в Министерстве здравоохранения, пусть и на небольшом, но очень важном социальном участке жизни страны, сложилась дружная команда руководителей, в основном молодых, предложившая очень интересные и перспективные пути совершенствования. Они не были реформаторами, как сегодня модно говорить, но их идеи могли коренным образом изменить функционирование системы здравоохранения, и прежде всего его качество, которое чаще всего страдает при государственной системе.
Мои коллеги и помощники, которых я пригласил, пришли из практической медицины, зная ее болевые точки и четко представляя себе недостатки, которые надо было исправлять. Профессионализм, а не политика, идеология или личная преданность — вот что ставилось в основу подбора членов нашей команды. Надо отдать должное М. Горбачеву, он не только поддержал меня в этом нетривиальном решении, но и настойчиво рекомендовал освободить коллегию министерства от членов бывшего руководства, даже если я был с ними в хороших отношениях. Конечно, «ничто на земле не проходит бесследно», и перемены в министерстве увеличили число моих недоброжелателей — это естественная реакция обиженных.
Всю свою жизнь руководителя я прекрасно сознавал, что будут разные периоды, в том числе «слякоть и пороша», и тогда припомнятся отставки, критические выступления, не устраивавшие кого-то решения. Так и было. Но я понимал и другое: если оглядываться и прислушиваться, кто что скажет, идти на компромиссы, как это стало нормой в руководстве страной, никогда не добьешься решения поставленных задач. Если хочешь чего-то добиться, не останавливайся, не обращай внимания на выпады врагов или просто завистников. Часто вспоминались слова одного из моих любимых поэтов (к тому же и моего пациента) К. Симонова:
Но работа опять выручает меня, как всегда.
Человек выживает, когда он умеет трудиться.
Коллективный опыт позволил нам не на словах, а на деле сформулировать пути совершенствования и обновления системы здравоохранения. Мы понимали, что нужны новые критерии деятельности этой системы, и прежде всего переход от количественных показателей, характерных для прошлого, к показателям качества. Нельзя оценивать успехи здравоохранения количеством коек или числом врачей, их нужно рассматривать в связи с состоянием здоровья нации, уровнем смертности и заболеваемости населения страны. Нужны были новые подходы к финансированию здравоохранения, которое во все времена строилось по остаточному принципу. Да и распределение этих скудных средств происходило по необъяснимым принципам. Оказалось, что государство тратит на охрану здоровья граждан в разных регионах страны совершенно различные суммы: если в прибалтийских республиках — около 80 рублей на человека в год, то в различных регионах Российской Федерации — около 50–60 рублей, а в некоторых среднеазиатских республиках — чуть более 40 рублей.
Эти цифры показывают, сколь нелепо выглядел ярлык «оккупантов», который приклеивали русскому народу некоторые прибалтийские политики, боровшиеся за отделение своих республик. С каких это пор оккупанты заботятся о здоровье населения оккупированных районов больше, чем о своем собственном?!
Главное в вопросах финансирования, по нашему мнению, заключалось в определении расходов государства и общества на здравоохранение с четким обозначением суммы, выделяемой на охрану здоровья каждого гражданина страны. В этой связи мы активно начали прорабатывать вопросы страховой медицины и новые формы хозяйствования и управления в системе здравоохранения. Одним из первых поставили вопрос о децентрализации управления — о необходимости передать многие функции, выполняемые министерством, на места, в регионы. Нужно было освободить учреждения от мелкой опеки сверху.
Были определены и приоритеты здравоохранения — борьба с детской смертностью, инфекционными заболеваниями, включая туберкулез и СПИД, а также с сердечно-сосудистыми и онкологическими. Решение этих проблем осуществлялось за счет широкой профилактики, с одной стороны, и укрепления специализированной помощи — с другой.
Это далеко не полный перечень наших предложений по совершенствованию и перестройке системы здравоохранения, но из него видно, что он полностью совпадал с теми идеями по реформированию существующей экономической и хозяйственной системы, которые выдвигались нашими ведущими экономистами, учеными, передовыми хозяйственниками и заключались в новых принципах финансирования, децентрализации, самостоятельности учреждений и ведущей роли трудовых коллективов, в новых формах управления и т. д.
В существовавшей системе мы могли добиться успеха только в том случае, если наши предложения будут поддержаны партией, ее руководителями в центре и на местах. Задача состояла в том, чтобы открыть двери кабинетов партийных бонз различного уровня представителям медицины. Мы выполнили эту задачу. Конечно, сыграли роль дружеские отношения с руководством партии — Горбачевым, Лигачевым, хорошие взаимоотношения с местными партийными руководителями. Главное, нам удалось открыть глаза партии и обществу на истинное состояние здравоохранения, его социальную значимость, довести до сознания руководителей всех рангов, что в решении проблем охраны здоровья — будущее страны и народа.
Но как нам пришлось работать! В буквальном смысле, день и ночь, забыв о науке, о врачевании. Сейчас, много лет спустя, я удивляюсь, как мы выдержали такой темп. В моей памяти о том периоде — аэродромы разных уровней, самолеты различных типов — от комфортабельных до грузового ИЛ-76, на котором мы с министром здравоохранения РСФСР А.И. Потаповым добирались из Норильска в Красноярск; роскошные партийные особняки и районные больницы в Якутии или Таджикистане; поездки по горам Кавказа или через пышущие жаром Каракумы. Это было тяжелое, но, пожалуй, самое прекрасное время в моей жизни. О чем говорить, если только за первые полтора года мы провели в различных республиках и областях 39 партийно-хозяйственных активов с участием партийного и государственного руководства.
Недавно я встретился с президентом Казахстана Н. Назарбаевым. Прошло много лет, но и сегодня, как он сказал, Казахстан помнит наш вклад в становление системы здравоохранения республики. Среди старых фотографии я увидел ту, на которой нынешний президент Туркмении С. Ниязов, бывший в те времена секретарем ЦК, вместе нами возлагает цветы к памятнику Ленина после окончания партийного актива, посвященного проблемам oхраны здоровья.
Помню большое совещание по проблемам здравоохранения, которое по традиции поздно вечером с переходом в ночь провел первый секретарь Московского горкома Б. Ельцин, с которым мы тогда еще были в хороших отношениях. Меня приятно удивили его активная позиция по отношению к нашим предложениям и его просьба помочь в повышении уровня городского здравоохранения. Мы ее выполнили: было закуплено новое оборудование, заключены контракты с иностранными фирмами на строительство и реконструкцию госпиталей для инвалидов войны, роддома, акушерских клиник в Москве. Мне кажется, что нас приняли и поддержали руководители на местах, медицинская общественность потому, что мы не просто разглагольствовали с высоких трибун, а делали дело.
Одно из условий, которое я поставил перед М. Горбачевым при назначении меня министром, заключалось в срочном выделении дополнительных средств на здравоохранение. И хотя шел уже третий месяц 1987 года и бюджет был утвержден, удалось изыскать значительную по тем временам сумму — 5,6 миллиарда рублей — для дополнительного финансирования. Естественно, эти средства, полученные больницами и поликлиниками страны на заработную плату, лекарства, питание больных, подняли авторитет министерства.
Сейчас есть время оглянуться, отделить, как сказано в евангельской притче, «плевелы от пшеницы». Список сделанного в те годы занял бы не одну страницу. Я выделил бы создание системы диагностических центров, призванных обеспечить самый современный уровень исследований не только в Кремлевской больнице, не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в республиках и областях. Надо сказать, что Н. Рыжков с ходу оценил значимость этой системы и без проволочек выделил необходимые валютные средства для закупки оборудования. Даже в «постперестроечный» период, когда современные реформаторы разрушали сложившуюся систему здравоохранения, диагностические центры сохранили свою значимость как в России, так и в новых независимых государствах.
Несколько лет назад мои ученики из Молдовы пригласили меня на I съезд кардиологов этого независимого государства. Это был период, когда активно обсуждался вопрос о вхождении Молдовы в состав Румынии. Случилось так, что в первые часы моего пребывания в Кишиневе я встретился с довольно кичливой румынской делегацией во главе с заместителем министра здравоохранения. Румынам Кишинев представлялся отдаленной провинцией, соответственно с провинциальной медициной; они и вели себя сообразно этому представлению. Но как разительно изменились их тон и отношение к моим ученикам после того, как им показали диагностический и кардиологический центры! Создание системы кардиологической помощи — это наша вторая заслуга.
Важнейшим достижением было снижение впервые за последние десятилетия детской смертности. Обуреваемый противоречивыми чувствами, смотрю я на кривую смертности в нашей стране. С удовлетворением вижу, как пошла она вниз в годы, когда руководство охраной здоровья обеспечивала наша команда, и с ужасом наблюдаю ее крутой подъем с 1992 года, когда Б. Ельцин и Е. Гайдар начали свои реформы.
И опять я вспоминаю А. Пушкина:
…Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Да, довольны, ответили бы мы. Довольны потому, что некоторые наши начинания приняли пришедшие к власти в 1992 году «реформаторы», правда, объявили своими достижениями в области защиты прав человека. Стоит, например, вспомнить, что новое законодательство, исключающее возможность использования психиатрии в корыстных, в том числе и политических, целях разрабатывалось и вводилось с нашим участием.
Я особенно остро переживал эту проблему, вспоминая, с одной стороны письма и просьбы моих зарубежных коллег вмешаться в судьбу тех или иных людей, незаконно попавших, по их мнению, в психиатрические больницы, нападки иностранной, а в последние годы и советской печати, демонстрации у стен министерства. С другой стороны, ко мне обращались ведущие психиатры с просьбой проявить осторожность в столь деликатном вопросе, учитывать опасность, которую представляют психически больные для семьи, окружающих, для общества. Наши предложения, внесенные в Политбюро, которое в те годы олицетворяло высшую власть, учитывали все стороны сложной проблемы и были оптимальными.
А проблемы экологии, вопросы санитарии и гигиены, которые умалчивались и впервые были подняты нами на уровень широкого обсуждения? Сейчас много говорят о том, что только победа демократов в 1991 году открыла возможность во всеуслышанье заявить об истинном состоянии экологических проблем. Но прочтите в газете «Правда» за август 1987 года мое интервью — в нем говорится, что более чем в 100 городах Советского Союза уровень загрязненности воздуха во много раз превышает допустимые нормы, что обусловливает высокую заболеваемость населения; что каждая четвертая проба воды из водоемов не отвечает химическим и бактериологическим стандартам, причем 25 % водопроводов коммунальных хозяйств подают воду без достаточной очистки.
В отличие от многих современных «экологических» борцов мы не просто декларировали, но и действовали. Я вспоминаю, как настороженно даже некоторые из моего близкого министерского окружения восприняли предложение обратиться в Политбюро с изложением истинного состояния санитарно-гигиенической обстановки стране и конкретными предложениями по исправлению сложившейся ситуации. Такой документ был создан, в чем колоссальная заслуга Главного санитарного врача страны А. Кондрусева и возглавляемой им службы. 17 июля 1987 года мы направили письмо в Политбюро с подробным изложением экологической и санитарной обстановки в стране. Оно заканчивалось конкретным предложением: «Министерство здравоохранения СССР считает необходимым создание комплексной долгосрочной (на тринадцатую и четырнадцатую пятилетки) Государственной программы, направленной на решение экологических проблем и кардинальное улучшение санитарного состояния страны».
Как мне говорили, в Политбюро этот документ произвел эффект разорвавшейся бомбы. Не знали, как на него отреагировать, и он долго ходил по разным инстанциям. Наконец, был найден вариант: включить некоторые из предложенных нами мероприятий в подготавливаемое общее постановление ЦК и Совета Министров по вопросам охраны здоровья населения страны. Работники аппарата ЦК КПСС говорили мне, что письмо в Политбюро многим не понравилось. Как же оно могло понравиться, если в нем приводились такие факты: 25 % молокоперерабатывающих заводов и 30 % мясоперерабатывающих не соответствуют санитарным требованиям, 25 % мощностей очистных сооружений не работают, в открытые водоемы страны ежегодно сбрасывается 160 кубических километров (!) сточных вод, на тяжелых работах в индустрии заняты 270 тысяч женщин.
Меня часто спрашивали, в том числе и иностранные корреспонденты, не боюсь ли я неприятностей при своей принципиальности и открытости, что позволяет мне так откровенно и критично высказываться по наболевшим вопросам. Эта независимая позиция основывалась на моем положении академика двух академий, который не держится за кресло министра, а также на моей известности как общественного деятеля, ибо еще свежа была в памяти телевизионная трансляция о вручении Нобелевской премии мира. Но главное в другом: это правда, которую мы говорили и которую понимал и воспринимал народ. Это была конструктивная гласность, за которую мы все голосовали, ибо она определяла исправление ошибок. Была, впрочем, и другая «гласность», которую в разных кругах широко использовали в личных целях для разрушения и завоевания власти.
Говоря о принципиальности, вспоминаю наши стычки с Министерством газовой промышленности по поводу строившегося астраханского комплекса. Министр В. Черномырдин, с которым мы были в хороших отношениях, неоднократно звонил мне и с вежливым упреком говорил, что мы срываем работы по освоению месторождения. И так же вежливо, но неуступчиво я отвечал, что мы не подпишем акт приемки, если не будут устранены проектные и конструктивные недоделки. К чести Виктора Степановича, он, поворчав, согласился с нами. Была создана согласительная комиссия, которая и решила поставленные вопросы.
А вот с Б. Ельциным нам договориться не удалось. В то время, после Московского горкома партии, он работал заместителем председателя Комитета по строительству. Тогда на одном из сибирских деревообрабатывающих комбинатов была построена целая серия домов. Исследования показали, что содержание фенола в жилых помещениях этих домов значительно превосходит допустимые уровни. Началась тяжба, дошедшая до Москвы. Я понимал заводчан — пропадали их труд, заработанные деньги. Но, с другой стороны, в этих домах должны жить северяне и проводить в них большую часть суток, при этом возникала реальная угроза появления у них бронхиальной астмы, заболеваний легких и крови. Позвонил Б. Ельцин и попросил меня подписать документ о возможности приемки домов. Когда я категорически отказался, он заметил: «Ну что же, как хотите. Я и сам без Вас подпишу этот акт». Не знаю, что было дальше. Может, все ограничилось только словами и Ельцин, всегда, как он говорит, радевший за народ, не подписал этот документ.
Можно привести много других примеров, каждый из которых начинался бы со слова «впервые». Впервые была создана система борьбы со СПИДом; в стране начало функционировать более 400 специальных лабораторий. И как бы нас тогда ни критиковали за пренебрежение к этой проблеме, за недостатки в развертывании соответствующей службы, она доказала свою эффективность. По крайней мере разговоры об эпидемической ситуации в России, на Украине начали возникать лишь в последнее время — в условиях свободы, демократии, рынка и одновременно резкого возрастания наркомании, венерических заболеваний, бедности. Когда мы покидали министерство в 1990 году, в стране было около 100 больных СПИДом, сегодня на просторах бывшего СССР их количество начало исчисляться тысячами.
Хотелось бы сказать и о создании системы экстремальной медицины. В те годы не было специального Министерства по чрезвычайным ситуациям и все вопросы медицинского обеспечения в случае катастроф возлагались на Министерство здравоохранения и его органы на местах. Необходимость создания службы экстремальной медицины стала для нас очевидной после землетрясения в Армении. Это было тяжелое организационное и психологическое испытание и для меня, и для многих наших служб.
Вернувшись в Москву, мы не только организовали центр экстремальной медицины, но и создали материальную базу для медицины катастроф. Помню, как Н. Рыжков удивился, буквально через месяц познакомившись с развернутым в Центральной клинической больнице полевым передвижным госпиталем с самыми современными технологиями. Были заказаны специальные медицинские самолеты — операционные, реанимационные, эвакуационные. Не знаю их судьбу сейчас, но создаваемая в те времена система была единственной в мире, что подчеркнули участники проведенной нами в мае 1990 года Международной конференции «Медицина катастроф».
Надо сказать, что мы смело шли на неординарные поступки, которые иногда шокировали некоторых партийных и государственных руководителей, ставили в тупик органы информации. Много шума наделала организованная нами сравнительная выставка зарубежного и отечественного медицинского оборудования. Надо честно сказать, что эту нашу идею активно поддержал Лигачев. В специальных выставочных помещениях, которыми располагал Кардиологический центр, были собраны образцы медицинской техники иностранных фирм и отечественных производителей.
На выставку приехали Е. Лигачев, Н. Слюньков (тогда секретарь ЦК КПСС по промышленности) и более 20 министров. Конечно, выставка стала позором для нашей промышленности. Мне и то было неудобно за моих коллег-министров, со многими из которых я был в хороших отношениях. Отдельно приехал Н. Рыжков. Он долго ходил по выставке и в заключение сказал: «Давайте предложения по плану организации производства лучших образцов. Надо в корне менять ситуацию».
Тут же было решено начать строить специальный завод медицинского оборудования, на что выделялось 200 миллионов долларов. Завод финские и югославские строители начали строить в Сызрани. Возвели корпуса, закупили на 70 миллионов долларов оборудования. Но пришел 1992 год, и все рухнуло. Ко мне часто приезжали менявшиеся директора, спрашивали совета, говорили, что обращались во все инстанции, но безответно. Кажется, последнее решение власти реформаторов заключалось в развертывании складских помещений в корпусах, предназначенных для создания самого современного медицинского оборудования. Действительно, кому сегодня нужен такой завод, когда само здравоохранение «дышит на ладан»?! А ведь по проекту он должен был стать крупнейшим в Европе.
Была еще одна важная черта нашей деятельности — опора на коллективный разум, привлечение к решению проблем здравоохранения широких кругов медицинской общественности. При этом мы понимали гласность, о которой в тот период трубили на каждом общественном перекрестке, не как политическую болтовню в целях борьбы за власть, за положение в обществе, а часто и в личных корыстных целях, а как конструктивную дискуссию, определяющую наиболее эффективный путь совершенствования и обновления.
Откройте книгу «Всесоюзный съезд врачей (Москва, 17–19 октября 1988 года)», изданную издательством «Медицинская энциклопедия» в 1989 году, и там вы найдете подтверждение моим словам. Это был деловой, открытый, критичный разговор медиков нашей страны, впервые собравшихся на свой форум, чтобы определить пути развития здравоохранения. Съезд проходил после XIX партконференции, за которой последовала волна нападок в органах информации, на митингах и съездах на политику КПСС, правительство, начали разгораться националистические и шовинистические настроения. Некоторые партийные деятели боялись, что съезд, обсуждающий такую злободневную тему, как здравоохранение, из профессионального превратится в очередной политический митинг. Другие, наоборот, критиковали нас за то, что съезд не стал ареной обсуждения политических проблем перестройки.
Мы были рады, что съезд остался на позициях профессионализма, а не превратился в очередной политический спектакль разрушения без созидания. При этом проходил он в необычно демократичной обстановке — не было никаких запретов на характер или содержание выступлений. Делегат из Эстонии, например, требовал полной самостоятельности здравоохранению республики и принятия решения о прохождении службы в армии гражданами республики только на ее территории. Доктор из Москвы предрекал, что наши планы останутся на бумаге, а сам я превращусь в типичного бюрократа. Не знаю, что говорит он своим коллегам и больным сегодня — на развалинах бесплатного здравоохранения, но в одном он оказался прав: планы совершенствования здравоохранения рухнули в 1992 году. Но рухнули, когда к власти пришли «реформаторы», которых он так ждал. Ничего, кроме пустых разговоров, не принесли здравоохранению и прошедшие уже дважды Пироговские съезды, организуемые возникшей из небытия ассоциацией врачей, о которой он так мечтал.
Мне пришлось быть тесно связанным с Кубой, и я вспоминаю слова великого гражданина этой страны Хосе Марти: «Самый лучший вид слова — это дело». Наши предложения, предложения съезда воплотились в конкретное постановление ЦК КПСС и Совета Министров «Основные направления охраны здоровья населения и перестройки здравоохранения СССР в двенадцатой пятилетке и на период до 2000 года». В нем были заложены новые подходы к финансированию и управлению здравоохранением, его приоритеты, решение вопросов обеспечения населения лекарствами, медицинской техникой и т. д. Чтобы представить масштабы этой работы, достаточно указать, что на решение проблем здравоохранения выделялось на 6 лет 190 млрд рублей — сумма по тем временам колоссальная.
Вся наша профессиональная деятельность, борьба за совершенствование здравоохранения, закончившаяся формированием стратегии его перестройки, проходила на фоне сложнейших политических баталий и политических решений, определивших судьбу великой страны. И в центре этой борьбы оказались Горбачев и Ельцин.
У меня не было сомнений в том, что «перестройка», «реформирование», «обновление» (назовите этот процесс как угодно) должны идти прежде всего в экономической и социальной плоскости. Только сытый, здоровый, обеспеченный гражданин страны может разумно воспринимать гласность. Нуждающийся, не удовлетворенный жизнью человек использует ее против власти, даже если она была инициатором и гласности, и перестройки. Нужна строго продуманная стратегия обновления, где приоритетной должна быть не политика, а экономика. Она должна определять последовательность политических решений, а сами такие решения — носить стратегический характер, а не заниматься сиюминутными проблемами.
«Семь раз отмерь, один раз отрежь» — эту мудрую русскую пословицу, мне кажется, не воспринял М. Горбачев. Он был слишком самоуверен. Два события, два решения определили начало той политической борьбы, которую Горбачев проиграл, — это смещение Б. Ельцина и XIX партконференция.
Очень сложно объективно оценивать прошлое, а тем более ошибки и просчеты тех, кто творил историю страны и общества. За той ненавистью и злобой, которой полны к Горбачеву многие его современники, в том числе и бывшие соратники, нельзя увидеть той истины, которая бы дала четкий и правдивый ответ на простой вопрос: что же произошло, почему Горбачев так легко потерял власть, какие силы обусловили роковой распад великой державы?
Ожесточение представителей моего поколения, чья жизнь является отражением истории Советского Союза, можно понять, особенно если вспомнить слова Н. Некрасова:
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной.
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой.
Но история должна быть объективной, ибо, искажая прошлое, она может способствовать повторению ошибок, которые привели к тяжелым последствиям в судьбе страны и народа.
Вероятно, тогда, в начале 90-х годов, я бы не смог объективно обсуждать проблемы распада страны, роль в этих процессах Горбачева и Ельцина. Слишком свежи и остры были горечь потери Родины, горе народа, потерявшего не только сбережения и социальные завоевания, но и ориентиры в жизни. И только сейчас, давно отрешившись от политической и общественной деятельности, свергнув в своем сознании и своих представлениях политических и идеологических кумиров, я пытаюсь спокойно и объективно разобраться в ситуации, оказавшейся последней ступенью в жизни моего советского народа и великой державы — СССР.
Думаю, отсчет этой последней ступени надо вести с XIX партийной конференции. Именно она впервые расколола партию, общество, народ, создала атмосферу неуверенности, разброда, которые в итоге привели к роковому концу. М. Горбачев шел на эту конференцию без четко разработанной стратегии. И об этом образно сказал писатель Ю. Бондарев, задав в своем выступлении на конференции риторический вопрос: «Можно ли сравнить нашу перестройку с самолетом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка?»
От конференции ждали многого. Мне кажется, устав от общих деклараций и многочисленных заявлений М. Горбачева, все ждали конкретного долгосрочного плана обновления экономики, общества, партии. М. Горбачев и его окружение пытались создать определенную атмосферу вокруг партконференции, примерно за полтора месяца до ее открытия была даже устроена встреча в ЦК КПСС с руководителями средств массовой информации.
Тогда меня насторожило, что в ходе вроде бы дискуссии шли, как всегда, общие рассуждения о единстве партийных рядов, о том, что необходимо создать политические, идеологические, организационные предпосылки перестройки, что задача состоит в восстановлении ленинского облика социализма и т. п. Как руководителя большого социального направления в жизни страны, каким является здравоохранение, меня удивило, что во всех этих обсуждениях не нашлось слова о том, что больше всего беспокоит людей, — о социальных проблемах, недостатках в снабжении, сложной экономической ситуации, низкой зарплате некоторых групп населения, появившихся межнациональных проблемах, кадровой политике. Оставалось неясно, как мы будем выходить из нарастающего финансово-экономического кризиса, что надо сделать для консолидации общества.
Единственное впечатление, которое сохранилось у меня о XIX партконференции, — это своеобразные «политические баталии» выступавших, отражавшие разноголосицу мнений о путях будущего развития партии, страны и ее экономики. Помню разгоревшийся между М. Горбачевым и М. Ульяновым спор о роли и месте печати в перестройке партии и государства.
Удивительна все же наша страна! Те средства массовой информации, которым М. Горбачев дал полную свободу, его же и погубили, перейдя в критический период на сторону Б. Ельцина и демократов, выступивших против политики Генерального секретаря ЦК КПСС. Но в этом «заслуга» ближайшего сподвижника Михаила Сергеевича — А. Яковлева, который ко времени XIX партконференции стал основным советником генсека. Потеря контроля над средствами массовой информации во многом предопределила поражение Горбачева. И не стоит ссылаться на свободу слова, свободу печати в условиях демократии. Самый убедительный пример — победа Ельцина на выборах в 1996 году, которую в значительной степени определили телевидение и большинство газет, находившихся под контролем тех кругов, которых устраивало его переизбрание.
В докладе на открывшейся 28 июля 1988 года партконференции М. Горбачев заявил: «Три последних года в нашей жизни с полным правом можно назвать поворотными. Усилиями партии, трудящихся удалось остановить сползание страны к кризису в экономической, социальной и духовной сферах». И тут же в одном из следующих выступлений Л. Абалкин сообщает, что «национальный доход, обобщающий показатели экономического и социального развития страны в прошедшие два года, рос темпами меньшими, чем в застойные годы одиннадцатой пятилетки» и что «состояние потребительского рынка ухудшилось».
Так чему же было верить — заявлениям генсека или выводам ведущего экономиста страны? Кстати, доклад Л. Абалкина был одним из немногих конструктивных на этой конференции. М. Горбачев своей речью направил дискуссию в русло обсуждения реформы политической системы. В этой области, конечно, все специалисты.
И началось… Горбачев выдвинул глупейшее предложение, чтобы первые партийные секретари совмещали свою должность с постом председателя соответствующего Совета — республиканского, областного, районного. Конечно, это вызвало резкую критику: о какой демократии, о каком плюрализме могла в таких условиях идти речь?! Самое же роковое его предложение заключалось в переходе от старой системы выборов Верховного Совета к выборам съезда народных депутатов СССР. Народные депутаты избирались не только по округам, но и от различных общественных организаций. Кого только не было в этом ноевом ковчеге М. Горбачева: кроме депутатов, избранных народом, — писатели и художники, академики и врачи, комсомольцы и архитекторы. Так и хотелось в стиле Раисы Максимовны Горбачевой сказать: «народное вече».
И что могло сделать это «вече», раздираемое политическими амбициями, групповыми, партийными и личными корыстными интересами, популизмом всех мастей?! Меня, например, умилило представление депутатов от общества дизайнеров или им подобных. Что Версаче в сравнении с советскими дизайнерами: разве мог он мечтать, что будет представлять свой профессиональный цех, например, в парламенте Италии? И что самое интересное, многие годы спустя я интересовался у участников тех событий, кто же автор столь «выдающегося и глубокомысленного решения», и все, в том числе и бывшие члены Политбюро, категорически отказывались от авторства. Говорят, что и Яковлев, определявший политику Горбачева, не хотел связывать себя с этой идеей.
Политический популизм, пустопорожняя болтовня, общие рассуждения без конкретных предложений заглушили те немногочисленные голоса, которые призывали к разработке конкретных планов выхода из кризиса. Более того, образование съезда народных депутатов обострило политическую ситуацию. Вместо консолидации съезд открыл полосу национальных и исторических противостояний в обществе и государстве. И как бы ни винили Горбачева и Ельцина, а также Беловежские соглашения в гибели Советского Союза, первую лепту в этот роковой процесс внесла конференция.
Но и нам, делегатам этой партконференции, нечего сваливать вину на кого-то. Где все мы были, когда принимались судьбоносные для Советского Союза решения? Я входил в состав комиссии по подготовке проекта резолюций конференции «О ходе реализаций решений XXVII съезда КПСС и задачах по углублению перестройки», «О демократизации советского общества и реформе политической системы». И хотя со всех сторон — и сверху, из Политбюро, и снизу, от партийных функционеров различного уровня, — неслись громкие слова о демократизации, новом стиле деятельности партии, работа комиссии проходила по худшему варианту старой проверенной системы принятия партийных решений. Мы получили проект решения, подготовленный, вероятнее всего, аппаратом ЦК КПСС. Мне представлялось, что такой важнейший документ будет детально обсуждаться на заседании комиссии, развернется конструктивная дискуссия, будут разработаны конкретные предложения, тем более что и у делегатов, и у членов комиссии было различное видение решения стоящих перед партией проблем.
Но никакой дискуссии не состоялось. М. Горбачев собрал нас прямо в зале во время одного из перерывов. Заседание шло в спешке, формально. Кто-то что-то пытался сказать, сделать замечания, но чувствовалось, что многие не вникли в суть предложений — каковы их отдаленные результаты и перспективы. Как и в старые времена, они считали: если предложения исходят от аппарата ЦК КПСС, а значит, утверждены либо секретариатом, либо Политбюро, то так и должно быть. Я представил в комиссию наши замечания, которые мы составили совместно с моими молодыми помощниками, но не увидел их в конечном варианте проекта.
Почему-то многие, в том числе и в аппарате ЦК, ждали предложений по радикальному преобразованию партии. Может быть, уже тогда Яковлев задумал переделать ее в социал-демократическую (такие заявления есть в ряде его интервью после 1991 года). После моего выступления на конференции некоторые из окружения Яковлева, мои хорошие знакомые, упрекнули меня в том, что, учитывая близость к Горбачеву, ждали больше критических оценок политической ситуации, а в докладе в основном шла речь о решении социальных вопросов, хотя и на основе новых организационных, управленческих и финансовых концепций.
После таких заявлений я еще раз внимательно просмотрел свой доклад и, хотя редко бываю («постфактум») доволен своими выступлениями, в данном случае изменил своей традиции критиковать самого себя. Понимая, что не все могут согласиться с моими выступлениями, я всегда успокаивал себя прекрасным афоризмом Г. Лессинга «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради Бога, размышляйте и, может быть, и криво, да сами». Может быть, в моем докладе что-то и было «криво», но даже сейчас, много лет спустя, я готов подписаться под любым его положением: многие из них актуальны и сегодня. В частности, я сказал: «Сейчас слово "гласность" очень часто звучит в выступлениях, в печати, по радио, телевидению. Но нередко под этим понимают только свободу слова, гарантированную нашей Конституцией. Не девальвируем ли мы это новое для нас понятие? Не повторяем ли мы ошибок прошлого, когда за словами забываем дела?» Не вписывался в представления некоторых деятелей, видевших «перестройку» только в решении политических задач, в реконструкции политической надстройки государства, и конец моего выступления. От имени выброшенного на задворки здравоохранения я заявил: «Будем едины в определении социальных проблем как основного приоритета в деятельности нашей партии».
Даже сейчас, спустя много лет, мнения о значимости XIX партконференции для будущего страны и народа весьма разноречивы. Но все единодушны в том, что на этом партийном форуме впервые царила свобода слов и мнений. Сейчас, когда все видят результаты «царствования» Б. Ельцина, официальная пропаганда пытается поставить ему в заслугу создание такой атмосферы в нашей стране. Не надо искажать историю. («Лживых историков, — писал Сервантес, — следовало бы казнить как фальшивомонетчиков».)
Что бы ни говорили о Горбачеве, именно ему страна, народ обязаны свободой слова. И если бы не было этой свободы слова, вряд ли бы возник «феномен Ельцина», построенный в основном на популизме. Но что такое свобода слова без элементарного жизненного благополучия?
После XIX партконференции постепенно, на первый взгляд, незаметно начала разваливаться КПСС. Горбачев все больше отдалялся от тех, с кем пришел к власти, от Лигачева, Рыжкова. Ближайшим его советником и правой рукой становится Яковлев. Ошибки во внутренней и внешней политике следуют одна за другой. Да и как им не быть, если, например, внешнюю политику страны определяли не профессиональные дипломаты, а дилетанты, бывшие партийные работники областного и республиканского масштаба — Горбачев и Шеварднадзе? К сожалению, все эти ошибки отражались на положении в стране, на жизни народа.
Мы изредка встречались с Горбачевым в неофициальной обстановке. Из разговоров во время этих встреч я понимал, что он не представляет истинного положения в партии и стране. Я попытался высказать ему все, что думаю о сложившейся ситуации (после возвращения из Китая с официальной делегацией в мае 1989 года), но ответная бурная негативная реакция, его раздражение отбили у меня желание впредь быть с ним откровенным. Да, пожалуй, это была наша последняя неформальная встреча.
Зная хорошо Горбачева, я видел, как он мечется в поисках выхода, как заигрывает с так называемыми демократами, руководителями республик, с народом на улицах. И постоянные компромиссы, компромиссы и компромиссы… Мне было искренне жаль М. Горбачева, хорошо начавшего свою деятельность на посту Генерального секретаря, много сделавшего для того, чтобы изменилась политическая и духовная атмосфера в обществе, зародившего в народе веру в лучшее будущее. Честный в своих идеалах и представлениях, он оказался слабым человеком и слабым руководителем, легко меняющим свои ориентиры, много обещающим, но мало созидающим. Постепенно он отдавал власть, и как легко!
Вот его заявление на XIX партконференции: «Но я хочу сказать делегатам конференции, всему народу о главном — без направляющей деятельности партии, воплощения в жизнь ее политического курса задач перестройки не решить. Перестройка будет обречена и политически, и идеологически, и организационно». Мудрые слова, потому что партия являлась в то время единственной силой, связывающей не только республики с их экономическими и национальными особенностями, но и различные слои общества.
Пройдет меньше двух лет, и на пленуме ЦК КПСС в марте 1990 г. Генеральный секретарь выступит с предложением, смысл которого сводится к тому, чтобы «исключить положение о руководящей роли КПСС». Но ни партия, ни страна ни идеологически, ни организационно не были готовы к такому решению — не было в СССР структуры, которая приняла бы на себя роль силы, объединяющей и цементирующей общество. Такое решение можно было принять тогда, когда экономические реформы дали бы обнадеживающие результаты, когда были бы решены вопросы взаимоотношений центра и республик, проблемы межнациональных отношений.
И хотя я уже покинул пост министра, но как член ЦК присутствовал на том пленуме, слышал выступление М. Горбачева и разноголосицу мнений в прениях, четко видел оформившийся раскол в партии и с тяжелым чувством понимал, что впереди нас ждут трудные времена. Добавили уверенности в таком исходе и мои старые знакомые из руководства КГБ, сказавшие, что, по данным их аналитических служб, рейтинг М. Горбачева упал до критического уровня — 10 %. Какая судьба! Народ, который горячо приветствовал в 1985–1986 годах молодого, прогрессивного генсека, верил в него, в то, что он выведет страну из кризиса, всего за три года отвернулся от своего кумира. Как прав был А. Пушкин, вложивший в уста боярина Шуйского такие слова:
Но знаешь сам: бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глупа и равнодушна.
Лучше не скажешь о том периоде (1989–1990 годы), когда падал в народе авторитет Горбачева и на политическом горизонте всходила звезда Ельцина.
В моем сознании это было смутное, непредсказуемое и непонятное время. Неразбериха царила в умах, в обществе, в государстве. Старые принципы и новые идеи сосуществовали даже в стенах ЦК КПСС на Старой площади. На посту министра я постоянно сталкивался с подобной ситуацией и поэтому решил не обращать на нее внимания и поступать так, как мы в министерстве считали целесообразным.
Однажды (не помню кто — МИД или Красный Крест) меня попросили принять тогда малоизвестную в СССР мать Терезу, руководителя монашеского ордена, ведущего благотворительную деятельность и, в частности, осуществляющего уход за больными. Готовясь к встрече, я узнал от сотрудников министерства о существующем запрете на деятельность религиозных организаций в учреждениях здравоохранения. Предлог был явно надуманный — государство и церковь у нас разделены, а больницы являются государственными учреждениями. По старой памяти позвонил в ЦК. Горбачева не было в стране, Лигачева я не нашел, а те партийные функционеры, к кому я обратился, ничего путного мне сказать не могли и каждый старался «отфутболить» к другому по принципу «как бы чего не вышло». Так ничего и не добившись от «Старой площади», утром я принял мать Терезу, удивительную женщину, отдавшую свою жизнь служению страждущим. Мне кажется, она, осведомленная о правилах и законах, существовавших в нашей стране, была удивлена, что мы без проволочек дали согласие на работу послушниц ее ордена в наших больницах. После разговора с ней мы широко открыли двери больниц и для представителей нашей православной церкви.
Недавно с большой помпой в Москве с участием жены Ельцина был открыт хоспис — особое медицинское учреждение, где в хороших условиях заканчивают свой жизненный путь обреченные, умирающие больные. Конечно, честь и хвала мэру Москвы Ю. Лужкову, выделившему большие деньги на создание подобной больницы, на большую гуманную акцию. Но в связи с этим я вспомнил 1989 год, когда ко мне обратились мои зарубежные коллеги с просьбой принять известного английского журналиста Виктора Зорза. Мы встретились, и он рассказал историю, которая привела его ко мне. Его дочь, молодая девушка, заболевает раком и вскоре погибает. Трудно представить себе горе отца, пережившего дочь. Все увиденное журналистом во время его скитаний по клиникам и консультациям профессоров настолько его поразило и изменило его представления о жизни и смерти, что он оставил свою профессию и посвятил себя помощи самым несчастным людям на земле — обреченным больным, страдающим раком в последней стадии. Он предложил организовать специальные медицинские учреждения| (хосписы) — последнее прибежище для умирающих больных. Создав их в ряде стран, он решил организовать подобное учреждение в Советском Союзе. Нашлись энтузиасты в Ленинграде, которые прониклись его идеями, но оказалось, что решить эту проблему в нашей бюрократической стране почти невозможно. Он рассказал мне о своих мытарствах, обращениях в различные государственные и партийные организации. Слушая его рассказ, я в который раз вспомнил принцип, который исповедовали М. Суслов и подобные ему партийные руководители: «этого не может быть, потому что так не было».
Конечно, мы дали разрешение на организацию в стране подобных учреждений. Но наступил 1992 год, и все осталось благим пожеланием. Только одну его просьбу мы выполнили — начали выпускать по лицензии фирмы «Грюненталь» на экспериментальном заводе кардиоцентра ненаркотическое обезболивающее средство трамал, которое должно было использоваться в хосписах. Единственное, что я, покидая пост министра, мог сделать для поддержки гуманного и благородного начинания, — это включить хоспис в список медицинских учреждений.
Меня часто спрашивали: «Почему, добившись многого для здравоохранения, создав базис, который начал давать положительные результаты, Вы добровольно покинули пост министра? Ссылки на травмы во время автомобильной катастрофы, о которых говорилось при Вашей отставке, по меньшей мере наивны, учитывая, что Вам удалось восстановить здоровье и даже подниматься после этого на "Приют одиннадцати" на Эльбрусе. Так почему же Горбачев так легко подписал один из своих первых в качестве президента страны указов о Вашем освобождении по собственному желанию?»
Мне трудно было отвечать тогда, нелегко и сегодня. Прежде всего, соглашаясь с назначением на пост министра, я поставил перед М. Горбачевым условие, что по прошествии трех лет буду иметь возможность покинуть Министерство здравоохранения и полностью посвятить себя науке, которая представляла для меня основную ценность в жизни. Даже при напряженной работе министром, требовавшей колоссальной отдачи сил и отнимавшей много времени, я ни на один день не оставлял ни врачебной, ни научной деятельности. Но основным было другое. В 1989 году я почувствовал, что в разгорающейся политической схватке вся наша бурная деятельность, все наши достижения никому не нужны. Когда обостряется борьба за власть, разгораются межнациональные стычки, появляется возможность для личного обогащения, тут уж никого не интересуют ни состояние детской смертности, ни борьба с сердечными и онкологическими болезнями, ни уровень инфекционной заболеваемости. Работать становилось все труднее. Половинчатая позиция партии прежде всего в экономических вопросах, бесконечные компромиссы и пустые обещания Горбачева, отсутствие твердой воли у руководства страны, неопределенность будущего создавали гнетущую атмосферу как в государственном аппарате, так и среди руководителей на местах.
Принятые законы «О государственном предприятии», «О кооперации» и ряд других лишь обострили ситуацию и увеличили раскол в обществе. Помню, как на меня обрушились некоторые журналисты, когда мы запретили кооперативам использовать дорогостоящее и уникальное медицинское оборудование в рабочее время. А вызвано это решение было тем, что мы стали получать массу писем от больных, что они не могут вовремя и в достаточном объеме получить диагностическую помощь. В ряде учреждений, полностью обеспеченных бюджетным финансированием, оборудование в обычные часы приема больных функционировало как кооперативное и, естественно, пациентам надо было оплачивать обследование. В одно и то же время члены кооператива получали зарплату от государства и деньги за свою частную деятельность.
Сегодня активно обсуждается: когда начали зарождаться «новые русские», современные нувориши? У меня же не возникает никаких сомнений: многие из них накопили первичный капитал именно в то смутное время распада Советского Союза.
Обычно я спокойно реагировал на выпады в мой адрес, в том числе и со стороны журналистов разных мастей, но статья в «Известиях» поразила даже меня своей наглостью и беспринципностью. Друзья со связями в журналистских кругах по моей просьбе выяснили подоплеку появления статьи и сообщили, что она заказная, инициирована кооператорами, и посоветовали просто не обращать на нее внимания. Однако вопрос был принципиальным и касался не только медицины. Мы направили в газету аргументированный ответ, который долго не печатали, несмотря на мои обращения к главному редактору А. Лаптеву. Лишь после того, как я заявил ему, что он нарушает принципы печати и что мы будем вынуждены обратиться в соответствующие инстанции, ответ был опубликован, да и то со странной припиской редакции. Так что заказные статьи в газетах, лоббирующие интересы определенных групп и лиц, появились не в новые «ельцинские» времена, а были продуктом своеобразно понимаемой «горбачевской» гласности.
К чему я рассказываю о доступе религии в учреждения здравоохранения, об истории хосписов и околомедицинских авантюрах? Кажется, что все это так далеко от политической борьбы, которая развертывалась в Кремле, на Старой площади, в здании правительства РСФСР на Красной Пресне. Но, думается, именно такие, на первый взгляд, мелкие штрихи наглядно демонстрируют растущие в стране неразбериху и смятение, использование идеалов демократии и гласности в корыстных целях, безразличие власти к возникающим проблемам, вернее, отсутствие у нее четких представлений о путях их разрешения. Это было еще одним аргументом в пользу решения покинуть пост министра. Последней каплей стало мое общение со съездом народных депутатов и вновь избранным Верховным Советом…
Как я и ожидал, на волне недовольства народа экономической ситуацией и в связи с неподготовленностью КПСС к новым методам борьбы за власть в условиях плюрализма, так называемой многопартийности, гласности и демократии в составе съезда оказалось немало политиканов, всевозможных политических болтунов с популистскими лозунгами, которые ничего конструктивного не могли предложить.
Многие наживали политический капитал на трагедии людей, например на последствиях аварии на Чернобыльской атомной станции. Помню гневные тирады в адрес «власть придержащих» корреспондента «Литературной газеты» из Киева Б. Щербака, избранного в Верховный Совет. В медицинских кругах с учетом его медицинского прошлого шутили, что он один из первых медиков среди журналистов и один из первых журналистов среди медиков, за душой которого только выступления по Чернобылю. После распада Советского Союза в независимой Украине он стал министром по делам экологии, но работать сложнее, чем критиковать. Так ничего и не сделав для чернобыльцев, судьбой которых он еще недавно был очень озабочен, он, как говорят, быстро переквалифицировался в дипломата.
Деятельность многих депутатов вела лишь к разрушению, а не к созиданию. Именно они проголосовали за ликвидацию Советского Союза. К сожалению, народ, изголодавшийся по свободе выражения мыслей и мнений, воспринимал их высокопарные слова, их мнимую заботу об интересах человека за чистую монету, веря в изменение жизни к лучшему. Многие в тот период часами следили в прямой трансляции за заседаниями съезда. Раньше такой интерес вызывали только телесериалы или трансляция футбольных матчей.
Что сказали бы сейчас, на развалинах страны, столько пережив за последнее десятилетие, те, кто с энтузиазмом воспринимал съезд народных депутатов и надеялся, что он изменит их судьбу? Что бы сказали они о всех деятелях, красовавшихся на его трибунах и ушедших в политическое небытие, ничего после себя не оставив, кроме громких фраз, проблем и вопросов?
Лучшим ответом я бы счел строки из памфлета «Князь тьмы» избранного депутатом Б. Олейника. Они обращены к М. Горбачеву: «Вы как главный архитектор "перестройки" настолько запутали предвыборную кампанию, что в депутаты не мог попасть тот, кто этого не очень хотел. Зато каждый из "новой волны", поставивший своей целью заиметь мандат избранника, получил его. Неужели Вам и Вашим многочисленным службам не был известен постнулевой моральный облик некоторых особей, остервенело рвавшихся на Олимп? Тогда я еще сомневался. Ныне — уже не сомневаюсь, Вам все было известно».
КПСС ничего не могла противопоставить различным группам типа Межрегионального объединения, националистическим тенденциям и даже тем, кто, как А. Сахаров, боролся за смену существующего строя. Партию раздирали внутренние противоречия и разногласия: в Политбюро политика Яковлева и Шеварднадзе противостояла политике Лигачева, Рыжкова и других, в региональных партийных организациях образовывались «троянские кони» вроде движения «Коммунисты за демократию» А. Руцкого.
Дутой оказалась восхвалявшаяся годами монолитность партии. Да и могла ли она быть в 17-миллионной организации, значительная часть членов которой пришла в партию не по велению сердца, а ради карьеры и благополучия? Их нельзя одобрять, но нельзя и презирать. Партия сама создала такие условия, учитывая, что человек мог проявить себя в жизни и работе, только будучи членом КПСС. Представление о человеке нередко складывалось на основе не его профессионализма, деловых качеств, а принадлежности к КПСС. Если бы КПСС была действительно партией единомышленников, объединенных не просто партийной дисциплиной, а искренней верой, какая была у таких большевиков, как мои отец и мать, делавшиех революцию, если бы в ней были настоящие бойцы, а не попутчики, она бы так легко не отдала власть и не обрекла Советский Союз на уничтожение. Нужно было держать в руках только ключевые позиции и дать больше возможностей проявить себя беспартийным профессионалам, талантливым организаторам, не входящим в состав КПСС. Кстати, об этом не раз говорил и Андропов.
Когда собрался I съезд народных депутатов, мы надеялись, что М. Горбачев предложит конкретную программу выхода из экономического и политического кризиса. К сожалению, ничего, кроме общих рассуждений об ошибках прошлого и о демократизации, кроме словесной перепалки, призывов и обращений, страна не услышала. Удивляли пассивность Горбачева, отсутствие твердой позиции и воли руководителя. Казалось, он лавирует между различными группировками, мнениями, уходит от ответа на острые вопросы. Мне это особенно бросилось в глаза, когда он председательствовал на заседании Верховного Совета, избранного съездом народных депутатов.
Верховный Совет был зеркальным отражением съезда и по составу, и по характеру работы. Чего только стоит напоминавшее театральное шоу утверждение правительства СССР! Глупая игра в демократию, предложенная Горбачевым в виде нового положения о Верховном Совете, который теперь должен был рассматривать и утверждать кандидатуры всех руководящих работников государственного аппарата, привела к тому, что более месяца депутаты вместо того, чтобы заниматься актуальными проблемами жизни страны, изводили членов правительства пустыми вопросами, часто демонстрируя некомпетентность. Можно было бы понять обсуждение руководителей ключевых структур, таких, как силовые министерства, министерство финансов или иностранных дел, но что могли знать депутаты об атомной или электронной промышленности, чтобы решать, может или нет продолжать работу министр, профессионал, досконально знающий свою отрасль?!
Помню десятки вопросов, которые сыпались на меня на протяжении почти трех часов обсуждения моей кандидатуры. Из них, может быть, 20 % были по делу. Я старался достаточно полно и доходчиво отвечать на них. Но в конце концов, обычно вежливый и корректный, просто не выдержал и на глупый и наглый вопрос: «А что Вы сделали для блага страны?» — резко ответил: «Когда многие из здесь сидящих делали только то, что обсуждали проблемы, стоящие перед страной, на кухне с женой или друзьями, и на этом кончался их гражданский долг, я делал дело — создавал больницы и санатории, разрабатывал новые методы диагностики и лечения, спасал нашу природу, как, например, вместе с товарищами спас жемчужину России — Жигули, где хотели построить атомную станцию». К моему удивлению, мои агрессивность и резкость сразу оборвали дискуссию. Видимо, многие поняли, что своими вопросами могут выставить себя в неприглядном виде. Но больше всего во время заседания меня поразили даже не депутаты, а поведение председательствовавшего на заседании моего старого друга М. Горбачева: на протяжении всего обсуждения он молчал и не сказал ни одного доброго слова в мой адрес.
Все это еще раз утвердило меня во мнении, что надо покидать пост министра. Почему я не отказался от этой должности до заседания Верховного Совета? Мне казалось, что такое решение будет воспринято как капитуляция, признание поражения нашей команды. Нет, надо было добиться утверждения моей кандидатуры, рассказать о наших достижениях не только Верховному Совету, но и всей стране. Мне кажется, это удалось сделать, поскольку шла прямая трансляция заседания. Да и в Верховном Совете лишь двадцать человек выступили против.
В целом в системе здравоохранения мое утверждение было воспринято благожелательно. Поздравил меня и Н. Рыжков. Единственный, кому это уже было безразлично, был глава государства М. Горбачев.
В тот период журналисты и некоторые депутаты развернули острую дискуссию по двум вопросам — привилегиям и Чернобылю. Эти обсуждения носили больше популистский характер и не решали основных проблем жизни страны и ее будущего. Горбачев (в отличие от Ельцина) почему-то очень остро воспринимал выступления по поводу привилегий. Он, по моему представлению, терялся, когда некоторые депутаты, вроде Э. Памфиловой, требовали ликвидации любых привилегий для руководителей партии, государства, членов правительства. Он расценивал их не иначе как «глас народа», забывая о лицемерии и популизме людей. Та же Э. Памфилова, став министром при Б. Ельцине, молчала не только о привилегиях, но и о строительстве новых дач, реконструкции президентских апартаментов, стоивших миллионы долларов, мало того, и сама пользовалась благами, положенными министру, против которых когда-то выступала.
Несколько раз М. Горбачев звонил мне по поводу ликвидации 4-го Управления, осуществлявшего медицинскую и санаторную помощь не только руководителям государства и членам правительства, но и большому кругу деятелей науки и искусства, видным военачальникам, писателям. Мне до боли в сердце было тяжело представлять, как рухнет лучшая в мире система оказания медицинской помощи, становлению которой было отдано двадцать лет жизни. Горбачев не воспринимал моих доводов, повторяя избитые фразы, что демократия не совместима с привилегиями.
Последний наш разговор состоялся в декабре 1989 года. М. Горбачев искал меня в связи с событиями в Баку, куда надо было срочно направить медицинские отряды, чтобы оказать помощь сотням пострадавших. Он даже не знал, что я нахожусь в больнице в тяжелом состоянии после автомобильной катастрофы. Выразив соболезнование, он вернулся к вопросу о ликвидации 4-го Управления. Повторив свои доводы, я просил сохранить созданную систему, может быть, расширив или изменив контингент, ибо легче всего разрушать, но очень трудно создавать. Видимо, Горбачев хотел предстать в облике защитника интересов народа, демократа, ибо вскоре я получил решение о преобразовании 4-го Управления с выводом из его состава лучших учреждений — спецбольницы на Мичуринском проспекте, большинства санаториев. Уверен, что большую роль в этих решениях сыграл страх перед популистскими заявлениями Б. Ельцина, громившего в статьях и выступлениях привилегии «слуг народа». В этом еще раз проявилась слабость Горбачева, который не смог дать достойный отпор Ельцину.
Первое, что сделал Ельцин, захватив власть, — восстановил в новом виде 4-е Управление. Были возвращены и больница на Мичуринском проспекте, и санатории на Северном Кавказе, и многие другие учреждения. Решительный Ельцин не испугался, в отличие от Горбачева, «гласа народа». Но что потеряно, того уж не вернешь. Новому управлению, по мнению всех моих коллег — академиков и профессоров, да и пациентов, по всем параметрам было далеко до бывшего 4-го Управления. Да что там 4-е Управление, если была разрушена великая держава…
М. Горбачев под давлением обстоятельств, критики справа и слева все дальше и дальше уходил от решения конкретных проблем. Вспоминаю, как с помощью Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) X. Накаджимы, которого мы активно поддерживали при избрании на этот пост, нам удалось добиться, чтобы эта организация согласилась создать специальную международную программу по ликвидации последствий на Чернобыльской атомной электростанции.
На фоне обвинений в пассивности руководства страны, это было очень важное соглашение. Требовалось лишь письмо Горбачева. Подготовив его проект, мы несколько дней безрезультатно пытались выйти на Михаила Сергеевича. Не выдержав, я попросил принять меня по этому вопросу А. Яковлева, зная, что он вхож к Горбачеву в любое время. Во время нашей встречи позвонил Горбачев. Не знаю, какую проблему они обсуждали, но в заключение Яковлев рассказал о нашем предложении, а закончив разговор, пожал плечами и, видимо, недоумевая, ответил на мой немой вопрос: «Михаил Сергеевич сказал, чтобы мы с Вами разобрались в поставленном вопросе и приняли решение». Я не понял, в чем нужно было разбираться — ведь речь шла лишь о подписи М. Горбачева под письмом в ВОЗ. И еще раз убедился, что ему не до наших земных проблем.
В марте 1990 года, покидая пост министра, я в последний раз встретился с М. Горбачевым. Он никогда раньше не выглядел таким озабоченным и растерянным. Мы ни словом не обмолвились, как раньше, ни о ситуации в стране, ни о его планах на ближайшее будущее. Мне показалось, что в тот период его больше беспокоила борьба со старой гвардией в партийном руководстве, чем с зарождающимся мощным движением так называемых демократов. Вспоминая появившуюся в журнале «Штерн» фотографию, на которой мы были засняты с ним в годы молодости в Архызе, он вдруг перевел разговор на заявления некоторых функционеров о нечестных путях, которыми якобы он пришел к власти. Именно они, по его мнению, были основным препятствием для развития перестройки и выхода страны из кризиса. Встреча была недолгой. Хотя Михаил Сергеевич, прощаясь, говорил хорошие слова о том, что настоящая дружба остается навсегда, я по опыту последних лет понимал, что мы с ним вряд ли когда-нибудь встретимся.
Сегодня журналисты, политологи, историки обсуждают знаменательные вехи XX века в жизни народов мира, значимость тех государственных и политических деятелей, которые изменили лицо нашей планеты. Вспоминают Ленина и Рузвельта, Сталина и Гитлера, Неру и Кастро. Обсуждая печальную судьбу великой державы — СССР, мне не хотелось бы касаться общепланетарных проблем, хотя гибель Советского Союза, коммунистической державы, во многом определявшей жизнь планеты в XX веке, нельзя относить только к истории нашей Родины. Распад СССР и последовавшие за ним политические и экономические катаклизмы эхом отозвались на судьбе многих народов и стран. Но прежде всего этот распад принес горе моему народу. Не может быть сомнений в том, что Горбачев и Ельцин должны занять свое место среди тех, кто сыграл решающую роль, изменившую лицо планеты в XX веке. Если Ленин создал Советский Союз, то они его разрушили. И не имеет значения, что ни тот, ни другой (оба — ярые коммунисты), начиная свою политическую деятельность и даже борясь за власть, и в мыслях не представляли, что станут могильщиками коммунистического строя в нашей стране. Оба, несомненно, останутся не только в истории России, но и мира. Вопрос лишь, в каком качестве они предстанут перед потомками. Что скажут те о Горбачеве и Ельцине «sine ira et studio», как говорил Тацит («без гнева и пристрастия»)? Сегодня одни возвышают их до уровня мессии, другие, наоборот, поносят последними словами, как предателей, орудие в руках врагов нашей страны, как недалеких руководителей, принесших горе и разорение народу. Кто же прав? И можем ли мы, современники, их судить? Может быть, надо следовать Евангелию: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерой мерите, такою и вам будут мерить». Все верно, к тому же можно спросить: а судьи кто? Разве не мы радовались, не торжествовали, когда эти лидеры пришли к власти, не пели им панегирики, разве не мы поддерживали их начинания? Конечно, речь идет не обо всем обществе, но, несомненно, о его большинстве, и в первую очередь о тех, кто, как я, хоть в чем-то способствовал их приходу к власти.
Но почему все же мы не должны молчать? Не должны, чтобы наши внуки и правнуки не повторяли наших ошибок. Именно этой цели и посвящены мои искренние, написанные с болью в сердце воспоминания о роковой роли Горбачева и Ельцина в судьбе моей Родины — Советского Союза. Я пытался разобраться в «феномене Горбачева», это очень трудно даже для меня, знавшего его близко и хорошо.
В те времена, «когда легковерен и молод я был», все казалось проще, яснее и оценивалось односторонне, хотя и с позиций максимализма. Я воспринимал Михаила Сергеевича Горбачева как интересного человека, с неординарным мышлением, прогрессивными взглядами, как руководителя, лишенного партийного чванства и высокомерия. Впрочем, так же воспринимал я тогда и Брежнева, и Андропова, и Устинова.
Пройдя тяжелый и сложный жизненный путь, не раз преданный коллегами, друзьями и даже учениками, обманутый в надеждах, убеленный сединой, я уже не могу, как раньше, верить на слово и искать оправдания деяниям тех, в кого поверил. Но даже сейчас я не могу однозначно ответить: кто же М. Горбачев — герой, перевернувший мир, или предатель, обрекший на гибель великую державу? Ясно одно: если сравнивать с позиций истории Горбачева и Ельцина, то, несомненно, именно Горбачев изменил ход мировых процессов в конце XX века. Был ли это продуманный стратегический шаг или изменения возникли случайно, в результате стечения обстоятельств — другой вопрос.
В конце 1991 года, когда М. Горбачев номинально еще был президентом Советского Союза, в журнале «Столица» появилась статья С. Лена, лауреата Международной премии Даля, который сделал интересное заключение: «Каковы бы ни были личные цели и планы Горбачева в 1985 году, как бы он ни "перестраивался" в течение шести лет, объективно Горбачев, маневрируя и игнорируя, совершил мировую антикоммунистическую революцию и завершил ее почти бескровно!»
Сегодня с таким выводом согласятся, вероятно, все. У меня нет сомнений в том, что сам М. Горбачев, начиная перестройку, не ожидал подобного развития событий, и у него и в мыслях не было уничтожать коммунистический строй. Он искренне хотел обновления партии, страны, общества. Однако хотя он и был незаурядной личностью, но не гением, способным спланировать перестройку мировой политической и экономической системы. Его планы, которые он озвучивал на XXVII съезде партии, на XIX партконференции, были гораздо скромнее и ограничивались масштабами страны.
Но, как писал Л.Н. Толстой, «было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Вот эти-то «овраги» — экономический кризис, межнациональные отношения, социальная напряженность, взаимоотношения центра и периферии, борьба с Ельциным за власть — Горбачев то ли не учел, то ли игнорировал в силу появившейся самоуверенности, а именно они и определили в итоге трагический конец перестройки. Сыграла роль и его слабость как руководителя и человека, постоянно идущего на компромиссы, мечущегося между различными позициями, легко меняющего свое окружение, а с ним и ориентиры. Иногда своими действиями он напоминал мне тех либералов, о которых М.Е. Салтыков-Щедрин писал: «Не знал, чего хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном».
Ему бы силу воли, смелость и напор Б. Ельцина — уверен, тогда и страна сохранилась бы, и настоящая перестройка была бы осуществлена и в партии, и в государстве. Есть еще одна характеристическая особенность, в которой Ельцин оказался сильнее, и это сыграло большую (если не роковую) роль в событиях, определивших гибель Советского Союза. М. Горбачев остро и часто неадекватно реагировал на общественное мнение, которое в последние годы его правления искусственно формировали так называемые демократы, окружение Б. Ельцина. Надо было не плестись в хвосте создаваемого мнения, а формировать его или по крайней мере не обращать на него внимания, решая принципиальные вопросы, судьбоносные для страны и народа. Об истинном значении общественного мнения очень верно и образно сказал А. С. Грибоедов, великий знаток человеческих душ:
Поверили глупцы, другим передают,
Старухи вмиг тревогу бьют —
И вот общественное мнение!
И, конечно, величайшей ошибкой Горбачева было то, что он во многом помог формированию своего «злого гения» — Ельцина. Он сделал все для того, чтобы ординарный секретарь обкома не только вознесся на политический Олимп, но и победил в борьбе за власть. Эта ожесточенная борьба была одним их тех «оврагов» — непредвиденных М. Горбачевым случайностей, которые во многом определили гибель Советского Союза.
Россия во мгле
Борис, Борис! Все пред тобой трепещет…
И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от Божьего суда.
А. С. Пушкин
25 декабря 1991 года был обычный рабочий день, хмурый и неприветливый, как часто бывает в это время года. В обыденных предновогодних заботах, задерганные политиками всех мастей, запуганные предстоящим повышением цен, обнищанием и безработицей, потерявшие веру в любые идеи, мало кто из простых граждан Советского Союза задумывался над тем, что формально это последний день их Родины, одной из двух сверхдержав на нашей планете.
Растерянный, поникший, даже как будто сгорбившийся, Горбачев выступил с обращением по телевидению. Нельзя было без горечи смотреть на жалкого Президента Советского Союза, отрекавшегося от своего «престола», своими руками, а вернее, своей политикой и своим поведением разрушившего великую страну. И впрямь, как сказал Наполеон, убегая из России: «От великого до смешного один шаг».
Мне, наверное, как и многим, стало не по себе, когда я увидел на экране телевизора, как опускается флаг СССР и вместо него над Кремлем поднимается флаг России. Но какой России — той, которую в XVIII–XX веках уважали и боялись в Европе, которая во многом определяла политический климат во всем мире? Нет. Это был флаг побежденной и униженной России, сброшенной с пьедестала великой державы. В этот трагический день говорил только побежденный Горбачев, победители — американцы, мечтавшие разрушить Советский Союз, и Ельцин — молчали.
Не было пушечных салютов, военных парадов, фейерверков, праздничных приемов. Объяснимо молчание американцев — они знали, что в создавшейся ситуации лучше промолчать, чтобы не обижать «друга Горбачева», который помог воплотить в жизнь их мечту. Почему торжество Б. Ельцина не выплеснулось наружу, трудно сказать — может, все-таки совесть мучила, а может быть, уже просто шло торжественное застолье. Рассказал же А. Коржаков, как после расстрела Белого дома в 1993 году пировали в Кремле в то время, когда еще не остыли трупы убитых.
Вчитайтесь в строки его воспоминаний. Не знаю, как Вам, а мне стало страшно — кто же стоял во главе власти? Как кощунственно звучат признания А. Коржакова: «Около 18 часов 4 октября 93-го, благополучно сдав мятежников с рук на руки, мы с Барсуковым прямо из Лефортово поехали в Кремль, на доклад. Президента не застали в кабинете, он был в банкетном зале. С удивлением я обнаружил, что торжество в честь победы началось задолго до победы и уже подходит к концу… Нам налили до краев по большому фужеру водки. Легко залпом выпив, мы присоединились к общему веселью».
Уверен, что еще долгие десятилетия историки и философы, политологи и экономисты будут изучать удивительный феномен быстрого распада и гибели Советского Союза. Будут приводиться различные аргументы — от бессмысленности идей коммунизма в существующем обществе до значимости демократического и национального самосознания народа. И в этих рассуждениях и дискуссиях может затеряться одна из главных причин трагедии (если не основная) — борьба за власть. Вечная, как наш мир, борьба за власть, в ходе которой гибли королевства, и республики, развязывались войны и совершались революции, воцарялся террор и преобразовывался общественный строй.
Мне, как и многим, пришлось быть свидетелем той непримиримой борьбы за власть между Горбачевым и Ельциным, которая оказалась роковой для судьбы нашей Родины. Цинично звучат слова С. Шушкевича, одного из тех, кто разрушил Советский Союз, в интервью журналу «Огонек» в декабре 1996 года о подписании Беловежских соглашений, поставивших последнюю точку в существовании Советского Союза: «Там не было наивных. Было ясно, что Борису Николаевичу больше всего мешает Горбачев». Как же сложилось это противостояние, кто виноват, что оно переросло в схватку двух неординарных политиков, приведшую к трагедии страны и народа? В конце концов, если мы попытались, конечно, с наших позиций раскрыть «феномен Горбачева», то, вероятно, стоит сказать и о «феномене Ельцина».
Так кто же Б. Ельцин — герой, стратег, задумавший и осуществивший уничтожение коммунистического строя, великий гражданин XX века, обеспечивший победу демократии в России? Или это антипод описанному портрету, как считают многие, и все, что он совершил, творилось лишь с одной целью — захватить власть любой ценой, во что бы то ни стало взойти на Олимп, стать «царем Борисом»? Не буду ссылаться на коммунистов, чтобы исключить возможные обвинения в предвзятости. Сошлюсь на иностранных политических экспертов.
Обозреватель итальянской газеты «Република» Сандро Виола, которого не заподозришь в симпатиях к коммунистам, пишет, что Ельцин — человек «вспыльчивый, авторитарный, неустойчивый в своих настроениях, к тому же алкоголик, и его здоровье в отвратительном состоянии». Еще более резко отзывается о нем Д. Кьеза в книге «Прощай, Россия!»: «Сказать о нем можно многое. Что он груб, циничен, склонен выжимать своих соратников до капли, а затем жертвовать ими, сваливая на них всю ответственность… невежественен в экономике, неспособен критически воспринимать лесть и любит окружать себя царской роскошью… Но главная его черта другая. Он — лжец». Основное обвинение Д. Кьезы заключается в том, что «никогда еще с допетровских времен Россия не была такой ничтожной, такой маргинальной… Основную роль в этом откате сыграл поправший ее трагическое величие Борис Ельцин».
Перенесемся в далекий теперь уже 1984 год, когда мне впервые пришлось встретиться в Свердловске с первым секретарем обкома Борисом Николаевичем Ельциным. В памяти остались воспоминания о типичном партийном функционере областного масштаба, мысли которого были заняты обычными житейскими проблемами: обеспечением населения продовольствием и жильем, ремонтом театра, строительством дорог. Мы провели тогда два вечера за обычным для тех времен застольем в честь гостей из Москвы. И, честно говоря, Б. Ельцин меня покорил не только своим знанием нужд области и заботой о ее жителях, но и своим характером, в котором чувствовались сила, напористость. Привлекала и его простота в общении. (Кто тогда думал, что многое в его поведении носит популистский характер?)
Поэтому я не удивился, когда Лигачев, с восторгом рассказав о Ельцине, проронил, что они с Горбачевым хотят привлечь его для работы в Москве, в ЦК КПСС, с перспективой дальнейшего выдвижения в Политбюро. Для меня, да и для многих, было ясно, что его перевод на должность заведующего отделом ЦК — лишь трамплин и что он должен заменить кого-то из старой гвардии руководителей. Но кого? Ларчик просто открывался. Надо было убрать ненавистного В. Гришина. В то время я, как правило, участвовал в работе московских партийных конференций и помню, с каким энтузиазмом Ельцин был избран на должность первого секретаря Московского горкома партии, какие надежды возлагали на него не только коммунисты, но и простые москвичи.
И хотя звучали, да и продолжают звучать голоса об ошибке, которая была сделана Горбачевым и Лигачевым, рекомендовавшими Ельцина, будем честны перед историей и скажем, что в декабре 1985 года в их окружении не было более подходящей фигуры на роль лидера Москвы. Да и первые шаги Ельцина по наведению порядка в Москве были поддержаны всеми — от Горбачева до простого рабочего. Поражали его работоспособность, стремление самому вникнуть во все вопросы, неважно — касается это работы ЗИЛа или деятельности районной поликлиники. Работал он в буквальном смысле день и ночь. Учитывая гипертонические кризы, которыми он страдал, мы (врачи) неоднократно просили его соблюдать хотя бы минимальный режим. Но он, иначе не скажешь, пропускал мимо ушей все наши рекомендации, и по-человечески я его понимал.
Став после В. Гришина первым лицом в Москве; Б. Ельцин должен был показать себя, завоевать авторитет, доказать, что выбор не был ошибочным. Конечно, это сильная личность, полная неудовлетворенного тщеславия и жажды власти.
Но если говорить по большому счету, то тот административно-командный метод, который потом, борясь за власть, часто с популистскими целями критиковал Б. Ельцин, был типичным стилем его работы в Московском горкоме. Да он и сам не скрывает приверженности этому стилю в своей первой книге «Исповедь на заданную тему», которую, став Президентом России, он почему-то забыл, да и свободная демократическая пресса к ней впоследствии не обращалась. А ведь она очень поучительна — неплохо бы ее вспомнить и Б. Ельцину, и журналистам, да и будущим президентам прочитать.
Мне кажется, что через год-полтора после прихода в московскую власть Ельцин понял, что больших лавров на должности секретаря горкома в царившей тогда обстановке он не завоюет. «Переменили ямщика, а клячи прежние остались» — эти слова русского поэта Д.Д. Минаева как нельзя лучше отражают положение в стране в конце 80-х годов.
Б. Ельцин стал срываться, у него нарушился сон (по его словам, он спал всего три-четыре часа в сутки), и в конце концов он попал в больницу. Эмоциональный, раздраженный, с частыми вегетативными и гипертоническими кризами, он произвел на меня тогда тяжкое впечатление. Но самое главное, он стал злоупотреблять успокаивающими и снотворными средствами, увлекаться алкоголем. Честно говоря, я испугался за Ельцина, потому что еще свежа была в моей памяти трагедия Брежнева. Ельцин мог пойти по его стопам (что и случилось впоследствии, причем в гораздо худшей форме).
Надо было что-то предпринимать. Я обратился за помощью к известному психиатру, которого считал лучшим по тем временам специалистом в этой области, члену-корреспонденту АМН Р. Наджарову. Состоялся консилиум, на котором у Ельцина была констатирована не только появившаяся зависимость от алкоголя и обезболивающих средств, но и некоторые особенности психики. Сейчас мало кто остался из состава того консилиума: Р. Наджаров внезапно скончался от инфаркта миокарда, доктор Д. Нечаев, который стал лечащим врачом В. Черномырдина, был убит. В период проведения операции Б. Ельцину в 1996 году мы попросили предоставить нам его старые истории болезни, чтобы уточнить некоторые параметры функции сердечно-сосудистой системы в то время, однако его лечащий врач А.И. Григорьев сказал, что все истории болезни Ельцина до 1993 года были изъяты начальником его охраны Коржаковым.
Наши рекомендации после консилиума о необходимости прекратить прием алкоголя и седативных препаратов Ельцин встретил в штыки, заявив, что он совершенно здоров и в нравоучениях не нуждается. Тогда же я впервые познакомился с его женой, Наиной Иосифовной, которая поддержала нас, но на ее просьбы последовала еще более бурная и грубая по форме реакция. К сожалению, жизнь подтвердила наши опасения, и через 10 лет этот сильный от природы человек стал тяжелым инвалидом.
Постепенно Б. Ельцин стал все больше напоминать Брежнева в последние годы его жизни. Когда он дирижировал немецким оркестром на улицах Берлина, я вспоминал Брежнева, дирижировавшего участниками польского партийного съезда, поющими «Интернационал». Он напоминал мне Брежнева, когда, находясь с визитом в Швеции и оторвавшись от бумажки, по которой читал, начинал путать Швецию с Финляндией. И наконец, «ирландский сон» Ельцина, из которого его не могли вывести лечащие врачи, всколыхнул во мне тяжелые воспоминания о последнем визите Брежнева в ГДР, в ходе которого, перебрав снотворных и успокаивающих средств, он не мог подняться, чтобы выступать с официальным приветствием. К счастью, тогда нам удалось восстановить некоторую активность, и Брежнев смог (в отличие от случая с Ельциным) выступить, политического конфуза не случилось.
Наша откровенность при изложении результатов консилиума не понравилась Ельцину, и я впервые почувствовал холод в его отношении ко мне. В подобных случаях я всегда вспоминал мудрые слова О. Бальзака: «Правда — точно горькое питье, неприятное на вкус, но зато восстанавливающее здоровье». К сожалению, в данном случае правда не принесла здоровья.
В то время у меня сохранялись еще доверительные отношения с М. Горбачевым, и я рассказал ему о мнении консилиума (да и просто по положению я как начальник 4-го Управления обязан был это сделать). Горбачев абсолютно спокойно, я бы даже сказал равнодушно, отнесся к моему сообщению и никак на него не прореагировал. С учетом инсинуаций некоторых журналистов, появившихся в последние годы, должен сказать, что никаких официальных информаций в Политбюро о состоянии здоровья Б. Ельцина мы по просьбе Михаила Сергеевича не представляли. Это было время, когда Ельцин всех устраивал и был нужен Горбачеву.
В начале 1987 года постановлением Политбюро меня перевели на должность министра здравоохранения СССР, и в гуще навалившихся вопросов я оторвался от проблем 4-го Управления, проблем, связанных со здоровьем руководства страны, тем более что чье-то неведомое, но очень влиятельное вмешательство постаралось ограничить мое участие в этих делах. Забыл я и о проблемах Б. Ельцина.
По вопросам здравоохранения Москвы мы часто разговаривали с Борисом Николаевичем, вместе решали вопросы, в том числе и кадровые, и я не чувствовал враждебности с его стороны. В моем мнении он оставался все тем же типичным партийным руководителем новой волны, набиравшим силу и авторитет, пользовавшимся поддержкой Горбачева.
В оценке иерархии власти в то время учитывался, например, строгий порядок выступлений на пленуме ЦК. Я вспоминаю, что за несколько месяцев до судьбоносного для Б. Ельцина его октябрьского заявления на июньском пленуме ЦК ему было предоставлено слово вслед за руководителями Украины и РСФСР. Слушая его выступление, нельзя было представить себе, что стоящий на трибуне пленума человек вскоре взорвет коммунистическую партию и отречется от ее принципов и идеалов.
Выступление Ельцина на октябрьском пленуме 1987 года прозвучало для многих, как гром среди ясного неба. Конечно, это был смелый шаг даже для того времени. Мне непонятны лишь мотивы его заявления. Что это — реакция ущемленного самолюбия в связи с созданием Лигачевым комиссии по проверке работы Московской парторганизации, неудовлетворенные амбиции человека, рвущегося вверх по лестнице власти и продолжающего оставаться лишь кандидатом в члены Политбюро, или это искренние заявления человека, думающего не о своей персоне, а о благе народа, о благе Советского Союза? Но если это действительно делается ради блага народа, то почему выражается в такой форме, а не в виде аргументированной новой программы действий, которая могла бы быть представлена на том же пленуме?
Слушая выступление Б. Ельцина, я невольно, вспомнил обсуждение на консилиуме, о котором писал выше, особенностей его нервно-психического статуса с доминированием таких черт характера, как непредсказуемость и властная амбициозность. Прошло около двух недель после октябрьского заявления Ельцина, как это мнение подтвердилось.
Во время работы в 4-м Управлении я не любил первые дни после ноябрьских праздников, и не потому, что после праздников тяжело вновь включаться в работу, просто в прошлом эти дни принесли мне много неприятностей: скончался Л. Брежнев, произошло необратимое обострение болезни Ю. Андропова, и еще много других переживаний относилось к этим дням.
Мне казалось, что после перехода на работу в министерство у меня началась новая жизнь, далекая от проблем «Кремлевки», как величали в те времена 4-е Управление. Поэтому я был удивлен, когда утром 9 ноября мне позвонил, видимо, по старой памяти, взволнованный Е. Лигачев и спросил, знаю ли я что-нибудь о состоянии здоровья Б. Ельцина. Оказалось, что кто-то из помощников, возможно, В. Илюшин, сообщил ему по телефону, что Ельцин ранил себя ножом в грудь то ли случайно, то ли сознательно. На мое замечание, что 4-е Управление вне моей компетенции и меня уже давно не информируют о состоянии здоровья, руководителей всех рангов, Лигачев попросил все же постараться выяснить, в чем дело.
В спецбольнице на Мичуринском проспекте я застал нескольких наших ведущих профессоров, которые обследовали Бориса Николаевича. Помню среди них известного специалиста в области грудной хирургии академика М. Перельмана. Оказалось, паника была напрасной. Б. Ельцин на работе ударил себя в левую половину груди ножом для резки бумаги. Как известно, нож этот — с тупым концом, не заточен и вряд ли мог вызвать тяжелые повреждения, в частности ранение сердца. Действительно, рана оказалась неопасной, кроме того, при ударе нож скользнул по ребру.
Сам Б. Ельцин объяснял ранение случайностью. По его словам, сидя за столом, он опирался грудью на нож, который, выскользнув из руки, вызвал ранение. В это трудно было поверить и по характеру повреждения, и по его локализации. Факт этого ранения, указывавший на особенности нервно-психического статуса Б. Ельцина, долго скрывался им самим и его окружением. Кажется, М. Полторанин, осуществлявший информационное обеспечение прихода Ельцина к власти, в ответ на вопрос о слухах о ранении клялся, что ничего подобного не было. Сегодня все знают цену клятвам и самого Бориса Николаевича, и его окружения, с которым он пришел к власти.
Сам Ельцин так интерпретирует свою госпитализацию 9 ноября в книге «Исповедь на заданную тему»: «Девятого ноября с сильными приступами головной и сердечной боли меня увезли в больницу. Видимо, организм не выдержал нервного напряжения, произошел срыв». Здесь правда только в том, что действительно произошел нервно-эмоциональный срыв затравленного человека, который закончился тяжелой реакцией, похожей на суицид (самоубийство). И все же это не был суицид, как пытались представить некоторые недруги Ельцина. И тогда, и спустя годы, не упоминая имени Бориса Николаевича, мне приходилось обсуждать эту ситуацию со специалистами-психиатрами, и все они в один голос говорили, что это больше похоже на инсценировку суицида. Люди, собирающиеся покончить с жизнью, говорили они, выбирают более опасные средства, чем нож для бумаги (в своей же книге Б. Ельцин описывает случай, когда бывший секретарь Киевского райкома партии, освобожденный им от занимаемой должности, покончил с жизнью, выбросившись из окна).
Для меня ситуация была ясна — это совершено в состоянии аффекта человеком, который в тот момент думал, что рушатся все его жизненные планы, рушится надежда на власть. И хотя я понимал характер мотивов, где-то в глубине души мне в тот период было искренне жаль Ельцина. Но лишь до той поры, когда он и его окружение не только скрыли правду, но и исказили суть всего происходившего в эти дни, свалив все беды Ельцина на лечивших его врачей. Вы вправе спросить: зачем возвращаться в прошлое да еще обсуждать частную жизнь пусть и не простого, обычного человека? Кто-то вспомнит об этике врача, кто-то о принципах клятвы Гиппократа…
Всю жизнь я старался придерживаться этих принципов, участвуя в лечении 21 руководителя 16 государств мира. Журналисты из «Си-Эн-Эн» шутя заметили, что эта статистика заслуживает занесения в книгу рекордов Гиннеса. Никогда я не воспользовался своими знаниями о состоянии здоровья моих пациентов, понимая, что это могло повредить им в политической карьере. А уж сколько было желающих получить такие данные — трудно представить… Но меня одолевают сомнения, был ли я прав? Распространяются ли принципы Гиппократа на лидеров страны, от состояния здоровья которых зависят судьбы миллионов людей, их счастье, благополучие, наконец, здоровье? К чему это приводит, я пытался показать в своей книге «Здоровье и власть», но мои предупреждения оказались гласом вопиющего в пустыне.
В поставленном мной вопросе есть еще одна сторона. «Природа, — сказал Б. Шоу, — не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслами». Об этом же предупреждал и И. Эренбург: «Когда очевидцы молчат, рождаются легенды». И это воистину так: удивительно было услышать от диктора телевидения, что Ю. Андропов ни много ни мало как погиб от оспы, заразившись во время поездки в Афганистан (?!). Сколько таких легенд и домыслов, касающихся Кулакова, Андропова, Брежнева, Черненко и других деятелей прошлого, встречается в разного рода писательских и журналистских опусах — будь то творения «кремлеведа» Волкогонова или писателя Н. Зеньковича в книге «Тайны уходящего века»! И еще один аспект в истории с Б. Ельциным требует выяснения — это обвинения в адрес врачей. Не создаем ли мы, врачи, своим молчанием, принципом, который многие из нас исповедуют («пациент всегда прав»), почву для бездоказательных обвинений в наш адрес? Вот и сам Ельцин, и его «близкий друг» и «брат» (как он пишет в мемуарах) Коржаков пытаются обвинить врачей в злонамеренном введении Борису Николаевичу перед пленумом Московского горкома болеутоляющих средств, которые, по их мнению, «вызвали торможение мозга». Коржаков пишет: «Перед отъездом врач вколол больному баралгин. Обычно этот препарат действует как болеутоляющее средство, но в повышенных концентрациях вызывает торможение мозга. Зная это, доктор влил в Ельцина почти смертельную дозу баралгина». К сожалению, этот доктор не может вступиться за свою честь и врачебное достоинство — Д. Нечаев погиб от пули наемного убийцы. Но я бы в свою очередь задал вопрос Коржакову: почему Вы как руководитель охраны Президента молчали, зная, что ему неоднократно, длительное время, в том числе и перед выборами на второй срок президентства, вводились значительно большие дозы баралгина (до 30 мл!), чем были введены Нечаевым. На самом деле все было не в баралгине, а в нервно-психическом срыве, в той реакции на стресс, которая произошла у него в связи с октябрьским пленумом 1987 года и ранением в грудь.
Очень образно сказал сам Б. Ельцин о том, каково ему было под градом многочисленных обвинений в его адрес, звучавших на этом пленуме: «Даже сейчас, уже столько времени прошло, а ржавый гвоздь в сердце сидит, я его не вытащил. Он торчит и кровоточит… Трудное время. Пережил я это тяжело».
В тот период я уже не участвовал в консилиумах и лечении руководителей страны, так что не могу ничего сказать о том, как проходил процесс лечения Б. Ельцина и кто какие принимал решения. Лишь позднее от Д. Нечаева, который считался моим учеником, я узнал некоторые подробности, в частности связанные с поездкой Ельцина на пленум горкома партии. Я же, вернувшись из больницы, позвонил Лигачеву и рассказал о случившемся. На следующий день был звонок от Горбачева, он объяснил, что Д. Щербаткин доложил ему о состоянии здоровья Ельцина, и спросил: как я думаю — можно ли Борису Николаевичу участвовать в работе пленума горкома? Несмотря на мой ответ (этого делать нельзя — ведь прошли только сутки после ранения и стресса, к тому же это будет воспринято всеми негативно), он заявил буквально следующее: «Я его не заставляю идти на пленум, но я с ним говорил по телефону, и он согласен с тем, что проводить пленум надо, и он будет участвовать в его работе».
Мне кажется, это была одна из первых ошибок Горбачева в его отношениях с Ельциным. Ничего не могу сказать о характере того их телефонного разговора (позднее, спустя годы, они по-разному интерпретировали и сам разговор, и всю возникшую ситуацию), но для меня это было лишь подтверждением особенностей нервно-психического статуса Бориса Николаевича с непредсказуемостью его действий.
Прошел пленум ЦК, горкома партии и, казалось, «Дело» Ельцина заглохло. А может быть, просто в тяжелой министерской жизни у меня хватало своих проблем и не до того было, что происходит вокруг Б. Ельцина. Первый всплеск интереса был связан с его выступлением на XIX партконференции. Оно было явно направлено против Политбюро, против Горбачева. Его критическая сторона была интересной и полезной, но в целом это было выступление идейного коммуниста. Не знаю, перечитывал ли его когда-нибудь Борис Николаевич — когда через два года торжественно отрекался от КПСС и затем запрещал ее или когда предлагал выбросить из Мавзолея тело В. Ленина, но это была позиция твердого коммуниста-ленинца. Особенно меня поразила концовка просьбой о политической реабилитации. «Я считаю, говорил он, — что единственной ошибкой в выступлении (на октябрьском пленуме ЦК КПСС в 1987 г.) было то, что я выступил не вовремя — перед 70-летием Октября. Видимо, всем нам надо овладеть правилами политической дискуссии, терпеть мнение оппонентов, как это делал В.И. Ленин, не навешивать сразу ярлыки и не считать еретиками… Я остро переживаю случившееся и прошу конференцию отменить решение Пленума по этому вопросу. Если сочтете возможным отменить, тем самым реабилитируете меня в глазах коммунистов».
В 1991–1992 годах, когда социалистическая система стала по предложению Б. Ельцина заменяться капиталистической, но еще свежи были в памяти его высказывания, в частности, на XIX партконференции, у меня не шел из головы вопрос: чем были эти коммунистические заявления — лицемерием или Б. Ельцин все-таки думал «возродиться из пепла» в рамках коммунистической партии и через нее, победив Горбачева, получить желанную власть? Тогда еще не было съезда народных депутатов, Межрегиональной депутатской группы, да и вообще в Российской Федерации никто не думал о необходимости иметь своего президента. М. Горбачев недооценил политические амбиции и возможности Б. Ельцина и к тому же переоценил себя. Он думал, что народ будет всегда относиться к нему как к мессии, который принес свободу и демократию. Недооценил он и амбиций руководителей национальных республик, игравших в любые времена на беспроигрышных националистических струнах.
В этой связи мне вспоминается характерный эпизод. В начале августа 1991 года, освободившись от министерских и других государственных забот, впервые в жизни я после перенесенной травмы отдыхал в Крыму. 4 августа мы договорились встретиться с моим хорошим знакомым, первым секретарем Крымского обкома Н. Багровым. Он позвонил и сказал, что в связи с приездом Горбачева запоздает, но обязательно будет. Появился он лишь к вечеру, притом очень озабоченный. Причина вскоре выяснилась. Как всегда, когда в Крым приезжали руководители Советского Союза, в Симферополе их встречало руководство не только Крыма, но и Украины. М. Горбачев с обычным для него пафосом начал рассказывать о создаваемом новом союзном договоре, о его подписании. Л. Кравчук попытался не то чтобы возражать, а вставить какое-то замечание. В ответ Горбачев в довольно резкой форме заявил: «О чем говорить, куда Украина денется, подписывать договор ей все равно придется». «Ну как Михаил Сергеевич не поймет, — продолжал Н. Багров, которого не обвинишь в украинском национализме, — что так с республиками нельзя разговаривать?»
Все эти большие и малые промахи Горбачева очень удачно использовал в своей борьбе за власть Ельцин. Его возрождение как политического деятеля, несомненно, связано с избранием его на съезд народных депутатов и вхождением в Межрегиональную депутатскую группу. Это была удивительная по составу группа, в которой объединились люди с самым разным прошлым, с самыми различными взглядами. Объединяло их лишь одно — ненависть к существующей власти и борьба с ней. В своей борьбе с Горбачевым, в борьбе за власть Ельцин блестяще воспользовался вхождением в эту группу.
Афанасьевым, поповым и иже с ними нужен был Б. Ельцин — известный человек, обиженный властью, смело ставящий острые вопросы, благодаря популистским лозунгам пользующийся авторитетом и любовью значительной части общества. Им нужен был деятель — разрушитель системы. И они нашли такого. Но они явно недооценили или не знали характера Б. Ельцина. Не они, а он их использовал, как впоследствии использовал и других «попутчиков» в своем восхождении на Олимп власти. Где они сейчас — Попов, Бурбулис, Шахрай, Полторанин, Афанасьев и многие-многие другие, прокладывавшие Ельцину путь к достижению цели? Борьба была жестокой, бескомпромиссной. Ни Ельцин, ни его окружение не задумывались над тем, какова будет цена победы. Многие из них сейчас и не скрывают, что главным для них было уничтожить власть М. Горбачева, а значит, разделаться с центром. И когда депутаты Верховного Совета РСФСР аплодисментами встречали принятую ими декларацию о суверенитете России, они не думали о том, что сделали первый шаг к разрушению Советского Союза. Только слепой, вроде Горбачева, спокойно воспринявший акцию 12 июня 1990 года, мог не увидеть перчатку, брошенную Ельциным центральной власти.
О причинах гибели Советского Союза написано столько, что можно составлять хронику деяний Б. Ельцина и тех, кто его тогда окружал (Г. Бурбулис, А. Козырев, Е. Гайдар, С. Шахрай и другие) и кто свел в итоге борьбу за власть к трем страничкам Беловежских соглашений, в которых говорилось: «Мы… заявляем, что Советский Союз как субъект международного политического права и геополитическая реальность прекратил свое существование». Но у меня эти слова всегда будут связаны с ситуацией, рассказанной Н. Назарбаевым. «Вы знаете, — говорил он, — я сам был свидетелем, когда Борис Николаевич сказал Михаилу Сергеевичу во время встречи в Кремле: "Подождите, скоро в этом кресле я буду сидеть"».
Судьба, вернее, рок помогали Б. Ельцину в его борьбе. Что бы он делал, если бы в августе 1991 года не был организован так называемый путч? Я до сих пор, хотя о нем написаны десятки воспоминаний, не могу понять, что же это было. Я знал хорошо почти всех участников ГКЧП. Это были честные люди, отменные службисты, хорошие исполнители решений. Но среди них не было ни одного лидера, ни одной сильной, решительной личности, которая могла бы провести в жизнь поставленные цели, а главное, справиться с Ельциным. Да они и не пытались этого сделать. Мне казалось тогда, что вся ситуация возникла из-за характерной для М. Горбачева двойственности поведения, его нерешительности, стремления уйти от ответственности. Как бы там ни было, но так называемый путч, обернувшийся фарсом, был подарком Ельцину. Фигура Бориса Николаевича на танке стала символом борьбы за свободу и демократию. Мне же невольно вспоминаются слова А. Пушкина о толпе:
А баснями питается она,
Ей нравится бесстыдная отвага.
Отрезвление придет через много лет.
Хотя при возвращении из Фороса М. Горбачев и пытался казаться героем, который не пошел на поводу у изменников, для меня было ясно, что в борьбе за власть побеждает Б. Ельцин. Путч развязал ему руки. А что было бы, не будь путча? Никто из политологов или иностранных обозревателей не сомневается, что у Б. Ельцина и до этого события был сценарий прихода к власти — просто борьба затянулась бы. Д. Кьеза ссылается на заявления Попова и Бурбулиса: «…осенью наступил бы наш черед… Мы сами дали бы бой». После путча настали новые времена — совсем по Н.А. Некрасову: «Бывали хуже времена, но не было подлее».
Предавали идеи, товарищей, друзей. Каждый жил своей жизнью, стремясь лишь получше устроиться в новых условиях и в новой системе. В историческом плане позором покрыли себя коммунисты, предавшие завоевания своих отцов, легко отдавшие на заклание созданную ими великую державу — Советский Союз. Среди тех коммунистов, кто заседал на различных уровнях властной иерархии, не нашлось личности, которая могла бы, реформируя страну, сохранить благополучие большинства населения. Взамен всех идеалов и устремлений над обществом засиял один манящий символ новой жизни — доллар, рубль, ради которых утверждена новая мораль.
Для меня путч, Форос тоже были определенным рубежом, изменившим представление о человеческих ценностях и окончательно добившим мою веру в общественные и политические приоритеты, в политиков всех мастей, в искренность лидеров, борющихся за власть.
Утром в день объявления ГКЧП я позвонил в не так давно оставленное мной 4-е Управление и спросил у своих бывших секретарей, где руководство. Ответ, признаться, меня удивил — начальник Управления отдыхает на Валдае и не собирается в ближайшие дни возвращаться. Но если руководитель, обеспечивающий охрану здоровья президента страны, отдыхает, значит, все разговоры о болезни главы государства — блеф. Успокоившись, я продолжал работать, понимая, чем закончится вся эта эпопея.
Еще шли митинги, дебаты, бурлила страна, а кое-кто уже занялся решением беспокоивших его проблем. До сих пор не могут понять, почему я попал в орбиту интересов определенных лиц, пытавшихся скомпрометировать меня в глазах общественности, разрушить представление обо мне как о честном, искреннем, принципиальном человеке. В это время я уже отошел от политической и общественной деятельности, не был близок с М. Горбачевым, далек был от любых интриг и занимался лишь своей профессиональной деятельностью ученого и врача.
В период выборов Б. Ельцина президентом России я получил анонимное письмо, в котором было всего несколько фраз о том, чтобы я наладил отношения с Б. Ельциным. Прочитав письмо, я недоуменно пожал плечами, потому что считал, что никогда и не портил с ним отношения. Подумал: может быть, это связано с тем, что я знал некоторые стороны и особенности его характера и поведения? Но я никогда и нигде не распространялся на эту тему. Лишь значительно позднее «добрые люди» донесли до меня, что Б. Ельцин, мягко говоря, не жалует меня.
Доказательств было предостаточно. В 1994 году Академия медицинских наук отмечала свой 50-летний юбилей. Как заведено, к правительственным наградам представляются наиболее заслуженные лица из состава организации-юбиляра. Естественно, при всем своем отношении ко мне президиум академии не мог не представить к награждению одного из старейших по стажу академиков, да еще известного во всем мире. Я не думал об этом представлении, меня уже давно не волновали ни награды, ни звания. 29 октября утром я получил очень теплую телеграмму от моих югославских коллег и друзей, в которой они сообщали об избрании меня почетным членом Сербской академии наук. Конечно, мне было приятно узнать о признании моего вклада в науку со стороны еще одной иностранной академии. Вечером на приеме по случаю 70-летия академика Ю.М. Лопухина меня отвел в сторонку президент медицинской академии В.И. Покровский и, смущаясь, сказал: «Ты уж извини, мы тебя представляли к награде, но Борис Николаевич из списков награжденных тебя вычеркнул». Находясь еще под впечатлением утренней телеграммы, я, к удивлению Валентина Ивановича, улыбнулся и ответил: «Ну что же, президенту страны виднее заслуги каждого из нас». Мне действительно было безразлично в тяжелом 1994 году, получу я награду от президента Б. Ельцина или нет.
Другое подтверждение пришло немногим больше чем через полгода, когда у Ельцина развился первый инфаркт миокарда. Я хорошо запомнил тот жаркий летний день 10 июля 1995 года, потому что вся наша бывшая министерская команда встретилась на дне рождения моего бывшего заместителя В. Громыко под Москвой в Протасове, в поселке объединения «Микрохирургия глаза». Встреча была непринужденной: все, включая и хозяев, С. Федорова, В. Громыко, были раскованны, вспоминали прошлое, обсуждали будущее. В хорошем настроении, что редко бывало в тот период, довольно поздно мы вернулись домой.
Я уже давно отвык от ночных вызовов и не сразу среагировал на упорные звонки телефона. Не сразу сообразил, кто говорит, хотя голос был знакомый. Звонила Таня Павлова, как она всегда себя величала, хотя ей и было уже за сорок, — диспетчер спецотдела теперь Президентского медицинского центра (в прошлом — 4-го Управления). Она взволнованно сказала: «Евгений Иванович, я срочно выслала Вам машину. В тяжелом состоянии поступил пациент Григорьева, и Вас срочно просят приехать». Я понял, что речь идет о Ельцине, потому что со времен, когда я еще был начальником управления, диспетчера не называли фамилий пациентов, а в разговоре ссылались на фамилию лечащего врача. А. Григорьев был врачом Ельцина.
Я, зная отношение ко мне Б. Ельцина, был удивлен, что меня приглашают на консилиум. Видимо, дела плохи, подумал я, если решились на это. На всякий случай еще раз переспросил: «Таня, ты не ошибаешься?». — «Да нет же, Евгений Иванович, мне сказали, чтобы я Вас срочно нашла». Не успел я собраться, как раздался новый звонок. Опять говорила Павлова: «Евгений Иванович, Вы извините, но меня попросили передать, что необходимость в Вашей консультации отпала». — «Ну вот видишь, Таня, что я тебе говорил, ты поспешила со звонком».
Утром не успел я приехать на работу, как раздался звонок и я услышал голос академика А. Воробьева: «Евгений Иванович, мы бы хотели подъехать к Вам, посоветоваться». Через 30 минут ночной консилиум во главе с академиком А. Воробьевым, а также моими старыми знакомыми Е. Гогиным, И. Мартыновым, доктором А. Григорьевым обсуждали в моем кабинете вопрос о лечении тяжелейшего инфаркта, который возник у Ельцина в ночь с 10 на 11 июля 1995 года.
Эта история только подтвердила характер отношения Б. Ельцина и его окружения ко мне. А тогда, в августе 1991 года, видимо, кому-то на всякий случай надо было как-то дискредитировать меня.
Сегодня вся история вызволения или спасения Горбачева из Фороса командой под руководством А. Руцкого выглядит столь нелепой, что смахивает на комедию. Войска уже вышли из Москвы, было ясно, что так называемый путч провалился, когда под охраной автоматчиков привезли Горбачева, которому никто не угрожал. Конечно, это был жест, который должен был всем продемонстрировать, кто спас президента. Спас человек, которого он преследовал — Ельцин. Но это лишь общая предыстория ситуации.
На 3-й день путча, 21 августа, мне позвонил Н.Н. Ваганов, заместитель министра здравоохранения РСФСР, которого, кстати, я, будучи министром, вытащил в Москву, кажется, из Карелии, помог в продвижении по службе. Разговор был, как между старыми знакомыми. «Что случилось?» — спросил я. «Да знаете, Евгений Иванович, — ответил он, — И. Силаев вылетает в Крым для того, чтобы вывезти М. Горбачева, но раз разговоры шли о болезни, то нас просят выделить кардиолога и невропатолога для освидетельствования». Я уже знал по своим разговорам с 4-м Управлением, что М. Горбачев совершенно здоров. «Зачем это нужно, ведь все знают, что он здоров, — возразил я. — Этим Вы только поддерживаете фарс, который разыгрывался. Но если надо, то пошлите кого-нибудь из 4-го Управления — они отвечают за президента. Например, В. Гасилина, он член-корреспондент, главный терапевт». Н. Ваганов поблагодарил, и на этом наш разговор закончился.
Я уже и забыл о нем, когда позвонил взволнованный мой бывший первый замминистра, а в то время министр здравоохранения СССР И. Денисов: «Евгений Иванович, Вам что-то надо предпринимать. В. Калинин написал гнусное обращение к медицинским работникам с обвинениями в Ваш адрес. Он утверждает, что Вы категорически отказались от поездки в Крым для консультации Горбачева».
Я попросил «Медицинскую газету», в которой было опубликовано это обращение, и, прочитав, не почувствовал даже отвращения, меня охватило чувство стыда и жалости к министру здравоохранения РСФСР В. Калинину, тоже моему выдвиженцу, которого я защищал и в ЦК КПСС, и в Верховном Совете из-за писем о его поведении в Самаре, откуда мы его пригласили. Я даже представить себе не мог, что кто-то будет обливать грязью другого человека, так много сделавшего для него. «О temporal О mores!», как говорил Цицерон («О времена! О нравы!»). Однако последняя фраза обращения меня рассмешила: «Предлагаю обсудить с медицинской общественностью данное заявление, выразить свое отношение к происшедшему и дать профессиональную оценку действиям так называемых академиков». Ну как может такое ничтожество, подумал я, судить об академиках? Наверное, члены пяти иностранных академий, которые избирали меня почетным членом, лучше, чем Калинин, разбираются, достоин я быть академиком или нет.
Потом, когда изменились и сама ситуация, и отношение к истории 1991–1992 годов, когда медицинская общественность восприняла обращение Калинина как пасквиль, его создатели стали открещиваться от авторства, приписывая его мелким чиновникам из министерства вроде заведующей отделом Макаровой. Но, зная существовавшую в те времена систему, можно лишь с улыбкой воспринимать такую версию. Подобные письма без подачи или согласования с вышестоящим начальством не пишутся.
Нельзя забывать, что это обращение было написано в послепутчевые августовские дни — дни «охоты на ведьм», дни, когда один за одним кончали жизнь самоубийством партийные и военные деятели. (Перед моими глазами стояла подобная нелепая смерть моего близкого знакомого, честнейшего человека, главного врача известной всем «Барвихи».) Кто-то попытался и меня то ли напугать, то ли предупредить. Дело в том, что в издательстве «Новости» готовилась к выходу моя книга «Здоровье и власть» и никто не знал, о чем в ней идет речь. Я благодарен Калинину за одно — его обращение сыграло роль «лакмусовой бумажки» в оценке настоящих друзей, товарищей и попутчиков. Оно сыграло и роль бумеранга, ибо слишком хорошо я был известен широкой медицинской общественности, и она выступила в мою защиту. Письма, авторы которых выражали возмущение поведением Калинина, появились даже на страницах «Медицинской газеты». И в то же время, когда мои ученики обратились к нескольким ведущим ученым, хирургам с просьбой о поддержке, некоторые, в том числе и те, кого в прошлом я спасал от больших неприятностей, вплоть до освобождения с высоких должностей, под разными предлогами, выражая солидарность, ушли от открытого осуждения заявления Калинина. Я их не осуждаю независимо от того, что это было: проявление страха или осторожности. Жизнь есть жизнь.
Я помню, как однажды, когда А. Лукьянов находился в тюрьме, ко мне пришла его жена. Она попросила подписать письмо с просьбой об освобождении Анатолия Ивановича в обмен на подписку о невыезде. Откровенно говоря, у меня промелькнула мысль уйти в сторону, как это сделали, по ее словам, некоторые боявшиеся обвинений в сочувствии к членам ГКЧП. Но я вспомнил августовскую ситуацию, вспомнил, что я врач, который прежде всего должен исходить из принципов гуманизма. Я понимал, что власть предержащим это может не понравиться, что меня могут обвинить черт знает в чем. Но моя совесть была чиста, когда я подписывал это обращение. Я был счастлив, что мог сохранить свою честность и принципиальность. А сделать это бывает иногда ох как нелегко!
Не хочется вспоминать тяжелые годы начала 90-х, либерализацию цен, ваучеризацию, криминальную приватизацию и другие решения Б. Ельцина и его окружения, которые привели к развалу экономики, обнищанию большинства населения России, упадку науки, образования и близкого мне здравоохранения. Так устроена наша жизнь, что каждый видит, ощущает ее сквозь призму собственных восприятий. Для меня это годы, когда 130 перспективных ученых руководимого мною центра покинули Россию для работы в университетах и клиниках США, Германии, Франции. Это годы, когда не хватало средств на лекарства, питание больных, проведение операций, годы, когда зарплата ученого, не говоря уж медицинской сестры, была ниже прожиточного уровня.
Я понимаю под деградацией не только потерю моральных устоев, учитывая охватившую страну волну наркомании, алкоголизма, преступности, проституции, но и обычное вымирание населения, о чем ни пресса, ни руководители страны того периода предпочитали не говорить.
Еще в первые годы перестройки мы создали в Кардиологическом центре лабораторию, которая отслеживала динамику демографических показателей (кстати, довольно продолжительное время в лаборатории работала дочь М. Горбачева). В 1991–1995 годах мало кого интересовали эти показатели, но сводки регулярно ложились ко мне на стол. Когда я с ними знакомился, мне становилось страшно за будущее моего народа.
Приведу официальные цифры убыли населения России с года объявления Б. Ельциным реформ. Так, в 1992 году естественная убыль (разница в числе родившихся и умерших) составила 219,8 тыс. человек, в 1993 — 750,3 тыс., в 1994 — 893,2 тыс., в 1995 — 840,0 тыс., в 1996 — 777,6 тыс.
Таким образом, без войн, без чрезвычайных событий страна по сравнению с 1991 годом недосчиталась 3480,9 тыс. человек.
В 1993 году законодательная и исполнительная власть проводили так называемые «круглые столы» ученых, общественных деятелей, депутатов совместно с представителями правящих кругов. Время было сложное, тяжелое, страна бурлила, и проведением этих заседаний пытались показать, что идет поиск выхода из создавшегося положения. Не знаю, кто решил пригласить меня на эти заседания, но на первом же из них при обсуждении последствий реформ я привел цифры потерь населения нашей страны. Лучшей характеристикой тех, кто создавал и проводил реформы, был комментарий этих данных тогдашним министром финансов: «Естественно, — сказал он, — будут определенные издержки при проведении реформ». Меня, как и многих, сразили эти слова: человеческая жизнь была всего лишь «издержкой» тех решений, которые принимали Ельцин и его окружение. Да и чего было ожидать от той экономической политики, которую сами авторы назвали «шоковой». А мы, врачи, очень хорошо знаем, что такое шок — от него погибает большинство больных с этим осложнением.
Почему-то часто употребляют выражение «реформы Гайдара», но забывают, что их благословил и официально предложил Ельцин. Не надо сваливать все на Е. Гайдара, который с позиций своих узко теоретических знаний просто не мог создать такой план трансформации экономики, который привел бы такую страну, как Россия, к процветанию за один-два года. Все забыли уже заявления Б. Ельцина в ноябре 1991 года о «кисельных берегах», которые ждут русский народ в связи с предлагаемыми реформами: «Хуже будет всем примерно полгода, затем — снижение цен, наполнение потребительского рынка товарами, а к осени 1992 года — стабилизация экономики, постепенное улучшение жизни людей». Интересно, вспоминают ли сейчас эти слова Б. Ельцина авторы реформ? Как прав был Б. Шоу: «Вообще говоря, не власть портит людей, зато дураки, когда они у власти, портят власть».
Осенью 1992 года одна из самых популярных японских газет «Иомиури» проводила встречу лауреатов Нобелевской премии. На этом форуме, куда меня пригласили, я встретился с известным американским экономистом В. Леонтьевым. Замечательный ученый и прекрасный человек, русский по происхождению, он тяжело переживал за будущее России. За те проведенные вместе дни мы много говорили о ситуации, которая складывалась в нашей стране. Иначе как безграмотными он не называл экономические решения, которые тогда принимались. Как можно исключить государство из регуляции создаваемого рынка? Как можно ликвидировать монополию на водку, которая существовала в России во все времена и давала значительный доход в государственную казну? Какая либерализация цен может проводиться в условиях монополии производителей? И многие-многие подобные вопросы он ставил для себя и меня и не находил ответа. Его экономический и социальный прогноз, который он дал тогда, полностью подтвердился.
В 1994 году В. Леонтьев был в числе тех пяти лауреатов Нобелевской премии по экономике, которые, подвергнув острой критике избранный Ельциным и его окружением путь реформ, предложили свое видение выхода России из кризиса, но их проект не только не был рассмотрен, но даже не обсуждался в широкой свободной, демократической печати. В этой связи меня удивляет и возмущает, когда многие общественные деятели, телевизионные обозреватели и комментаторы, чтобы как-то защитить политику Б. Ельцина и не зная, как объяснить обнищание народа, экономический кризис, безработицу, не находят ничего лучшего, чем заявить: «Да, все это правильно, но зато у нас есть свобода. Вы можете открыто говорить обо всем».
Давайте вспомним слова великого американского президента Авраама Линкольна: «Овца и волк по-разному понимают слово "свобода", в этом сущность разногласий, господствующих в человеческом обществе». Естественно, что голодный шахтер и богатый современный телевизионный комментатор по-разному воспринимают существующую «свободу». Важно не только чтобы можно было говорить о бедствиях народа, нужно, чтобы этих бед не было. Да и существует ли истинная свобода, когда газеты и телевидение куплены на корню и защищают интересы тех финансовых кругов, которые составляют десятипроцентную группу богатых людей?
Существовала ли демократия в условиях, когда «царствовал» Ельцин? Ему нравилось, когда его сравнивали с царем. Близкое окружение не стеснялось поднимать тост за «нашего царя Бориса». Та властная амбициозность Б. Ельцина, о которой мы говорили еще в середине 80-х годов, наконец-то получила свое воплощение в жизни. Меня поразила одна ситуация после проведения ему операции на сердце. Ту ночь я провел в основном вместе с врачами в реанимационном зале, где находился Борис Николаевич. Примерно около 5 часов утра он вышел из наркоза и первое, что попросил, — пригласить начальника своей охраны Кузнецова. Когда взволнованный Анатолий Леонидович прибежал и спросил, в чем дело, Ельцин сказал: «Неси указ на подпись о том, что я возвращаю себе права, которые передавал Черномырдину». По-моему, это лучший штрих, характеризующий Ельцина. Власть — вот что он ценил наравне с жизнью, а может быть, и больше.
О демократии — отдельный разговор. Демократию по Ельцину сотрудники кардиоцентра и некоторые академики медицины познали на себе. Коржаков в мемуарах с упоением пишет о «доме на Осенней», но, как и было принято в те годы в окружении Ельцина, настолько искажает факты, что создается впечатление: отобрав дом у сотрудников кардиоцентра, он сделал для них великое благо. Ложь уже с первых строк, когда Коржаков пишет о том, что дом «принадлежит Центральной клинической больнице — Кремлевке. Затеял строительство Евгений Чазов, начальник Четвертого главного управления Минздрава СССР, и думал, что в двадцати запланированных квартирах поселится высшее руководство управления». Видимо, эта ложь потребовалась, чтобы у читателя вызвать определенные эмоции. Вот, мол, смотрите, что творили в прошлом близкие к начальству люди — строили себе на потребу классные квартиры, так что если и отобрали у этих бюрократов жилье для президента, то и правильно сделали. Вот уж точно, как у Н. Некрасова: «…цинизм твой доходит до грации».
Официально заявляю господину Коржакову, если он этого не знал (в чем я очень сомневаюсь), что этот дом никогда не принадлежал 4-му Управлению. Этот жилой дом входил в комплекс Кардиологического центра, строившегося на деньги народа, собранные на Ленинском субботнике. В отличие от Вас, Александр Васильевич, и от Бориса Николаевича, при рассмотрении проекта центра председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин предложил, чтобы рядом с клиниками был построен жилой комплекс для сотрудников: два дома для врачей и другого персонала и один дом повышенной комфортности для профессоров и академиков. Кстати, два дома по соседству с Вами остались у кардиоцентра. Что же касается «недостроенности» третьего, так здесь Вы напоминаете гоголевскую унтер-офицерскую вдову: деньги для Вас и Ваших друзей на достройку дома и его шикарную реконструкцию появились, а для академиков, профессоров, ведущих научных сотрудников центра их не было. Кстати сказать, у Кардиологического центра уже был договор с немецкой фирмой на достройку дома (за счет выделения в нем для ее нужд нескольких квартир) и некоторые академики даже мебель приобрели для будущих квартир. Лучше всего о состоянии дома говорит фотография, которую сделали на память сотрудники, когда у них отбирали дом.
Я прекрасно помню звонок моего старого знакомого В. Ресина, заместителя мэра Москвы и близкого Ельцину и его семье человека. «Евгений Иванович, хочу Вас предупредить — принимается решение о передаче Вашего недостроенного дома в другое ведомство, — несколько смущенно сказал он. — Лучше, если передача пройдет без лишних разговоров и обсуждений. Мы постараемся компенсировать Вашим сотрудникам жилье, которое отбирают. Может быть, и Вам нужна квартира? Скажите, мы поможем». Ответив, что в квартире я не нуждаюсь, я попытался выяснить, что же все-таки случилось, кто позарился на наш дом. В. Ресин, многозначительно помолчав, ответил, что не может этого сказать, и повторил, что для меня лучше принять это решение спокойно. Буквально на следующий день я получил распоряжение великого «демократа» Е. Гайдара о передаче дома с нашего баланса на баланс Управления охраны Президента.
Но, как говорится, шила в мешке не утаишь, и вскоре мы узнали от строителей, что дом забрали для Б. Ельцина, его семьи и окружения и что в короткие сроки предстоит реконструкция здания. Это было время, когда Б. Ельцин захватил власть и все подчинялось старому купеческому принципу: «ндраву моему не препятствуй». Я и без Ресина понимал, что желания и распоряжения Ельцина непререкаемы и никто не посмеет идти ему наперекор, поэтому и не предпринимал никаких шагов. Сотрудники центра пытались что-то сделать: обращались к популярным тогда А. Руцкому, к Э. Панфиловой, но, как я и предполагал, это были пустые хлопоты. Может быть, кому-то вся эта история с домом покажется мелочью на фоне тех бед 1992–1996 годов, которые перенес русский народ, но она характеризует нравы, царившие в то время.
Действительно, «самая жестокая тирания та, которая выступает под сенью закона и под флагом справедливости» (Ш. Монтескье). Народ голодал, ученые и специалисты бежали за границу, безработица охватывала все большие слои населения, хронически не хватало денег на здравоохранение и образование, месяцами не выплачивалась заработная плата, а в Кремле по указанию Ельцина строились царские палаты, в Подмосковье и Карелии — резиденции, шла, по признанию того же информированного А. Коржакова, жизнь, полная благ и развлечений.
Большинство во власти забыли, а может быть, к сожалению, не знали прекрасных строк из популярной в 1990 году книги: «А пока этого нет, пока мы живем так бедно и убого, я не могу есть осетрину и заедать ее черной икрой, не могу мчаться на машине, минуя светофоры и шарахающиеся автомобили, не могу глотать импортные суперлекарства, зная, что у соседки нет аспирина для ребенка». Эти строки принадлежали народному кумиру конца 80-х годов Борису Николаевичу Ельцину. Вспоминал ли позже Борис Николаевич эти слова, или его книга «Исповедь на заданную тему» была лишь профанацией популистского толка, которую можно было использовать для борьбы за власть?
Я вспоминал эти строки, ожидая под бдительным оком ГАИ проезда по Рублевскому шоссе не только самого Ельцина, но даже его жены Наины Иосифовны. По-моему, даже «великая» Раиса Максимовна Горбачева не позволяла себе этого. Ну а об осетрине и черной икре на столе семейства Ельциных говорить не стоит. Что же до суперлекарств, то 4-е Управление, с которым так рьяно боролся Борис Николаевич и которое уничтожал Михаил Сергеевич Горбачев, процветает в условиях демократии так же, как и при социализме, правда, под другим названием — Медицинский центр при Президенте России.
В 1996 году в связи с операцией Ельцина меня пригласили в Кремль. В период Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева здесь было скромное служебное здание, в котором даже обычные деревянные панели смотрелись как роскошь. В 1996 году я не узнал старое патриархальное здание правительства — оно в буквальном смысле слова превратилось в чертоги «царя Бориса». Мне довелось побывать в американском Белом доме по приглашению президента США Ричарда Никсона, на Даунинг-стрит в Лондоне в резиденции премьер-министра по приглашению Маргарет Тетчер — все меркнет перед роскошью президентских апартаментов в Кремле. Но меня поразила не сама роскошь, а то, в какое время на это были затрачены не десятки, а, уверен, сотни миллионов долларов. Такое роскошество, думалось мне, лучше всего другого символизировало социальное расслоение общества и подчеркивало социальную несправедливость.
Шли годы «царствования» Бориса Николаевича, дарованного ему народом, утвердившим (видимо, не разобравшись) Конституцию, составленную друзьями и сподвижниками Ельцина вроде А. Собчака, Г. Попова, С. Шахрая. Вдаваться в подробности этого правления, при котором главными экономическими советниками были бездарные американцы (по словам самих же американских ученых) Джеффри Сакс и Андерс Ослунд, нет необходимости. Оно хорошо известно нашему народу: криминальный капитализм, экономический кризис, расслоение общества по латиноамериканскому или азиатскому типу, обнищание большинства населения страны, расстрел Белого дома в Москве, бездарная, странная и непонятная первая чеченская война. И все это — на том же фоне, что и в «Борисе Годунове» А. Пушкина: «Народ безмолвствует».
В эти годы я был далек и от политической кухни, и от каких-либо личностных отношений с представителями Олимпа власти. Однако врач есть врач, и если он опытный специалист, то может даже по внешнему виду, речи, поведению человека судить о состоянии его здоровья. Кстати, эти знания используют специалисты многих государств в оценке состояния политических лидеров. Так, по просьбе Ю. Андропова в бытность его главой КГБ мы на основании кино-, фото- и теледокументов точно поставили диагноз Мао-Дзе-Дуну и Чжоу-Энь-Лаю. Мой опыт подсказывал, что у Б. Ельцина нарастает зависимость от алкоголя и седативных средств. Было видно, что он перенес динамическое нарушение мозгового кровообращения, однако без выраженных очаговых изменений со стороны мозга. Было ясно, что ему перед ответственными встречами и заседаниями проводится плазмаферез (очистка крови).
Но, откровенно говоря, в заботах о спасении и поддержании на хорошем уровне Кардиологического центра мне было не до состояния здоровья Ельцина. Зная суть болезни, привыкание к алкоголю и седативным средствам, я был счастлив, что не мне приходится разделять тяжелейшую и опаснейшую ношу его лечащих врачей и профессоров, тем более под контролем такого человека, как Коржаков. Конкретно с этой проблемой мне пришлось столкнуться летом 1995 года. 11 июля после тяжелейшей ночи, связанной с развившимся у Б. Ельцина инфарктом миокарда, в моем кабинете, как я уже писал, сидели его лечащие врачи — профессора Воробьев, Гогин, Мартынов и доктор Григорьев. Они попросили меня помочь разобраться в возникшей ситуации. Зная отношение ко мне Б. Ельцина и его окружения, особенно Коржакова, я был удивлен их смелости и спросил, знает ли начальник охраны, что они поехали ко мне. Из ответа я понял, что Коржаков настолько напуган случившимся, что согласен на консультацию любого профессора, лишь бы это был хороший специалист. Так, в который раз в жизни я помимо своей воли был втянут в решение медицинских проблем политического характера.
Сложность моего положения объяснялась нашими взаимоотношениями с Б. Ельциным. Уже тогда он не любил людей, которые слишком многое о нем знали, видели его слабости, а с другой стороны, сохраняя свое достоинство, не заигрывали, не пресмыкались перед «царем Борисом». Учитывая это, его врачи (видимо, и охрана) не афишировали в семье Ельцина свои визиты ко мне. Не скрою, что и у меня, честно говоря, не было почитания и дружеского отношения к Ельцину — и даже не с позиций заповеди Моисея: «Не сотвори себе кумира», а просто исходя из истинной сути Б. Ельцина, его характера, его человеческих качеств. Но как бы то ни было, как врач я должен был, отбросив свои эмоции и в какой-то степени свое «я», отдать все свои знания и умение больному человеку. С чистой совестью сейчас могу сказать, что сделал все, что от меня зависело, чтобы спасти Бориса Николаевича и сохранить ему жизнь.
А ситуация на протяжении 1995–1996 годов была действительно сложнейшая. Врачи пытались делать все, что могли, для спасения Ельцина. Но перебороть его властные амбиции, из-за которых не соблюдались элементарные рекомендации по режиму, его привычку к алкоголю и обезболивающим препаратам (баралгин, промедол и т. п.) им не удавалось. А именно это усугубляло болезнь. Я хорошо знал его лечащих врачей, потому что, будучи начальником 4-го Главного управления, привлек их для работы с руководителями партии и государства. Конечно, у них не было такого, как у нас в Кардиологическом центре, опыта лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно сочетания консервативного и хирургического методов.
Я не нарушаю врачебной этики и не открываю никаких секретов, описывая драматическую историю болезни Б. Ельцина. Все это было сказано им самим или представлено в газетах, журналах, звучало по радио, в интервью с С. Мироновым, Р. Акчуриным, американским хирургом М. Де-Бейки. Скрывалась лишь одна из причин болезни — злоупотребление алкоголем. Я хочу суммировать все изложенное и представить непредвзято и объективно эту непростую в медицинском, политическом и общечеловеческом отношении историю.
В то июльское утро 1995 года после ознакомления со всеми материалами у меня не было сомнений в том, что у Б. Ельцина развился тяжелейший инфаркт миокарда в связи с атеросклерозом коронарных сосудов на фоне измененной в связи с употреблением алкоголя сердечной мышцы. Именно из-за поражения сердечной мышцы инфаркт, даже небольшой, протекает обычно с такой тяжелейшей реакцией в виде острой сердечной недостаточности, которая наблюдалась у Б. Ельцина. Мы обсудили возможную терапию, степень активности и возможный прогноз. Я был настроен скептически и высказал врачам свое мнение о том, что если Ельцин не ограничит свой режим определенными рамками, то, безусловно, у него возникнет повторный инфаркт миокарда. Рекомендовал в этом случае использовать тромболитические средства. Этот метод лечения инфаркта миокарда был предложен мной еще в 1961 году, и, хотя с тех пор во всем мире был накоплен колоссальный материал, подтвердивший высокую эффективность тромболитической терапии, она еще не всегда использовалась в наших больницах и клиниках, в том числе и в Медицинском центре Президента.
Зная характер Б. Ельцина, его отношение к рекомендациям врачей в прошлом, я не сомневался, что и сейчас он к ним не прислушается и вскоре опять окажется на больничной койке. Так и случилось. Он решил показать, что все слухи о состоянии его здоровья безосновательны, и начал вести прежний образ жизни. Он поехал в Сочи, играл в злополучный теннис, выпивал. Конечно, все закончилось печально. Я оказался прав, и вновь в сентябре, буквально через несколько месяцев, в моем кабинете опять появились лечащие врачи Бориса Николаевича с материалами, указывающими на возникновение повторного инфаркта миокарда. Спасло то, что в этот раз были применены тромболитические средства. И хотя мои консультации носили неофициальный характер, я, понимая угрозу, которая нависла над Ельциным, попросил занести в историю болезни мое мнение и о прогрессирующем характере болезни, и о режиме жизни и работы Ельцина, и о необходимости переходить к радикальному решению вопроса о лечении, а с этой целью провести коронарографию (контрастное исследование сосудов сердца). Я почувствовал по поведению, реакции моих коллег, их замечаниям, в частности, в отношении проведения коронарографии, что вокруг здоровья их пациента в его окружении начинает разворачиваться если не баталия, то по крайней мере острая дискуссия. В своей жизни я повидал немало таких баталий с обвинениями в адрес медицины и лечащих врачей. Так было при Брежневе, Андропове, Черненко, но я всегда спокойно к ним относился, понимая реакцию тех кругов, благополучие которых зависело от положения их шефа. Может быть, кто-то из руководителей и хотел бы уйти на заслуженный отдых, стать почетным, а не активным лидером страны, но их окружение в один голос призывало своего патрона оставаться на посту, а придумать, ради чего, не составляло труда: раньше — ради спокойствия и стабильности Советского Союза, потом — ради спасения России и демократии. Правда, в случае с Б. Ельциным сделать это было легко, потому что он и сам был уверен, что должен оставаться на посту президента. Стоит вспомнить крылатую фразу английского писателя Олдоса Хаксли: «То, что люди не учатся на ошибках истории — самый главный урок истории». Этот упрек прямо относится к русскому народу.
Я всегда не то чтобы завидовал, но удивлялся, под какой счастливой звездой родился Б. Ельцин, вернее какая сила заложена в нем родителями, наследственностью. Вот и второй инфаркт миокарда он перенес и приступил к работе. Но мне кажется, что после второго инцидента он стал более осторожен, хотя в то же время, как говорили мне его врачи, категорически отверг предложение о проведении коронарографии. Не сомневаюсь, что уже тогда, осенью 1995 года, Б. Ельцин думал о повторных президентских выборах 1996 года и, естественно, проведение коронарографии, за которой мог последовать вопрос об оперативном вмешательстве, несомненно, стало бы предметом обсуждения в печати, на телевидении, могло повредить имиджу здорового, спортивного Бориса Николаевича и спутать все предвыборные карты.
В который раз в жизни мне пришлось быть свидетелем того, как ради власти рискуют своим здоровьем и самой жизнью. Это просто удивительно: жизнь — бесценный дар, который надо беречь как зеницу ока, но для некоторых нет большей ценности на земле, чем обладание властью. Однако выше властителей судьба, природа и болезнь. Я четко представлял, что при той жизни, которую ведет Б. Ельцин, неминуем третий инфаркт миокарда. Знал я и то, что с каждым новым инфарктом увеличивается опасность внезапной смерти.
Декабрьским вечером 1995 года, не успел я приехать домой в Барвиху, как раздался звонок. Я услышал взволнованный голос А, Воробьева: «Мы здесь недалеко от тебя и хотели бы заехать посоветоваться, у нас есть проблемы». Я понял, что опять что-то произошло с Б. Ельциным. На этот раз вместе с лечащими врачами приехал и профессор С. Миронов, недавно назначенный директором Медицинского центра, осуществлявшего лечение Б. Ельцина. Все выглядели озабоченными и несколько растерянными. Оказалось, что у Ельцина, отметавшего напрочь рекомендации врачей, в том числе и касающиеся употребления алкоголя, вновь развился тяжелый инфаркт с падением артериального давления, явлениями сердечной недостаточности. Не на шутку испуганное окружение и семья начали, как всегда бывает в таких ситуациях, обвинять лечащих врачей в бездеятельности, некомпетентности.
Визит С. Миронова в составе лечащих врачей, как мне кажется, носил не только медицинский, но в определенной степени и организационный, политический характер. Он хотел узнать мнение человека со стороны о состоянии Б. Ельцина, о правильности проводимого лечения и услышать мои рекомендации. Он прямо сказал о том, что многие из окружения Ельцина, и в первую очередь В. Илюшин, удивляются, что не используются современные методы диагностики и лечения, в частности коронарография. Я повторил свое мнение и о характере поражения сердца и его сосудов — что наряду с изменениями, связанными со злоупотреблением алкоголем, вероятнее всего, развились атеросклеротические бляшки — и о необходимости в связи с этим провести коронарографию для решения вопроса о возможном оперативном лечении или ангиопластике (расширении сосудов сердца с помощью раздуваемого баллончика).
Соглашаясь со мной, все в один голос заявляли, что предлагали Б. Ельцину подобную схему лечения, но он от нее категорически отказался. Я не стал высказывать свое мнение о причинах такого отказа, но их заявления утвердили меня в правильности предположения о желании Ельцина продолжить свое царствование на Олимпе власти. Не понимаю, как может сладость власти затмить горечь болезней и страданий! История ничему не учит, более того, она повторяется, как в случае с Б. Ельциным. Он с трудом вышел из тяжелейшего состояния и в конце концов приступил, как выразился один из депутатов Думы, к «дачной работе».
Конечно, проблемы здоровья Президента России стали широко обсуждаться в средствах массовой информации, Государственной Думе, политических и финансовых кругах. Я не завидовал профессору А. Воробьеву, когда на пресс-конференциях, в интервью он пытался представить в лучшем свете здоровье Б. Ельцина, оказываясь в неловком положении, замалчивая или слишком вольно интерпретируя факты. Говорю это не в осуждение, ибо не знаю, как повели бы себя другие коллеги в подобной ситуации, когда со всех сторон — со стороны пациента, его семьи и окружения, со стороны всемогущей охраны, от Коржакова — идут требования представить медицинские данные так, чтобы убедить всех в сохранности Президента страны.
Слава Богу, мне не пришлось попадать в такие истории и обманывать народ, учитывая, что в период моей работы в 4-м Управлении существовала закрытость для широких кругов и средств массовой информации данных о состоянии здоровья лидеров страны. Лишь однажды, и то за рубежом, в Египте, у меня возникла такая ситуация. Мне пришлось участвовать в лечении президента Г. Насера, у которого возник инфаркт миокарда. Время было сложное, тревожное, после разгрома египетской армии Израилем, когда Насер с помощью Советского Союза восстанавливал обороноспособность и мощь вооруженных сил. Израильская разведка «Моссад» наводнила своими агентами Каир так, что даже я чувствовал на себе ее «дыхание». Естественно, здоровье Насера, его работоспособность интересовали ее в первую очередь.
Насер, его ближайшие соратники А. Садат, А. Сабри понимали, что в сложившейся обстановке они должны сохранить в тайне болезнь президента Египта, чтобы не вызвать обострения политической ситуации. Они обратились ко мне с просьбой помочь в формировании информационной легенды, объяснявшей отсутствие Г. Насера на политической арене в течение двух-трех недель (это диктовалось необходимостью соблюдения строгого постельного режима). По моему предложению была разработана версия о гриппозном заболевании, которое действительно было распространено в тот период на Ближнем Востоке.
Предварительно через спецслужбы Египта прошла «утечка» информации с обоснованием диагноза «грипп». Как ни странно, именно такое объяснение отсутствия Насера было принято и в Египте, и за его пределами. Сам я ни тогда, ни позже, по возвращении в Советский Союз, не участвовал в озвучивании искаженной трактовки болезни — достаточно подробно эту ситуацию описал журналист и близкий друг Насера М. Хейкал в книге воспоминаний «Путь к победе» о разгроме израильской армии в 1973 году.
Моя версия стала очень популярной, к ней много раз прибегали лечащие врачи Б. Ельцина, объясняя гриппом или простудными заболеваниями его отсутствие в Кремле после злоупотребления алкоголем или при обострении ишемической болезни сердца в дооперационном периоде.
Жизнь продолжалась, политическая борьба в преддверии выборов президента страны накалялась, но ни один из противников Б. Ельцина в своих целях не использовал, как ни странно, проблему его здоровья. Визиты ко мне лечащих врачей Б. Ельцина прекратились. Возможно, Коржаков или кто-то другой из окружения президента опасались, что таким путем может открыться истинное состояние здоровья Б. Ельцина. Но, повторяю, что я всегда считал необходимым, хотя, может, это и неправильно с гражданских позиций, если говорить о лидерах страны, соблюдать врачебную тайну в период их активной деятельности.
Так было и в случае с Ельциным. Я нигде и никогда не афишировал его тяжелого заболевания и тем более не сообщал о нем ни политическим партиям, ни средствам массовой информации. А попытки выведать это, прямые или закамуфлированные, предпринимались не раз. У меня была только одна мысль, когда я видел многочисленные поездки Ельцина по городам России или его пляски на сцене перед избирателями: выдержит ли он эту тяжелейшую нагрузку? Зная, как тяжело дается больному Ельцину избирательная кампания, я, несмотря на всю свою антипатию к нему, искренне жалел его.
Переполняло возмущение теми, кто убедил падкого на власть Бориса Николаевича включиться в изнурительную избирательную гонку. Естественно, все они думали не о его жизни и здоровье, а о своих интересах. Окружение боялось потерять свои привилегии, финансовые круги — свои дивиденды, американцы — удобного для них президента России и т. д. Эту сторону избирательной кампании очень хорошо и подробно описал Д. Кьюза в книге «Прощай, Россия!». Да и во многих других публикациях эта тема достаточно подробно исследована, поэтому я не буду ее касаться.
Предложенный Б. Ельцину темп не мог не вызвать тяжелых осложнений. В последующем я узнал, что в ночь с 25 на 26 июня, в перерыве между первым и вторым туром голосования, у него вновь развился тяжелейший инфаркт миокарда с острой сердечной недостаточностью. Как он выжил — трудно объяснить. Видимо, в первую очередь природные силы, судьба или Бог, а во вторую — достижения медицины сохранили ему жизнь. Какая же сила воли у этого человека, каково стремление к власти: со свежим инфарктом миокарда, остаточными явлениями сердечной недостаточности, отбросив просьбы близких и предупреждения врачей, поехать на избирательный участок, чтобы показать избирателям да и всему миру, что слухи о его болезни — вздор, что он на ногах и может продолжать свое дело! Издерганный и безразличный ко всему, обманутый средствами массовой информации народ России вновь избрал тяжелобольного президента страны.
Я и не предполагал, что судьба опять втянет меня в тяжелые медицинские и политические коллизии, связанные со здоровьем Б. Ельцина. Всего через несколько дней после инаугурации президента России, в августе 1996 года, ко мне в кабинет вошли мой заместитель, тогда член-корреспондент Медицинской академии Ю.Н. Беленков, и руководитель хирургического отдела профессор Р.С. Акчурин. Они только что вернулись с консилиума, который состоялся в санатории «Барвиха» у Б. Ельцина. Понимая тяжесть своего состояния и достигнув желаемой власти на второй срок, он наконец-то дал согласие на проведение коронарографии.
Я не раз и перед этим исследованием, и в связи с операцией задавался вопросом: почему Б. Ельцин выбрал кардиоцентр, который был создан и которым руководил не совсем ему приятный Е. Чазов, ведь он прекрасно сознавал, что все в этом учреждении определяется и контролируется директором? Думается, он верил в мою врачебную честность, и, конечно, свою роль сыграл высокий профессионализм сотрудников центра, известного во всем мире. Решая проблемы своего лечения, Ельцин знал, что в кардиоцентре были успешно оперированы близкие ему люди — В. Черномырдин, О. Лобов, начальник его канцелярии В. Семенченко.
И Ю. Беленков, и Р. Акчурин с энтузиазмом встретили предложение консилиума провести коронарографию в нашем центре. Но мы все трое прекрасно понимали, учитывая многократно перенесенные инфаркты миокарда, что вслед за коронарографией встанет более сложная и опасная проблема проведения операции на сосудах сердца. Откровенно говоря, меня приятно удивили смелость и уверенность Р.С. Акчурина. «Если потребуется, надо оперировать у нас. Мы можем провести шунтирование, опыта у нас достаточно, и результаты хорошие», — ответил он, когда я спросил, какова должна быть, по их мнению, наша позиция, если встанет вопрос об оперативном лечении Б. Ельцина. Я еще раз убедился, что сделал в начале 80-х годов правильный выбор, пригласив на должность руководителя хирургического отдела тогда малоизвестного в широких медицинских кругах, но перспективного хирурга.
При проектировании центра мы предусмотрели создание в нем не только терапевтических отделений, но и отдела современной сердечно-сосудистой хирургии. Операционный блок, построенный фирмой «Сименс», был в то время одним из лучших в Советском Союзе. Оставалось найти активного хирурга с хорошими задатками, который мог бы оперировать на высоком современном уровне. Мне порекомендовали переговорить с молодым микрохирургом Р. Акчуриным, работавшим в институте у профессора Б.В. Петровского. Мы встретились, и мне понравился активный, целеустремленный и обладающий прекрасной техникой, судя по тем микрохирургическим операциям, которые были на его счету, Ренат Акчурин. Мне кажется, что и для него эта встреча стала его судьбой. Дело в том, что его мечтой, как он сам рассказывал, была сердечно-сосудистая хирургия. Конечно, пришивать пальцы, конечности, за что он в группе специалистов был удостоен Государственной премии, может не каждый хирург, нужны определенный талант и терпение, но операции на сердце — это высший класс хирургии. В Центре хирургии он обратился с просьбой перевести его в отдел сердечно-сосудистой хирургии, но получил категорический отказ от заместителя Б. Петровского профессора Б. Константинова. Не получи он предложения перейти в Кардиологический центр, возможно, одним прекрасным отечественным кардиохирургом было бы меньше.
Я понимал, что Р. Акчурину необходим кардиохирургический опыт, но осуществить такую возможность в нашей стране было трудно, и поэтому попросил своего старого друга Майкла Де-Бейки принять молодого специалиста на стажировку в кардиохирургический центр в Хьюстоне. Проблема была решена в считанные дни. Уверен, что успехами кардиохирургического отделения нашего центра мы обязаны в определенной степени М. Де-Бейки, который организовал подготовку в США большей части оперирующей команды.
Мы не гнались за рекламой, хотя еще в 1988 году в центре был успешно оперирован B.C. Черномырдин. Конечно, бывали и срывы, но без ложной скромности могу подтвердить, что к 1996 году, когда встал вопрос об операции, команда Р. Акчурина была лучшей в России по проведению аортокоронарного шунтирования. Однако прежде чем обсуждать вопрос об операции, надо было провести коронарографию.
16 августа 1996 года было, на первый взгляд, обычным летним днем, каких немало выпадало каждому из нас. И в то же время это был необычный день, потому что решались судьба Президента России и, естественно, будущее страны. И хотя нас с Борисом Николаевичем разделяли девять лет непонимания и определенной враждебности, мы довольно дружелюбно встретились у входа в кардиоцентр. Для меня уже не было Президента России — был тяжелобольной человек, которому мы должны помочь. На время забыты обиды, угрозы со стороны окружения Ельцина, в голове лишь одна сакраментальная мысль: что делать?
Рассказывая о проведении коронарографии, журнал «Итоги» со ссылкой на кого-то из подкупленных сотрудников центра, следивших за ходом процедуры, чтобы передать атмосферу напряжения, царившую в ходе исследования, написал, что, когда оно закончилось, «Чазов перекрестился». Не помню. Может, так и было. Но если и крестился, то в связи не с окончанием коронарографии, а с той картиной состояния сердца и его сосудов, какую мы увидели на экране ангиографического аппарата. В этот крест можно было вложить лишь одно: «Господи! Пронеси!» Суть этого призыва к Богу заключалась в том, что, помимо значительных изменений в сосудах сердца, сама сердечная мышца, поврежденная перенесенными инфарктами, алкоголем, нарушениями режима, сокращалась плохо.
Не хочу перегружать читателя медицинскими терминами, скажу просто, что возможность сердечной мышцы выбрасывать кровь в аорту была гораздо ниже допустимого уровня и приблизительно в три раза меньше, чем у здорового человека. Кровь задерживалась в легких, что было видно по резкому увеличению давления в легочных сосудах. Проводившие исследование профессора А. Самко и А. Савченко сказали, что среди сотен ангиограмм таких показателей они не встречали. Цифровые данные компьютера были настолько угрожающие, что мы попросили перепроверить их, но они остались прежними.
Представляя всю и медицинскую, и политическую сложность вопроса о проведении операции, я настоял на том, чтобы данные коронарографии были обсуждены в стенах кардиоцентра на расширенном консилиуме, на который предложил пригласить, помимо группы профессоров, обеспечивавших лечение Ельцина (А. Воробьев, Е. Гогин, И. Мартынов), сотрудников центра (Р. Акчурин, Ю. Беленков, А. Савченко) и наших известных хирургов — академиков В. Савельева и В. Федорова. Опыт прошлого подсказывал, что вокруг этой проблемы развернется если не борьба мнений, то жесткая дискуссия. Прежде всего меня удивило, когда представитель лечащих врачей Воробьев перед приездом Ельцина попросил, чтобы я не вмешивался в ход коронарографии и не участвовал в обсуждении с пациентом вопроса об операции, причем мотивировалось это нашими отношениями с Борисом Николаевичем. Я даже не стал обсуждать этот вопрос, заявив, что как директор центра отвечаю за все, что здесь происходит, в том числе за диагноз и лечение, которые будут обсуждаться. Все решилось само собой, когда шутивший президент, его жена и я, беседуя, вошли в палату, где нас ожидал медицинский персонал.
Как я и предполагал, после исследования, во время консилиума разгорелась дискуссия. То, что Б. Ельцин нуждается в аортокоронарном шунтировании, ни у кого не вызывало сомнений, вопрос заключался в том, когда его проводить. Прошло всего полтора месяца после тяжелого инфаркта миокарда, сердце было на пределе своих возможностей, показатели кровообращения — угрожающие. С учетом состояния сердечной мышцы в любой момент можно было ожидать остановки сердца. При показателе фракции выброса крови из сердца 22 % и давлении в сосудах легких 58 мм рт. ст., которые регистрировались у Б. Ельцина, подавляющее большинство американских и западноевропейских хирургов с большой осторожностью и только после достаточной подготовки берутся за проведение аортокоронарного шунтирования.
Для меня и для всех представлявших Кардиологический центр (Акчурин, Беленков) было ясно, что риск операции при таких условиях колоссальный. Кое-кто из группы, осуществлявшей лечение Ельцина, пытался приуменьшить существующую опасность. Обычно сдержанный, я довольно резко выразился в отношении поспешности в осуществлении операции, прекрасно сознавая, что всю ответственность лечащие врачи перекладывают со своих плеч на наши. И Савельев, и Федоров поддержали нашу позицию.
Представляя, какой ажиотаж развернется вокруг нашего решения, какие противоречивые мнения появятся и чего только не будут говорить о нас, я предложил пригласить для консультации М. Де-Бейки, одного из создателей метода аортокоронарного шунтирования. К тому же не требовалось специального приглашения, поскольку в скором времени он должен был приехать в Москву на конференцию сердечно-сосудистых хирургов.
Мы подружились с М. Де-Бейки в 1973 году, в период подготовки к операции по поводу аневризмы аорты академику М. Келдышу. Не раз я бывал в его гостеприимном доме в Хьюстоне, не раз и он приезжал ко мне домой в «Барвиху», где мы даже отмечали его день рождения. Меня подкупала не только его блестящая техника хирурга, но и то, что он исповедовал те же врачебные каноны, которые были близки нам, — скрупулезный анализ болезни, четкость в определении наиболее рациональной терапии, разумная осторожность, сочетающаяся с оправданной смелостью. Привлекали также высокая человечность, дружелюбие, скромность великого мастера.
Рассказывая жене Б. Ельцина Наине Иосифовне и дочери Татьяне о результатах консилиума (абсолютные показания к операции, необходимость подготовки к ее проведению, тяжесть состояния Бориса Николаевича) и понимая, какой общественный и журналистский бум возникнет после объявления о принятом решении, я порекомендовал им пригласить для консультации М. Де-Бейки. Сам Ельцин спокойно воспринял заявление консилиума о необходимости оперативного лечения. Мне кажется, он был готов к такому решению. Как всегда, на первый взгляд, спонтанно, но на самом деле очень продуманно, он объявил по телевидению о своем решении оперироваться в Кардиологическом центре.
Как и рассчитывал Ельцин, его заявление произвело колоссальное впечатление. Не меньшим был и «шумовой» эффект. Кардиологический центр осаждали наши и иностранные корреспонденты. Телевизионные камеры, которые мы не допустили в само здание, окружили его частоколом. Не смолкали звонки телефонов, ежедневно поступали десятки факсов с просьбой об интервью. Я категорически отказался от каких-либо комментариев, поскольку положение со здоровьем Ельцина было тяжелым, а факты я не мог искажать (иначе повторилась бы ситуация из известной песенки Л. Утесова «Все хорошо, прекрасная маркиза»). Основное «нападение» журналисты совершили на Р. Акчурина, который достойно и с тактом пронес тяжелую ношу общения с прессой и телевидением. А ситуация, действительно, была непростой, в определенной степени даже критической.
Намеченная консилиумом подготовка к операции проводилась в санатории «Барвиха», формально — без моего участия: кто-то явно не хотел, чтобы я был в курсе складывающейся обстановки и активно вмешивался в процесс лечения. Это было по меньшей мере наивно, учитывая, что три сотрудника центра вели подготовку к операции; естественно, они обсуждали со мной возникающие вопросы, советовались по тем или иным методам лечения.
Все оказалось серьезнее, чем мы предполагали. На первом же консилиуме руководитель нашей анестезиологической службы профессор М. Лепилин обратил внимание лечащих врачей на выраженную анемию у Б. Ельцина. Вслед за этим были обнаружены изменения в иммунном статусе. Ситуация осложнялась тем, что под напором Ельцина прикрепленный к нему врач-анестезиолог вынужден был вводить ему в больших дозах либо баралгин, либо промедол, которые могли влиять на ход подготовки к операции. Мне было искренне жаль этого врача. Я хорошо помнил его по работе в 4-м Управлении и поддерживал его выдвижение: прекрасный специалист, он пользовался уважением в коллективе больницы на улице Грановского. К сожалению, попав в окружение Б. Ельцина, он не смог устоять в царившей там обстановке (которую весьма красочно описал в своих воспоминаниях Коржаков). Впоследствии, где-то через год после операции, от этого человека, больного и опустошенного, освободились, как от ненужного балласта.
В конце сентября в Москву приехал М. Де-Бейки. В неформальной обстановке я познакомил его, ничего не утаивая, с историей болезни Б. Ельцина, рассказал о его состоянии и нашем решении предварительно провести 2—3-месячную соответствующую подготовку. Он без колебаний поддержал нашу позицию и высказал ее во время встречи лечащим врачам и самому Ельцину. Мы понимали, что с точки зрения медицинских рекомендаций М. Де-Бейки вряд ли внесет что-нибудь новое в программу подготовки — нам нужны были его психологическая поддержка и подтверждение рациональности и обоснованности избранной нами тактики лечения. Так и произошло: утвердился в правильности своего решения Б. Ельцин, успокоилась семья, пресса и телевидение переключились на М. Де-Бейки, оставив нас наконец в покое.
А время шло. Приближались намеченные сроки операции. Как мы, и ожидали, постепенно начали улучшаться показатели деятельности сердца Б. Ельцина. Появился энтузиазм, когда фракция выброса крови из сердца повысилась до 30–35 %. Это было ниже нормы, но уже значительно уменьшало риск операции. На консилиумах начались разговоры о том, что мы умышленно затягиваем проведение оперативного вмешательства. И Ю. Беленков, и Р. Акчурин, возвращаясь из «Барвихи», говорили, что постоянно ощущают своеобразный прессинг. Мне стало известно и о неких угрозах в мой адрес, поскольку я, хотя и заочно, но повлиял на решение консилиума. Оперировать в условиях анемии, измененного иммунного статуса значило увеличивать риск операции. Вспоминая свою своеобразную медико-политическую практику, я прекрасно сознавал, что в конце концов мы останемся один на один с больным. Вся ответственность ляжет на нас, и никому не будет дела до того, в каком состоянии Ельцин поступил в кардиоцентр. Более того, немало наших «друзей», сквозь зубы признававших правильность его выбора и внутренне понимавших, что единственное место, где можно оперировать президента, — это кардиоцентр, обрадовались бы, кончись все печально. И когда некоторые из моих близких или сотрудники говорили о возможности такого исхода, я отвечал, как персонаж одного из одесских анекдотов: «Не дождетесь». Но чтобы это было не просто фразой, приходилось бороться, отбросив джентльменские реверансы и заверения в любви.
Я вынужден был написать официальное письмо руководителю Медицинского центра, отвечавшего за здоровье Президента России. Хочу привести его полностью, поскольку в медицинском окружении Б. Ельцина появлялись обвинения в мой адрес, хотя я так и не понял, в чем — то ли в доносительстве, то ли в перестраховке. Некоторые дошли даже до того, что утверждали, будто мы делаем все, чтобы президенту не проводилось аортокоронарное шунтирование. Они не учитывали, что в сложившейся ситуации у нас оставалось лишь одно решение — провести операцию, чтобы спасти Б. Ельцина. Это было делом врачебной совести, делом нашей чести. Именно исходя из этой позиции, я и написал письмо, которое привожу без сокращений.
Профессору С.П. Миронову Уважаемый Сергей Павлович!
Приближается срок, намеченный консилиумом для окончательного решения вопроса о проведении операции Борису Николаевичу.
Я не имею достаточной информации о ходе предоперационной подготовки и не могу поэтому судить о состоянии пациента. Однако если лечащие врачи и пациент сохраняют свое мнение о проведении коронарного шунтирования в Кардиологическом центре, нам хотелось бы, с учетом тех процессов, которые резко ограничивали возможность проведения операции в августе — сентябре, просить лечащих врачей прежде всего провести тщательный анализ причин анемии с целью исключения возможных осложнений во время операции и в послеоперационном периоде.
Мы просили бы провести подготовительную терапию, направленную на восстановление нарушенного метаболизма, в частности курс лечения предукталом. Материалы об эффективности этого препарата были переданы нами И.В. Мартынову и Е.Е. Гогину.
Естественно, вопросы реактивности, в частности состояние иммунитета, играют решающую роль в послеоперационном периоде, учитывая значимость осложнений, связанных с инфекцией. Вот почему мы считаем, что иммунокорригирующая терапия в предоперационном периоде имеет большое значение для успеха восстановительного периода.
С учетом анамнеза и того состояния, которое мы фиксировали в августе во время консилиума, и оценивая длительность наркоза, который предстоит пациенту, мы весьма обеспокоены возможностью нарушений со стороны центральной нервной системы и просили бы невропатологов провести терапию, направленную на улучшение ее метаболизма и функции.
Мы осознаем всю сложность предстоящего решения вопроса об операции и надеемся на Ваше понимание. Мы были бы благодарны, если бы это письмо было доведено до консилиума лечащих врачей и вошло в историю болезни пациента.
Я чувствовал напряжение коллектива хирургов и анестезиологов, скрываемое за бодрыми словами, видел нетерпение Р. Акчурина, настроившегося на операцию, но, четко представляя, что каждый выигранный с положительным сальдо день обеспечивает успех не только операции, но и послеоперационного периода, стремился оттянуть дату вмешательства. Конечно, мне повезло с моими сотрудниками. И Ю. Беленков, и Р. Акчурин, и М. Лепилин понимали меня и верили мне, моему многолетнему опыту. Конечно, больше всех меня понимал М. Лепилин, которому предстояло обеспечить не только благополучие операции, но и самое трудное — «выходить больного», как говорят медики. В целом все понимали, что успех, как и во всем, зависит от команды. Нашей команде, запечатленной на фотографии, сделанной сразу после окончания операции Б. Ельцину, в России не было равной, утверждаю это без ложной скромности.
Подходил ноябрь — конец срока, намеченного для подготовки к операции. В первых числах раздался звонок из секретариата А. Чубайса, возглавлявшего в то время администрацию президента. Вежливый голос секретаря попросил меня в 9 часов вечера прибыть в Кремль на заседание. В назначенное время я подъехал к «входу с крыльцом» (так его называли мои старые знакомые, министры сталинского периода) здания правительства. От почти пустой, освещенной тусклыми люминесцентными лампами Ивановской площади веяло тревогой и грустью.
Почему-то вспомнился такой же тревожный вечер 10 марта 1985 года, когда я приблизительно в то же время приехал на заседание Политбюро, чтобы доложить о смерти К. Черненко. Одиннадцать лет разделяли эти даты, но между ними была целая эпоха, которая перевернула весь мир: распад СССР, победа американцев в холодной войне, приход к власти Б. Ельцина, экономический кризис, разруха и обнищание России. Пророческими оказались заключительные строки моих воспоминаний «Здоровье и власть», написанные в 1991 году, до августовских событий: «Начался период, полный драматических и трагических событий». Но то, что произойдет впоследствии с моей Родиной, я не мог себе представить даже в страшном сне.
И вот опять в тот ноябрьский вечер 1996 года у меня были такое же тревожное состояние, такая же неуверенность в будущем, как и в 1985-м. Возможно, это состояние возникало от сознания того, что вновь, в который раз судьба страны зависела от врачей, от руководимого мной коллектива.
Переступив порог, казалось бы, хорошо знакомого мне дома, я не узнал его — настолько помпезно и вычурно выглядело внутреннее убранство, включая и кабинет, в котором собралось около десятка знакомых и незнакомых мне лиц. Помимо А. Чубайса, были дочь Б. Ельцина Татьяна, заместитель А. Чубайса Е. Севастьянов, начальник управления охраны Ю. Крапивин, пресс-секретарь С. Ястржембский, вездесущий то ли журналист, то ли телевизионный делец М. Лесин.
Оказалось, это было заседание созданной Указом Ельцина комиссии по проведению операции Президенту России. На моей памяти таких комиссий не создавалось ни когда оперировали Брежнева, ни когда оперировали Андропова. В составе комиссии было всего два медика — я да руководитель медицинского центра С. Миронов. Для чего создавалась эта комиссия, я не понимал тогда, не могу понять и сейчас. Что эта комиссия могла сделать, чтобы операция закончилась благополучно? Мне показалось, что и председательствующий А. Чубайс чувствовал себя неловко, не зная, в чем заключается его роль как руководителя комиссии. Надо отдать должное его такту и пониманию того, что сейчас судьба Президента России находится в руках хирургов и анестезиологов.
Заседание комиссии напоминало больше обсуждение в пресс-центре, учитывая, что единственный вопрос, вокруг которого разгорелась полемика, касался освещения операции прессой и телевидением. Руководитель пресс-службы Б. Ельцина, Ястржембский, напоминавший мне американских журналистов, с которыми мне и моему другу Б. Лауну пришлось «воевать», в 80-е годы в США, заявил, что информационная служба настаивает на постоянном присутствии прессы в кардиоцентре во время операции и на сообщениях через каждые 40–60 минут о ее ходе. Меня возмутили его заявления вроде того, что «кто-то должен через каждый час выходить из операционной и информировать прессу о ходе операции». О чем они думали — о том, как ублажить прессу, как подать в лучшем свете будущее президента? И это тогда, когда мы все переживали за исход операции и нам было абсолютно безразлично, когда информация о ходе операции станет достоянием гласности. Довольно спокойно я заявил, что обсуждать этот вопрос можно сколько угодно, но мы, а не комиссия отвечаем за жизнь Президента России, за успех операции и поэтому никто из основных действующих лиц во время ее проведения с прессой встречаться не будет. Вот почему мы считаем, что ее пребывание в стенах кардиоцентра ничего не даст, кроме сутолоки и лишней нагрузки на персонал. Активно поддержал нас в этом и начальник охраны Ю. Крапивин. В итоге, несмотря на возражения и недовольство Ястржембского, сошлись на том, что все ограничится проведением после операции пресс-конференции, на которой будут изложены ее результаты.
Наступило 5 ноября 1996 года. И опять ноябрь — месяц, который много раз в моей жизни приносил трагические сюрпризы, создавал сложные ситуации в работе. Было решено, что Ельцин приедет в центр из санатория «Барвиха» рано утром прямо на операцию. Зная, как рано встает Ельцин, я остался ночевать в центре. Заснуть не мог. Слишком высоко было нервное напряжение, хотя всегда, как говорили окружающие, в такие моменты я становлюсь спокойным и собранным. Одна за одной проносились мысли: все ли мы предусмотрели, достаточной ли была подготовка, не будет ли сбоев в работе аппаратуры, выдержат ли нервы у Р. Акчурина и его команды? У меня не было ни минуты колебаний в том, что я должен быть в операционной вместе со всеми и вместе со всеми нести груз ответственности за то, что будет происходить во время операции. Некоторые промелькнувшие в прессе заявления (вроде того, что еще неизвестно, что будет в случае трагического исхода с теми, кто выйдет из операционной) еще больше утвердили меня в этом решении.
Чтобы как-то отвлечься, решил обойти хирургический блок. Полуосвещенные пустые коридоры, большой реанимационный зал, в котором одиноко стояла одна кровать вместо обычных шести, запечатанная операционная, фигуры охранников на каждом шагу, проверявших пропуск, еще больше навеяли тревогу и какое-то необъяснимое ощущение опустошенности. Вернувшись к себе, достал маленький, карманный, уже достаточно потрепанный томик стихов любимого своего поэта С. Есенина: он не раз бывал со мной в сложных переплетах моей жизни. Я люблю и А. Пушкина за его гармонию, неповторимое созвучие рифм, за искренность чувств и глубокий философский смысл его стихов и поэм. Но С. Есенин для меня — это песни русской души, это моя Родина, это близкое и родное.
В далекие юношеские годы моя мать, которую я очень любил, подарила мне тетрадь стихов С. Есенина, которые она помнила еще с гимназических времен. Комсомолка и участник гражданской войны, побывавшая в застенках колчаковской контрразведки и чудом спасшаяся при расстреле, она через всю жизнь пронесла любовь к его поэзии. «Если Пушкин была осень, то Есенин есть весна, — часто говорила она мне. — Читаешь его и понимаешь, что нет ничего дороже России, какой бы она ни была, а Есенин — ее символ». Как материнскую заповедь пронес я через все свою непростую жизнь его строки:
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
Вот и в ту ноябрьскую ночь я перечитывал томик С.Есенина:
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Еще и еще раз я перебирал в памяти события моей жизни, подобные тому, что предстояло пережить. Сколько их было! Болезнь и смерть Брежнева, Андропова, Черненко… Это были не только трагедии отдельных личностей — это были политические потрясения с непредсказуемыми последствиями для страны и мира. А жизнь продолжалась, с ее радостями и горестями, взлетами и падениями, проблемами, которые надо было решать, встречами и расставаниями.
«Все пройдет, как с белых яблонь дым»… Постепенно исчезла тревога, поднялось настроение, и, когда в шестом часу утра мне сообщили, что Б. Ельцин выехал, я совершенно спокойно, как будто нас и не ожидало тяжелейшее испытание, пошел встречать его. И опять, как и два с половиной месяца назад, для меня уже не было Президента России, а был тяжелобольной, которого надо спасать.
Шесть часов операции пролетели как один миг. Поразительно, но, на мой взгляд, никто из большой команды участников операции не волновался. Шла обычная рутинная работа сердечных хирургов. Это был единый организм, в котором каждый знал, что он должен делать. Единственно, за что я волновался, учитывая состояние сердца Ельцина, — это как быстро оно «заведется». Дело в том, что в ходе операции на время, когда хирург работает непосредственно с коронарными сосудами, искусственно останавливают сердце и его работу выполняет аппарат искусственного кровообращения. После наложения шунтов, соединяющих аорту с коронарными сосудами ниже места поражения, необходимо вновь восстановить работу сердца. Для этого используются специальные растворы. Надо сказать, что наши хирурги пользуются растворами, созданными в кардиоцентре, и считают их лучшими. Чем меньше время остановки сердца, тем лучше протекает послеоперационный процесс и тем лучше результаты лечения. К нашему удивлению, работа сердца Б. Ельцина восстановилась самостоятельно, без использования специальных средств. Конечно, все мы облегченно вздохнули.
На время операции в Москву приехали М. Де-Бейки, известные немецкие кардиохирурги, которых рекомендовал Ельцину канцлер Г. Коль. Надо сказать, что все иностранные руководители, особенно Б. Клинтон и Г. Коль, очень внимательно следили за состоянием здоровья Ельцина, подготовкой к операции, волновались за ее исход. Другого и не могло быть, учитывая, что Ельцин, как никто другой, устраивал их на посту президента разоренной и униженной России. Де-Бейки говорил мне, что ему неоднократно звонил Клинтон, предлагая любую помощь и, естественно, интересуясь прогнозом операции.
Вместе с лечащими врачами Ельцина наши иностранные коллеги наблюдали ход операции по телевизору. Операционная в кардиоцентре оборудована специальной телевизионной камерой, позволяющей транслировать весь ход операции в аудиторию. Естественно, никакой записи не велось, но свидетелей было достаточно. Они встретили аплодисментами наших хирургов, когда те появились в аудитории, и высказали Р. Акчурину свое восхищение проведенной операцией. Хотя хирургическая бригада пыталась сделать вид, что ничего сверхординарного не произошло и выполнена обычная рутинная работа, я видел, что всех переполняет радость победы.
Семья Б. Ельцина все время операции провела в кардиоцентре и не скрывала своих волнений и переживаний. И хотя у меня было свое отношение к Ельцину, встретившись с его близкими, чтобы рассказать о результатах оперативного вмешательства, я вместе с ними радовался успеху, радовался тому, что Борису Николаевичу сохранена жизнь. Но я понимал и другое: выздоровев и почувствовав себя лучше, Ельцин вернется к прежнему образу жизни, в котором алкоголь и обезболивающие препараты играют определенную роль. Я предупредил жену и дочерей о возможности такого развития ситуации и добавил, что в конце концов это может привести к печальным результатам — нарушениям со стороны центральной нервной системы, угнетению иммунитета и быстрому дряхлению. К сожалению, я оказался прав, потому что менее чем через год после операции все «вернулось на круги своя».
А тогда все были окрылены успехом. Даже на пресс-конференции, которая состоялась тут же после окончания операции, я, зная характер современных средств информации, удивился мирному ее течению и отсутствию каверзных вопросов. Когда очередь в выступлениях дошла до меня, я был краток, сказав, что операция прошла лучше, чем я предполагал. К чему было рассказывать о всех перипетиях, предшествовавших ее проведению, об опасностях, которые ожидают Б. Ельцина в связи с сопутствующими заболеваниями и нарушениями режима?
Мы честно выполнили свой профессиональный и человеческий долг. Вмешиваться же в политическую борьбу, «лить воду на мельницу» тех или иных политиков я не мог из тех принципов врачебной этики, которых придерживался. Этим объяснялся и мой отказ давать интервью корреспондентам газет и телевидения. Когда мы вернулись с пресс-конференции, окружение Ельцина уже праздновало наш успех.
Поздно вечером приехал уставший, взволнованный, но довольный В. Черномырдин. Он один из немногих, кто искренне переживал за исход операции. Мне кажется, помимо политических и моральных аспектов, это объяснялось и тем, что именно он порекомендовал Б. Ельцину оперироваться в нашем центре.
В один день вся наша хирургическая бригада во главе с Р. Акчуриным стала знаменитой. Фотографии врачей — участников операции в газетах и журналах, интервью Акчурина, хвалебные статьи — все это могло вскружить им голову, но к их чести, у них не появилось признаков «звездной» болезни. Наина Иосифовна от имени Президента и правительства организовала прием в Кремле в Грановитой палате, для всех, кто принимал участие в лечении Б. Ельцина.
8 ноября, на четвертые сутки после операции, Б. Ельцин переехал в свои апартаменты в Центральной клинической больнице. Для меня завершился еще один эпизод в жизни, связанный с Ельциным. Конечно, как врач я был безгранично счастлив тем, что он так закончился. Что же касается его исторической значимости для России, ее народа, то тогда я бы сказал так, как мне говорили на протяжении двадцати пяти лет в подобных случаях: мы сохранили спокойствие страны и политическую стабильность. Но сегодня я лишь снисходительно улыбаюсь, хорошо понимая, кому была выгодна эта избитая фраза. Прежде так говорили члены Политбюро, позднее — люди из окружения президента, некоторые губернаторы и члены Федерального собрания, которым он был удобен.
Да, мы сохранили жизнь тяжелобольному Президенту России. Мы честно выполнили свой врачебный долг. Уверен, что если бы операция не была проведена, то следующий, шестой инфаркт миокарда, который возник бы в ближайшее время после вступления Б. Ельцина в должность при любой физической и эмоциональной нагрузке, да и просто после хорошей выпивки, был бы для него последним. Он шел на операцию с показателями деятельности сердца, находившимися на той грани, за которой следует катастрофа. Я не строил иллюзий, как это делали некоторые мои коллеги, в отношении будущего Ельцина. Бесполезно было ему, с его характером, амбициями «царя Бориса», повторять то, о чем прекрасно сказал А. Пушкин:
Так жизнь тебе возвращена Со всею прелестью своею; Смотри: бесценный дар она; Умей же пользоваться ею.
Как пользоваться — уйти с почетом, открывая дорогу другим, которые попытаются вывести страну из тупика, и оставить хоть какую-то добрую память о себе? Или продолжать цепляться за власть, растрачивая остатки здоровья и, все больше и больше деградируя, вызывать не просто неприятие, а ненависть народа? Б. Ельцин избрал второй путь, пагубный и для него, и, что самое главное, пагубный для страны и народа. И ждать иного его решения нам пришлось еще долгих три года — до 31 декабря 1999.
Прекрасно зная состояние его здоровья, я не сомневался, что на фоне недостаточной сердечной деятельности, злоупотребления алкоголем и седативными препаратами начнут развиваться изменения со стороны мозга, а в связи с резким ослаблением организма, иммунной системы возникнет угроза тяжелых инфекционных процессов типа пневмоний, сепсиса или тромбоэмболии. После операции меня никогда больше не приглашали на консультацию к Ельцину. Вскоре перестали приглашать и оперировавшего его Акчурина. Были отстранены его лечащие врачи, длительное время его наблюдавшие. Ну, понятно, что не пускали меня, откровенно и честно сказавшего в очередной раз родственникам всю правду о состоянии здоровья Б. Ельцина, характере болезни и прогнозе на ближайшее будущее. Я настоял перед операцией, чтобы в истории болезни в диагнозе было указано, что имеется поражение сердца, связанное со злоупотреблением алкоголем. Кому это понравится? Так что в отношении моей персоны было все ясно. Но почему отвергли Акчурина, лечащего врача Григорьева, понять было невозможно.
Ситуация с Б. Ельциным развивалась по сценарию, который я предвидел. Как мне рассказывали, в конце 1998 — начале 1999 года у него стали возникать срывы, связанные с особенностями нервно-психического статуса. В лечение включились специалисты во главе с академиком АМН А. Тигановым. Кстати, о такой возможности, как я уже упоминал, говорил еще в 1987 году Р. Наджаров, обсуждая будущее Бориса Николаевича в случае, если он не прислушается к рекомендациям врачей. На первых порах врачам, к счастью, удавалось довольно быстро купировать подобные состояния. «Гриппы», о которых начала сообщать пресс-служба президента, стали протекать тяжелее и продолжительнее. И это несмотря на то, что Ельцин наконец-то стал соблюдать режим и рекомендации врачей. Но было уже поздно. Счастье для России, что в то время не происходило событий, которые потребовали бы срочного вмешательства президента. Такой роковой страницы в истории России еще не было. Разве мог вывести страну из кризиса и тупика больной, теряющий возможность аналитического мышления президент? Когда его пресс-секретарь Д. Якушкин, сотрудники аппарата, первый заместитель главы администрации И. Шабдурасулов, глядя честными глазами, рьяно убеждали миллионы телезрителей, что Б. Ельцин здоров и лишь немного недомогает или «гриппует», все это вызывало у меня возмущение обманом народа и в то же время я испытывал жалость к тем, кто то ли по принуждению, то ли корыстно трансформировал этот обман в официальные заявления. Лучше бы промолчать, как это делалось раньше. Все видели, что представляет собой Б. Ельцин не только по его состоянию, но и по сумбурным решениям и высказываниям. Хорошо еще, что благодаря помощи Ельцину сотрудников кардиоцентра в этой экстремальной ситуации не подвело сердце.
В который раз передо мной вставал вопрос о правомочности соблюдения принципов врачебной этики в связи с состоянием здоровья главы государства. Как хотелось сказать во всеуслышание: возьмите хотя бы историю болезни и посмотрите ее — и даже далекому от медицины человеку все станет ясно. Но можно ли мне в конце жизненного и профессионального пути изменять своим принципам? Да и все ли правильно поймут раскрытие истины? Однако обман и молчание окружения Ельцина, врачей, всех тех, кто знал истинное положение дел перед вторым туром президентских выборов (а таких было немало), — гораздо большее моральное преступление, чем обнародование данных о болезни Б. Ельцина. После этого страну хотя бы не трясло от политических конфронтации и разного рода кризисов. История ничему не научила ни народ, ни его избранников, ни политическую элиту…
Прочитав книгу, кто-то, может быть, скажет, что от нее веет тоской по прошлому. Да, я, как и многие из моего поколения, тоскую по прошлому, потому что оно — моя жизнь, моя молодость с радостями и горестями, успехами и разочарованиями. Тоскую по романтике той, другой нашей жизни, по патриотизму, искренней дружбе, доброте, даже по той вере в светлое будущее, которую нам внушали.
Нельзя перечеркивать все то хорошее, что было сделано для страны, для ее народа. Прошлое может отомстить, если мы не разберемся в нем и не отделим хорошее от плохого. Конечно, как и большинство, я не хочу возврата к тому, чтобы человек был лишь одним из винтиков в большой государственной машине и его судьба, судьба близких зависели от партийного функционера, нередко бездарного, недалекого, жившего и работавшего по инструкции или согласно установившейся догме.
Хочу настоящей свободы — той, о которой говорил Вольтер: «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов». Хочу демократии, но не псевдодемократии, которую нам навязывают власть предержащие, финансовые и криминальные воротилы, а той, о которой сказал еще А. Линкольн: «Демократия — это когда люди управляют людьми во благо людей».
Но почему путь к этим новым принципам жизни, новому обществу должен лежать через страдания народа, разруху, криминальный беспредел, коррупцию, развал науки, культуры, здравоохранения? Как дошла ты до жизни такой, великая Россия? Неужели не было другого пути? Или судьбой нам определены были М.С. Горбачев и Б.Н. Ельцин, приведшие нас к тому, чем мы стали?
Факты этой книги — еще одно предупреждение потомкам, нашим детям и внукам. Они — предупреждение будущим политикам. Я попытался проследить ту цепь роковых событий, которые привели к гибели великой державы — СССР и кризису России. Она началась с затянувшегося правления Л. Брежнева, смерти Ю. Андропова и продолжилась ошибками М. Горбачева, его борьбой за власть с Б. Ельциным, объявлением суверенитета России, подписанием Беловежских соглашений, реформами 1992 года, расстрелом Белого дома, первой чеченской войной и закончилась повторным избранием больного Б. Ельцина на второй срок со всеми вытекающими последствиями.
Не хочется заканчивать на грустной ноте. Позволю себе в заключение опять обратиться к А.С. Пушкину с его верой в будущее России:
Сильна ли Русь? Война и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали.
Смотрите ж! Все стоит она!
Уверен, что она не только выстоит, но и вновь обретет былое величие.
Указатель имен
Акчурин Р. С. — академик Российской академии медицинских наук, профессор, с 1984 г. руководитель Отдела сердечно-сосудистой хирургии Российского кардиологического научно-производственного комплекса МЗ РФ.
Алиев Г.А. — в 1967–1969 гг. председатель КГБ Азербайджана, с 1969 по 1982 г. первый секретарь ЦК компартии Азербайджана, с 1982 по 1987 г. первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, с 1993 г. Президент Азербайджана.
Андропов Ю.В. — с 1957 г. заведующий отделом, секретарь ЦК КПСС по связям с социалистическими странами, с 1967 г. председатель КГБ, с 1982 г. секретарь ЦК КПСС, с ноября 1982 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС, с 1983 г. одновременно Председатель Президиума Верховного Совета СССР, член Политбюро в 1973–1984 гг.
Асад Хафез — с 1972 г. Президент Сирийской Арабской Республики.
Афанасьев Ю.Н. — в 1989 г. участник съезда народных депутатов, один из организаторов Межрегиональной депутатской группы, с 1993 г. ректор Российского государственного гуманитарного университета.
Беленков Ю.Н. — академик Российской академии медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора Российского кардиологического научно-производственного комплекса МЗ РФ, консультант Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации.
Брежнев Л.И. — в 1960–1964 гг. Председатель Президиума Верховного Совета СССР, с 1964 г. первый Генеральный секретарь ЦК КПСС, с 1977 г. одновременно Председатель Президиума Верховного Совета СССР, член Политбюро в 1957–1982 гг.
Бурбулис Г.Э. — в 1990–1991 гг. полномочный представитель Председателя Верховного Совета РСФСР, в 1991 г. секретарь Государственного совета при Президенте РСФСР, в 1991–1992 г. госсекретарь Российской Федерации, первый заместитель Председателя правительства Российской Федерации, с мая по ноябрь 1992 г. государственный секретарь при Президенте РФ, с ноября по декабрь 1992 г. руководитель группы советников при президенте РФ.
Воробьев А.И. — известный гематолог, академик Российской академии медицинских наук, директор Гематологического научного центра, в 90-х годах главный терапевт Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации.
Гайдар Е.Т. — в 1991 г. министр экономики и финансов РСФСР, в 1992 г. министр финансов Российской Федерации, с июня по декабрь 1992 г. исполняющий обязанности Председателя Правительства РФ, с сентября 1993 г. по январь 1994 г. первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
Гогин Е.Е. — профессор, научный руководитель Центральной клинической больницы и консультант Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации.
Горбачев М.С. — с 1970 по 1978 г. первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС, в 1978–1985 гг. секретарь ЦК КПСС, в 1985–1991 гг. Генеральный секретарь ЦК КПСС, в 1989–1990 гг. одновременно Председатель Верховного Совета СССР, в 1990–1991 гг. Президент СССР.
Громыко А.А. — в 1957–1985 гг. министр иностранных дел СССР, одновременно в1983–1985 гг. первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, в 1985–1988 гг. Председатель Президиума Верховного Совета СССР, член Политбюро в 1973–1988 гг.
Де-Бейки Майкл — известный американский кардиохирург, руководитель Бейлорского колледжа медицины в Хьюстоне (Техас), почетный член Российской академии наук и Российской академии медицинских наук.
Долгих В.И. — В 1972–1988 гг. секретарь ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро.
Ельцин Б.Н. — в 1976–1985 гг. первый секретарь Свердловского обкома КПСС, в 1985–1987 гг. первый секретарь Московского горкома КПСС, кандидат в члены Политбюро, в 1987–1989 гг. заместитель председателя Госстроя СССР, в 1989 г. депутат Верховного Совета СССР, в 1990–1991 гг. Председатель Верховного Совета РСФСР, в 1991–1999 гг. Президент Российской Федерации.
Жуков Г.К. — выдающийся полководец второй мировой войны, маршал Советского Союза с 1943 г., в период войны заместитель Главнокомандующего, в 1955–1957 гг. министр обороны СССР.
Зимянин М.В. — в 1976–1987 гг. секретарь ЦК КПСС по вопросам науки, просвещения и здравоохранения.
Илюшин В.В. — помощник Б.Н. Ельцина в ЦК КПСС, Московском горкоме КПСС, в 1991–1992 гг. руководитель секретариата Президента Российской Федерации, в 1992–1996 гг. помощник Президента Российской Федерации.
Капитонов И.В. — в 1965–1985 гг. секретарь ЦК КПСС по организационным вопросам.
Катушев К.Ф. — в 1968–1977 гг. секретарь ЦК КПСС, в1977—1982 гг. заместитель Председателя Совета Министров СССР.
Кириленко А.П. — в 1966–1982 гг. секретарь ЦК КПСС, член Политбюро.
Константинов Б.А. — академик Российской академии медицинских наук, директор Научного центра хирургии.
Косыгин А.Н. — в 1960–1964 гг. первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, в 1964–1980 гг. Председатель Совета Министров СССР, член Политбюро в 1960–1980 гг.
Кравчук Л.М. — в 1990–1991 гг. Председатель Верховного Совета Украины, в 1991–1994 гг. Президент Украины.
Краевский Н.А. — выдающийся советский патологоанатом, лауреат Ленинской премии, академик Академии медицинских наук СССР.
Кручина Н.Е. — в 1985–1991 гг. управляющий делами ЦК КПСС.
Крючков В.А. — в 1988–1991 гг. председатель КГБ СССР.
Кулаков Д.Ф. — в 1960–1964 гг. первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС, в 1964–1978 гг. заведующий отделом, секретарь ЦК КПСС, член Политбюро в 1971–1975 гг.
Лепилин М.Г. — доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории анестезиологии и защиты миокарда Отдела сердечно-сосудистой хирургии Российского кардиологического научно-производственного комплекса МЗ РФ.
Лигачев Е.К. — член ЦК КПСС с 1976 г., в 1985–1990 гг. член Политбюро.
Лобов О.И. — в 1982–1985 гг. второй секретарь Свердловского обкома КПСС, в 1989–1991 гг. второй секретарь компартии Армении, в 1991–1993 гг. заместитель премьер-министра Российской Федерации, в 1993 г. секретарь Совета безопасности Российской Федерации.
Малиновский Н.К. — известный хирург, академик Российской академии медицинских наук, заведующий кафедрой хирургии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, с 1973 г. главный хирург 4-го Главного управления, с 1992 г. главный хирург Медицинского центра Управления делами Президента Росийской Федерации.
Мартынов И.В. — профессор, доктор медицинских наук, с 1992 г. научный руководитель по терапии Центральной клинической больницы Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации.
Маят B.C. — известный хирург, профессор, заведующий кафедрой хирургии II Московского медицинского института, в 1964–1973 гг. главный хирург 4-го Главного управления.
Медведев В.Т. — в 1985–1991 гг. начальник охраны М.С. Горбачева.
Миронов СП. — академик Российской академии медицинских наук, профессор, с 1995 г. генеральный директор Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации.
Насер Г. — в 1956–1970 гг. президент Египта, в 1963 г. основатель и первый председатель Арабского социалистического союза.
Нордман Э.Б. — в 1974–1978 гг. председатель КГБ Узбекистана.
Павлов Г.С. — в 1957–1967 гг. первый секретарь Марийского обкома КПСС, в 1967–1985 гг. управляющий делами ЦК КПСС.
Петровский Б.В. — министр здравоохранения СССР в 1965–1980 гг., академик.
Подгорный Н.В. — в 1963–1965 гг. секретарь ЦК КПСС, в 1965–1977 гг. Председатель Президиума Верховного Совета СССР, член Политбюро в 1960–1977 гг.
Полторанин М.Н. — в 1990–1992 гг. министр печати и информации Российской Федерации, в 1992 г. одновременно заместитель Председателя правительства РФ, в 1992–1993 гг. руководитель Федерального информационного центра России.
Романов Г.В. — в 1970–1982 гг. первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, в 1982–1985 гг. секретарь ЦК КПСС, член Политбюро в 1976–1985 гг.
Руцкой А.В. — генерал-майор, в 1991–1993 гг. вице-президент Российской Федерации, с 1997 г. губернатор Курской области.
Рыжков Н.И. — в 1985–1990 гг. Председатель Совета Министров СССР, член Политбюро с апреля 1985 г.
Рябов В.П. — в 1971–1976 гг. первый секретарь Свердловского обкома КПСС, в 1976–1979 гг. секретарь ЦК КПСС.
Савельев B.C. — академик Российской академии наук и Российской академии медицинских наук, заведующий кафедрой факультетской хирургии Российского государственного медицинского университета, главный хирург МЗ РФ.
Савченко А.П. — доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории рентгеноангиографических методов исследования Российского кардиологического научно-производственного комплекса МЗ РФ.
Самко А.Н. — доктор медицинских наук, руководитель лаборатории рентгеноэндоваскулярных методов исследования Российского кардиологического научно-производственного комплекса МЗ РФ.
Силаев И. С. — в 1981–1985 гг. министр авиационной промышленности СССР, в 1985–1990 гг. заместитель Председателя Совета Министров СССР, в 1990–1991 гг. Председатель Совета Министров СССР, в 1991–1994 гг. постоянный представитель РФ при Европейском Сообществе.
СтруковА.И. — академик АМН СССР, заведующий кафедрой патологической анатомии I Московского медицинского института.
Суслов М.А. — в 1947–1982 гг. секретарь ЦК КПСС, член Политбюро в 1955–1982 гг., главный идеолог КПСС.
Тареев Е.М. — известный советский терапевт-нефролог, академик АМН СССР, заведующий кафедрой терапии санитарно-гигиенического факультета I Московского медицинского института.
Тиганов А.С. — академик Российской академии медицинских наук, директор Научного центра психического здоровья РАМН.
Устинов Д.Ф. — в 1965–1976 гг. секретарь ЦК КПСС, в 1976–1984 гг. министр обороны СССР, маршал Советского Союза, член Политбюро с 1976–1984 гг.
Федоров В.Д. — известный советский хирург, академик Российской академии медицинских наук, директор Института проктологии МЗ РСФСР, с 1988 г. директор Института хирургии им. А.В. Вишневского, с 1974 г. заместитель главного хирурга Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации.
Федорчук В.В. — в 1982 г. председатель КГБ при Совете Министров СССР, в 1983–1986 гг. министр внутренних дел СССР.
Цвигун С.К. — в 1963–1967 гг. председатель КГБ при Совмине Азербайджанской ССР, в 1967–1982 гг. первый заместитель председателя КГБ при Совете Министров СССР.
Цинев Г.К. — с 1953 г. на руководящей работе в КГБ при Совете Министров СССР, в 1970–1984 гг. заместитель председателя КГБ при Совете Министров СССР.
Чебриков В.М. — в 1967–1982 гг. заместитель председателя КГБ, в 1982–1988 гг. председатель КГБ, в 1988–1989 гг. секретарь ЦК КПСС и член Политбюро.
Черненко К.У. — в 1965–1976 гг. заведующий общим отделом ЦК КПСС, в 1984–1985 гг. Генеральный секретарь ЦК КПСС и Председатель Президиума Верховного Совета СССР.
ЧерномырдинB.C. — в 1985–1989 гг. министр газовой промышленности СССР, в 1989–1992 гг. председатель правления государственного газового концерна «Газпром», с 1992 г. Председатель Правительства Российской Федерации.
Чучалин А.Г. — известный пульмонолог, академик Российской академии медицинских наук, с 1976 г. заведу-ющий кафедрой внутренних болезней Московского государственного медицинского университета, директор Института пульмонологии МЗ РФ.
Шеварднадзе Э.А. — в 1972–1985 гг. первый секретарь ЦК компартии Грузии, в 1985–1990 гг. министр иностранных дел СССР, с 1995 г. президент Грузии.
Шелепин А.Н. — в 1958–1961 гг. председатель КГБ, в 1961–1967 гг. секретарь ЦК КПСС, в 1967–1975 гг. председатель ВЦСПС, член Политбюро в 1964–1977 гг.
Шушкевич С.С. — член-корреспондент АН Белоруссии, в 1991–1994 гг. председатель Верховного Совета Республики Беларусь.