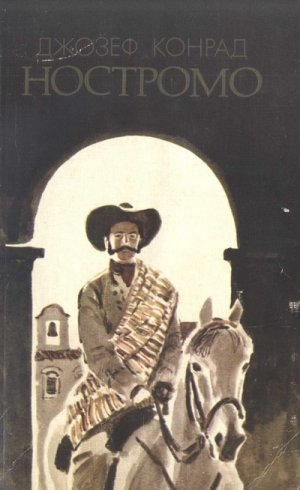
ПРЕДИСЛОВИЕ
Ностромо по-итальянски значит «наш человек», а на языке моряков — «боцман», «старшо́й». В том и в другом смысле мы можем применить то же слово к автору этой книги.
Английский прозаик, знаменитый «певец моря» Джозеф Конрад (1857–1924) направил современную литературу в особое русло, он оказался предшественником многих, в том числе вовсе «сухопутных» писателей XX века, и он же — наш соотечественник.
Его настоящее имя Иозеф Теодор Конрад Налех Коженевский, поляк по национальности, он родился далеко от Англии и от моря, в Бердичеве, спустя семь лет после того, как в том же городе венчался Бальзак.
Несколько поколений Коженевских, дворян по происхождению, участвовали, начиная с конца XVIII века, в польском национально-освободительном движении. Отец Конрада Аполло Коженевский, филолог-востоковед, одно время студент Петербургского университета, поэт и переводчик, был выслан из пределов Польши в Российскую империю. Вот почему Конрад увидел свет на Украине и вот почему как на Украине, так в Центральной и Южной России существует целый конрадовский маршрут. Перемещались Коженевские «казенным порядком», например, в Вологду; ездили они к своим соплеменникам и даже родственникам, таким же польским аристократам, но которые, в отличие от Коженевских, «не бунтовали», а потому богатели, получая от царского правительства обширные владения на Волыни и на Подолии.
Двенадцати лет оставшись сиротой, Конрад жил в Кракове у бабушки, которая поместила его в учебный пансион. В каникулы он не раз ездил в путешествие по Европе, побывал в Германии, Австрии, Италии и в Швейцарии.
В 1874 году, семнадцати лет, Конрад отправился во Францию, в Марсель, и поступил служить на французский торговый корабль. Почему он ушел в море? Как ни странно, сам Конрад никогда подробно не объяснял своего решения. А если бы и объяснил, то к его версии следовало бы отнестись с осторожностью. Подчас он придумывал не только мотивы своих поступков, но даже события будто бы из своей жизни, и все было так выразительно и правдоподобно придумано, что не вызывало ни малейших подозрений ни у окружавших его людей, ни у ранних биографов.
Впервые Конрад увидел море в Одессе, куда его возил дядя, брат матери. Конечно, читал он и «Робинзона Крузо», и «Пятнадцатилетнего капитана», а также «морские» романы Купера и Марриета. Совсем мальчиком, находясь у того же дяди в имении Новофастово (Погребищенского района Киевской области), он рассматривал карту Центральной Африки, где тогда еще было немало «белых пятен», показал на одно из «пятен» и сказал: «Вырасту и побываю здесь». И побывал! Но почему он стал моряком, до сих пор остается не ясным. Важнейшей причиной смелого предприятия была, видимо, потребность Конрада в резкой перемене обстановки. Все, что окружало его, так или иначе напоминало одно — кладбище. И он рад был вырваться в совершенно иной мир.
Юнгой, а затем стюардом Конрад ходил по Средиземному морю и через Атлантический океан. Сообщал дяде, что собирается в Индию. Но вдруг неожиданно, находясь на ярмарке в Киеве, дядя Тадеуш получил из Марселя телеграмму: «Конрад ранен. Приезжайте немедленно». Была дуэль — так было объяснено случившееся. «У тебя правда была дуэль?» — спустя много лет, когда Конрад уже был прославленным писателем, спросила у него племянница. И Конрад ответил утвердительно. Однако дуэли не было: он пытался покончить с собой.
Конрад в то время запутался в делах денежных и личных. Оказался вовлечен в заговор карлистов, сторонников претендента на испанский престол Дона Карлоса, перевозил морем оружие для заговорщиков, а непосредственным поводом для столь глубокого душевного срыва будто бы послужила неудачная любовь. Когда Конрад поправился и окреп, он, однако, не мог вернуться на французский корабль. Ему исполнялся двадцать один год, и, как российский подданный, он подлежал воинскому набору.
Тогда Конрад совершил еще один, имевший решающие последствия в его жизни шаг, — перешел на корабль английский. Там в документы не заглядывали или смотрели сквозь пальцы, но языка английского, за исключением нескольких слов, Конрад не знал. Конечно, он все-таки понял, что сказал ему первый же английский матрос, когда он ступил на борт британского корабля: его попросили очистить палубу. Однако он не ушел и проплавал в британском торговом флоте пятнадцать лет, пройдя путь от матроса до капитана, что по тем временам, когда Англия считалась «владычицей морей», являлось достижением исключительным.
Начал Конрад свою английскую службу на углевозах, ходивших вдоль восточного побережья Англии, затем возил все тот же уголь и шерсть, а также «живую» рабочую силу, по всему свету. Тогда побывал он и в Индии, и в Австралии, и в Африке, в тех самых местах, которые некогда рассматривал на карте. Правда, помимо исполнения своей мечты, он получил еще и тропическую лихорадку, а также подагру, мучившую его затем всю жизнь. Возвращаясь из далеких рейсов, Конрад последовательно сдавал экзамены на должность штурмана, помощника и, наконец, «мастера», как называют на морском языке главу судна.
«Мой дорогой капитан!» — так с некоторых пор стал обращаться к нему в письмах дядя. Однако совершить паломничество в края своего детства Конрад смог не раньше того, как стал не только английским моряком, но и британским подданным. С переменой гражданства связано и первое появление имени Конрада (Коженевского) в нашей печати: об этом, как положено, было объявлено в «Сенатских ведомостях».
«Добравшись из Лондона на Украину, я начал разбирать мой багаж», — так в автобиографии начинает Конрад описание своего пребывания у дяди под Оратовым в Казимировке (теперь Побережная). Важнейшей же частью его багажа была рукопись.
Сын литератора Конрад начал писать очень рано. Еще в школьные годы, во Львове, сочинил он поэму, навеянную стоявшей перед львовским театром статуей, памятником Яну Собескому. Детская поэма осталась, однако, единственным произведением Конрада на его родном языке, не считая писем, тоже, впрочем, немногочисленных, потому что даже с польскими родственниками он переписывался нередко по-французски. О нем вообще говорили так: писал по-английски, думал по-французски, а бредил, когда бывал болен, по-польски. Его часто спрашивали, почему он избрал для своей литературной деятельности именно английский. Чтобы поляку писать на польском (так ответил Конрад), для этого надо быть Мицкевичем или Юлиушем Словацким; французский язык тоже слишком уж нормирован классиками французской литературы, английский же предоставлял ему в этом отношении больше свободы. В тридцать семь лет он стал писать английскую прозу.
Одним из первых его читателей был Голсуорси. Прежде всего он оказался его пассажиром. В порту Аделаида Голсуорси пересаживался с одного корабля на другой, державший курс на Лондон, пересаживался потому, что у него кончились деньги, и продолжать задуманное им путешествие он не мог; а плыл он тогда на остров Самоа — к Стивенсону. Первым помощником на корабле, который выбрал Голсуорси, был Конрад, и он попросил своего пассажира прочитать его рукопись. Таким образом, не добравшись до цели своего путешествия, до «живого классика» приключенческой литературы, Голсуорси открыл другого классика, будущего, еще не только не признанного, но сомневающегося в своих творческих силах. Впоследствии Голсуорси великодушно отказывался от чести считаться «крестным отцом» Конрада в литературе.
Тогда Голсуорси сам еще только начинал свой литературный путь, а рукопись, которую он прочел, говорила о том, что автора учить уже нечему.
По рекомендации Голсуорси эта рукопись была представлена издателю, консультантом у которого был Эдварт Гарнет, один из Гарнетов, много сделавших не только для английской литературы, но и для пропаганды в Англии русской литературы. Автор со «славянской душой» да еще пишущий по-английски очень Гарнета заинтересовал. Рукопись укрепила этот интерес, и совершился в жизни Конрада последний и, быть может, самый решительный поворот: он, что называется, сошел с корабля и стал писателем.
Быть писателем это означает не только творить, но и жить литературным трудом. Конрад шел на большой риск. Покидая морскую службу с дипломом капитана, проплававшего двадцать лет на девятнадцати кораблях, обошедшего все моря и все континенты, он, когда ему было под сорок, пускался, как новичок, в плаванье по коварному морю чернил. И не в одиночку: вскоре после выхода первой своей книги Конрад женился, у него родилось двое сыновей…
Сохранился отчет об одной экспертизе, которую проводило английское ведомство: опрашивали капитанов об условиях работы на судах. Среди прочих был и вопрос о том, сколько на корабле должно быть людей. В ответ капитан Коженевский дал понять, что все зависит от того, каких людей. Этот капитан, делавший ставку на качество натуры человеческой, и решил стать писателем Джозефом Конрадом.
Литературный ветер в известной мере дул в его паруса. Интерес к дальним странствиям у английских читателей был велик. Действительно, со времен «Робинзона Крузо» англичане читали о море как об источнике своей славы и могущества. Море многих манило как судьба, сулившая большую удачу. Отправиться в дальнее плаванье и вернуться «другим человеком», то есть с тугим кошельком, — такова была распространенная житейская формула. И всякий английский «морской» роман так или иначе ей следовал. А многие из читательской публики никуда не стремились, но все же любили узнать о том, чего не видели и, скорее всего, никогда не увидят. На карте по-прежнему оставались если уже не «белые пятна», то во всяком случае много таких мест, о которых еще очень мало было известно. Именно потому первый роман Конрада «Каприз Олмейра», тот самый, что проделал с ним путь из Руана через Аделаиду и Казимировку в Лондон, вызвал определенный интерес, ибо (так и говорилось в одной рецензии) «еще никто из писателей не присваивал Борнео», а именно там, на крупнейшем из островов Малайского архипелага, происходит действие этой книги.
Однако большого успеха не было. Не приносили крупного успеха и следующие произведения Конрада — это были его лучшие творения — «Черномазый с „Нарцисса“», «Рассказы о непокое», «Лорд Джим», «Тайфун». А когда появился «Ностромо», то в рецензиях говорилось так: «Иногда, читая эту книгу, мы перестаем понимать, где находимся и о чем речь». Не будем кичиться перед читателями-современниками своим пониманием, ведь мы заведомо знаем, что Конрад — классика, а для них это было новое, неведомое имя. Как было сказано в предисловии к нашему собранию сочинений Конрада, мы «не можем не простить» современникам некоторого изначального невнимания к нему[1], лучше попробуем понять их.
Войдя в литературу как «морской» писатель по всем внешним признакам, Конрад вел речь еще о чем-то другом, не просто о море, и это дезориентировало широкую читательскую публику. Конрада духовно поддерживали писатели — Генри Джеймс, Киплинг, Уэллс, Стивен Крейн и, конечно, Голсуорси, но узко-профессионального признания было мало, хотя бы по соображениям практическим. Поэтому первые двадцать лет своей литературной карьеры Конрад существовал фактически в долг.
Ветер удачи стал сопутствовать Конраду после выхода его романа «Победа», хотя даже истые конрадианцы не считают эту книгу особенно удачной. «Худшая из лучших у Конрада», — так они формулируют свое мнение о ней. Как бы там ни было, последние десять лет своей жизни Конрад жил в ореоле славы. На его растущую известность обратил внимание Горький. «Каприз Олмейера» был им включен в «Библиотеку всемирной литературы», и предисловие к роману написал Корней Чуковский.
Когда Конрад скончался, один из некрологов принадлежал Хемингуэю. «Когда я слышу, — сказал Томас Манн, — как меня называют „первым повествователем эпохи“, я затыкаю себе уши. Глупости! Им был не я, им был Джозеф Конрад, что следовало бы знать».
«Первый» не означает «лучший» или «крупнейший», это — указание на старшинство. Издалека, с моря, а в сущности еще с украинских степей, составлявших как бы дно, основу конрадовского «моря», капитан Коженевский раньше многих литераторов подошел к специфическим проблемам столетия и стал искать средства для их выражения.
Все же конрадовская известность оставалась довольно узкой. Вернее, у него образовалось две славы, две репутации. Сравнительно широко он прославился как еще один певец морских приключений. Другое дело — отклик тех, кто понимал, что тут не одно море и не только приключения. Подлинное, поставившее его на особое место, признание пришло к Джозефу Конраду уже во второй половине нашего века, когда в самом деле стало ясно, что волны и штормы, которые треплют его стойких капитанов, сродни острейшим тревогам времени.
Для того чтобы позиция Конрада стала сразу понятной, приведем небольшие отрывки, но прежде выслушаем Бертрана Рассела. Известный английский философ, знавший Конрада, сказал о нем: «Жизнь более или менее цивилизованную, нравственную Конрад представлял себе чем-то вроде опасной тропинки, пролегающей на поверхности тонкого слоя чуть остывшей лавы, которая в любой момент может вдруг снова закипеть, и тогда пучина поглотит неосторожного». Характеристика краткая, но верная.
Такому взгляду на вещи Конрада научил его жизненный опыт, охвативший время на рубеже веков и опоясавший земной шар от Бердичева до Бангкока. С детских лет он убедился, что такое самодержавие, царизм; не из вторых рук он узнал, что такое империализм и колониализм в ту пору, когда многие еще думали, что это — «аванпост прогресса» (так и называется важнейший рассказ Конрада); он видел продажность, коррупцию на всех уровнях вплоть до самого «цивилизованного». Конрад видел и другое — честь, мужество, видел тоже на всех уровнях, начиная с тех украинских крестьян, которые провожали его мать в последний путь. Он видел, как дорого это мужество и чего, в самом деле, стоит способность удержаться на узкой тропе чести. Конечно, многого он не видел и даже не хотел видеть, в том числе, в борьбе за ту же человеческую честь, и все же увиденное и запечатленное им — серьезный и суровый урок.
В самом начале столетия он писал: «Когда разлетится вдребезги последний акведук, когда рухнет на землю последний самолет и последняя былинка исчезнет с умирающей земли, все же и тогда человек, неукротимый благодаря выучке по сопротивлению несчастьям и боли, устремит неукротимый свет своих глаз к зареву меркнущего солнца» (1905). Не правда ли, кажется, будто мы нечто подобное уже где-то читали? Ну, конечно, вся западная литература в нашем веке, начиная с «Любви к жизни» Джека Лондона и кончая «Стариком и морем» Хемингуэя, говорившая о человеческой стойкости перед лицом немыслимых обстоятельств, была в своем роде эхом этих слов Конрада, вернее, этой идеи, пропитывающей его творчество. Взгляните на дату — Конрад говорит о «последнем самолете» спустя всего два года после того, как оторвался от земли первый крылатый аппарат. Да, очень рано, как бы пророчески, почувствовал Конрад, что наступает время, которое потребует от рода людского совершенно исключительной, небывалой в истории стойкости.
Стойкость, выдержка, вера в свой долг — таково было кредо Конрада. «Каждый шаг — поступок», — говорил он.
А перед кем или перед чем обязан человек испытывать особое чувство долга? Конрад не отвечал прямо на этот сложнейший вопрос, но неоднократно описывал, как такой долг исполняется. «Не могу же я допустить на судне непорядок, даже если оно идет ко дну», — говорит у Конрада капитан Маквир в повести «Тайфун».
Роман «Ностромо» был написан вскоре после повести «Тайфун». В авторском предисловии Конрад рассказывает историю создания книги, и хотя его сообщения о себе обычно требуют коррекции или прояснения, в данном случае основное верно: он писал роман с мая 1903 года по сентябрь 1904 года и работал над ним с большим трудом. Тому было несколько причин. Прежде всего до этого Конрад работал не покладая рук и без особого удовлетворения, если иметь в виду читательский отклик. Кроме того, когда он закончил «Тайфун» и ряд рассказов, составивших вместе с повестью сборник, то у него, как он сам говорит, возникло ощущение, будто «писать больше не о чем». «Морская» тема, в которую он был погружен, казалась уже исчерпанной. «А ведь жить на что-нибудь нужно», — отметил он в одном из писем той поры. Наконец такой большой вещи он еще не писал, и самый охват материала был необычайно велик — книга о целой стране, переживающей социальный «непокой» (конрадовское слово), а также «серебряную лихорадку»: идет борьба и за власть, и за серебряные рудники.
Костагуана — так называется эта вымышленная Конрадом страна в Южной Америке. В предисловии Конрад упоминает о своем кратком пребывании в «Вест-Индии или, точнее, в Мексиканском заливе», однако где именно он там был, так и остается неясным. Ссылка на «потрепанную книжицу», которую Конрад будто бы много лет спустя приобрел случайно у букиниста и использовал как источник, это, видимо, ссылка на себя самого, на собственные воспоминания, только не о Латинской Америке — о Средиземноморье. Те же воспоминания были им использованы в новелле «Тремолино», вошедшей в сборник «Зеркало морей»[2]. Конрад упоминает в предисловии эту свою книгу и рассказывает о том, как он, устав от работы над «Ностромо», писал несколько страниц «Зеркала», что тоже соответствует фактам с небольшой поправкой или добавлением: Конрад не просто отвлекался к другой работе, он по-иному обращался в ней к тем же лицам и ситуациям, всплывавшим у него в памяти. Прочел Конрад и ряд книг о событиях в Парагвае или в той же Венесуэле.
Костагуана — конструкция, именно модель некоей заокеанской страны, однако составленная из многих наблюдений Конрада «в разных краях земли», как он выражался. Местоположением такой модели он выбрал Южную Америку, хотя бывал там немного, как раз потому, что этот материк тогда в литературном отношении выглядел еще неосвоенным. И ведь это не сейчас — почти столетие назад Конрад внимательно посмотрел в ту сторону.
Должное его проницательности теперь отдают и латиноамериканские писатели. В таких хорошо у нас известных книгах, как «Век Просвещения» кубинца Алехо Карпентьера, «Сто лет одиночества» колумбийца Габриэля Гарсиа Маркеса или «Господин президент» бразильца Вериссимо, заметно хорошее знакомство с «Ностромо». Некая страна в Южной Америке в качестве места действия привлекала Конрада еще и потому, что оба американских материка известны пестротой своего национального состава даже в пределах небольших стран. На сравнительно малой площади там естественно было свести выходцев из самых разных краев земли, как это и делает Конрад. Более того, Конрад не только поместил свою вымышленную страну в Южной Америке, но и перенес туда приметы многих стран, которые хорошо знал. Вот почему, когда известный польский писатель, наш старший современник Ярослав Ивашкевич, родившийся, кстати, тоже на Украине, читал «Ностромо», он узнавал в костагуанских пейзажах украинские степи, а в Сулако, столице Костагуаны, — приметы польских городов. В самом деле, разве где-либо в Южной Америке улицы выкладывали деревянной брусчаткой? Такое Конрад мог видеть в Кракове или в Варшаве.
То же самое следует сказать и о людях, выступающих на страницах конрадовского романа. Прежде всего сам Джан Батиста Фиданца, иначе называемый Ностромо, — по книге итальянец, моряк-генуэзец, прибывший за океан, соответственно, со Средиземного моря. За спиной этого персонажа стоит реальный человек, однажды встреченный Конрадом и оставивший в памяти писателя неизгладимое впечатление. Его настоящее имя было Доминик Червони, корсиканец, первый помощник на судне «Святой Антоний». С ним Конрад не раз ходил в плаванье. В «Тремолино» из «Зеркала морей» он обрисован теми же чертами, что и Ностромо: те же черные усы, те же курчавые волосы, то же сознание своей силы. Причем в «Тремолино» он выведен под своим собственным именем.
«Доминик, — рассказывает о нем Конрад, — обратил свою отвагу, щедрую на всякие нечестивые затеи и военные хитрости, против власти земной, предоставленной таким учреждениям, как таможня, и всем смертным, имеющим к ней отношение, — писцам, чиновникам и береговым охранникам на суше и на море». Тут же Конрад говорит, что облик этого человека навечно запечатлелся в его сознании. Действительно, и после «Ностромо» писатель не расстался с Домиником Червони, выводя его под разными именами в других своих произведениях. Конрад всматривался снова и снова в эту личность, как в некую загадку природы человеческой.
Загадочность такой натуры, как Доминик Червони или Джан Батиста, он же Ностромо, заключена для Конрада в ее одновременной испорченности и добротности. Добро и зло в такой натуре практически неразличимы, взаимосвязаны, взаимообуславливают друг друга. Такой человек, идя на «нечестивые затеи», готов нарушить не только таможенные правила или какие-либо другие установления «власти земной», он способен переступить через любой закон человеческого общежития, если ему потребуется, и он же верен неким законам чести.
Он держит свою судьбу в своих руках, управляя нравственными законами по собственному усмотрению. Как образовался такой причудливый сплав, для Конрада загадки не составляет. Устами самого Ностромо и других персонажей, пользующихся доверием автора, этому дается ясное объяснение: формируясь в условиях вездесущего социального бесправия, этот человек при его незаурядности, честолюбии и силе не мог стать другим, он стал именно таким, каким он представлен у Конрада в разных вариантах, однако неизменно считающим соблюдение и таможенных правил, и нравственных законов привилегией богатых, а потому слишком большой роскошью для себя. Но если в «Тремолино» Доминик — это романтический разбойник, действующий вне общества и преимущественно под покровом ночи, то в «Ностромо» ситуация осложнена тем, что Батиста — на виду, на площади, что тот же, в сущности, отщепенец вдруг сделался командиром отряда надсмотрщиков, «нашим человеком», опорой порядка, спасителем «власти земной» и к тому же «другом народа».
Понятие «наш человек» Конрад делает насквозь ироническим, причем иронию сознает в первую очередь сам Ностромо. Оказываясь для тех и для других, для бедных и для богатых будто бы «своим», он, в сущности, всем чужой. Когда он на площади, Джан Батиста Фиданца гордится тем, что он — Ностромо, единственный и незаменимый, однако про себя понимает: для его хозяев это переходящее из уст в уста имя не дружеское прозвище, а всего лишь кличка, образованная из двух исковерканных итальянских слов. Изувеченное, хотя и прославленное имя становится в глазах Ностромо символом его искалеченной судьбы и натуры.
Под видом службы, образцовой и верной, он ведет затаенную, глухую борьбу с теми, кто облек его доверием, и поступает так вовсе не из двоедушия, вернее, само двоедушие служит ему соответственным оружием в борьбе с расчетливым бездушием костагуанской элиты, похваливающей его, но по существу подставляющей вместо себя под удар. Не только называемый, но и совершенно искренне признаваемый другом народа, Ностромо обманывает и доверие простых людей, с ними он тоже ведет борьбу, помогая держать их в узде, в ярме покорности.
Сатрап и провокатор, разыгрывающий роль «нашего человека»? Подобный вопрос был бы естественным, если бы читали мы какого-нибудь другого писателя, не Джозефа Конрада. Честь, вера служили ему излюбленными понятиями, но было и еще одно — сложность. Произносил это слово Конрад нечасто, однако постоянно стремился показать особую сложность в борьбе человеческой личности с обстоятельствами, когда обстоятельства, способные человека перебороть, все же не могут его до конца сломить. Затянутый в трясину бесправия, заразившийся алчностью, на время устремившийся в погоню за золотым, точнее, серебряным тельцом Ностромо-Фиданца (то есть верный) все же не преуспевает — гибнет, пусть случайно, от чужой руки, однако он воспринимает это как наилучшую для себя участь. В нем осталось достаточно чувства чести и достоинства для того, чтобы именно так встретить свою смерть — с улыбкой, с мыслью, что он все же не изменил, или пусть хотя бы не успел изменить, гордой своей натуре.
Да, Доминик Червони, моряк-корсиканец, был ближайшей моделью для такого персонажа. Но, как знать, быть может, и другие фигуры стояли в памяти Конрада, когда он создавал Ностромо. Во всяком случае, во многих книгах встречаемся мы у него с похожими персонажами, загубленными и все-таки не погибшими. Лихой ямщик изображен у него, например, в более позднем романе «На взгляд Запада», действие которого начинается в Петербурге. В сущности, такой же Доминик, только его, вероятно, звали Демьянычем. Исправный слуга и неисправимый бунтарь, он руки на себя наложил, когда пустили клевету, будто из-за его «промашки» дело провалилось и в руки полиции попал народоволец.
Рядом с Ностромо в романе — старик Виола, тоже итальянец, ветеран-гарибальдиец, некогда сражавшийся в рядах прославленной «тысячи» краснорубашечников. Если для Ностромо, как и для многих других, Костагуана — поле поисков удачи, то для него это изгнание. Конрад, несомненно, мог видеть соратников Гарибальди, а некоторыми своими чертами, как считают биографы, Виола напоминает отца писателя. Начиная со «львиной гривы» и кончая духовной стойкостью, Виола, в самом деле, похож на Аполло Коженевского. И отношение к нему, в сущности, то же, что сопровождало всю жизнь отца Конрада, — смесь глубокого сострадания с горькой иронией. «Для человека столь сильных убеждений смерть не могла быть достойным противником», — вспоминал Конрад отца и последние дни его жизни; в то же время Конрад видел в отце человека хотя и не сдавшегося, но поверженного. Таким обрисован и Виола. Времена борьбы, движимой высокими общечеловеческими интересами, для него миновали, и с делом, за которое он готов был отдать свою жизнь, его связывает теперь только портрет Гарибальди, а высокая идея, которой служил гарибальдиец, материализовалась лишь в громком названии маленького, захудалого, принадлежащего ему, постоялого двора «Объединенная Италия».
Рядом с Ностромо оказывается еще один персонаж, в котором можно различить черты самого Конрада. Это Мартин Декуд, местный журналист, поживший некоторое время в Париже и вернувшийся на родину, когда политическая обстановка в Костагуане изменилась. Это сам Конрад времен его молодости, проведенной в Марселе. Это Конрад, соприкоснувшийся и с европейским либерализмом, и с мимолетными политическими заговорами, а в результате во всем подобном изверившийся. И обрек Конрад этого своего героя на тот конец, который чуть было не уготовил себе самому; Декуд кончает с собой.
Духовно близок Конраду и другой персонаж — доктор Монигэм, отражающий конрадовскую жизненную позицию более зрелых лет. Если Декуд — скептик, то Монигэм — стоик, однако стоик своеобразный, конрадовский. Однажды Конрад сказал, что самый верный способ спастись в пучине — это подчиниться пучине, уйти, как можно глубже, в тот же водоворот, а затем, коснувшись дна, попробовать вынырнуть в другом месте. Доктору Монигэму, человеку сугубо сухопутному, не свойственно выражаться морским языком, однако по существу он придерживается того же принципа — борьба со злом через союз с ним. Доктор выстрадал этот принцип на собственном опыте, когда попал на самое дно пучины не по своей воле, но именно потому, что сделал попытку сопротивляться ей. Дело кончилось пытками в застенках одного из прошлых диктаторов Костагуаны С тех пор Монигэм внешне присмирел, однако внутренне стоит на своем, считая, что нужно по мере сил помогать людям, выручать их из беды точно так же, как долг врача повелевает ему бороться со смертью за их жизнь. Только теперь в борьбе он идет путем окольным, служит новым властителям Костагуаны, но, в отличие от честолюбивого Ностромо, не ищет ни их признания, ни награды, а лишь старается, как может, осуществлять свой принцип.
В романе есть целый ряд женских лиц, причем одно из них не только играет заметную роль в сюжете романа, но глубоко связано с судьбой самого Конрада. Это молодая девушка Антония Авельянос, дочь крупного государственного деятеля Костагуаны, патриотка, готовая жертвовать и любовью и жизнью ради свободы своей страны. Сам Конрад не был до конца откровенен в отношении истории своих сюжетов и своих персонажей, да и откровенности его, как уже сказано, не всегда было можно доверять вполне. Одно несомненно — Антония его идеал, с которым довелось ему встретиться в жизни и с которым он, в свою очередь, не расставался и после «Ностромо».
Биографы высказали несколько предположений, стремясь установить, кто же был прототипом этого персонажа. Это могла быть и та испанка, из-за которой молодой матрос Коженевский едва не покончил с собой (Декуд, влюбленный в Антонию, доводит, в сущности, это намерение до конца). Это мог быть кто-то из дальних родственниц или близких семейных знакомых Коженевских, кто-то из тех девушек, с кем Конрад виделся еще в Кракове или впоследствии во Франции. Кто-то был! Однако в облике Антонии сказывается еще одно влияние, помимо непосредственных встреч. Это — романы Тургенева, которого Конрад боготворил. Когда его консультант и друг Эдвард Гарнет решил издать книгу о Тургеневе, Конрад написал к ней предисловие, где подчеркнул выразительность тургеневских героинь. И Антонию Авельянос критики сравнивали с героинями «Накануне» или «Дворянского гнезда», видя, что она создана по тургеневскому образцу: та же отзывчивость, женственность в сочетании с силой духа и независимостью. Надо отметить, и это, конечно, тоже урок тургеневский, что почти все женщины в «Ностромо» оказываются так или иначе сильнее мужчин. Жена и дочери старого Виолы и даже госпожа Гулд, супруга владельца рудников, — все это цельные натуры, стойко сопротивляющиеся жестоким обстоятельствам.
Книга населена очень густо. Конрад намеренно создает множество лиц. Впрочем, «создает» о каждом из этих лиц сказать нельзя. Очень часто и, в свою очередь, намеренно Конрад лишь обозначает их, бросает имена, характеризуемые одним-двумя признаками, что, надо отметить, в свое время и затрудняло читателей, которые чувствовали себя как бы потерянными в толпе. Уж этого впечатления Конрад добивался специально, создавал, стремясь передать атмосферу Костагуаны, находящейся в состоянии хаоса, переживающей один переворот за другим. Возникает тонкий, деликатный вопрос о том, удалось ли ему достичь искомого впечатления неустойчивости и пестроты или же у читателя просто рябит в глазах от незнакомых, вдруг откуда-то выныривающих имен и от неожиданных, не всегда сразу понятных, поворотов сюжета.
«Где мы находимся?» — это, пожалуй, может подчас спросить и современный читатель. Пусть читатель не смущается своего недоумения, чтение Конрада нередко становится занятием трудным, писатель и сам это сознавал, среди его любимых слов было и такое — неудача. Конрад понимал «неудачу» тоже по-своему, как дерзновенную попытку, пусть не завершившуюся полным успехом, но все же обозначившую, открывшую нечто очень существенное, о чем так или иначе читателям следовало бы знать.
Среди лиц, вполне прорисованных на страницах романа, выступает, конечно, Чарлз Гулд, англичанин, крупный предприниматель, владелец серебряных рудников, из-за которых, собственно, на Костагуане и закипает очередной переворот. Идеализм и материализм, как подчеркивает Конрад, соединились в натуре этого человека. «Идеализм» надо понимать в данном случае как служение идее, которой Чарлз Гулд по-своему до конца предан, однако он не замечает или не хочет замечать, что идея у него на редкость материальна и своекорыстна.
Чарлзу Гулду хочется думать, будто, преследуя свою выгоду, он в то же время благодетельствует другим, многим, всем, целой стране, которая без его рудников и без его прибылей вовсе не сможет существовать. Гулд согласен, пожалуй, рассматривать свое дело как зло, однако наименьшее зло, а потому и наибольшее благо для Костагуаны. Для него, как, впрочем, для большинства персонажей романа, считающих себя «патриотами», служить общему делу это значит приспосабливать по возможности общее дело к своим интересам. К такому же взгляду на вещи склонен покровитель и партнер Гулда американский миллионер, действующий издалека, откуда-то с одиннадцатого этажа своего небоскреба в Сан-Франциско. Этот «господин из Сан-Франциско» еще больший «идеалист», чем сам Гулд в том смысле, что он уж совсем не видит разницы между приумножением своего капитала и разговорами о «процветании Костагуаны».
Жадные руки, тянущиеся к Южной Америке из Северной, Конрад тоже заметил одним из первых. Но, надо признать, тут он мог бы сказать много больше. Вторжение североамериканского капитала на южноамериканский материк сопровождалось ведь не только разговорами о «процветании», но и подкреплялось «языком» пушек, о чем Конрад, конечно, читал в известных ему книгах и о Мексике и о Кубе.
Один критик отметил, что с его точки зрения не Чарлз Гулд и даже не Джан Батиста-Ностромо являются главными фигурами романа, но — гора Игуэрота, чья незыблемая снежная вершина возвышается надо всем. Конечно, эта вершина — ориентир заметный, однако главным героем повествования следует все же считать Костагуану, саму страну и ее народ. Правда, несмотря на значительные размеры романа, страна как таковая показана в нем мало. Конрад соблюдал известную профессиональную осторожность и, обозначив местом действия своей книги Южную Америку, не хотел слишком глубоко вторгаться, как бытописатель, в те края, где сам почти не бывал. Зато он предоставлял своим основным персонажам возможность высказаться.
О Костагуане, о ее прошлой и будущей судьбе, о ее состоянии в романе очень много говорят, и при незначительных различиях все в один голос. Так из того, что мы сами видим на страницах книги, а еще больше со слов персонажей, мы узнаем горестную летопись, повествующую о том, что «управление страной — это смена разбойничьих шаек»; что полосы жесточайшей диктатуры сменялись в ней полосами так называемого «мирного парламентаризма», который представлял собой, в сущности, тот же разбой, только в более «мирной» форме повальной коррупции; что разложение вызывало взрыв народного недовольства, смиряемого очередной «твердой рукой», которая сбрасывала очередного «законного» президента и выдвигала демагогический лозунг «Всеобщего счастья». Короче, Костагуана представлена у Конрада жертвой, подвластной, притесняемой и неизменно обманываемой.
Один голос, из тех, что судят о Костагуане, вносит дополнительную, горькую ноту. «Прекрасная страна, и здесь выращен прекрасный урожай — ненависти, мести, грабежа и убийства… выращен сыновьями этой страны». Это говорит доктор Монигэм. Какими сыновьями? Судя по тому, как не только говорит, но и как действует Монигэм, стремящийся по мере сил облегчить участь раненых повстанцев, он имеет в виду не всех, тем более не простых костагуанцев, а тех, кто громко сами себя называют «сыновьями страны», то есть различных демагогов. Но в том-то и дело, что реального народного голоса, за исключением уличных выкриков, в романе не слышно. Народ не безмолвствует у Конрада, однако представлен он все же только в виде толпы, аморфной массы, попадающей то в одни, то в другие более или менее «жесткие» руки. Те же, кто подобно Ностромо или местному бунтарю Эрнандесу выделяются из толпы как личности, неизбежно вступают в игру, идущую по «правилам» бесправия.
Есть два момента в романе, заставляющие задуматься над тем, что поистине лишь отметил и не стал особенно пристально рассматривать Конрад. Один из моментов — это когда миссис Гулд читает письмо Эрнандеса — борца за справедливость, сделавшегося разбойником. И она, душа отзывчивая, вдруг видит за серой грязной бумажкой самого Эрнандеса, слышит «яростный и в то же время робкий крик человека, которого тупая, злобная, слепая сила превратила из честного крестьянина в бандита».
Этот признанный отпетым негодяем человек тоже сознает себя загнанным в «негодяйство», на путь преступления.
И другой эпизод: звучит гитара, пляшут и поют костагуанцы, только что собиравшие раненых. По своему обыкновению Конрад, приверженец такого повествовательного приема, как «точка зрения», вроде бы не сам сообщает о происходящем, но позволяет читателю увидеть это лишь глазами одного из персонажей. В данном случае автор избирает «точку зрения» Чарлза Гулда. Серебряный «король» рассматривает эту сцену с мрачной иронией. «С какой жестокой очевидностью тщетность человеческих усилий обнаруживала себя в легкомыслии и страданиях неисправимого народа», — так это выглядит в глазах Гулда. Но проницателен ли подобный наблюдатель? В том, что представляется своекорыстному «благодетелю» легкомыслием, проявляется подлинный идеализм, одухотворенность народа, обладающего неистощимыми силами, хотя и не осознающего этого до конца.
Если бы не некоторые приметы времени, если бы, допустим, американского покровителя Костагуаны поселить не на «одиннадцатом» (высоко по тем временам!), а на сто одиннадцатом этаже, то роман Конрада можно было бы прямо читать как книгу, написанную в наши дни. Тот факт, что Центральная и Южная Америка стала одной из «горячих точек» земного шара, говорит о проницательности писателя. Разумеется, история поправляет Конрада. Борьба не идет по замкнутому кругу, как это представлялось Конраду. Растущее национальное самосознание латиноамериканских народов уже прорвало и продолжает прорывать этот круг, добиваясь реальной свободы.
В своих странствиях по свету Конрад видел многое, видел и народную энергию, ценил ее, когда она представлялась ему подлинной. В романе «На взгляд Запада» он вложил в уста простой женщины Теклы или Феклы целый монолог о верности, на которой строил и свое собственное жизненное кредо.
Конрадианская вера только выглядит подчас бесцельной, ни на что не направленной, вроде замкнутого в себе состояния. Его капитаны на мостике, рулевые у штурвала, кажется, не ведут корабль, их главная забота лишь в том, чтобы корабль выдержал схватку со стихией. «И снова раздался голос капитана Маквира, голос, полузатопленный треском и гулом, словно судно, сражающееся с волнами океана. — Будем надеяться! — крикнул голос, маленький, одинокий и непоколебимый, как будто не ведающий ни надежды, ни страха».
Итак, ни надежды, ни страха — одиночество. И все же пробивающаяся сквозь всю эту немыслимую сумятицу человеческая стойкость и вера имеет ориентир. Им оказывается столь же ненарушимая связь людей друг с другом. Они, по Конраду, иногда обречены на эту связь, хотя бы и в смертельной схватке. Кристаллизуется еще одно важнейшее для Конрада понятие — солидарность, за нее у него все в ответе, хотя многие не находят к ней пути и совершают предательство по отношению к общечеловеческой спаянности.
В самом деле, во множестве современных книг мы увидим отзвук той же борьбы, обнаружим и подражание Конраду, и творческое развитие его уроков. «Я думаю, человек не просто выдержит, он восторжествует», — сказал, как бы поправляя старшего мастера, Уильям Фолкнер. Конечно, сказать о торжестве человека это еще не значит найти истинную опору для подобного торжества, ибо и Конрад проверял своих героев на выдержку с удесятеренной нагрузкой.
Автор «Ностромо» вошел в литературу нашего века, будто своего рода капитан, за которым, как в фарватере флагмана, шли один за другим западноевропейские и американские писатели, убежденные, что вера в человека необходима, не нужны — иллюзии.
Д. Урнов
НОСТРОМО
Посвящается Джону Голсуорси
В тяжелых тучах небо: грянет буря.
Шекспир, Король Джон VI, 2, 108. Перевод Н. Рыковой
ОТ АВТОРА
Из всех больших романов, которые я написал после того, как был опубликован сборник рассказов «Тайфун», ни один не создавался с таким напряженным усилием мысли, как «Ностромо».
Это вовсе не значит, что я ощутил, будто в моем мировоззрении возникли перемены и мои творческие задачи представились мне в ином свете. Возможно, перемен вообще не намечалось, не считая той единственной, загадочной, никак не связанной с теориями искусства: сам процесс вдохновения, чудилось мне, стал другим; но перемена эта произошла бессознательно, мой разум не был к ней причастен. И лишь одно меня до некоторой степени тревожило: как только я закончил последний рассказ, у меня почему-то возникло ощущение, будто писать больше совершенно не о чем.
Это странное ощущение, гнетущее и пугающее, длилось недолго; а затем, как не раз бывало, когда я задумывал роман или повесть, передо мною возник первый проблеск замысла в виде случайно всплывшего в памяти эпизода, полностью пока еще лишенного ценных для писателя подробностей.
Дело в том, что в 1875 или 76 году, будучи очень молодым и находясь в Вест-Индии, а точнее в Мексиканском заливе, ибо мое знакомство с сушей, куда я заглядывал редко и ненадолго, было весьма поверхностным, я услышал историю о человеке, которого подозревали в том, что он где-то на побережье Тьерра Фирме, воспользовавшись вспыхнувшим в стране мятежом, украл груженный серебром баркас.
Малый этот был, по-видимому, не промах. Но я не знал подробностей, к тому же не испытывал интереса к преступлениям, совершенным из низменных побуждений, и история эта, конечно, вскоре вылетела у меня из головы. Я вспомнил ее лишь спустя двадцать шесть или двадцать семь лет, когда вдруг наткнулся на нее, читая потрепанную книжку, которую случайно увидел на книжном развале подле лавки букиниста. Это было жизнеописание американского матроса, написанное им самим с помощью какого-то журналиста. Во время своих странствий этот матрос несколько месяцев проплавал на борту шхуны, шкипером и владельцем которой был тот самый вор, чью историю я слышал в ранней юности. Сомнений в этом у меня не было ни малейших, поскольку едва ли две столь необычные и сходные авантюры могли совершиться в одних и тех же краях, да притом еще под покровом событий, вызванных какой-то из южноамериканских революций.
Этому субъекту и впрямь удалось украсть груженный серебром баркас, причем, кажется, исключительно потому, что ему безоговорочно доверяли хозяева, люди, как видно, на редкость непроницательные. Матрос изобразил его в своем жизнеописании как отъявленного негодяя, заурядного проходимца, мерзкое, угрюмое существо, отличающееся тупой жестокостью и отталкивающей наружностью и никоим образом не заслуживающее щедрой награды, которой одарила его судьба. Любопытно, что он открыто похвалялся своим «подвигом».
Он говорил: «Все считают, что я на этой шхуне зарабатываю чертову гибель денег. Не деньги это, а пустяки.
О них и говорить не стоит. Зато время от времени я потихоньку ухожу на берег и приношу серебряный слиток. Богатеть-то я должен медленно… вот в чем суть».
И еще один любопытный штришок выплыл из рассказов об этом человеке. Однажды наш матрос поссорился со шкипером и пригрозил ему: «А что мне помешает рассказать на берегу всю эту историю насчет краденого серебра?»
Его слова нисколько не встревожили мерзавца. Наоборот, он просто расхохотался. «Дурень ты, если ты вздумаешь болтать обо мне что-нибудь подобное на берегу, ты получишь нож в спину. Здесь, в порту, каждый мужчина, женщина, ребенок — друг мне. И как ты докажешь, что этот баркас не затонул? Я ведь тебе не показывал, где спрятано серебро. Стало быть, ты ничего не знаешь. А вдруг я все наврал? Что тогда?»
Кончилось тем, что матрос, возмущенный наглым бесстыдством нераскаявшегося преступника, покинул шхуну. В его воспоминаниях весь эпизод занимает около трех страниц. Пустяк, казалось бы, но пока я просматривал эти страницы, неожиданное подтверждение нескольких слов, случайно услышанных мною в ранней юности, пробудило память о тех далеких временах, когда все было так свежо, так поразительно, так романтично, так интересно; чужие берега, мелькавшие под огромными южными звездами, тени гор в потоке солнечных лучей, бурные страсти, разгоравшиеся в сумерках, полузабытые слухи, поблекшие лица…
Как знать, как знать, может быть, и осталось еще что-нибудь в этом мире, о чем стоило бы написать. Впрочем, сама история не вдохновляла меня поначалу. Мошенник похитил огромное богатство, ценный груз. Так утверждают… может быть, справедливо, а может быть, и нет; во всяком случае, это утверждение само по себе ценности не представляет. Меня не тянуло изобретать во всех подробностях обстоятельства грабежа, мое литературное призвание было совсем иного рода. И лишь когда в моем сознании мелькнула мысль, что похититель вовсе не обязан быть прожженным жуликом, что он, возможно, даже человек незаурядный, способный совершать решительные поступки, а может быть, и жертва внезапных перемен, наступивших в ходе революции, лишь тогда передо мной, как в полумраке, возникла какая-то страна, которой впоследствии предстояло сделаться провинцией Сулако, высокие сумрачные хребты Сьерры и подернутая дымкой равнина — безмолвные свидетели событий, порожденных страстями людей, слепых в своем стремлении к добру и злу.
Именно так начало вырисовываться из небытия происхождение «Ностромо»… романа «Ностромо». Полагаю, с этого момента вопрос был решен. Но и тогда я еще колебался, будто инстинкт самосохранения удерживал меня от того, чтобы пуститься в дальний трудный путь по стране, где в изобилии плелись интриги, вспыхивали революции и мятежи. Тем не менее я должен был это сделать.
Я просидел за работой почти полностью 1903 и 1904 годы; неоднократно прерывал ее, охваченный боязнью затеряться в необозримых просторах, расстилавшихся передо мной все шире, по мере того, как я все больше узнавал об этой стране. К тому же часто, когда, как мне казалось, запутанные политические обстоятельства республики заводили меня в тупик, я, фигурально выражаясь, укладывал свой чемодан, удирал для перемены обстановки из Сулако и писал несколько страниц романа «Зеркало морей». Однако в основном, как я уже сказал, мое пребывание в Латинской Америке, славящейся своим гостеприимством, продолжалось около двух лет. По возвращении я нашел (выражаясь в стиле капитана Гулливера), что мое семейство благоденствует, супруга моя весьма довольна, что всем неурядицам пришел конец, а наш сынок порядком подрос за время моего отсутствия.
Главным источником истории Костагуаны послужил, разумеется, труд, который создал мой досточтимый друг, покойный дон Хосе Авельянос, посол при дворах Англии, Испании и проч. и проч., автор беспристрастной и красноречивой «Истории пятидесяти лет бесправия». Этот труд опубликован не был — читатель поймет, почему, — таким образом получилось, что я единственный человек на свете, знакомый с его содержанием. Долгие, долгие часы глубокого раздумья посвятил я его изучению, и, надеюсь, в моей точности никто не усомнится.
Желая быть справедливым по отношению к себе и рассеять недоверие будущих читателей, прошу позволения подчеркнуть, что приводимые в романе немногочисленные ссылки исторического характера сделаны отнюдь не для того, чтобы выставить напоказ знания, которыми располагаю только я. Нет, причина в том, что каждая из этих ссылок имеет непосредственное отношение к повествованию: она либо проливает свет на истинную суть текущих событий, либо связана с судьбою тех людей, о которых я здесь рассказываю.
Что же касается обстоятельств их жизни, я старался обрисовать всех — аристократию и простонародье, мужчин и женщин, латиноамериканца и англосакса, бандита и политического деятеля со всем возможным беспристрастием, какое допускали пыл и смятение моих собственных противоречивых чувств. К тому же и роман рассказывает о противоречиях между его героями. Пусть уж сам читатель разберется, в какой мере заслуживают внимания их поступки и тайные стремления сердец, вынесенные на его суд неумолимым временем. Для меня же время, о котором я пишу, это время верной дружбы и незабвенного гостеприимства. И полный благодарности, я должен здесь упомянуть миссис Гулд, «Первую леди Сулако», которую мы можем со спокойной душой вверить тайной преданности доктора Монигэма, а также Чарлза Гулда, идеалиста, создателя материальных благ, которого надлежит предоставить рудникам Сан Томе, с ними он связан навечно.
Что касается Ностромо, второго из двух моих героев, порабощенных рудниками и в то же время так непохожих друг на друга из-за различия национальных черт и принадлежности к разным общественным кругам, я чувствую себя обязанным кое-что добавить.
Я не колеблясь сделал главного героя итальянцем. Во-первых, это вполне правдоподобно: Западная провинция в то время была наводнена итальянцами, в чем может убедиться любой, кто продолжит чтение этой книги; а во-вторых, никто, кроме него, не смог бы так подружиться с Джорджо Виолой, гарибальдийцем, идеалистом, каких рождали гуманистические революции тех времен. Мне же самому был нужен человек из народа, свободный, сколь возможно, от классовых условностей и устоявшегося образа мыслей. Не считайте это выпадом против условностей. Мною руководили не моральные, а творческие побуждения. Будь он англичанином, он непременно попытался бы принять участие в местной политической игре. Однако Ностромо не старается занять ведущее положение. Он не хочет возвыситься над массами. Ему достаточно чувствовать себя силой… внутри народа.
Главным же образом Ностромо стал таким, каков он есть, потому, что возник в моем воображении еще в те времена, когда я совсем молодым впервые столкнулся с матросами, плавающими по Средиземному морю. Читатели, знакомые с другими страницами, — вышедшими из-под моего пера, без труда поймут меня и согласятся, что Доминик, хозяин «Тремолино», мог бы превратиться при сходных обстоятельствах в Ностромо. Во всяком случае, Доминик прекрасно понял бы причины его поступка… хотя, возможно, не одобрил бы их. Мы с ним ввязались в одно довольно нелепое приключение, но дело не в его нелепости. Важно, что даже в ранней юности я сумел вселить в этого человека верность с привкусом горечи и преданность с оттенком иронии. Многое из того, что говорит Ностромо, я сперва услышал произнесенное голосом Доминика. Положив руку на румпель и окидывая горизонт бесстрашным взглядом из-под капюшона, который затенял его лицо, словно монашеский клобук, Доминик любую свою речь, продиктованную мудростью ожесточения, начинал привычной фразой, произносимой с желчной интонацией «Vous autres gentilshommes!»[3]; она и поныне звучит в моих ушах. Как Ностромо! «Вы, hombres finos!»[4] Совсем как Ностромо! Но корсиканец Доминик в известной мере сохранил сословную гордость потомка старинного рода, а Ностромо был свободен от нее, ибо он происходил из еще более древнего рода. Груз бесчисленных поколений влачил он за собой, но не имел родословной, которой мог бы кичиться… так же, как народ.
В унаследованной им от народа прочной связи с землей, в щедрости и беспечности, в той легкости, с которой он расточал дарованные ему природой таланты, в тщеславии мужества, в смутном ощущении своего величия, в глубокой безрассудной преданности чему-то, что вселяло в него и отчаянность и отчаяние, во всех этих свойствах — он истинный Сын Народа, воплощение его независтливой силы, стремящейся не возглавлять, а управлять изнутри. Много лет спустя, когда знаменитый капитан Фиданца, прочно связанный с этой страной, сопровождаемый почтительными взглядами, шел мимо новых домов Сулако по многочисленным своим делам — навестить вдову каргадора [5], побывать в «ложе» местной свободолюбивой партии, где выслушивал, сам не говоря ни слова, анархические речи собравшихся — негласный вдохновитель недавно зародившегося революционного движения, безупречный и преуспевающий «товарищ Фиданца», постоянно помнящий о своем тайном падении и терзаемый им, в самом главном по-прежнему оставался человеком из народа. И в смешанном чувстве любви к жизни и презрения к ней, в страшной убежденности, что его предали, что он умирает преданный, а сам не знает толком, кем или чем, он и в этом Сын Народа, свято почитаемый «великий человек», но со своею собственной историей.
И еще одно лицо всплывает в памяти, когда я думаю о той мятежной поре, это лицо Антонии Авельянос, «прекрасной Антонии». Не берусь утверждать, что она воплотила собой тип юной уроженки Латинской Америки. В моих глазах — воплотила. Всегда чуть в тени, хотя рядом с отцом (моим досточтимым другом), надеюсь, она поможет придать вразумительность тому, что я хотел бы рассказать здесь. Из всех, кто наблюдал вместе со мной рождение Западной республики, лишь Антония мне постоянно напоминала: жизнь не кончается, она все время движется вперед. Антония, Аристократка, и Ностромо, Человек из Народа, — мастеровые, построившие новую эру, истинные создатели нового государства; он совершил свой мужественный, легендарный подвиг, она же просто оставалась сама собой, и в этом сила подлинной женщины, единственного существа, способного зажечь пламя искренней страсти даже в сердце ветреника Декуда.
Единственный, кто мог бы побудить меня вновь посетить Сулако (мне отвратительно думать о нем после того, как там произошли такие перемены), — это Антония. И причина — зачем таиться? — заключается в том, что прототипом этой девушки явилась моя первая любовь. С каким трепетом мы, стайка долговязых школяров, приятели ее братьев, взирали на нее, недавнюю школьницу, почитая знаменосцем великого дела — главного дела всей нашей жизни, хотя лишь она одна умела с неугасимой надеждой хранить ему верность! Вероятно, она была более пылкой и не такой безмятежно спокойной, как Антония, но в то же время безупречной пуританкой патриотизма, без малейшего намека на суетность в мыслях.
Не я один был влюблен в нее; но именно мне чаще остальных приходилось выслушивать ее язвительные замечания по поводу моего легкомыслия, — совсем как бедняге Декуду, — ни на кого так часто не обрушивался град ее суровых неопровержимых обвинений. Она догадывалась о моих чувствах лишь смутно… впрочем, это не важно. В тот день, когда я, робкий, но дерзостный грешник, пришел к ней попрощаться навсегда, она пожала мне руку — и у меня заколотилось сердце, я увидел на ее щеке слезинку, — и у меня перехватило дыхание. Она смягчилась наконец, будто заметила внезапно (мы ведь были еще совсем детьми!), что я и в самом деле уезжаю навсегда, что я очень далеко уезжаю… до самого Сулако, неведомого, скрытого от наших глаз непроницаемым туманом Гольфо Пласидо[6]!
Вот почему мне хочется порою бросить еще хоть один взгляд на «прекрасную Антонию» (а может быть, на ту, другую?), когда она тихо появляется в полумраке большого собора, читает краткую молитву у гробницы первого и последнего кардинала-архиепископа Сулако, стоит, охваченная благоговейной печалью, перед надгробным памятником дону Хосе Авельяносу и, бросив долгий, нежный, любящий взгляд на маленькую овальную мемориальную доску Мартину Декуду, тихо выходит на сверкающую солнцем площадь, стройная, с седой головой; последнее напоминание о прошлом, незамечаемое людьми, которые с нетерпением ожидают наступления новых эпох, прихода иных революций.
Впрочем, это совсем уж пустые мечты; ибо я отлично понимаю, что с той минуты, когда жизнь покинула тело отважного капатаса [7] и Сына Народа, освободившегося наконец от тягот любви и богатства, мне больше нечего делать в Сулако.
Дж. К.
Октябрь 1917
Часть первая
СЕРЕБРЯНЫЕ РУДНИКИ
ГЛАВА 1
В эпоху испанского владычества и в течение долгих лет после его окончания город Сулако — о древности его происхождения свидетельствует пышная краса расположенных в нем апельсиновых садов — в коммерческом отношении представлял собой обычный порт, ведущий довольно оживленную торговлю товарами местного происхождения: индиго и воловьими шкурами. Громоздким глубоководным галеонам завоевателей, способным плыть только при сильном ветре и останавливающимся там, где продолжают двигаться современные остроносые суда, для которых достаточно даже легкого ветерка, не удавалось добраться до Сулако, ибо в огромном заливе, раскинувшемся перед портом, постоянно царило безветрие. Существуют гавани, куда трудно проникнуть из-за коварно скрытых под водою рифов и бушующих у берега бурь. Порт Сулако ограждала от соблазнов заокеанской торговли нерушимая тишь залива Гольфо Пласидо, глубокие воды которого были окольцованы полукружием высоких гор в траурных завесах облаков, — нечто вроде исполинского храма, лишенного крыши и смыкающегося с океаном.
Этот единственный огромный изгиб на ровном, как стрела, побережье республики Костагуана завершается с одной стороны отрогом гряды прибрежных гор, образующим небольшой мыс под названием Пунта Мала[8]. С середины залива мыс не виден вообще; но крутой склон горы, от которой он отходит, различить все же можно, хотя и с трудом — он легкой тенью выделяется на небосклоне.
С противоположной стороны залива на ослепительной синеве горизонта маячит нечто напоминающее голубоватое туманное пятно. То полуостров Асуэра — причудливый хаос острых скал и каменистых уступов, прорезанных глубокими ущельями. Он глубоко вдается в море, словно грубо очерченная каменная голова, соединенная с лесистым побережьем тонким перешейком — песчаной полосой, покрытой зарослями колючего кустарника. Совершенно безводный, ибо каждый ливень немедля стекает по каменистым склонам в море, — ведь не зря говорят: на полуострове Асуэра так мало земли, что там трудно вырасти даже травинке — словно какое-то заклятие полностью оголило его.
Бедняки, движимые неосознанным стремлением связать воедино такие понятия, как богатство и зло, утверждают, будто Асуэра бесплодна из-за спрятанных на ней сокровищ. Простой народ, живущий в этой части побережья, пеоны [9]из ближних деревень, вакеро [10] с прибрежных равнин, мирные индейцы, приходящие издалека на рынок, чтобы продать там за три пенса связку сахарного тростника или большую корзину маиса, все они знают о грудах золота, которые скрыты в глубине ущелий, рассекающих каменистые уступы Асуэры. В старые времена, гласит молва, немало искателей кладов встретили там свою гибель. Существует и более недавний рассказ о двух бродягах матросах, — возможно, они были «американо» и уж во всяком случае гринго [11],— столковавшихся с каким-то парнем, бездельником и игроком, рассказ о том, как эти трое украли где-то осла, нагрузили на него вязанку хвороста, бурдюк с водой и запас провизии на несколько дней. Снарядившись таким образом, с револьверами у пояса, они пустились в путь по перешейку, и заросли колючего кустарника затрещали под ударами их мачете.
На следующий вечер в небе над остроконечным хребтом Асуэры впервые, как гласит молва, показались полупрозрачные клубы дыма, спиралью подымающиеся ввысь (несомненно от костра, который развели наши искатели кладов). Команда каботажного судна, задержанного штилем в трех милях от побережья, таращилась на них до темноты. Чернокожий рыбак, живущий в уединенной хижине на берегу расположенной неподалеку маленькой бухты, тоже заметил, как повалил дым, и счел его предвестником какого-то сверхъестественного явления. Он позвал жену, когда солнце уже почти коснулось горизонта. С недоверием, завистью и ужасом наблюдали они за чудесным знамением.
Нечестивые авантюристы после этого не подавали признаков жизни. Ни матросов, ни индейца, ни украденного осла больше никто и никогда не встречал. Что касается проводника — жителя Сулако, — жена его уплатила за несколько заупокойных месс, да и четвероногому безгрешному созданию была, возможно, ниспослана смерть; зато оба гринго, полагают люди, до сих пор скитаются в каменных ущельях — неумирающие призраки, жертвы фатального успеха. Их души не могут расстаться с телами, стоящими в карауле над найденным кладом. Они богаты ныне, но алчут и жаждут — любопытная теория о призраках гринго, готовых вечно мучиться без воды и пищи, об еретиках, упорствующих в своей ереси, от которой добрый христианин давно отрекся бы и получил отпущение.
Таковы легендарные обитатели Асуэры, охраняющие ее зачарованные богатства; и тень на небосводе с одной стороны, а с другой — голубоватое круглое пятно тумана, проступающее на ослепительной синеве горизонта, отмечают две крайние точки дуги, опоясывающей залив, именуемый Гольфо Пласидо, поскольку воды его ни разу еще не были потревожены сильным порывом ветра.
Едва лишь корабли, направляющиеся из Европы в Сулако, пересекут воображаемую линию между Пунта Мала и Асуэрой, тотчас же могучие океанские ветры перестают надувать их паруса. Здесь корабли эти становятся жертвой своенравных бризов, которые гоняют их порой туда-сюда часов по тридцать подряд. Раскинувшаяся перед глазами моряков гладь залива почти круглый год опоясана со стороны берега неподвижной и плотной стеной облаков. Редко выпадает солнечное утро, и тогда на смену облакам приходит другая тень. Лучи солнца прорываются из-за высокой зубчатой ограды Кордильер, ее темные вершины четко проступают в небесной синеве, крутые склоны высятся над величественным пьедесталом леса, заросли которого подходят к самой кромке воды. Среди темных вершин гордо вздымается белая глава Игуэроты. Гладкий снежный купол, словно черными точечками, испещрен нагромождениями огромных камней.
Позже, когда полуденное солнце изгоняет из залива отбрасываемую горами тень, начинают выползать облака, таившиеся до тех пор в долинах у подножья. Унылыми лохмотьями окутывают они голые утесы, торчащие над лесистой частью гор, укрывают вершины, набегают туманными полосами на снега Игуэроты. И вот уже не видно Кордильер, они словно распались на серые и черные туманные глыбы, которые медленно перемещаются к морю и растворяются в прозрачном воздухе вдоль всей гряды под напором ослепительного полуденного зноя. Тающий мало-помалу облачный вал всегда стремится к середине залива, но редко ее достигает. Его съедает солнце, говорят моряки. Разве что иногда ненароком темная предгрозовая туча оторвется от облачной глыбы, стремительно промчится по заливу в открытое море за Асуэрой и там взорвется, с треском, с пламенем, словно некий зловещий пиратский корабль, вздувшись над горизонтом, заполонив все море.
Ночью облачная пелена слегка поднимается кверху и окутывает весь залив непроницаемой тьмой, в которой вдруг — то здесь, то там — раздается гул стремительного ливня, а потом столь же внезапно умолкает. Об этих облачных ночах над заливом есть даже поговорки — их придумывали моряки на всем западном побережье огромного континента. Небо, земля и море исчезают разом, когда Пласидо — говорят они — ложится спать, накрывшись своим черным пончо. Несколько звездочек под хмурым челом облачной громады мерцают тусклым светом, словно они робко выглядывают из темной пещеры. Когда корабль пробирается сквозь нагромождения облаков, под ногами не видно палубы, а над головой полощутся незримые паруса. Око самого всевышнего, — добавляют моряки с угрюмым богохульством, — и то не разберет, каким делом заняты здесь человеческие руки; так что можно без опаски кликнуть дьявола себе на помощь, но и он не сумеет осуществить свои козни в такой кромешной тьме.
Весь берег вокруг залива обрывистый, крутой; там, где кончается полоса грозовых облаков, как раз напротив гавани Сулако, греются на жарком солнце три необитаемых островка, носящие название «Изабеллы».
Есть Большая Изабелла; есть круглый островок Малая Изабелла и самый маленький из трех — Эрмоса[12].
Эрмоса возвышается над водой всего на один фут, от одного ее краешка до того, что напротив, не более семи шагов, и представляет она собой просто плоскую верхушку серого камня, от которой валит пар после дождя, словно она посыпана горячим пеплом, и на которую ни один смертный до захода солнца не рискнет ступить босой ногой. На Малой Изабелле стоит старая косматая пальма, сущая ведьма среди пальм — ствол толстый, кривой, весь в шипах, а над жестким песком шуршит жидкая сухая листва. На Большой Изабелле течет чистый родник, он берет начало в заросшей кустами лощине. Остров напоминает плоский изумрудно-зеленый клинок, на целую милю прорезавший гладь залива, а на острове, тесно прижавшись друг к другу, стоят два высоких дерева, и кроны их отбрасывают густую тень к подножью стройных и гладких стволов. Лощина тянется во всю длину острова и густо заросла кустарником, особенно с одной стороны — высокой, крутой и обрывистой, другая же, пологая, постепенно переходит в узкую полоску пляжа.
Если стоять на этом пляже, то прямо перед тобой на две мили расстилается бухта, так четко врезавшаяся в плавную линию побережья, словно ее вырубили топором, и заканчивается она гаванью Сулако. Бухта продолговатая, похожа на озеро. С одной ее стороны короткие лесистые отроги и долины Кордильер подступают под прямым углом к самому берегу; с другой — широкая панорама прибрежной равнины Кампо[13], простирается так беспредельно, что под пляшущим над ней маревом незаметно переходит в нечто таинственное и туманное. Сам город Сулако — высокие стены, большой купол собора, ослепительно белые сторожевые башни, там и сям виднеющиеся сквозь листву громадной апельсиновой рощи, — расположен между горами и равниной на некотором расстоянии от гавани и с моря не виден.
ГЛАВА 2
Единственной приметой коммерческой деятельности, происходящей в порту, которую возможно рассмотреть, стоя на берегу Большой Изабеллы, является широкий и квадратный край деревянного пирса, воздвигнутого Океанской Пароходной Навигационной Компанией (в просторечье ОПН) над мелкой частью залива вскоре после того, как было принято решение сделать Сулако одним из портов захода в республике Костагуана. На обширном побережье республики есть несколько гаваней, но за исключением Каиты, — очень важный порт, — это либо непригодные для пользования узкие, окруженные скалами заливы, как, например, находящаяся в шестидесяти милях к югу Эсмеральда, либо же просто рейды, ничем не защищенные от морского ветра и капризов прибоя.
Возможно, те же атмосферные условия, которые в былые времена отгоняли от залива торговые корабли, побудили компанию ОПН вторгнуться в эту святая святых, оберегавшую мирное существование Сулако. Резвые бризы, слегка бороздящие исполинское полукружие залива, начинающееся от каменной головы Асуэры, не оказывают никакого противодействия силе пара, используемой превосходным флотом ОПН. Год за годом черные корпуса ее кораблей приближаются к берегу и удаляются от берега, входят в гавань и выходят из гавани, минуя Асуэру, минуя Изабеллы, минуя Пунта Мала, не покоряясь ничему, кроме жесткой тирании расписания. Их имена, все взятые из мифологии, вошли в бытовой обиход на этом побережье, где никогда не правили боги Олимпа. «Юнона» знаменита здесь только комфортабельными каютами в средней части судна, «Сатурн» радушным нравом капитана и роскошным салоном, сверкающим позолотой и белой краской, в то время как «Ганимед» предназначен главным образом для перевозки скота, почему его избегают отправляющиеся в каботажное плавание пассажиры. И даже самый невежественный индеец из самой захолустной прибрежной деревушки знаком с «Цербером» — этот черный пароходик не блещет ни изяществом линий, ни удобством кают, но зато никогда не пройдет мимо населенного пункта, даже если это всего лишь несколько хижин, и упорно пробирается вдоль лесистых берегов, шныряет среди устрашающих рифов, коль скоро его миссия скупать продукцию, пусть даже это натуральный каучук весом всего в три фунта в обертке из сухой травы.
И поскольку на судах этой компании, пожалуй, ни разу не было случая, чтобы затерялся даже крохотный сверток, не доехал до места телок или утонул пассажир, репутация ОПН считается в высшей степени надежной. Местные жители заявляют, что, вверив компании свои жизни и имущество, они чувствуют себя на воде гораздо спокойней, чем в собственных домах на суше.
Представитель ОПН в Сулако, он же главный управляющий всей костагуанской секцией, очень гордился доброй славой компании. Свои чувства он выражал фразой, буквально не сходившей с его уст: «Мы никогда не допускаем ошибок». По отношению к служащим компании это звучало суровым призывом: «Мы не имеем права допускать ошибки. Я ошибок тут не потерплю, а что там Смит у себя вытворяет, мне до этого нет дела».
Смит, которого он ни разу в жизни не видел, тоже служил в этой компании и тоже старшим управляющим… в полутора тысячах миль от Сулако. «Слушать я не желаю о вашем Смите».
Затем, внезапно успокоившись, он с нарочитой небрежностью прекращал разговор: «Смит об этом континенте знает не больше, чем грудной младенец».
«Наш достойнейший сеньор Митчелл» — в деловых и официальных кругах Сулако; «Джо Кипяток» — для шкиперов, служащих на кораблях компании, капитан Джозеф Митчелл очень гордился своими фундаментальными познаниями о жителях, событиях и нравах этой страны (cosas de Costaguana)[14]. Среди последних он считал предельно неблагоприятными для нормальной деятельности компании частые смены правительства — результат мятежей, облеченных в форму военных переворотов.
Политическая обстановка в республике была в то время довольно бурной. Удалившиеся в изгнание приверженцы потерпевшей поражение партии каким-то чудом вновь появились на побережье, доставленные пароходом, половина трюма которого была загружена легким огнестрельным оружием и боеприпасами. Это обстоятельство повергло капитана Митчелла в глубочайшее изумление, — он помнил, в какой глубокой нищете пребывали изгнанники после того, как обратились в бегство. По его словам, «похоже было, что у них не хватит даже денег на билет, чтобы уехать в другую страну». А он знал, что говорит, ибо в критический момент был призван спасти жизнь диктатора и нескольких чиновников, занимавших в Сулако при свергнутом режиме высокие посты: лидера партии, начальника таможни и шефа полиции. Бедный сеньор Рибьера (так звали диктатора), проиграв битву при Сокорро, отмахал по горным тропам восемьдесят миль в надежде опередить роковые вести, чего ему, конечно, не удалось осуществить, так как он ехал на хромом муле. Мало того, животное скончалось прямо под седлом, едва добравшись до Аламеды[15], где в промежутках между революциями по вечерам иногда играл военный оркестр. «Сэр, — с напыщенной серьезностью продолжал свое повествование капитан Митчелл, — несвоевременная кончина этого мула привлекла внимание к злосчастному всаднику. Его опознали несколько дезертиров из армии диктатора, которые оказались в толпе негодяев, уже начавших бить окна в здании ратуши».
Ранним утром этого дня местные власти Сулако обратились с просьбой об убежище и обрели его в конторе компании ОПН, — массивном здании, стоящем возле самого края пристани, — бросив город на милость мятежной толпы; и поскольку диктатор снискал жгучую ненависть населения, когда, пытаясь сохранить власть, был вынужден ввести весьма суровые законы о воинской повинности, его едва не разорвали на куски. По счастливому стечению обстоятельств оказавшийся рядом Ностромо — бесценный малый, — прихватив с собой нескольких итальянских рабочих, приехавших на прокладку Национальной Центральной железной дороги, вырвал беднягу из рук толпы… во всяком случае, на время. А немного погодя капитан Митчелл на собственной гичке доставил беглецов на один из принадлежавших компании пароходов — им оказалась «Минерва», — к счастью, именно в этот момент входивший в порт.
Он сумел опустить на улицу всех этих джентльменов на веревке из дыры в задней стене конторы ОПН, а тем временем хлынувшая из города толпа растеклась по берегу и с воплями бесновалась у входа в здание. Капитану Митчеллу также пришлось со всей поспешностью прогнать через пирс своих подопечных; отчаянный рывок, когда на карту поставлена жизнь… и опять Ностромо, незаменимый малый (каких и одного на тысячу не встретишь), возглавив на сей раз отряд работающих на грузовых баркасах матросов, отстоял пирс от напора толпы, таким образом дав беглецам возможность добежать до гички, которая их дожидалась у конца пирса и на корме которой развевался флаг компании. В воздухе засвистели камни, пули, замелькали палки, бросали и ножи. Капитан Митчелл охотно демонстрировал длинный шрам, который пересекал его висок и левое ухо, след, оставленный насаженной на палку бритвой, — оружие, как он пояснял, весьма любимое «самым гнусным черномазым отребьем, проживающим в этих краях».
Капитан Митчелл, осанистый, пожилой человек, носил короткие бачки, высокие воротнички с заостренными концами, питал слабость к белым жилетам и под маской высокомерной сдержанности скрывал весьма общительный характер.
— Эти джентльмены, — повествовал он, выпучив глаза, — мчались, как кролики, сэр. Я сам бежал, как кролик. Некоторые виды смерти… э-э… неприемлемы для… э-э… для респектабельного человека. Они избили бы меня до смерти, сэр. Обезумевшая толпа, сэр, в подробности не вникает. Но Провидение послало нам защиту в лице моего «капатаса каргадоров», как называют его в городе, человека, которого я оценил по заслугам еще в ту пору, когда он служил просто боцманом на итальянском судне, на большом корабле из Генуи, одном из тех немногих европейских кораблей, что прибывали изредка в Сулако с различным грузом до постройки «Национальной Центральной». Он покинул свой корабль, так как подружился здесь с одной семьей, своими соотечественниками, весьма почтенным семейством, сэр, но полагаю также, движимый желанием занять более высокое общественное положение. Сэр, скажу вам не чинясь, я не плохо разбираюсь в людях. Я назначил его старши́м на наших грузовых баркасах и смотрителем порта. Не более того. Но не будь этого человека, сеньор Рибьера погиб бы. Этот Ностромо, сэр, человек редкостных достоинств, стал грозой всех наших городских воров. В это время в городе от них буквально не было проходу, он кишел, кишмя кишел всевозможными ladrones[16] и matreros[17], ворами и убийцами, сбежавшимися к нам со всей провинции. Они нахлынули в Сулако еще за неделю до событий. Почуяли, что конец близок, сэр. В этой толпе убийц пятьдесят процентов составляли профессиональные бандиты из Кампо, но среди них не нашлось бы и одного, кто не слыхал о Ностромо. Что до нашего городского жулья, сэр, им достаточно было только увидеть его черные усы и белые зубы. Тут же душа в пятки уходила, сэр. Вот что значит сильная личность.
Утверждая, что Ностромо и только Ностромо спас жизнь «этих джентльменов», он не грешил против истины. Но и сам капитан Митчелл покинул их, только когда увидел, как они, совершенно пав духом, перепуганные, запыхавшиеся, кипящие бессильной злобой, но в полной безопасности сидят на бархатных диванчиках в салоне первого класса «Минервы». До последнего мгновения капитан Митчелл, обращаясь к бывшему диктатору, именовал его «Ваше превосходительство».
— Я не мог поступить иначе, сэр. Человек этот был жалок, просто жалок: мертвенно-бледный, даже синий, весь в царапинах и синяках.
На сей раз «Минерва» так и не стала на якорь. По приказу капитана Митчелла она немедленно покинула порт. Груз, конечно, так и остался в трюме, а пассажиры, направлявшиеся в Сулако, разумеется, не пожелали покинуть пароход. Они слышали звуки выстрелов и ясно видели, что сражение происходит у самого берега. Потерпев фиаско у пирса, толпа все свои силы устремила в новом направлении, набросившись на здание таможни, унылое сооружение со множеством окон, имеющее такой вид, словно его не достроили до конца, и находящееся в двух сотнях ярдов от конторы ОПН. Кроме этих двух зданий, других в порту не имелось.
Приказав шкиперу «Минервы» высадить «этих джентльменов» в первом же порту за пределами Костагуаны, капитан Митчелл вернулся в гичке на берег посмотреть, что можно сделать, чтобы по возможности уберечь имущество компании. Как имущество компании, так и имущество железной дороги защищали европейцы, а именно, сам капитан Митчелл и инженеры, занятые на постройке железной дороги; их поддерживали рабочие, итальянцы и баски, отважно сплотившиеся вокруг англичан. Местные жители — портовые грузчики — также отлично себя показали, выполняя распоряжения своего капатаса. Завсегдатаи местных винных погребков, отпетые субъекты, в чьих жилах текла кровь весьма многих народностей, но преимущественно чернокожих, восторженно приветствовали благоприятную возможность свести счеты с другими посетителями тех же погребков, с которыми они находились в состоянии постоянной междоусобной борьбы. И не один из них во время стычки вдруг с ужасом обнаруживал прямо у себя перед лицом револьвер Ностромо… Их капатас — не чета всякому, говорили его люди, он любого видит насквозь и не унижается до брани, наоборот, гораздо больший страх внушает его невозмутимость. И подумать только! Возглавив их в тот день, он снизошел до того, что шутил — то с одним, то с другим.
Это настолько вдохновило их, что, говоря по правде, весь ущерб, который нанесли разбушевавшиеся бандиты, заключался в том, что они подожгли один — всего один! — штабель железнодорожных шпал, каковые, будучи пропитаны креозотом, горели очень хорошо. Главные атаки — на сортировочные станции, на контору ОПН и прежде всего на таможню, где в кладовой хранились в сейфах несметные сокровища в виде серебряных слитков, — были отбиты полностью. Даже принадлежавшая старику Джорджо маленькая гостиница на полпути между городом и портом избегла потока и разорения не чудом, а по той причине, что сперва толпа о ней попросту забыла, воспламененная мыслью о сейфах, а потом уж останавливаться было недосуг. Слишком крепко жал на них Ностромо со своими каргадорес.
ГЛАВА 3
Вот здесь, пожалуй, можно сказать, что он просто защищал свое. Едва Ностромо поселился на суше, его принял в свою семью, как родного, хозяин гостиницы, его земляк. Старый Джорджо Виола, генуэзец с седой косматой гривой и львиным лицом, часто называемый «гарибальдиец» (точно так же магометан именуют в честь их пророка), как раз и был, употребляя выражение капитана Митчелла, главой того весьма почтенного семейства, следуя дружескому совету которого Ностромо покинул корабль и решился попытать счастья в Сулако.
Презрение к толпе — черта не столь уж редкая у суровых республиканцев — послужило причиной того, что старик не обратил поначалу внимания на шум и крики. Он провел день как обычно: слонялся в комнатных туфлях по дому, пожимал плечами, что-то сердито и презрительно бурчал себе под нос по поводу лишенной политической основы природы мятежа. И внезапно был застигнут врасплох, когда толпа стала приближаться и окружила гостиницу со всех сторон. Бежать поздно, да к тому же куда бежать по огромной открытой равнине вместе с дорогой синьорой Терезой и двумя маленькими дочками? Тогда, забаррикадировав окна и двери, старик с угрюмым, непреклонным видом сел посредине полутемной столовой, держа в руках ружье. Жена уселась рядом с ним на другом стуле, шепотком благочестиво взывая ко всем святым.
Старый республиканец не веровал ни в святых, ни в молитвы и не придерживался, как он выражался, «церковной религии». Свобода и Гарибальди были его божествами; но он с терпимостью относился к женским «предрассудкам», хранил высокомерное молчание и в споры не вступал.
Обе его дочери — четырнадцатилетняя старшая и младшая двенадцати лет, — сидя прямо на посыпанном песком полу, с двух сторон прижались к матери, уткнувшись в ее подол головенками, обе напуганные, но каждая по-своему: черноволосая Линда негодовала и сердилась, младшая же, белокурая Гизелла, растерялась, присмирела. Хозяйка, обнимавшая дочерей, отняла на время руки, перекрестилась, потом заломила их. Она простонала чуть громче:
— О, Джан Батиста, почему ты нас покинул? О! Почему же ты не с нами в этот час?
Она обращалась не к самому святому, а к Ностромо, названному в его честь. И Джорджо, неподвижно сидевший около нее, не выдержал и отозвался на ее полные отчаяния возгласы.
— Утихомирься, женщина. Есть ли смысл в твоих словах? Он выполняет свой долг, — пробормотал он, на что синьора Тереза с живостью возразила, задыхаясь от негодования:
— А! Слышать этого я не желаю! Какой там долг? А перед женщиной, которая ему мать заменила, нет долга? Я на колени нынче утром стала перед ним: не уходи, Джан Батиста… останься с нами, Батистино… ты взгляни только на этих невинных детей!
Миссис Виола тоже была итальянкой, уроженкой Специи; будучи значительно моложе мужа, она уже достигла тем не менее средних лет. Из-за неблагоприятного для нее климата Сулако ее красивое лицо приобрело желтоватый оттенок. Говорила она звучным контральто. Когда, скрестив на груди руки и подпирая ими свой могучий бюст, она отчитывала приземистых толстоногих девушек китаянок, которые стирали белье, ощипывали кур, толкли зерно в деревянных ступках среди глинобитных домиков и сараев на заднем дворе, ей порой случалось испустить столь негодующий, дрожащий, прямо-таки замогильный возглас, что дворовая собака, гремя цепью, опрометью бросалась в конуру. Луис, мулат цвета корицы, с темными толстыми губами под кудрявой порослью усов, подметавший кафе метлой из пальмовых листьев, невольно прерывал свое занятие, и по спине его пробегали мурашки. Он надолго застывал в неподвижности, зажмурив миндалевидные с поволокой глаза.
Таков был штат Каса[18] Виола, но все эти люди сбежали еще рано утром при первых звуках мятежа, предпочитая спрятаться где-нибудь на равнине, ибо не надеялись, что останутся в безопасности в доме; предпочтение, за которое их никоим образом нельзя было осуждать, поскольку в городе упорно ходили слухи — вполне возможно, и несправедливые, — что у гарибальдийца водятся деньги и он прячет их под глиняным полом на кухне. Пес, раздражительная, лохматая животина, то яростно лаял, то жалобно скулил возле черного хода, залезал в конуру и снова из нее выскакивал в зависимости от того, злость или страх двигали им в эту минуту.
Вокруг осажденного дома внезапно вспыхивали громкие вопли и замирали вдали, подобно бурному порыву ветра на равнине; резкие хлопки выстрелов становились все громче и заглушали крик. Иногда вдруг почему-то наступала тишина, и тогда удивительно милым, веселым покоем веяло от ярких нитей солнечного света, которые проникали в комнату сквозь щелки в ставнях и тянулись через всю столовую по сдвинутым со своих мест столам и стульям. Эту пустоватую с белеными стенами комнату старый Джорджо выбрал в качестве убежища. В ней было всего одно окно, и единственная дверь выходила на песчаный проселок, окаймленный зарослями алоэ, соединявший город и порт, и поэтому мимо гостиницы нет-нет да проезжали тяжеловесные громоздкие скрипучие телеги, неторопливо влекомые упряжкой волов в сопровождении верхового погонщика.
Когда наступала тишина, Джорджо взводил курок. Зловещий звук этот исторгал тихий стон из уст застывшей рядом с Джорджо женщины. Внезапно у самого дома раздались угрожающие крики, а потом столь же внезапно перешли в приглушенное ворчание. Кто-то бежал мимо гостиницы: на миг сквозь дверь прорвалось его тяжелое дыхание; они услышали, как вдоль стены топали чьи-то ноги, как кто-то хрипло бормотал себе под нос; потом задел плечом жалюзи, и исчезли яркие нити солнечного света, лежавшие от стены до стены. Синьора Тереза, обнимавшая дочек, которые стояли рядом с ней на коленях, судорожно прижала их к себе.
Толпа подонков, оттесненная от таможни, разбилась на несколько групп и отступала к городу по равнине. Иногда издали слышался приглушенный треск залпов и сразу вслед за ними — негромкие крики. В перерывах между залпами порою прозвучит одинокий выстрел, гостиница — невысокое, длинное белое здание с закрытыми ставнями — оказалась как бы в самом центре всей этой шумной, грозной суеты, которая окружила притихший дом. Но вот какая-то обратившаяся в бегство шайка спряталась на время под прикрытием стены, и в темной комнате, так мирно и славно пестревшей нитями солнечного света, вдруг украдкой запылали огоньки зловещих звуков. Семья Виола явственно их слышала, словно сновавшие по комнате невидимые духи вполголоса переговаривались: мол, неплохо бы поджечь дом этого иностранца.
Выдержать это было тяжко. Старый Виола медленно встал, держа в руке ружье и сам не зная, как быть: ведь помешать им невозможно. А голоса уже раздавались под задней стеной. Синьора Тереза обезумела от ужаса.
— О, предатель! Предатель! — Почти беззвучно шептала она. — Нас сожгут тут, а я еще становилась перед ним на колени. Нет, он, видите ли, должен ублажать своих англичан, ни на шаг от них не отойдет.
Она, по-видимому, считала, что Ностромо одним своим присутствием ограждал дом от любой опасности. Иными словами, и донья Тереза свято верила в капатаса каргадоров, как верили в него, прославленного и неуязвимого, и в порту, и на железной дороге, и англичане, и коренные жители Сулако. Зато, разговаривая с ним, она, даже рискуя вызвать недовольство мужа, неизменно делала вид, будто ей просто смешна эта вера, потешалась над ней, порой добродушно, чаще же с непонятной озлобленностью. Но ведь женщины в своих суждениях не отличаются последовательностью, невозмутимо говорил в подобных случаях ее супруг. А вот сейчас, держа ружье наизготовку и не спуская с забаррикадированной двери глаз, он наклонился к жене и еле слышно шепнул ей на ухо, что Ностромо все равно не удалось бы им помочь. Как могут двое находящихся в доме мужчин воспрепятствовать двадцати, а то и более находящимся вне дома и решившим его поджечь? Джан Батиста думает о них все время, он уверен.
— Он о нас думает! Он! — гневно вскричала синьора Виола. Она ударила себя ладонями в грудь. — Уж я-то его знаю. Ни о ком он не думает, кроме себя.
Тут несколько выстрелов грянуло совсем рядом, и синьора Тереза зажмурилась, запрокинув голову. Старый Джорджо стиснул зубы и яростно сверкнул глазами. Несколько пуль попало в стену дома, все в одно место — возле самого угла; со стуком упали на землю куски штукатурки; кто-то крикнул: «Идут!», миг напряженной тишины, и у стены торопливо затопали ноги.
И только тогда наконец старый Джорджо спокойно выпрямился; презрительное облегчение промелькнуло в улыбке старого воина с львиным лицом. Это не борцы за справедливость, просто воры. Даже защищать свою жизнь от таких несколько унизительно для человека, входившего в «тысячу бессмертных»[19] Гарибальди во время освобождения Сицилии. Он с глубоким презрением относился к мятежу негодяев и мелких жуликов, даже не знавших значения слова «свобода».
Он опустил ружье и, обернувшись, бросил взгляд на портрет Гарибальди — цветную литографию в черной рамке, — яркий солнечный луч пересекал ее сверху донизу. Привыкшие к полутьме глаза Джорджо сразу увидели и смуглое лицо, и красную рубашку, и широкие плечи, и черное пятно над загорелым лбом — шляпа берсальера[20] с загнутым над тульей петушиным пером. Бессмертный герой! Он-то понимал, что такое «свобода»: людям даруется не только жизнь, но заодно и бессмертие.
Его фанатичная преданность этому человеку не уменьшилась с годами. Как только миновала опасность, быть может, самая страшная из всех, что грозили его семье за долгие годы их странствий, он прежде всего повернулся к портрету своего старого вождя и только после этого положил руку на плечо жены.
Девочки все так же неподвижно стояли на коленях. Синьора Тереза приоткрыла глаза, словно просыпаясь после тяжелого, глубокого сна без сновидений. И не успел он, как всегда нескорый на язык, вымолвить слово утешения, она вскочила, прижимая к себе детей, и, чуть не задохнувшись от волнения, хрипло закричала.
В тот же миг раздался оглушительный грохот: кто-то сильно ударил по ставне с внешней стороны. Всхрапнула лошадь, зацокали копыта на узкой утоптанной дороге перед домом; кто-то опять стукнул по ставне носком сапога, и опять звякнула шпора, а возбужденный голос кричал: «Эгей! Эгей! Есть там кто?»
ГЛАВА 4
Все утро Ностромо, даже находясь в самой гуще схватки у таможни, где страсти разыгрались сильнее всего, то и дело поглядывал на Каса Виола. «Если оттуда повалит дым, — думал он, — значит — они погибли». Поэтому, едва разогнав тех, кто пытался прорваться к таможне, он с небольшой группой рабочих итальянцев ринулся вдогонку за бандитами, бежавшими к гостинице, поскольку проселок, у которого она стояла, был кратчайшим путем из порта в город. Негодяи, за которыми он гнался, казалось, решили обороняться, притаившись за углом гостиницы; их обратил в бегство залп — соратники Ностромо выстрелили одновременно из-за колючих зарослей алоэ. В просвете среди зарослей, где должна была пройти ведущая в гавань колея железной дороги, появился Ностромо верхом на серебристо-серой кобыле. Он с криком выстрелил вслед беглецам и галопом подскакал к окну столовой. Он догадывался, что старый Джорджо выберет в качестве убежища именно эту часть дома.
До них донесся его голос, задыхающийся, торопливый:
— Hola! Vecchio! O, vecchio![21] Как там у вас, все в порядке?
— Ты слышишь?.. — негромко обратился старик Виола к жене.
Но синьора Тереза молчала. Ностромо засмеялся.
— Сдается мне, хозяйка осталась в живых!
— Уж ты-то сделал все, чтобы я померла со страху, — крикнула в ответ синьора Тереза. Она хотела еще что-то добавить, но голос изменил ей.
Линда вскинула на мать укоризненный взгляд, но старый Джорджо тут же извинился за жену:
— Она немного расстроена, вот в чем дело.
Ностромо снова захохотал:
— Зато меня она не расстроит.
Тут синьора Тереза вновь обрела голос:
— А я что говорю? У тебя нет сердца… да и совести у тебя нет, Джан Батиста…
Они услышали, как он повернул лошадь. Его спутники намеревались продолжать погоню и возбужденно тараторили между собой на испанском и итальянском, подстрекая друг друга. Он выехал вперед с криком: «Avanti!»[22]
— Не так-то долго он у нас пробыл. Еще бы, мы не иностранцы, от нас награды не дождешься, — усмехнувшись, произнесла синьора Тереза. — Avanti! Как же! Ему только этого и нужно. Быть первым где угодно… как угодно… всегда быть первым у своих англичан. А они показывают его друг дружке. «Вот наш Ностромо!» — Она недобро рассмеялась. — Ну и имечко! Да что оно значит? Ностромо! Дали человеку кличку, ведь у них даже и слова-то такого нет.
Старый Джорджо тем временем спокойно и неторопливо отворил дверь; в комнату хлынул поток света и озарил синьору Терезу с тесно прижавшимися к ней дочерьми; она была живописна — красивая женщина, охваченная порывом материнской любви. А сзади ослепительно белая стена и литография, кричащие краски которой поблекли, залитые ярким светом солнца.
Старый Виола, стоя у дверей, поднял вверх руки, словно адресуя все мысли, сумбурно проносящиеся у него в мозгу, портрету вождя на стене. Даже стряпая для «signori inglesi»[23]— инженеров (он был отменный повар, хотя работать ему приходилось в полутемной кухне), он ощущал на себе взгляд великого человека, того, под чьим командованием когда-то участвовал в славной битве, где чуть не рухнула навеки тирания, если бы не проклятые пьемонтцы, привыкшие к владычеству королей и попов. Если во время ответственнейшей операции с нарезанным луком вдруг загоралась сковородка и старый Джорджо с бранью выскакивал из кухни, задыхаясь от кашля в едком облаке дыма, имя Кавура[24]— подлого интригана, продавшегося тиранам и королям, — упоминалось вперемежку с проклятиями, извергаемыми на головы китаянок-подручных, кулинарии вообще и омерзительной страны, где он вынужден жить, так как любит всей душой задавленную предателем свободу.
В таких случаях синьора Тереза, красивая, чернобровая, вся в черном, возникала из других дверей, приближалась к мужу, осанистая и встревоженная, склонив голову, раскинув руки и проникновенно восклицая:
— Джорджо! Необузданных ты страстей человек! Милость господня! На таком солнце! Он доведет себя до болезни!
Оказавшиеся у ее ног куры бросались врассыпную; а если в это время в город приезжали по делам инженеры с железной дороги, из окна бильярдной выглядывало лицо, явно принадлежащее молодому англичанину, а иногда и два таких лица; зато в другой части гостиницы, в столовой, мулат Луис прилагал все старания, чтобы остаться незамеченным. Молодые индианки, чья одежда состояла из сорочки и короткой юбки, а густые волосы напоминали струящуюся черную гриву, тупо таращились на хозяйку из-под квадратных челок, закрывавших весь лоб до бровей; но вот кипящий жир переставал скворчать, вредоносные пары, пронизанные светом солнца, устремлялись кверху, оставляя за собой только запах пережаренного лука, резкий и настолько стойкий, что он надолго застревал в горячем сонном воздухе у гостиницы; а вокруг неоглядные просторы прерий, протянувшиеся на запад так далеко, что казалось, огромная равнина между грядами гор, в пределы которой попадал и Сулако, и все побережье до бухты Эсмеральда[25], занимает полмира.
После внушительной паузы синьора Тереза укоризненно произносила:
— Ох, Джорджо, Джорджо! Забудь про Кавура да подумай лучше о себе, мы здесь такие одинокие, в чужой стране с двумя детишками, а все потому, что ты не можешь жить там, где правит король.
И, глядя на мужа, она иногда торопливо хваталась рукою за бок, ее тонкие губы сжимались в этот миг, и хмурились прямые черные брови — то ли боль, боль гнева, то ли гневная мысль тенью пробегала по красивым правильным чертам.
Это была боль; усилием воли она подавляла ее приступ. Впервые боль кольнула ее через несколько лет после того, как, покинув Италию, они эмигрировали в Америку и устроились наконец в Сулако, а сперва долго-долго кочевали из города в город, в надежде открыть где-нибудь лавку; попробовали также как-то в Мальдонадо заняться рыболовством, ибо Джорджо, подобно великому Гарибальди, был в свое время моряком.
Иногда синьоре Терезе казалось, она не в силах вынести эту боль. Ведь сколько лет она ее донимает, и уже как бы неотделима от местного ландшафта: равнины и сверкающего залива, обрамленного лесистыми отрогами гор; даже солнце светит тускло, тяжко, эта тяжесть — тоже боль, — совсем не так оно светило в годы ее девичества, когда на берегу залива Специя немолодой уже Джорджо ухаживал за ней с угрюмой страстностью поздней любви.
— Джорджо, немедленно иди в дом, — приказывала она. — Можно подумать, у тебя нет даже капли жалости ко мне… а ведь у нас гостят четверо signori inglesi.
— Va bene, va bene[26],— бормотал Джорджо.
И послушно шел в дом. Signori inglesi и в самом деле скоро потребуют второй завтрак. Он был одним из бессмертных и непобедимых борцов за свободу, под натиском которых тирания развеялась, как мякина при первом дуновении урагана, un uragano terrible[27]. Но тогда у него еще не было ни жены, ни детей; и тираны еще не подняли вновь голову, и предатели еще не подвергли заточению Гарибальди, его героя и вождя.
В Каса Виола со стороны фасада было три входных двери, и на пороге одной из них всегда сидел старик гарибальдиец, сложив руки, скрестив ноги, опираясь о косяк львиной головой с пышной копной седых волос, и разглядывал лесистые склоны предгорий и снежный купол Игуэроты. Дом отбрасывал длинную черную тень — прямоугольник, который слегка расширялся там, где проходила пыльная, разбитая воловьими копытами дорога. Из просветов в живой изгороди олеандров выбегали рядышком две сверкающие ленты ведущей в гавань железнодорожной ветки, временно проложенной по равнине, и, удаляясь, описывали дугу на пожухлой выжженной траве ярдах в шестидесяти от гостиницы. Вечерами порожние платформы товарных поездов огибали темно-зеленую рощу и, оставляя за собой белые, слегка волнистые струйки дыма, плывущие над равниной в сторону Каса Виола, с грохотом уносились в расположенные близ порта депо. Машинисты итальянцы приветственно махали хозяину гостиницы рукой, тормозные же рабочие негры невозмутимо сидели у тормозов и глядели прямо перед собой — лишь ветер трепал широкие поля их шляп. В ответ Джорджо слегка кивал головой, руки же оставались неподвижно сложенными на груди.
В день мятежа он не сидел, сложив на груди руки. Рука его сжимала приклад лежавшего на пороге ружья; и он ни разу не взглянул на белый купол Игуэроты, холодная чистота которого представлялась такой далекой от жаркой и знойной земли. Его глаза с любопытством оглядывали Кампо. То здесь, то там медленно оседали высокие столбы пыли. На безоблачном небе ослепительно сверкало солнце. Какие-то люди, сбившись кучками, бежали по равнине; иные вдруг останавливались; и не смолкал треск выстрелов, звучавших вразнобой, — в горячем неподвижном воздухе он смягчался и походил на журчание ручья. Во всю мочь мчались одинокие фигурки пеших беглецов. Налетали друг на друга верховые и, завертевшись волчком в короткой стычке, уносились в разные стороны во весь опор. Джорджо видел: вот на полном скаку внезапно упали и лошадь, и всадник, исчезли, будто в пропасть провалились, и все перипетии боя на словно чудом ожившей равнине напоминали жуткую игру, которую вели между собой пешие и конные карлики, вопившие во всю мочь своих крохотных глоток у подножья горы, которая казалась исполинским символом тишины. Джорджо никогда еще не видел, чтобы на этом участке Кампо так бушевала, так кипела жизнь; он не мог единым взглядом охватить поле битвы; заслонил рукой глаза, но внезапно вздрогнул: где-то совсем рядом земля загудела под ударами множества копыт.
Целый табун лошадей повалил изгородь и вырвался на волю из загона, принадлежавшего железнодорожной компании. Они помчались, словно смерч, и перемахнули через колею сплошным, разношерстным, бурливым потоком вороных, гнедых и серых спин, всхрапывая, взвизгивая, брыкаясь, вытянув шеи, выпучив глаза, раздувая ноздри, и длинные хвосты их развевались на бегу. Как только они очутились на дороге, густая туча пыли поднялась от их копыт, и уже в пятнадцати шагах от себя Джорджо видел лишь что-то коричневое, смутно мелькали шеи, крупы, тряслась земля.
Он закашлялся, отвернулся и покачал головой.
— Сегодня, еще до наступления темноты, будет новая забава — ловля диких лошадей, — пробормотал он.
В квадрате солнечного света, который падал в дверь, стояла на коленях синьора Тереза, склонив голову и сжимая ладонями гладко зачесанные густые черные, как вороново крыло, волосы, слегка тронутые сединой. Черная кружевная шаль, которой она обычно прикрывала лицо, свалилась на пол. Девочки уже поднялись с колен, крепко держась за руки, обе в коротеньких юбках, с растрепанными головенками. Младшая торопливо заслонила глаза рукой, будто испугавшись яркого света. Линда обняла сестренку за плечи и бесстрашно смотрела прямо в раскрытую дверь. Старик Виола поглядел на дочерей.
В потоке солнечного света казались глубже все морщины на его лице, что придавало ему неподвижность статуи, невзирая на живое, энергическое выражение. Невозможно было догадаться, о чем он думает. Взгляд темных глаз скрывали густые кустистые брови.
— Ну! Мать молится, а вы-то что?
Линда насупилась, выпятив красные губки, пожалуй, слишком красные; у нее были чудные глаза, карие, с золотистой искоркой, умные и выразительные и такие блестящие, что казалось, от них падает отблеск на худенькое, лишенное красок лицо. В темных волосах проглядывали бронзовые пряди, а из-за длинных угольно-черных ресниц лицо казалось еще бледнее.
— Мама опять поставит в церкви много, много свечей. Когда Ностромо где-нибудь сражается, она всегда их ставит. Я отнесу несколько свечек к алтарю мадонны в соборе.
Линда произнесла все это быстро и с уверенностью, голосок ее звучал убедительно и оживленно. Потом, слегка тряхнув сестренку за плечо, добавила:
— Ей тоже придется отнести одну свечку!
— Почему придется? — поинтересовался Джорджо. — Разве ей не хочется поставить свечу?
— Она трусишка, — пояснила Линда и фыркнула. — Когда она с нами идет, все сразу замечают, что у нее светлые волосы. Кричат ей вслед: «Взгляните-ка на рыжую! На рыженькую поглядите!» Мы идем по улице, а они кричат. Она трусишка.
— Ну, а ты? Ты не трусишка …так, что ли? — медленно произнося слова, спросил отец.
Она мотнула головой, откинув волосы со лба.
— Мне вслед никто ничего не кричит.
Старый Джорджо задумчиво и внимательно смотрел на девочек. Одна всего на два года старше другой. Поздние дети, они родились, когда прошло уже несколько лет после смерти сына. Если бы их сын не умер, он был бы сейчас примерно ровесником Джана Батисты… того самого, кого англичане называют Ностромо; но что касается дочерей, угрюмый нрав, преклонный возраст и власть воспоминаний помешали Виоле обращать на них особое внимание. Он любил их, но дочери всегда принадлежат больше матери, чем отцу, к тому же почти весь пыл своего сердца он растратил на то, что боготворил свободу и служил ей.
Еще подростком он сбежал с торгового судна, шедшего с грузом в Ла Плату, и в Монтевидео завербовался в уругвайскую эскадру, которой в те времена командовал Гарибальди. Позже в рядах итальянского легиона этой республики, восставшей против деспотического вмешательства Розаса[28], он на огромных равнинах и берегах громадных рек участвовал в сражениях столь жарких, каких, возможно, еще не знала мировая история. Люди, окружавшие его, витийствовали о свободе, страдали за свободу, умирали за свободу, самозабвенно и восторженно, а взгляд их был все время обращен в сторону угнетенной Италии. Так и его энтузиазм был взращен в кровавых битвах, в грохоте сражений, среди людей, посвятивших себя благородному делу, среди речей, преисполненных пафоса и пыла. Он сам выбрал себе вождя — воинствующего апостола Независимости — и никогда не покидал его, был с ним и в Америке, и в Италии, вплоть до рокового дня, когда у подножия Аспромонте произошло событие, открывшее миру коварство королей, императоров и попов: его герой был ранен и взят в плен — чудовищная катастрофа, заставившая Джорджо усомниться в своей способности понять пути божественного промысла.
Что не мешало ему веровать, однако. Просто нужно набраться терпения, говорил он. Он не любил попов и не вошел бы в церковь ни за какие блага, но он веровал в бога. Ведь все воззвания против тиранов были обращены к народу во имя бога и Свободы. «Бог — для мужчин, религия — для женщин», — бормотал он порой. В Сицилии англичанин, попавший в Палермо после того, как оттуда были выведены королевские войска, подарил ему библию на итальянском языке — издание «Библейского общества Британии и заморских стран», большую книгу в темном кожаном переплете. В годы застоя, политического бездействия, когда революционеры не выступали с воззваниями, Джорджо зарабатывал себе на жизнь всем, что под руку подвернется, — служил матросом, грузчиком в генуэзском порту, нанялся однажды батраком на ферму в горах близ Специи — и в свободное от работы время неизменно изучал толстый том в темной обложке. Он брал его в бой. Сейчас библия стала единственной книгой, которую он читал, и, чтобы не лишать себя этой возможности (из-за мелкого шрифта), он согласился принять в подарок очки в серебряной оправе от сеньоры Эмилии Гулд, супруги англичанина, который управлял в горах, в трех лье от города, серебряными рудниками. Сеньора Эмилия была единственной англичанкой в Сулако.
Джорджо Виола очень уважал англичан. Это почтение, возникшее впервые в уругвайских битвах, не покидало его уже сорок лет. Он видел, и не раз, как англичане проливали свою кровь ради свободы в странах Америки, и особенно запомнил первого, с кем познакомился — его звали Сэмюель; во время славной осады Монтевидео он командовал негритянской ротой в войсках Гарибальди и геройски погиб вместе со своими неграми при переправе через Бойану. Сам Джорджо получил тогда чин поручика и готовил еду для генерала. Позже, в Италии, в чине лейтенанта он разъезжал повсюду со штабом и по-прежнему стряпал для генерала. Он стряпал для него в продолжение всей ломбардской кампании; во время похода на Рим он добывал быков и коров на американский манер при помощи лассо; был ранен, защищая Римскую республику; оказался в числе четырех беглецов, которые вместе с Гарибальди вынесли из леса бесчувственное тело его жены и спрятали ее на какой-то ферме, где она и умерла, измученная тяготами этого кошмарного отступления. Он пережил все это и по-прежнему оставался при генерале в Палермо, когда на город обрушились из замка ядра неаполитанцев. Он стряпал для него на поле боя при Волтурно, сражения, продлившегося целый день. И всюду он встречал англичан в первых рядах армии свободы. Он испытывал почтение к этой нации, ибо они любили Гарибальди. Говорили, даже их графини и принцессы целовали руки генерала, когда он приезжал в Лондон. Джорджо охотно этому поверил: англичане благородная нация, человек же этот был святой. Достаточно хоть раз взглянуть ему в лицо, чтобы прочесть на нем божественную силу веры и безграничное сочувствие ко всем, кто беден, кто угнетен, кто страдает.
Дух самопожертвования, бесхитростная преданность грандиозной идее человеколюбия, определявшие мироощущение в ту революционную эпоху, наложили отпечаток на Джорджо, и он с суровым пренебрежением относился к любым попыткам достичь личной выгоды. Этот человек, которого чернь Сулако подозревала в том, что он хранит где-то на кухне кубышку, всю жизнь презирал деньги. Кумиры его юности прожили жизнь в бедности и умерли бедняками. У него вошло в привычку никогда не думать о завтрашнем дне. Привычку эту породила отчасти суровая жизнь воина, полная волнений и неожиданных поворотов судьбы. Но важнее принципы. Равнодушие к житейским благам не было беспечностью кондотьера, скорее неким пуританством образа жизни, взращенным, подобно религиозному пуританству, суровым вдохновением души.
Эта суровая преданность делу омрачила закат его жизни. Омрачила, ибо дело казалось проигранным. Слишком много королей и императоров благоденствовали еще в этом мире, предназначенном господом богом для народа. И Джорджо искренне горевал. Он всегда охотно оказывал помощь землякам и пользовался глубочайшим уважением эмигрантов из Италии везде, где ему приходилось жить («в моем изгнании», — говаривал Джорджо), но он не мог скрыть от себя, что земляков нисколько не волнуют бедствия угнетенных наций. Они с интересом слушали его рассказы о войне, но, казалось, недоумевали, а что же приобрел он, совершая все эти ратные подвиги? Похоже, ничего. «Да мы и не хотели ничего, мы жертвовали собой из любви к человечеству», — яростно выкрикивал он порой, и громовые раскаты его голоса, сверкающие глаза, развевающаяся седая грива, загорелая мускулистая рука, протянутая вверх, словно он небеса призывал в свидетели, производили впечатление на слушателей. Когда старик внезапно замолкал, напоследок тряхнув головой и махнув рукой: «Стоит ли, мол, с вами говорить?», они подталкивали друг друга локтем. В старом Джорджо была сила чувств, присущая только ему страстная убежденность, словом, то, что они называли «terribilità»;[29] «старый лев», так они его величали. Какой-нибудь пустячный случай, ненароком брошенное слово, и Джорджо начинал говорить на берегу в Мальдонадо перед итальянцами рыбаками, с земляками покупателями в лавочке, которую держал уже позже (в Вальпарайсо); или вдруг вечерами в столовой, в той части Каса Виола (другая предназначалась для английских инженеров), где собиралась его избранная клиентура: паровозные машинисты и десятники из железнодорожных мастерских.
Обратив к нему красивые, загорелые, худые лица с глянцевитыми черными кудрями и сверкающими глазами, широкоплечие, бородатые, а кое-кто с тоненькой золотой серьгой в ухе, эти аристократы железной дороги внимали Джорджо, позабыв о домино и картах. Два-три светловолосых баска терпеливо выжидали, положив на стол руки и разглядывая их. Никто из уроженцев Костагуаны не осмеливался вторгнуться сюда. Здесь была цитадель итальянцев. Даже ночной патруль конной полиции проезжал мимо гостиницы неслышным шагом, и полицейские лишь пригибались на ходу, стараясь увидеть в окошке окруженные табачным дымом головы; а раскаты голоса старого Джорджо доносились смутно и, казалось, уплывали, растекаясь по равнине у них за спиной.
Лишь изредка помощник полицмейстера, широколицый, коричневый, низкорослый джентльмен с изрядной примесью индейской крови, заглядывал в гостиницу. Оставив за дверями сопровождающего его верхового, он входил с самоуверенной хитрой усмешкой и, не говоря ни слова, приближался к длинному столу на деревянных козлах. Молча указывал на одну из стоящих на полке бутылок; Джорджо угрюмо совал в рот трубку и обслуживал его самолично. Стояла тишина, лишь еле слышно позвякивали шпоры. Опорожнив стакан, помощник полицмейстера обводил всю комнату внимательным неторопливым взглядом, а затем удалялся, вновь садился на лошадь, и патрульные медленно продолжали свой путь в сторону Сулако.
ГЛАВА 5
Только таким образом местные власти осмеливались показать свою силу многолюдной колонии мускулистых иностранцев, которые копали землю, взрывали скалы, водили поезда для развития «прогрессивного и патриотического предпринимательства». Именно так за полтора года до описываемых нами событий его превосходительство сеньор дон Винсенте Рибьера, диктатор Костагуаны, назвал Национальную Центральную железную дорогу в пышной речи, произнесенной по случаю первого удара киркой на строительстве.
Для этого он и прибыл в Сулако, и в его честь компания ОПН устроила парадный обед, имевший место на борту «Юноны» в час пополудни, как только закончились торжества на берегу. Капитан Митчелл самолично стоял у штурвала баркаса, каковой, сверху донизу украшенный флагами и доставленный на буксире паровым баркасом с «Юноны», в свою очередь доставил с пристани на корабль его превосходительство. Были приглашены все уважаемые обитатели Сулако: два иностранных коммерсанта, а также находившиеся в городе представители старинных испанских семейств, владельцы крупных поместий, расположенных на равнине, степенные, учтивые, простодушные кабальеро безупречного происхождения, с маленькими руками и ногами, консервативные, гостеприимные, доброжелательные. Западная провинция была их твердыней; их партия «бланко»[30] ныне восторжествовала; страну возглавил их президент-диктатор, истый, неподдельный «бланко», который сидел, любезно улыбаясь, между представителями двух дружественных иноземных держав. Упомянутые представители прибыли вместе с доном Винсенте из Санта Марты, дабы своим присутствием санкционировать предприятие, в которое был вложен капитал их стран.
Единственной дамой в этом избранном обществе была миссис Гулд, супруга управляющего серебряными рудниками Сан Томе. Все остальные дамы, живущие в Сулако, были еще не достаточно прогрессивны, чтобы в такой мере принимать участие в общественной жизни. Они украсили собою грандиозный бал, имевший место накануне вечером в ратуше, но на утренние торжества пришла лишь миссис Гулд, единственное светлое пятно на фоне черных фраков, сгрудившихся за спиной президента-диктатора на покрытом алыми полотнищами помосте, воздвигнутом в тени раскидистого дерева на берегу, — там, где происходила церемония первого удара киркой. Она поехала также и на баркасе, битком набитом всяческими знаменитостями, причем стояла на почетном месте, рядом с капитаном Митчеллом, который управлял баркасом, и праздничные флаги развевались у нее над головой, а потом на мрачноватом сборище в длинном изысканном салоне «Юноны» ее нарядное платье вновь являло собой единственное светлое пятно и радовало глаз.
Лицо директора железнодорожной компании (лондонский гость), красивое и бледное, окруженное серебристым ореолом седых волос и подстриженных бакенбардов, маячило над плечом миссис Гулд, полное внимания, улыбающееся и утомленное. Путешествие из Лондона в Санта Марту на почтовых пароходах и в вагоне специального поезда, курсирующего по прибрежной линии Санта Марты (покуда единственная железнодорожная колея), было терпимым… даже приятным… вполне терпимым. Зато путь в Сулако через горы оказался истинным мученьем — они тряслись в каком-то допотопном дилижансе по непроходимым дорогам по самой кромке ужасающих, бездонных пропастей.
— Нас дважды опрокинули в течение дня и оба раза на краю весьма глубоких ущелий, — вполголоса рассказывал он миссис Гулд. — А когда мы наконец приехали сюда, право, не знаю, что мы стали бы делать, если бы не ваше гостеприимство. Этот Сулако — такая глушь, просто дыра… а ведь портовый город все же! Поразительно!
— И тем не менее мы им гордимся. Он представляет собой историческую ценность. В давние времена здесь со всем клиром пребывал глава констагуанской церкви — ее дважды возглавляли члены вице-королевской семьи.
— Я потрясен. Но я отнюдь не собирался умалять значение вашего города. Я вижу, вы большая патриотка.
— Город прелестен. Взгляните хотя бы, как он расположен. Вы, верно, не знаете: среди европейцев я одна из самых старых здешних обитательниц.
— Что имеется в виду под старостью, любопытно узнать, — пробормотал он, посмеиваясь. Живая мимика очень молодила тонкое личико миссис Гулд. — Мы не сможем вам вернуть главу костагуанской церкви со всем клиром; зато у вас появится больше пароходов, железная дорога, телеграфный кабель — то есть будущее в огромном мире, а это несравненно важней, чем глава церкви и его сподвижники. Вам предстоит общение с кем-то более существенным, нежели два члена вице-королевской семьи. Но все же до сих пор я и не представлял себе, что город, расположенный на побережье, может быть в такой степени отрезан от мира. Ну, находись он за тысячу миль от моря… нет, поразительно! У вас тут хоть что-нибудь случилось за последнюю сотню лет?
Он говорил не торопясь, шутливо, а она едва заметно улыбалась в ответ. Подхватив иронический тон своего собеседника, миссис Гулд призналась: в Сулако и в самом деле никогда и ничего не происходит. Даже революции — при ней их было две — почтительно оберегают нерушимое спокойствие города. Они вспыхивают в более населенных южных провинциях республики и на огромной равнине Санта Марты, представляющей собой нечто вроде поля битвы для враждующих партий, где победителю достается столица и выход ко второму океану. Там другие люди, им не чужды новые веяния эпохи. А к ним в Сулако доносятся лишь отголоски всех этих событий, ну и, разумеется, при этом каждый раз все официальные посты в городе занимают другие чиновники, перевалившие через горный хребет, — воздвигнутый природой вал, тот самый, преодолев который, прибыл в старом дилижансе и их уважаемый гость, рисковавший сломать себе шею или ноги и руки.
Директор железнодорожной компании несколько дней пользовался гостеприимством миссис Гулд и был ей искренне за это признателен. Только уехав из Санта Марты он полностью ощутил, что оборвались все его связи с европейской жизнью, до тех пор маячившей все же на фоне экзотического антуража. В столице он был гостем, послом, он вел там оживленные переговоры с членами правительства дона Винсенте — образованными людьми, людьми, имевшими представление о том, как ведут дела в цивилизованном обществе.
Сейчас его более всего интересовало приобретение земель для железной дороги. В долине Санта Марты, где уже существовала железнодорожная колея, люди были сговорчивы — оставалось лишь условиться о ценах. Была создана комиссия, дабы установить твердую стоимость земельных участков, и все решилось просто, благодаря разумному влиянию членов комиссии. А вот в Сулако, в Западной провинции, для развития которой и предназначалась железная дорога, сразу возникли трудности. Защищенный естественными преградами в течение веков, оберегаемый от вторжения современного предпринимательства глубокими ущельями горной гряды; мелкой гаванью, соединенной с заливом, где царили вечные штили и непроницаемой завесой клубились облака; девственной невежественностью владельцев изобильных западных земель — все эти представители старинной испанской аристократии, разные дон Амбросиос такой и дон Фернандос сякой, которые, кажется, и в самом деле с недоверием и недовольством относились к тому, что через их владения пройдет железная дорога.
Работающим в разных уголках провинции изыскательским группам порой грозили применением насилия. В других случаях землевладельцы назначали цены, поистине оскорбительные для компании. Но директор железнодорожной компании гордился своим умением преодолевать любую трудность. И раз уж здесь, в Сулако, он наткнулся на неприязненные настроения, в основе которых лежит слепой консерватизм, то он не станет для начала ссылаться на свои права, он попросту попробует создать иные настроения. Правительство обязано выполнить обязательства, указанные в контракте с компанией, и сделает это любой ценой вплоть до применения военной силы. Но директору компании менее всего хотелось, чтобы методичное осуществление его планов было поддержано вмешательством вооруженных сил. Его планы были столь многообразны и обширны да к тому же столь заманчивы, что грех было не попытаться их осуществить; вот ему и пришло в голову прихватить президента-диктатора в парадное турне, изобилующее церемониями и речами и завершающееся великим действом — первым ударом киркой на океанском побережье. В конце концов, ведь этот дон Винсенте создан ими. Он олицетворяет собой триумф прогрессивных сил страны.
Таковы факты, и если факты хоть что-то значат, рассуждал сэр Джон, то влияние такого человека немаловажно, и, взяв дело в свои руки, он умиротворит строптивых, а большего не требуется. Организовать турне удалось благодаря помощи очень умелого адвоката, который был известен в Санта Марте как представитель Гулда, управляющего серебряными рудниками, крупнейшим предприятием не только в Сулако, но и во всей стране. Рудники и в самом деле были сказочно богаты. Так называемый представитель, человек несомненно и образованный, и одаренный, казалось, пользовался, не занимая официального поста, огромным влиянием в самых высших правительственных сферах. Он заверил сэра Джона, что президент-диктатор примет участие в путешествии. Правда, он вынужден был с сожалением добавить, что генерал Монтеро настоял на том, чтобы тоже присоединиться к турне.
Генерал Монтеро, который, когда борьба еще только разгоралась, был безвестным армейским офицером и служил на восточной границе, в глуши, присоединился к партии Рибьеры именно в тот миг, когда в силу особого стечения обстоятельств эта несущественная сама по себе поддержка оказалась очень важной. Превратности войны обернулись для него редкостной удачей, а победа при Рио Секо — после длившейся с утра до вечера жестокой битвы — завершила его успех. В результате он стал генералом, военным министром и главой вооруженных сил партии «бланко», хотя его происхождение отнюдь не блистало аристократизмом. О нем прямо говорили, что он и его брат — сироты, воспитанные от щедрот знаменитого путешественника, в услужении у которого умер их отец. Другая версия гласила, что их отец просто жег в лесах древесный уголь и этим зарабатывал на жизнь, а мать их — крещеная индианка.
Тем не менее пресса Костагуаны имела обыкновение величать лесной переход Монтеро, направившего свой гарнизон, едва в стране начались волнения, на соединение с основными силами партии «бланко», «самым героическим воинским подвигом наших времен». Примерно в это же время прибыл из Европы его брат: судя по всему, он служил там секретарем консульства. На родине, однако, он тотчас сколотил небольшую шайку из каких-то бандитов, обнаружив некоторые таланты по части ведения партизанской войны, за что впоследствии был награжден званием военного коменданта столицы.
Итак, диктатора сопровождал военный министр. Правление компании ОПН, работающее ради блага республики в тесном содружестве со строителями железной дороги, по случаю столь важного мероприятия повелело капитану Митчеллу предоставить в распоряжение высоких гостей почтовый пароход «Юнона». Дон Винсенте двинулся от Санта Марты на юг, сел на корабль в Каите, главном порту Костагуаны, и прибыл в Сулако морем. Но директор железнодорожной компании отважно пересек горы в ветхом дилижансе, главным образом ради того, чтобы встретиться со старшим инженером, руководившим изыскательскими работами, который завершал сейчас заключительный объезд участков.
Равнодушный, как все деловые люди, к природе, враждебность которой он привык преодолевать при помощи денег, он был тем не менее поражен ландшафтом, открывшимся ему в лагере, разбитом изыскателями в горах на самом высоком пункте, до которого должна была дойти железная дорога. Он приехал поздно вечером и не успел увидеть умирающий отблеск солнца на засыпанном снегом склоне Игуэроты. Нагромождения черного базальта подобно огромным колоннам открытого портика обрамляли уходившую на запад снежную полосу. Воздух здесь, в вышине, был так прозрачен, что все казалось близким, погруженным в незыблемую тишь, напоминавшую невесомую жидкость; стоя на пороге хижины, сложенной из неотесанных камней, и прислушиваясь, не подъезжает ли дилижанс, главный инженер созерцал, как сменяют друг друга краски на горном склоне, и думал, что это зрелище, подобно вдохновенной игре музыканта, сочетает в себе тончайшие переливы оттенков и грандиозную мощь.
Сэр Джон прибыл слишком поздно и не услышал ни громовых раскатов мелодии, ни еле уловимых полутонов, которые разыгрывал заход солнца среди пиков Сьерры. Бурная симфония красок отзвучала, сменившись тишиною поздних сумерек, когда сэр Джон, одеревеневший после путешествия в дилижансе, спустился с передней ступеньки и обменялся рукопожатием с инженером.
Его угостили обедом в каменной хижине, похожей на квадратный валун, в которой не было ни окон, ни дверей, а лишь пробиты два отверстия; от разложенного у порога яркого костра (хворост привезли из ближайшей долины, взвалив охапку на спину мула) в хижину проникали пляшущие огненные блики; а две свечки в оловянных подсвечниках, зажженные, как пояснили сэру Джону, в его честь, поставили на неуклюжий походный стол, за которым сэр Джон сидел справа от главного инженера. Он умел быть подкупающе любезным; и молодые инженеры, для которых обследование участков будущей железной дороги было не просто работой, а знаменательными первыми шагами на житейском пути, притихшие сидели за тем же столом, и их обветренные лица сияли от удовольствия: такой великий человек столь приветливо беседует с ними.
Позже, уже ночью сэр Джон и главный инженер долго прогуливались, погруженные в беседу, и разговор их затянулся. Они давно знали друг друга. Это было уже не первое предприятие, в котором их таланты, столь же различные по своей сути, как вода и огонь, сливались в общем усилии. Взаимодействие этих двух личностей, чьи взгляды на мир были совершенно непохожи, порождало силу, служившую этому миру… силу нематериальную, но приводившую в движение могучие машины, мускулы людей и к тому же пробуждавшую в сердцах безграничную преданность делу. Из молодых людей, сидевших за столом, для которых обследование участков было подобно изыскательским работам на собственном их жизненном пути, не один простится с жизнью прежде, чем будет построена дорога. Но дорогу необходимо построить — его незыблемая убежденность в этом была сродни фанатичной вере. Правда, не совсем. Прогуливаясь в тишине уснувшего лагеря по плато, залитому лунным светом, благодаря игре которого горный перевал представлялся их взгляду чем-то вроде огромной арены, окруженной стенами базальтовых скал, двое мужчин в широких теплых пальто внезапно остановились, и голос главного инженера отчетливо произнес:
— Ведь не можем же мы двигать горы!
Сэр Джон, запрокинув голову, чтобы взглянуть туда, куда указывал рукой его собеседник, не мог с ним не согласиться. Белая глава Игуэроты высилась над темью земли и скал, сверкая в лунном свете, как ледяная глыба. Вокруг все было тихо, потом в загоне для вьючных животных, сложенном в форме круга из грубых камней, мул топнул копытом и дважды тяжело вздохнул.
Произнесенная главным инженером фраза была ответом на предложение директора компании принять во внимание капризы здешних землевладельцев и, быть может, в самом деле перенести железную дорогу на другое место. Главный инженер полагал, что из двух возникших перед ними препятствий человеческое упорство преодолеть легче, тем более что им готов помочь своим огромным влиянием Чарлз Гулд. Прокладывать же в недрах Игуэроты туннель — дело чрезвычайно трудоемкое.
— Да, верно! Гулд. Что он собой представляет?
В Санта Марте сэр Джон много слышал о Чарлзе Гулде и хотел узнать о нем еще больше. Главный инженер уверил его, что управляющий серебряными рудниками пользуется огромным уважением всех местных донов. К тому же его дом один из лучших в Сулако, и гостеприимство Гулдов — выше всяких похвал.
— Они принимали меня так, словно мы старинные знакомые, — рассказывал сэр Джон. — Его молодая супруга — сама доброта. Я прожил у них месяц. Он помог мне организовать изыскательские партии. Поскольку он фактически является владельцем рудников Сан Томе, у него совершенно особое положение в городе. К его словам несомненно прислушиваются местные власти, и он может без труда обвести вокруг пальца любого идальго в нашей провинции. Следуйте его советам, и вы преодолеете все преграды — Гулд ведь хочет, чтобы здесь прошла железная дорога. Разумеется, в беседе с ним следует соблюдать некоторую осторожность. Он англичанин и, кажется, очень богат. Фирма Холройд ведет с ним дела, так что сами понимаете…
Он умолк, заметив, как у небольшого костра, горевшего возле загона, внезапно выросла, поднявшись с земли, фигура человека, закутанного в пончо. В красноватом отсвете тлеющих углей на земле виднелось темное пятно — седло, служившее ему подушкой.
— Я повидаюсь с Холройдом, когда буду возвращаться на родину через Соединенные Штаты, — сказал сэр Джон. — Насколько мне известно, Холройд тоже сторонник железной дороги.
Человека, спавшего возле костра, наверно, потревожили прозвучавшие так близко голоса, — он встал и чиркнул спичкой, закуривая. Пламя осветило загорелое лицо с усами и внимательные, в упор взглянувшие на собеседников глаза; затем, завернувшись поудобней в пончо, он снова растянулся на земле, положив голову на седло.
— Это распорядитель нашего лагеря, — сказал главный инженер. — Сейчас я должен отослать его назад в Сулако, поскольку наши изыскательские работы переносятся в долину Санта Марты. Бесценный малый, мне ссудил его на время капитан Митчелл из ОПН. Весьма любезно с его стороны. Чарлз Гулд посоветовал мне, не задумываясь, воспользоваться любезностью Митчелла. Этот малый на редкость умело управляется со здешними пеонами и погонщиками мулов. За все время у нас не было даже пустячного недоразумения. Он прихватит с собой несколько землекопов пеонов и будет сопровождать ваш дилижанс до самого Сулако. Дорога скверная, а с таким провожатым вы можете не опасаться, что свалитесь в пропасть. Он обещал мне, что на протяжении всего пути будет так о вас заботиться, словно вы его родной отец.
Этот распорядитель лагеря был никто иной, как тот самый моряк итальянец, которого все европейцы в Сулако, копируя дурное произношение капитана Митчелла, именовали Ностромо. И впрямь, неразговорчивый и бдительный, он блистательно справлялся со своими обязанностями на опасных участках дороги, о чем впоследствии сэр Джон поведал миссис Гулд.
ГЛАВА 6
К этому времени Ностромо прожил в Костагуане уже достаточно долго, чтобы капитан Митчелл мог в самой высокой мере оценить все значение своего открытия. И в самом деле, грех было не гордиться таким подручным, как Ностромо. Капитан Митчелл всячески превозносил свою способность найти и выбрать нужного человека, но эгоистом не был — с горделивым простодушием так настойчиво всем предлагал «ссудить своего капатаса каргадоров», что это превратилось в манию, а Ностромо в результате рано или поздно предстояло перезнакомиться со всеми европейцами, живущими в Сулако, выступая в роли всеобщего фактотума — человека, способного творить чудеса в своей сфере деятельности.
«Он предан мне душой и телом!» — твердил капитан Митчелл; и хотя едва ли кто-нибудь смог бы объяснить, что послужило причиной такой преданности, тем не менее, наблюдая их взаимоотношения, никто не усомнился бы в справедливости этого заявления, разве что какой-нибудь желчный чудак, вроде доктора Монигэма к примеру, чей отрывистый невеселый смешок в какой-то мере отражал безграничное недоверие доктора к человечеству. Правда, доктор Монигэм смеялся чрезвычайно редко и вообще не отличался многословием. В хорошем настроении он хранил угрюмое молчание. В дурном — наводил страх на собеседников высокомерными и резкими замечаниями. Только миссис Гулд удавалось хоть как-то смягчить его непоколебимую убежденность в том, что все люди порочны и корыстолюбивы; но даже ей он сказал однажды… тоном, просто нежным, если вспомнить его обычную манеру говорить: «Право же, крайне неразумно требовать от человека, чтобы он придерживался более высокого мнения о других, нежели о себе».
И миссис Гулд поспешно переменила тему. О докторе ходили странные слухи. Рассказывали, что еще давно, во времена Гусмана Бенто он участвовал в заговоре, но заговорщиков кто-то предал, и, как выражались местные жители, заговор был потоплен в крови. Доктор был совсем седой, с чисто выбритым морщинистым лицом кирпичного цвета; фланелевая рубаха в крупную клетку и далеко не новая панама служили явным вызовом условностям, принятым в Сулако. Впрочем, доктор всегда одевался безупречно чисто — в противном случае его приняли бы за одного из тех несчастных, которые, словно бельмо на глазу, нарушают респектабельность европейской колонии во всех заокеанских странах и порочат своих земляков. Юные обитательницы Сулако, чьи прелестные лица украшали балконы на улице Конституции, завидев, как проходит мимо доктор, прихрамывая и понурив голову, в небрежно надетом поверх клетчатой рубахи коротком полосатом пиджаке, говорили друг дружке: «А вот и сеньор доктор отправился в гости к донье Эмилии. Посмотри-ка, он надел свой сюртучок». Суждение совершенно справедливое, хотя очаровательным наблюдательницам не дано было постичь его и оценить в полной мере. Да они и не считали нужным задумываться о побуждениях доктора.
Он был старый, некрасивый, ученый… и немного loco — сумасшедший, а может быть, к тому же и колдун, как подозревали в народе. Короткий сюртучок и в самом деле являлся следствием облагораживающего воздействия миссис Гулд. Злоязычный циник доктор только таким образом и мог проявить свое глубокое уважение к женщине, которую в этих краях называли «английской сеньорой». Он со всей серьезностью отдавал ей дань уважения: для человека его привычек изменить что-то в своей одежде отнюдь не пустяк. Миссис Гулд это отлично понимала. Ей самой и в голову не пришло бы вынуждать его так явно демонстрировать свое почтение к ней.
В ее старинном испанском особняке (одном из великолепнейших образчиков архитектуры Сулако) любой гость был окружен теплом и уютом, благодаря незаметным стараниям миссис Гулд. Она исполняла обязанности хозяйки с простотою и очарованием, ибо отлично понимала, что в нашей жизни несущественно, а что действительно ценно. В высочайшей степени обладала она даром общения с людьми — палитрой тончайших оттенков самоотверженности и убежденностью, что всем людям дано друг друга понимать. Чарлз Гулд (вот уже три поколения Гулдов, поселившихся в Костагуане, неизменно ездили в Англию получить образование и обзавестись женой) полагал, как все мужчины, что полюбил свою избранницу за здравомыслие, но если б это было так, то не совсем понятно, например, чего ради все, начиная от зеленых юнцов и кончая их вполне зрелым шефом, так часто вспоминают среди остроконечных пиков Сьерры гостеприимный особняк миссис Гулд. Сама она, конечно, если бы кто-нибудь ей рассказал, с каким удивительным постоянством ее вспоминают на подступах к снежной вершине, возвышающейся над Сулако, стала бы уверять с тихим смехом и изумленно раскрыв серые глаза, что ровно ничего для этого не делает. Впрочем, вскоре, добросовестно задумавшись, она нашла бы объяснение: «Ну, понятно, бедных мальчиков, наверно, удивило, что им тут рады. А еще, я думаю, им сиротливо. Я думаю, тут всем немного сиротливо».
Она всегда сочувствовала тем, кому было сиротливо.
Родившийся в Костагуане, так же как его отец, высокий и поджарый, с огненно рыжими усами, безупречно выбритым подбородком, с ясными синими глазами и волосами цвета спелой пшеницы, с худощавым, свежим, румяным лицом, Чарлз Гулд выглядел типичным пришельцем из-за океана. Его дед сражался в этих краях за независимость под водительством Боливара[31] в прославленном английском легионе, бойцов которого после битвы при Карабобо великий Боливар назвал освободителями своей родины. В эпоху федерации один из дядюшек Чарлза Гулда был избран президентом именно этой самой провинции Сулако (тогда ее именовали штатом), а впоследствии по приказу генерала унионистов Гусмана Бенто его расстреляли, поставив к церковной стене. Того самого Гусмана Бенто, который позже, став пожизненным президентом, прославился как жестокий и безжалостный тиран, причем слава его достигла апогея в народной легенде о кровожадном призраке, чье тело похитил сам дьявол из кирпичного мавзолея в нефе храма Успения, что в Санта Марте. Во всяком случае, священники именно так объяснили его исчезновение босоногой толпе, в смертельном ужасе устремившейся поглазеть на пролом в стене безобразного кирпичного сооружения, построенного в форме прямоугольника перед большим алтарем.
Недоброй памяти Гусман Бенто, помимо дядюшки Чарлза Гулда, приговорил к расстрелу еще множество людей; но человека, чей родственник принял мученическую смерть, сражаясь за аристократию, «олигархи» Сулако (так их именовали во времена Гусмана Бенто; сейчас они назывались «бланко» и уже не стремились создать федерацию), одним словом, представители семейств чисто испанского происхождения, считали Чарлза Гулда своим. Имея такого родственника, дон Карлос Гулд почитался подлинным костагуанцем; но его внешность была столь специфичной, что простой народ, не мудрствуя лукаво, называл его «инглес» — англичанин.
Он больше походил на англичанина, чем какой-нибудь заезжий турист — еретическая разновидность паломника, впрочем, совершенно неведомая в Сулако. Он больше походил на англичанина, чем любой из последней партии новоиспеченных инженеров-путейцев, чем любой персонаж, изображенный на картинках серии «охотничьи сцены» в очередном номере «Панча»[32], попадавшем в гостиную его жены месяца через два после выхода в свет. Странно было слышать, как свободно он говорит по-испански (по-кастильски, как выражались здешние жители) или на индейском местном диалекте. Но до того уж стойко сохранялись наследственные черты всех этих костагуанских Гулдов: освободителей, путешественников, владельцев кофейных плантаций, коммерсантов, революционеров, что Чарлз — единственный представитель третьего поколения, живущего в стране, где создалась своя неповторимая манера верховой езды, — даже в седле выглядел типичным англичанином. Мы говорим это без иронии, присущей льянеро — жителям пампы, — считающим, что лишь они одни на всем свете знают, как положено сидеть на лошади. Чарлз Гулд, выражаясь вполне уместным здесь высоким стилем, ездил верхом, как кентавр. Он не считал верховую езду спортом — он считал ее естественной способностью, присущей каждому, точно так же, как уменье ходить свойственно всем здоровым и нормальным людям; тем не менее, когда он несся галопом к своим рудникам — сам в типично английской одежде, лошадь — в сбруе, выписанной из-за океана, — выглядел он так, словно сию минуту прискакал сюда быстрой и легкой pasotrote[33], с какого-нибудь там зеленого газона, расположенного на другом краю земли.
Ездил он вдоль старой испанской дороги — Camino Real[34], как называли ее здесь, — единственный след, оставленный столь ненавистной старику Джорджо Виоле королевской властью, исчезнувшей безвозвратно, так что даже огромная конная статуя Карла VI, белевшая у въезда на Аламеду на фоне зеленой листвы, была известна местным крестьянам и городским нищим, спавшим на ступеньках, окружавших пьедестал, просто как «Каменная лошадь». Другой Карлос, чья лошадь, торопливо цокая копытами, сворачивала влево по разбитой мостовой, дон Карлос Гулд в своем типично английском наряде так же дурно сочетался с окрестностью, но был гораздо уместнее здесь, чем царственный всадник, возвышавшийся на пьедестале над спящими léperos[35] и поднявший каменную руку к каменным полям шляпы с плюмажем.
Глядя на забрызганного многочисленными ливнями каменного короля, который, кажется, приветствовал кого-то довольно неопределенным жестом, трудно было себе представить, что же творится у него на сердце после бесчисленных переворотов, лишивших его даже имени; впрочем, и второй всадник, которого здесь все отлично знали и который в добром здравии скакал верхом на темно-серой светлоглазой лошадке, тоже не стремился поведать первому встречному тайны своего сердца, прикрытого френчем английского покроя. Он никогда не терял душевного равновесия и невозмутимости, словно на всю жизнь запасся ими на старой родине, в Европе, где каждый «соблюдает правила» как в личной, так и в общественной жизни. Он с одинаковым спокойствием воспринимал и необъяснимую привычку местных дам обсыпать лицо перламутровой пудрой до тех пор, пока оно не станет похожим на гипсовую маску с чудесными живыми глазами; и склонность горожан к самым невероятным сплетням; и постоянные политические перевороты; постоянное «спасение родины», представлявшееся его жене жестоким мальчишеством, игрой в убийства и насилия, с ужасающей серьезностью осуществляемой порочными детьми.
В начале своего пребывания в Костагуане маленькая леди то и дело возмущенно сжимала руки — не в ее силах было воспринять общественную жизнь страны в достаточной мере серьезно, чтобы оправдать то и дело совершаемые здесь жестокости. Все эти страсти представлялись ей комедией и наивным притворством; гораздо более искренним чувством она считала отвращение и ужас, которые ей все это внушало. Чарлз весьма спокойно подкручивал усы и наотрез отказывался обсуждать с женой эту тему. Правда, однажды он ласково заметил ей:
— Ты, кажется, забыла, дорогая, что я здесь родился.
Услыхав эти слова, она замолкла, потрясенная. А может быть, и впрямь все дело только в том, родился ли ты в этой стране. Леди Эмилия привыкла доверяться мужу; его авторитет в ее глазах был непререкаем во всем, абсолютно во всем. Он с первой встречи поразил ее воображение полным отсутствием сентиментальности, неизменным спокойствием духа, которые она в мыслях своих возвела в статус глубочайшей житейской мудрости. Дон Хосе Авельянос, их сосед, живший в доме напротив, государственный деятель, поэт, образованнейший человек, некогда представлявший свою родину при нескольких европейских дворах (и подвергшийся неслыханным унижениям, как государственный преступник при тиране Гусмане Бенто), неоднократно заявлял в гостиной доньи Эмилии, что Карлос сочетает все достоинства подлинного английского характера с патриотизмом истого констагуанца.
Миссис Гулд, подняв глаза на худое, красное, обветренное лицо мужа, заметила, что он и бровью не ведет при упоминании о его костагуанском патриотизме. Возможно, потому, что чувствовал себя утомленным, сию минуту возвратившись с рудников; мистер Гулд был слишком англичанин для того, чтобы пережидать, когда спадет жара. Во внутреннем дворике Басилио в ливрее из белого холста, подпоясанной красным шарфом, присев на минутку на корточки, отстегивал тяжелые тупые шпоры; затем сеньор управляющий поднимался вверх по лестнице на балкон. На балюстраде между пилястрами арок рядами выстроились горшки с цветами, заслоняя галерею от расположенного внизу дворика, смена света и тени на поверхности которого отмечает неспешное течение домашней жизни, благодаря чему мы можем с полным основанием сказать, что в этих двориках сосредоточена вся жизнь южноамериканского дома.
Сеньор Авельянос имел обыкновение пересекать внутренний дворик в особняке Гулдов в пять часов почти каждый день. Это время, время чаепития дон Хосе избрал потому, что ритуал, заведенный в доме доньи Эмилии, напоминал ему о той поре, когда он жил в Лондоне в качестве чрезвычайного посланника и полномочного министра. Чай он не любил; раскачиваясь в кресле-качалке американского образца, скрестив маленькие ноги в ослепительно начищенных ботинках и поставив их на подножку кресла, он без умолку говорил, плел словесную нить с безмятежным искусством, удивительным для человека его возраста, а чашку чаю подолгу держал в руках. Его коротко остриженные волосы были совершенно седыми; глаза — черными, как уголь.
Увидев Чарлза Гулда, входящего в гостиную, он поначалу приветствовал его просто кивком; и, лишь доведя до конца очередной период, говорил:
— Карлос, друг мой, вы ехали сюда от Сан Томе в самую жару. Всегда деятельны — истый англичанин. Что? Не так?
Потом залпом выпивал чай. Процедура эта всегда сопровождалась неким содроганием и против воли исторгала из уст дона Хосе тихое «бр-р-р», после чего он торопливо, но, увы, слишком поздно восклицал: «Великолепно!»
Затем, передав чашку своему молодому другу, который, улыбаясь, протягивал к ней руку, дон Хосе продолжал велеречиво восхвалять патриотическую сущность рудников Сан Томе, преследуя, казалось, одну-единственную цель — с удовольствием поболтать и при этом, слегка согнувшись, раскачивался в качалке производства Соединенных Штатов. Высоко над его головой белел потолок самой большой гостиной в Каса Гулд; так высоко, что вся обстановка казалась игрушечной: массивные испанские кресла с прямыми спинками и кожаными сиденьями и мягкая на низеньких ножках европейская мебель — всевозможные кушетки, оттоманки, козетки, похожие на карликов, чудовищно раздувшихся после того, как поглотили непомерное количество конского волоса и стальных пружин. На миниатюрных столиках стояли безделушки, в стены над мраморными консолями вделаны зеркала, и на выложенном красной плиткой полу лежали два широких квадратных ковра, на каждом из которых находились несколько кресел и большой диван; еще несколько ковриков поменьше были разбросаны по комнате; три огромных окна, от потолка до пола, выходили на галерею, их обрамляли прямые складки темных драпри. Здесь, в пространстве, заключенном между четырьмя высокими стенами, окрашенными в нежно лимонный цвет, все еще веяло величием старины; и миссис Гулд с изящной головкой в блестящих светлых локонах восседающая в облаке муслина и кружев перед хрупким, тонконогим красного дерева столом, напоминала фею, на миг слетевшую сюда, к фарфоровым и серебряным сосудам, наполненным волшебным приворотным зельем.
Миссис Гулд хорошо знала историю рудников Сан Томе. В давние времена их добыча, извлекаемая главным образом ударами плетей, по весу равнялась грузу костей, которые сложили здесь подгоняемые бичами невольники. В Сан Томе погибли целые племена индейцев; а затем разработки забросили, ибо примитивный метод, на них применяемый, не долго приносил доход — шахта пресытилась трупами, которые швыряли ей в утробу. О рудниках забыли. И вспомнили опять только после Войны за Независимость. Английская компания, добившаяся права возобновить работы, наткнулась на такую богатую жилу, что ни вымогательства сменяющих друг друга правительств, ни набеги офицеров, которые являлись сюда вербовать солдат из числа живущих на жалованье шахтеров, не смогли сломить упорство шахтовладельцев. Но позже, когда после кончины знаменитого Гусмана Бенто в стране наступили длительные беспорядки, местные шахтеры, подстрекаемые к мятежу прибывшими из столицы эмиссарами, восстали против англичан и перебили их всех до единого. Декрет о национализации рудников, который тотчас вслед за этим напечатала издаваемая в столице «Диарио офисиал», начинался так:
«Справедливо возмущенные жестоким угнетением народа иноземцами, движимыми гнусным стремлением к наживе, а отнюдь не любовью к стране, в которую они явились нищими в надежде нажить богатство, шахтеры рудников Сан Томе и т. д…» и заканчивался заявлением:
«Глава нашего правительства решил во всем своем величии проявить милосердие и заботу о людях. Рудники, которые как достояние нации, согласно всем законам, — международным, человеческим и божеским, — снова оказались в руках правительства, будут закрыты отныне и до тех пор, покуда меч, поднятый ради священного дела защиты принципов свободы, не завершит свою миссию, состоящую в том, чтобы сделать нашу любимую родину счастливой».
И после этого долгие годы никто не слыхивал о рудниках Сан Томе. Трудно представить себе сейчас, каких, собственно, выгод ожидало для себя правительство, захватив рудники. Костагуану не без труда заставили выплатить нищенскую компенсацию семьям пострадавших акционеров, после чего дипломатические переговоры на эту тему прекратились. Но впоследствии уже другое правительство вспомнило о пропадающем втуне богатстве. Обычное костагуанское правительство — четвертое по счету за шесть лет, — но обладающее здравомыслием. Втайне убежденное, что собственными силами оно не добьется от рудников ни малейшей пользы, правительство это отчетливо представляло себе все выгоды, которые принесет ему восстановление разработок, имеющее лишь одну теневую сторону — плачевную необходимость извлекать из земли металл. Отец Чарлза Гулда, в течение долгих лет один из богатейших коммерсантов Костагуаны, к тому времени лишился значительной части своего состояния, против воли вынужденный ссужать каждое новое правительство деньгами.
Человек спокойный и рассудительный, он ни разу не потребовал возмещения убытков; и когда ему внезапно предложили пожизненную и безраздельную концессию на рудники Сан Томе, он встревожился сверх всяких пределов. К сожалению, он досконально знал нравы и обычаи костагуанских властей. А в настоящем случае намерения правительства, хотя и были тщательно продуманы втайне, тотчас бросались в глаза по прочтении документа, под которым мистера Гулда так настойчиво просили поставить подпись. В третьем, самом важном пункте соглашения в качестве особого условия оговаривалось, что владелец концессии должен сразу выплатить правительству отчисления за право разработки в течение пяти лет.
Многочисленные доводы и мольбы, которыми мистер Гулд-старший пытался отвести от себя страшную милость, оказались тщетными. Он ничего не смыслил в разработке рудников; у него не было возможности вывезти добываемую продукцию на европейский рынок; шахта, как действующее предприятие, давно перестала существовать. Надшахтные постройки сожжены, оборудование изломано, шахтеры ушли отсюда много лет тому назад; даже ведущая к рудникам дорога густо заросла тропическим лесом и скрылась столь бесследно, словно ее море поглотило; а главная штольня обвалилась примерно в сотне ярдов от входа в шахту. Это уже не был заброшенный рудник; просто созданная природой неприступная, каменистая щель, неподалеку от которой под буйными зарослями стелющихся по траве колючих растений можно было обнаружить то несколько обугленных досок, то груду битого кирпича, то какие-то бесформенные ржавые железки. Мистер Гулд-старший отнюдь не хотел быть пожизненным владельцем этих унылых мест; стоило ему представить их себе в ночной тиши, его охватывало возмущение, неизменно кончавшееся бессонницей.
Но случилось так, что министром финансов в то время оказался человек, чью просьбу о небольшом денежном вспомоществовании мистер Гулд имел неосторожность отклонить, обосновывая свой отказ тем обстоятельством, что проситель — известный жулик и шулер, подозреваемый к тому же в том, что ограбил зажиточного ранчеро[36] и нанес ему телесные повреждения в глухой сельской местности, где сам в ту пору исполнял обязанности судьи. Сейчас, достигнув высокого положения, этот славный деятель объявил о своем намерении отплатить добром за зло сеньору Гулду, человеку небогатому. Вновь и вновь он подтверждал свое решение во всех гостиных Санта Марты голосом тихим и неумолимым, и взгляд его при этом сверкал так злобно, что близкие друзья мистера Гулда от души советовали ему не пытаться прибегнуть к подкупу, который обеспечил бы ему спокойную жизнь. Это бесполезно. Мало того, это даже небезопасно. Того же мнения придерживалась дородная громкоголосая дама французского происхождения, отец которой, как утверждала она, был офицером в высоких чинах (officier supérieur de l’armée), и занимавшая квартиру, расположенную в стенах переданного ныне для светских целей бывшего монастыря, находящегося непосредственно рядом с домом министра финансов. Эта цветущая особа, когда к ней должным образом и с соответствующим презентом обратились за помощью от имени мистера Гулда, уныло покачала головой. Она была добросердечной женщиной, а ее неверие в успех — искренним. Она не считала себя вправе брать деньги за услугу, которой не могла оказать. Друг мистера Гулда, взявший на себя выполнение этой щекотливой миссии, впоследствии говаривал, что из всех лиц, близко или отдаленно связанных с правительством, которых он когда-либо встречал, только эта дама была честным человеком.
— Пустой номер, — сказала она сипловато с несколько вульгарной интонацией, свойственной ей так же, как и обороты речи, более приличествующие дитяти неизвестных родителей, нежели осиротевшей генеральской дочери. — Нет, куда там. Пустой номер. Pas moyen, mon garçon. C’est dommage, tout de même. Ah! Zut! Je ne vole pas mon monde. Je ne suis pas ministre — moi! Vous pouvez emporter votre petit sac![37]
Покусывая пунцовую губку, она омрачилась на миг, удрученная суровым деспотизмом правил, ограничивающих ее влияние в высоких сферах. Затем внушительно и с легким раздражением заключила:
— Allez et dites bien à votre bonhomme — entendez-vous? — qu’il faut avaler la pilule[38].
После такого предупреждения оставалось только подписать и уплатить. Мистер Гулд покорно проглотил пилюлю, изготовленную, казалось, из каких-то ядовитых веществ, которые сразу же подействовали на его рассудок.
Рудники стали его навязчивой идеей и, поскольку он прочел немало приключенческих книг, приобрели в его сознании облик зловредного морского старикашки из арабской сказки, который влез к нему на спину, как к Синдбаду-мореходу, и крепко вцепился в плечи. Кроме того, ему начали мерещиться вампиры. Мистер Гулд преувеличивал разорительность своего нового положения, ибо воспринял его сердцем, а не умом. В действительности его положение осталось в точности таким, как прежде. Но человек по натуре своей удручающе консервативен, и мистера Гулда сильнее всего обескуражило то, что его вынуждают раскошелиться каким-то совершенно новым и диковинным способом.
Кровожадные банды, затеявшие после смерти Гусмана Бенто низкопробную игру, которую они именовали «правительственными переворотами», грабили не его одного. Он знал по опыту, что ни одна из разбойничьих шаек, завладевших президентским дворцом, не упустит даже малого и, если дело идет о наживе, не постоит за таким пустяком, как подыскать подходящий предлог. Первый попавшийся новоиспеченный полковник, ведущий за собой толпу босоногих оборванцев, мог с предельной убедительностью предъявить любому штатскому свои права на получение десяти тысяч долларов; а это значило, что он рассчитывает содрать с него не менее тысячи отступного. Все это мистер Гулд отлично знал и, вооружившись терпением, дожидался лучших времен. Но он не мог смириться с тем, что его грабят под вывеской законности и опустошают его кошелек, делая вид, будто вступают с ним в деловой контакт. Мистер Гулд-отец был благоразумен, проницателен, честен, но обладал одним недостатком: придавал слишком много значения форме. Эта слабость свойственна тем, кто подвержен предрассудкам. То, что мошенничеству злонамеренно придали видимость законной сделки, потрясло его до глубины души и подорвало дотоле крепкое здоровье. «Это убьет меня в конце концов», — повторял он по многу раз в день. И в самом деле, у него начались приступы лихорадки, боли в печени, но сильнее всего его изводила полная неспособность думать о чем-либо, кроме рудников. Министр финансов и не представлял себе, сколь изощренной оказалась его месть. Даже в письмах к четырнадцатилетнему Чарлзу, обучавшемуся в то время в Англии, мистер Гулд не сообщал практически ни о чем, кроме рудников.
Он жаловался на гонения, на несправедливость, на беззакония, жертвой которых стал; он исписывал целые страницы, рассказывая, к каким фатальным последствиям его приведет владение этими рудниками, от которых ждал всяческих бед, и с ужасом предрекал, что проклятие это будет тяготеть над семьей до скончания веков. Ибо концессия была закреплена за ним и его наследниками навечно. Он заклинал сына не возвращаться в Костагуану и не предъявлять претензий на причитающееся ему здесь наследство, оскверненное гнусной концессией; не иметь с ней ни малейших дел, даже близко к ней не подходить, забыть о существовании Америки и посвятить себя коммерческой деятельности в Европе. Каждое письмо заканчивалось горькими упреками, которые мистер Гулд-старший обрушивал на самого себя за то, что прожил так долго в этом вертепе, полном интриганов, разбойников и воров.
Непрестанно твердить подростку четырнадцати лет, что его будущее загублено, ибо он является владельцем серебряных рудников, занятие не очень перспективное, — своей непосредственной цели оно, во всяком случае, не достигает; зато вы смело можете рассчитывать, что ваши предупреждения вызовут интерес и внимание именно к тому, против чего вы предупреждаете. С течением времени мальчик, который поначалу был просто ошеломлен бесконечными гневными жалобами, но в общем жалел старика, стал задумываться над содержанием отцовских писем в свободное от игры и учения уроков время. А примерно через год составил вполне отчетливое убеждение, что в провинции Сулако республики Костагуана, где много лет назад солдаты застрелили бедного дядюшку Гарри, есть какие-то серебряные рудники. Дальше: с рудниками этими связано нечто, именуемое «мерзопакостная концессия Гулда», запечатленное на листе бумаги, который его отец страстно желал «изорвать на мелкие клочки и швырнуть в лицо» президентам, судьям и министрам этого государства. Желание оставалось неизменным, хотя имена этих людей, как заметил Чарлз, редко повторялись от письма к письму в течение года. Желание Гулда-отца (поскольку относилось оно к чему-то мерзопакостному) представлялось мальчику вполне естественным, он одного не знал: чем именно мерзопакостна вся эта история.
Позже, повзрослев и поумнев, он сумел оградить чисто деловую сторону от вторжений морского старикашки, вампиров и упырей, придававших отцовским письмам отзвук страшной сказки из «Тысяча и одной ночи». И в конце концов рудники стали для юноши так же существенны и важны, как для старика, присылавшего из-за океана скорбные и гневные письма. Вот уже несколько раз пришлось уплатить громадные штрафы за нерадивое отношение к разработкам, — сообщал мистер Гулд-старший, — а кроме того, в счет будущих доходов на него налагают поборы, утверждая, что владелец такой выгодной концессии не может отказать правительству в денежной помощи. Последние остатки его состояния уплывают из рук, а взамен ему подсовывают не стоящие ни гроша расписки, — писал он в ярости, — и в то же время на него указывают пальцем, как на человека, сумевшего извлечь огромную прибыль, воспользовавшись тяжким положением страны. И юноша, живущий в Европе, испытывал все больший интерес к обстоятельствам, способным вызвать такую бурю страстей и слов.
Каждый день он думал теперь о рудниках; но он думал о них без горечи. Отцу не повезло, бедняге, да и вообще вся эта история в довольно странном свете представляет общественную и политическую жизнь Костагуаны. Он, разумеется, сочувствовал отцу, но он не кипятился, он старался все понять и взвесить. Ведь его чувств никто не оскорбил, и нелегко поддерживать в себе годами пылкое негодование, разделяя физические либо нравственные муки другого человека, даже если это твой родной отец. К двадцати годам рудники Сан Томе приворожили к себе и Гулда-младшего. Но это было увлечение совсем иного рода, более подобающее молодости, магическую формулу которой составляют не отчаяние и гнев, а надежда, стремление действовать и уверенность в собственных силах.
В двадцать лет, получив позволение жить как ему вздумается (если не считать сурового запрета возвращаться в Костагуану), Чарлз продолжил обучение во Франции и Бельгии и поставил себе целью приобрести знания, необходимые для горного инженера. Впрочем, научный аспект его трудов смутно вырисовывался в сознании Чарлза. Шахты пробуждали в нем скорее интерес драматического свойства. Он изучал их индивидуальные особенности, как изучают всевозможные свойства людей. Он посещал их с таким же любопытством, с каким едут в гости к выдающейся особе. Он побывал на шахтах в Германии, в Испании, в Корнуолле. Особенное впечатление производили на него заброшенные разработки. Глядя на их запустение, он ощущал живое участие, словно перед ним предстало человеческое горе, истоки которого ему не известны и, возможно, непросты и глубоки. Может быть, они не стоят ничего, а быть может — не поняты. Будущая жена Чарлза стала первым и, вероятно, единственным человеком, уловившим затаенное чувство, лежащее в основе глубокого понимания и почти безмолвного тяготения молодого Гулда к миру материального. И сразу же ее восхищение им, прежде медлившее с полураспущенными крыльями, словно птица, которая неспособна взлететь с ровной поверхности, обрело вершину и воспарило к небесам.
Они познакомились в Италии, где будущая миссис Гулд гостила у пожилой, бледной и увядшей тетушки, которая за много лет до того вышла замуж за обнищавшего итальянского маркиза. Сейчас она оплакивала этого человека — он жизни не щадил, сражаясь за независимость и единство родины, и его пылкое благородство не имело предела, ибо он принадлежал к младшему поколению павших в той борьбе, обломком которой оказался старик Джорджо Виола, болтавшийся теперь в житейском море, словно рея, упавшая в воду после морского боя. Маркиза напоминала монахиню — всегда в черном с белой лентой на лбу, разговаривала шепотом, жила незаметно и тихо в уголке второго этажа старинного полуразрушенного палаццо, на первом этаже которого в пустых залах с расписными потолками хранился урожай, нашла приют домашняя птица и даже коровы, а также все семейство арендатора.
Наша юная пара впервые встретилась в Лукке. После этого Чарлз Гулд не посещал больше шахт; впрочем, они съездили однажды в карете посмотреть каменоломню, где добывали мрамор и все сходство с шахтой исчерпывалось тем, что там тоже извлекали из земли в необработанном виде нечто драгоценное. Чарлз Гулд не излагал своей избраннице подробно, что тревожит его душу. Он просто жил и думал у нее на глазах. Это и есть настоящая искренность. Особенно часто повторял он фразу: «Мне иногда кажется, что бедному папе в искаженном виде представлялась эта история с рудниками Сан Томе». И они долго и серьезно обсуждали его мнение, словно могли каким-то образом повлиять на сознание человека, который находился в другом полушарии; в действительности же они обсуждали это потому, что для любви нет посторонних тем — она жива и горяча, о чем бы ни беседовали между собой влюбленные. Именно по этой, вполне естественной причине будущая миссис Гулд всегда с радостью вступала в разговоры о рудниках Сан Томе. Чарлз опасался, что мистер Гулд-старший растрачивает силы и губит здоровье в бесплодных попытках избавиться от концессии. «Мне кажется, действовать надо совсем не так», — рассуждал он вслух, словно разговаривая сам с собой. А когда его слушательница выразила искреннее удивление, что умный, деятельный человек посвящает всю свою энергию интригам, он, сердцем чувствуя ее недоумение, ласково разъяснил: «Не забывайте, он ведь там родился».
Немедленно обдумав его ответ, она возразила, неожиданно, но, следует признать, вполне логично, ибо и в самом деле…
— Ну, а вы? Вы ведь тоже там родились.
Ее возражение его не смутило.
— Это совсем другое дело. Я не живу там уже десять лет. Отец никогда не уезжал так надолго; а история эта тянется уже больше тридцати лет.
Она была первой, с кем он заговорил, получив известие о смерти отца.
— Они его все же убили! — сказал он.
Он пришел прямо из города пешком, чтобы сообщить ей эту весть, шагал под полуденным солнцем по белой и пыльной дороге, и вот они стоят друг перед другом в большом зале дряхлого палаццо, в величественной комнате с голыми стенами, на которых там и сям темнеют длинные клочья камчатных обоев, почерневшие от времени и сырости. Всю меблировку комнаты составляло позолоченное кресло со сломанной спинкой и восьмиугольная подставка, на которой возвышалась тяжелая мраморная ваза, украшенная вырезанными из камня масками и цветочными гирляндами и треснувшая сверху донизу. Чарлз был весь в пыли — белая пыль дороги осела на его ботинках, на плечах, на кепи с двумя козырьками. По лицу его катился пот, правая рука сжимала тяжелую дубовую палку.
Ее лицо под розами широкополой соломенной шляпки стало смертельно бледным, а обтянутые перчатками руки беспокойно вертели светленький зонтик, — Чарлз застал ее как раз в тот миг, когда она собиралась выйти, чтобы встретить его у подножья холма, там, где три тополя стоят у курчавой стены виноградника.
— Они все же убили его! — повторил он. — Отец мог прожить еще много лет. В нашей семье умирают в глубокой старости.
Потрясенная, она молчала; он рассматривал пронизывающим неподвижным взглядом треснувшую мраморную вазу, словно решил запечатлеть ее навеки в памяти. И только когда он внезапно повернулся к ней и у него вырвалось: «Я пришел к вам… я прямо к вам пришел…», а договорить так и не смог, она всем сердцем ощутила, как горестна была кончина одинокого, измученного старика в далекой Костагуане. Он схватил ее руку, поднес к губам, и тут она выронила зонтик, погладила его по щеке, прошептала: «Бедный мальчик» и стала утирать слезы, полускрытые опущенными полями шляпы, удивительно маленькая в простом белом платье, совсем как ребенок, который плачет, растерявшись, подавленный обветшалым великолепием пышного зала, а он стоял перед ней и снова в полной неподвижности глядел на мраморную вазу.
Затем они долго гуляли вдвоем, не говоря ни слова, пока он не воскликнул:
— Да. За это дело совсем не так надо бы взяться!
И тут они остановились. Всюду лежали длинные тени — на холмах, на дорогах, на огороженных оливковых рощах; тени тополей, раскидистых каштанов, амбаров и сараев, каменных стен; а воздух был пронизан звоном колокола, высоким, тревожным, и, казалось, это колотится пульс закатного зарева. Ее губы слегка приоткрылись, словно она удивлялась, почему он не смотрит на нее с тем выражением, к которому она привыкла. Он всегда глядел на нее с несомненным одобрением и вниманием. А в разговорах с нею представал самым почтительным и нежным из диктаторов, чем безмерно радовал ее. Ведь это утверждало ее власть, не нанося ущерба его достоинству.
Эта хрупкая девушка с маленькими ногами и руками, маленьким личиком, особенно привлекательным в пышном обрамлении локонов; эта девушка, которой стоило лишь приоткрыть рот, — он был немного великоват, пожалуй, — и, казалось, само дыхание ее благоухает великодушием и чистотой, обладала мудрым сердцем зрелой женщины. Самым важным, самым лестным для нее была возможность гордиться своим избранником. Но сейчас он просто не смотрел на нее, ни разу не взглянул; и взор его был напряженным и странным — иным и не может быть взгляд мужчины, который таращится в пустоту, когда мог бы смотреть на очаровательное девичье личико.
— Ну, что ж. И в самом деле мерзопакостно. Измучили его, сломали… бедный старик. И почему он не позволил мне к нему приехать? Но теперь-то я знаю, как за это взяться.
После того как он с уверенностью произнес эти слова, он наконец-то взглянул на нее, и тотчас же его охватило мучительное беспокойство, неуверенность, страх.
Сейчас он хочет знать только одно, сказал он: любит ли она его настолько… хватит ли у нее мужества уехать с ним так далеко? Он предлагал ей эти вопросы, и голос его дрожал от волнения — ведь отказываться от своих решений он не привык.
Она любила его. И мужества у нее хватит. И тотчас будущая хозяйка дома, открытого для всех европейцев в Сулако, почувствовала: земля ушла у нее из-под ног в буквальном смысле этого слова. Исчезла полностью, даже колокол перестал звонить. Когда ноги ее вновь коснулись земли, звон колокола по-прежнему доносился из долины; она поправила волосы, прерывисто дыша, и окинула быстрым взглядом каменистую тропинку. Слава богу, на тропинке ни души. Чарлз тем временем, ступив в сухую пыльную канаву, поднимал открытый зонтик, откатившийся от них с дробным стуком, напоминавшим треск барабана. Он вручил зонтик Эмилии, сдержанный, слегка удрученный.
Затем они направились к дому, и, когда она погладила его по плечу, он наконец заговорил, и первыми его словами было:
— Очень удачно, что мы сможем поселиться в прибрежном городе. Я вам уже рассказывал о нем. Он называется Сулако. Я так рад, что у бедняги отца в этом городе был дом. Большой особняк, отец купил его давным-давно — ему хотелось, чтобы в главном городе так называемой Западной провинции был и навсегда остался Каса Гулд. В детстве я там прожил с мамой целый год, а отец мой ездил в это время по делам в Соединенные Штаты. Теперь вы станете новой хозяйкой Каса Гулд.
И позже в обитаемом уголке палаццо, высящегося над виноградниками, каменоломнями, соснами и оливами Лукки, он продолжал:
— Имя Гулдов пользуется огромным почетом в Сулако. Мой дядюшка Гарри одно время возглавлял правительство и вошел в круг самых уважаемых людей страны. Под этим кругом я подразумеваю семьи обедневших креолов, весьма далекие от мира политических интриг. Дядя Гарри не был авантюристом. Среди костагуанских Гулдов вообще нет авантюристов. Он являлся гражданином этой страны, любил ее, но образ мыслей сохранил чисто английский. Он воспользовался политическим девизом того времени. Ратовал за федерацию. Но политическим деятелем не был. Просто он любил свободу, если она основана на разуме и опыте, ненавидел угнетение и потому стремился установить в стране общественный порядок. На жизнь он смотрел трезво. Делал то, что считал правильным, точно так же, как я сейчас убежден, что должен заняться этими рудниками.
Он разговаривал с ней так потому, что его память до краев заполняла страна его детства, сердце — эта девушка, а мысли — концессия на рудники Сан Томе. Чарлз добавил, что ему придется на несколько дней ее покинуть и разыскать одного американца из Сан-Франциско — он пока еще где-то в Европе. С полгода тому назад они познакомились в старинном, богатом историческими памятниками немецком городке, расположенном в рудничном районе. Американец приехал в Европу с семьей, но выглядел ужасно одиноким, а его жена и дочки по целым дням делали наброски старинных порталов и башенок на углах средневековых домов.
Чарлз Гулд и американец вели долгие и оживленные беседы о шахтах. Оказалось, американца интересует рудничное дело, а кроме того, он знал кое-что о Костагуане и слышал о Гулдах. Они даже подружились, в тех пределах, какие допускала разница в годах. Чарлзу непременно хотелось разыскать сейчас этого предпринимателя, обладающего острым деловым умом и в то же время дружелюбного. Состояние его отца, — как он еще недавно полагал, значительное, — судя по всему, расплавилось в адском тигле мятежей и путчей. За исключением десяти тысяч фунтов, лежащих в одном из английских банков, от него, пожалуй, не осталось ничего, кроме дома в Сулако, довольно неопределенных прав на вырубку леса в глухом, отдаленном районе и концессии на рудники Сан Томе, подтолкнувшей его несчастного отца к самому краю могилы.
Он объяснил все это Эмилии. Они проговорили допоздна. Чарлз никогда еще не видел ее такой обворожительной. Все пылкое стремление юности к жизни новой, неведомой, к дальним странам, к будущему, сулившему испытания, борьбу, — заманчивая надежда исправить зло и победить, — все это привело ее в необычайное волнение, и ее отклик любимому, чей призыв пробудил в ней это чувство, был еще более открытым и чарующе нежным.
Он попрощался с ней, спустился с холма, и как только остался один, возбуждение улеглось. Смерть вносит непоправимые перемены в течение наших повседневных мыслей, отзывающихся смутным, но мучительным беспокойством души. Чарлзу горько было сознавать, что никогда больше, как бы ни напрягал он волю, он не сможет думать об отце так, как думал о нем, когда тот был жив. Нет, он не в силах теперь мысленно оживить его. И, осознав все это, чувствуя, что и сам он в чем-то изменился, он ощутил горестное и гневное стремление действовать. К этому толкал его инстинкт. Безошибочный инстинкт. Действие успокаивает. Оно враг размышлений и друг лестных иллюзий. Только действие обещает надежду одержать победу над судьбой. Единственным полем деятельности для Чарлза несомненно были рудники.
Человеку иногда необходимо понять, каким образом он сможет нарушить волю умершего. Он твердо решил исходить, нарушая ее, из самого существенного: действовать во искупление. Рудники послужили причиной несчастья: из-за них нелепо погибла, разрушилась личность; они должны, начав работать, принести успех, успех разумный, успех созидания. Это его долг перед покойным отцом. Таковы были, собственно говоря, эмоции Чарлза Гулда. Мысли же его были заняты тем, как раздобыть большую сумму денег в Сан-Франциско или где-нибудь еще; и пока он размышлял об этом, ему вдруг как-то само собой пришло в голову, что совет усопших — плохой руководитель. Ведь никто из них не знает заранее, какие грандиозные перемены может произвести смерть любого человека в мире живых.
О самой последней фазе в истории рудников миссис Гулд знала уже из собственного опыта. Ведь основная суть этой истории была историей ее семейной жизни. Наследственная мантия Гулдов из Сулако окутала ее хрупкую фигурку с ног до головы; но странное это одеяние не повлияло на миссис Гулд и не уменьшило ее природной живости, в которой отражалась не бойкость нрава, а пытливый острый ум. Из чего отнюдь не следует, что миссис Гулд была женщиной с мужским складом ума. Женщины с мужским складом ума не способны, к слову сказать, на что-либо особо серьезное; такие женщины — отклонение от установленного природой вида, они занятны, но толку от них никакого.
Зато донья Эмилия, обладавшая женским складом ума, покорила Сулако без всяких усилий, ум служил ей для того, чтобы со всею полнотою могла проявиться ее бескорыстная отзывчивая натура. Она была прекрасной собеседницей, хотя не отличалась разговорчивостью. Мудрость сердца не многоречива, ибо заключается не в том, чтобы выдвигать и опровергать теории — ей это столь же чуждо, как защищать предрассудки. Мудрость сердца заключена не в словах, а в чистоте, терпимости, сострадании. Истинная нежность женщины, точно так же, как истинная мужественность мужчины, на каждом шагу проявляет себя пленительным благородством поступков. Все живущие в Сулако дамы обожали миссис Гулд. «Я для них по-прежнему какой-то монстр», — весело сказала миссис Гулд джентльмену из Сан-Франциско, который с двумя компаньонами посетил Сулако примерно через год после того, как она вышла замуж, и гостил у Гулдов.
Эти три джентльмена были ее первыми гостями, приехавшими из-за границы, а явились они ознакомиться с рудниками Сан Томе. Она весьма мила и остроумна, — решили они, — что до Чарлза Гулда, он не только отчетливо знает, чего хочет, но также очень энергично стремится к цели. Эти его черты вызвали у гостей из Сан-Франциско еще большее расположение к его жене. Миссис Гулд говорила о рудниках с несомненным воодушевлением, смягченным легким привкусом иронии, и гости, совершенно очарованные ее беседой, не могли сдержать улыбки, снисходительной улыбки серьезных деловых людей, в которой содержалась в то же время немалая доля почтения. Возможно, если бы они узнали, что так пылко желать успеха миссис Гулд заставляют прежде всего идеалистические цели, то подивились бы ее душевным устремлениям, так же, как местные дамы удивлялись ее неустанному стремлению действовать. И она бы стала в их глазах — употребляя ее собственное выражение — «каким-то монстром». Но супруги Гулд прежде всего были очень сдержанной парой, и гости отбыли, не подозревая о существовании у них каких-либо иных планов, кроме самого заурядного: возобновить на рудниках работы и получать доход. Миссис Гулд дала гостям свою карету, запряженную белыми мулами, и джентльмены из Соединенных Штатов отправились в гавань, где их поджидала «Церера», дабы доставить на Олимп плутократов. Капитан Митчелл воспользовался минутой прощанья и, понизив голос, доверительно сообщил миссис Гулд: «Началась новая эпоха».
Миссис Гулд любила внутренний дворик своего испанского дома. Сидящая в нише мадонна в голубых одеждах, которая держала на руках младенца с нимбом вокруг головы, безмолвно глядела на широкие каменные ступени. Ранним утром со дна мощеного квадратного колодца, каким казался сверху внутренний двор, доносились приглушенные голоса, стук копыт лошадей и мулов, которых попарно водили на водопой. Узкие, похожие на лезвие ножа бамбуковые листья падали в маленький квадратный водоем, а на окружавшем его низком парапете сидел дородный закутанный в плащ кучер и лениво придерживал поводья рукой. Взад-вперед сновали босоногие слуги, возникая из темных низеньких дверных проемов первого этажа; две прачки с корзинами стираного белья; пекарь, несущий поднос с хлебом, испеченным на день; высоко подняв руку над черной, словно вороново крыло, головой, Леонарда — ее «камериста»[39]— несла охапку накрахмаленных нижних юбок, ослепительно белых под лучами утреннего солнца. Затем, ковыляя, входил старик привратник, мел каменные плиты, и вот уж дом готов к началу нового дня. Все комнаты верхнего этажа на трех сторонах четырехугольника — смежные, и все они выходят на галерею с перилами кованого железа в ярком обрамлении цветов, и отсюда, сверху, миссис Гулд, словно владетельница средневекового замка, любит наблюдать, как кто-то входит в дом, кто-то из него выходит, и из сводчатой подворотни каждый раз слышится гулкий шум шагов, что придает значительность этим несущественным событиям.
Глядя вслед карете, увозившей трех гостей из Штатов, она улыбнулась. Три руки одновременно потянулись к трем шляпам. Четвертый пассажир, капитан Митчелл, уже что-то напыщенно повествовал. Миссис Гулд немного задержалась на галерее. Медленно прошлась, то здесь, то там наклоняясь к душистым венчикам цветов, словно ей хотелось, чтобы течение ее мыслей совпало с неслышной поступью шагов, доносившихся из длинного прямого коридора.
Индейский гамак из Ароа с бахромой из ярких перьев предусмотрительно подвесили именно в том уголке галереи, куда раньше всего добирались солнечные лучи: ведь в Сулако по утрам прохладно. Грозди ночных фиалок пламенели перед раскрытыми дверями всех гостиных. Большой зеленый попугай, словно изумруд сверкающий в клетке, которая казалась золотой, отчаянно вопил: «Viva Costaguana!»[40], затем дважды сладкозвучно позвал, подражая голосу миссис Гулд: «Леонарда! Леонарда!», после чего внезапно погрузился в безмолвие и неподвижность. Миссис Гулд дошла до конца галереи и заглянула в комнату мужа.
Чарлз, поставив ногу на низкий деревянный табурет, пристегивал шпоры. Он торопился на рудники. Миссис Гулд, не заходя в комнату, обвела ее взглядом. Один из двух книжных шкафов, высокий и широкий, был полон книг; зато второй — без полок, обитый изнутри красным сукном, представлял собой настоящую выставку огнестрельного оружия: карабины, револьверы, два дробовика и даже две пары двухствольных пистолетов. Между всем этим оружием и как бы отгороженная от него на лоскуте алого бархата висела старинная кавалерийская сабля, некогда принадлежавшая дону Энрике Гулду, герою Западной провинции, подарок дона Хосе Авельяноса, наследственного друга их семьи.
Если не считать этих двух шкафов, белые оштукатуренные стены комнаты были абсолютно пусты, их украшал лишь акварельный набросок рудников Сан Томе, сделанный доньей Эмилией собственноручно. Посредине комнаты на выложенном красной плиткой полу стояли два длинных стола, заваленные чертежами и бумагами, несколько стульев и ящик со стеклянной крышкой, в котором находились образчики руды из Сан Томе. Миссис Гулд, оглядев все эти вещи, полюбопытствовала, почему беседа с богатыми и предприимчивыми господами, обсуждающими виды на будущее, рудничные работы и обеспечение их безопасности, вызывает в ней неловкость и сердит ее, в то время как с мужем она может часами разговаривать о рудниках с неослабевающим удовольствием и интересом.
И спросила, выразительно опустив веки:
— Как ты думаешь, почему это, Чарли?
Затем, удивленная молчанием мужа, подняла на него широко открытые, прелестные, словно голубые цветы, глаза. Он к этому времени уже пристегнул шпоры, обеими руками подкрутил усы, придав им горизонтальное положение, и внимательно обозрел ее с высоты своего роста, явно одобряя ее внешность. Миссис Гулд было приятно чувствовать на себе этот взгляд.
— Они люди с весом, — сказал он.
— Я знаю. Но ты слышал когда-нибудь их разговоры? Такое впечатление, будто они ровно ничего не поняли из того, что тут увидели.
— Они видели тут рудники. И поняли кое-что не без пользы для себя, — возразил Чарлз, вступаясь за гостей; но тут его супруга назвала имя самого весомого из них. Он обладал немалым весом как в финансовых, так и в промышленных сферах. Имя его знали миллионы людей. Человек, обладающий таким весом, ни за что бы не уехал так далеко от центра своей деятельности, если бы туманные угрозы врачей не вынудили его отправиться в столь длительное путешествие.
— Религиозные чувства мистера Холройда, — не унималась миссис Гулд, — очень оскорбила пестрота одежд на статуях святых в нашем соборе — обожествление, сказал он, золота и мишуры. Но мне показалось, что его собственный бог в его глазах нечто вроде влиятельного компаньона, получающего свою долю прибылей в виде пожертвований на церковь. Он сказал, что каждый год жертвует на разные церкви, Чарли.
— На множество церквей, — подтвердил мистер Гулд, восхищаясь ее оживленным выразительным личиком. — Он раздает пожертвования по всей стране. Он прославился щедростью даров на церковные нужды.
— Но он вовсе этим не кичится, — добавила миссис Гулд, стремясь быть беспристрастной. — По-моему, он в самом деле хороший человек, но до чего же глуп! Какой-нибудь несчастный индеец, который в благодарность за исцеление дарит своему божку серебряную руку или ногу, ведет себя ничуть не менее разумно, но более человечно.
— Мистер Холройд возглавляет бесчисленное множество предприятий, добывающих серебро и железо, — возразил Чарлз Гулд.
— О, еще бы! Религия серебра и железа. Очень учтивый господин, хотя, увидев в первый раз у нас под лестницей мадонну, представляющую собой раскрашенную деревяшку, он принял чрезвычайно суровый вид; но ни слова не сказал мне. Чарли, милый, я слышала, как они разговаривают между собой, эти дельцы. Неужели они действительно хотят ради своих несметных прибылей осушить все водоемы и вырубить все леса во всех странах мира?
— Если человек работает, у него должна быть какая-то цель, — уклончиво отозвался Чарлз Гулд.
Миссис Гулд, нахмурившись, оглядела его с головы до ног. В бриджах для верховой езды, в кожаных гетрах (атрибут одежды, неведомый до этих пор в Костагуане), в серой фланелевой куртке, с громадными огненно-рыжими усами, он был похож на кавалерийского офицера, который вышел в отставку и занялся сельским хозяйством. Как раз всем этим он и нравился миссис Гулд. «До чего же он похудел, бедный мой мальчик! — подумала она. — Много работает, не жалеет себя». В то же время нельзя было отрицать, что его тонкое, обветренное лицо, живой и проницательный взгляд производят приятное впечатление, да и весь он, длинноногий, сухощавый, несомненно имеет вид человека достойного и воспитанного. И миссис Гулд смягчилась.
— Мне было просто интересно, каковы твои чувства, — ласково и негромко проговорила она.
Вот уже несколько дней Чарлз Гулд так усиленно старался не сказать ничего необдуманного, что ему было недосуг уделять внимание тому, каковы его чувства. Но они были любящей четой, и ответ возник с легкостью.
— Все мои чувства отданы тебе, дорогая, — не задумываясь отозвался он; и так много правды было в этой лаконичной и даже не вполне вразумительной фразе, что, когда он произносил ее, его душу всколыхнула огромная нежность и благодарность жене.
Миссис Гулд, однако, вовсе не сочла его ответ невразумительным. Она немного покраснела; а тем временем Чарлз заговорил уже другим тоном:
— Существуют факты, против них не возразишь. Ценность рудников — как таковых — несомненна. Рудники нас сделают очень богатыми людьми. Для того чтобы заниматься их разработками, нужны чисто технические познания, которыми я обладаю… а во всем мире ими обладают еще тысяч десять людей. Но сохранить рудники в целости, добиться, чтобы разработки продолжались и приносили прибыль людям, — посторонним, относительно посторонним, — которые вложили в предприятие деньги, эта задача полностью возложена на меня. Ко мне с доверием отнесся человек, обладающий большим богатством и положением в обществе. Тебе кажется, что иначе и быть не могло, да? Право же, не знаю. Я не знаю, почему я внушил ему такое доверие; но это факт. И благодаря этому факту все делается возможным, потому что в противном случае я и помыслить бы не мог о том, чтобы не выполнить волю отца. И мне не удалось бы передать кому-нибудь концессию, как передает свои решающие права в предприятии спекулянт — за наличные и акции, которые, вероятно, когда-нибудь его обогатят, и уж во всяком случае определенную сумму он положит в карман сразу. Нет. Даже если бы это было осуществимо, — что сомнительно — я бы так не поступил. Отец этого не понимал, бедняга. Он думал, я запутаюсь, как он, буду просто ждать счастливой случайности и сгублю здесь свою жизнь. Он поэтому и запретил мне сюда возвращаться, а мы вполне сознательно нарушили его запрет.
Они прогуливались взад-вперед по галерее. Ее голова доставала как раз до его плеча. Он держал ее за талию. Тихо позвякивали шпоры.
— Он меня не видел десять лет. Не знал меня. Ради моей пользы он со мной расстался и не позволял мне сюда приезжать. Он постоянно твердил в письмах, что уедет из Костагуаны, бросит все и убежит. Но он был слишком ценной добычей. Если бы кто-нибудь заподозрил, что он готовит побег, его тут же засадили бы за решетку.
Он шел медленно, негромко звеня шпорами. Шел, наклонившись к жене. Большой попугай, нагнув голову, круглым немигающим глазом глядел им вслед.
— Одинокий он был человек. Едва мне исполнилось десять, он стал делиться со мной всеми своими бедами, как со взрослым. Когда я жил в Европе, он писал мне каждый месяц. По десять, двенадцать страниц каждый месяц десять лет подряд. И при этом не знал, какой я! Только подумай — мы не встречались целых десять лет; за эти годы я из ребенка стал мужчиной. Он и не мог меня узнать. Как ты полагаешь, ведь не мог?
Миссис Гулд отрицательно покачала головой; именно этого ответа и ожидал ее муж, приведя столь неопровержимые доводы. Но в действительности она покачала головой, ибо считала, что никто не может узнать ее Чарлза, узнать его по-настоящему, никто, кроме нее. Это же ясно. Она это чувствует. И доводы тут совсем не нужны. А бедняга мистер Гулд-отец, умерший слишком рано для того, чтобы узнать об их помолвке, был в ее представлении какой-то призрачной фигурой, так что сомнительно, а мог ли он вообще хоть что-то знать.
— Нет, не знал. Я уверен, рудники не следовало продавать! Никогда! После всего, что он здесь вынес, я ни за что не стал бы ими заниматься только ради денег, — продолжал Чарлз; и она прижалась головкой к его плечу, безмолвно одобряя его слова.
Они задумались о жизни, окончившейся так плачевно именно тогда, когда его и ее жизни соединила счастливая полная лучезарных надежд любовь, для людей, способных на глубокое чувство, представляющаяся торжеством добра над всем злом, какое только есть на земле. В их жизненные планы неожиданно вошла смутная идея исправить это зло. Она была настолько смутной, что не нуждалась в поддержке аргументами, но это делало ее только более настоятельной. Возникла она в тот миг, когда для женского стремления к самозабвенной преданности и мужской тяги действовать самым могучим стимулом является пылкая мечта. Даже наложенный покойником запрет, казалось, еще настойчивее требовал, чтобы они добились своего. Они как бы обязаны были доказать, что правы, с надеждой взирая на жизнь, и противопоставить свою решимость пессимизму тех, кто не выдержал борьбы и впал в отчаяние. Если у них и возникала мысль о богатстве, то лишь потому, что была связана с их главной мечтой.
Миссис Гулд, осиротевшая в раннем детстве и оставшаяся без средств, воспитанная в атмосфере интеллектуальных интересов, даже и не помышляла о богатстве. Она так мало знала о жизни богатых людей, что у нее не возникало желания к ней приобщиться. Но она не ведала и тяжкой нужды. Даже бедность ее тетушки маркизы утонченному уму не представлялась невыносимой: эта бедность согласовалась с огромным горем старой маркизы; от нее веяло аскетизмом жертвы, возложенной на алтарь благородных идеалов. Так получилось, что меркантилизм даже в самых умеренных дозах отсутствовал в характере миссис Гулд. Покойник, о котором она думала с нежностью (ведь он был отцом Чарли) и с некоторой досадой (уж очень слабодушным оказался он), разумеется, глубоко заблуждался. Рудники, одни лишь запретные рудники способны послужить основой, на которой они построят себе благосостояние, ничем не запятнав его единственно достойной, немеркантильной стороны!
Что до Чарлза, он вынужден был считать материальный аспект чуть ли не самым главным; но он был для него средством, а не целью. Если рудники не будут приносить большой доход, ими не стоит заниматься. Когда он говорил о рудниках, ему приходилось настойчиво подчеркивать именно эту сторону дела. Здесь был рычаг, способный сдвинуть с места людей с капиталом. Чарлз верил в свои рудники. Он знал все, что только можно о них знать. Его вера была заразительна, хотя особым красноречием он не блистал; но дельцы часто склонны к надеждам и пылки, как влюбленные. Они гораздо чаще подпадают под обаяние человеческой личности, чем кажется со стороны; а Чарлз в своей непоколебимой уверенности был на редкость убедителен. Кроме того, среди людей, к которым он обращался, каждому было известно, что рудничное дело в Костагуане, если взяться за него как следует, без сомнения превратится в игру, стоящую свеч и более того. Деловые люди знали это отлично. Опасность, связанная с рудниками, заключалась совсем в другом. Но те, кто слушал голос Чарлза Гулда, в котором звучали спокойствие и твердая решимость, не считали нужным опасаться. Деловые люди совершают иногда поступки весьма рискованные, чуть ли не безумные с точки зрения обыкновенных здравомыслящих людей; принимают решения, явно необдуманные, просто под влиянием симпатии и антипатии.
— Прекрасно, — сказал господин, обладающий весом, которому Чарлз Гулд, проезжая через Сан-Франциско, ясно и четко изложил свою точку зрения. — Допустим, кто-нибудь займется добычей серебра в Сулако. Тогда участниками дела станут: торговый дом Холройд, с которым все в порядке; затем мистер Чарлз Гулд, гражданин Костагуаны, с которым тоже все в порядке, и, наконец, правительство этой республики. Пока что все очень похоже на начало разработок в соляных копях Атакамы — там тоже дело финансировал торговый дом, имелся джентльмен по фамилии Эдвардс и… правительство, вернее, два правительства — правительства двух южноамериканских стран. А что из этого вышло, вам известно. Война вышла; разорительная долгая война, вот что из этого вышло, мистер Гулд. Мы, правда, обладаем преимуществом: имеем дело всего лишь с одним южноамериканским правительством, которое уже нацелилось урвать побольше, когда мы восстановим разработки. Несомненное преимущество; но южноамериканские правительства бывают более, а бывают менее скверными, нам же предстоит иметь дело с правительством Костагуаны.
Так рассуждал господин, обладающий весом, миллионер, чьи щедрые пожертвования на церковь по размаху вполне соответствовали величию его родины… тот самый человек, в беседах с которым врачи смутно намекали на нечто очень страшное. Он был крупный, неторопливый; просторный отделанный шелком сюртук выглядел внушительно и в то же время элегантно на его громоздкой фигуре. Волосы у него были с проседью, брови еще черные, крупные черты лица, а профиль напоминал профиль Цезаря на древнеримской монете. Но по происхождению он был и немцем, и шотландцем, и англичанином с небольшой примесью датской и французской крови, благодаря чему обладал темпераментом пуританина и ненасытным воображением завоевателя. Своего гостя он принимал в высшей степени непринужденно и просто, потому что гость этот привез очень теплую рекомендацию из Европы, а также потому, что всегда испытывал безотчетную симпатию к пылким и решительным людям, где бы их ни встречал, и независимо от того, на что направлены их решимость и пыл.
— Костагуанское правительство непременно потребует свою долю… помяните мое слово, мистер Гулд. Ну, а что же представляет собой Костагуана? Бездонная утроба, поглощающая десятипроцентные ссуды и другие столь же дурацкие вложения капитала. Вот уже долгие годы европейский капитал валом валит в эту прорву. Европейский, но, кстати, не наш. Мои земляки осведомлены достаточно хорошо и не выходят из дому, когда хлещет ливень. Мы можем посидеть и обождать. Конечно, рано или поздно и мы вступим в дело. Без этого не обойдется. Но мы не спешим. Даже Времени приходится немного умерять свой шаг и не торопить величайшую державу в божьем мире. Наше слово — решающее во всем: в промышленности, в коммерции, в юриспруденции, в журналистике, искусстве, политике и религии, от мыса Горн до пролива Смита, да и за его пределами, если что-нибудь заслуживающее внимания вдруг обнаружится на Северном полюсе. А потом у нас останется время на то, чтобы прибрать к рукам отдаленные острова и континенты. Мы будем заправлять делами всего мира и позволения спрашивать не собираемся. Мир не в силах тут ничего изменить… да и мы, пожалуй, тоже.
Таким образом свою веру в судьбу он облек в выражения, соответствующие его интеллекту, неискушенному в изложении общих идей. Интеллект его сформировали факты; и у Чарлза Гулда, воображение которого было поглощено одним-единственным великим фактом, имя которому — серебряные рудники, не появилось возражений против такой теории. Если его и покоробило на миг, то только потому, что внезапно представшая перед ним панорама столь исполинских возможностей свела почти на нет то главное, что его волновало. И он сам, и его планы, и все богатства недр Западной провинции, казалось, в мгновение ока бесследно утратили свою значительность. Препротивное ощущение; но Чарлз был не глуп. Он уже почувствовал, что производит приятное впечатление; и это лестное для него обстоятельство помогло ему изобразить на лице слабое подобие улыбки, принятой его громоздким собеседником за улыбку, выражающую скромное согласие и восхищение.
Он тоже слегка улыбнулся в ответ; и сразу же Чарлз с той живостью ума, которая приходит к людям, защищающим свою заветную мечту, понял, что кажущаяся незначительность цели поможет ему достичь успеха. И он, и рудники получат поддержку, поскольку дело это несущественное и его исход безразличен для человека, полагающего, будто ему суждена такая необычная судьба. И догадка эта не показалась Чарлзу унизительной, ведь его цель осталась столь же важной в его глазах. И оттого, что кто-то ставит перед собой исполинские цели, его желание восстановить рудники Сан Томе не сделается меньше. Его стремления справедливы, место действия — известно, а срок их осуществления недалек, и импозантный его собеседник на миг показался ему просто мечтателем, чьи фантазии ничего не стоят.
Великий человек, дородный и благожелательный, задумчиво смотрел на него; после недолгого молчания он заметил, что нынешняя Костагуана кишмя кишит концессиями; любой дурачок, стоит ему захотеть, в мгновение ока получает концессию.
— Наши консулы не смеют рта раскрыть, — продолжал он, и в глазах его мелькнула добродушная презрительная насмешка. Но уже через мгновение он заговорил серьезно. — Добросовестным, честным людям, которые не льстятся на взятки и не участвуют в тамошних интригах, заговорах и распрях, очень быстро возвращают дипломатические паспорта. Вы меня поняли, мистер Гулд? Персона нон грата. Вот почему наше правительство ничего не знает толком о Костагуане. С другой стороны, Европу не следовало бы подпускать близко к этому континенту, а для существенного вмешательства с нашей стороны, смею сказать, еще не пришла пора. Но мы… мы ведь не правительство этой страны и не дурачки в то же время. Для нас главное решить, сумеет ли второй партнер, то есть вы, дать отпор третьему и неизвестному партнеру, то есть одной из высокопоставленных и могучих разбойничьих шаек, возглавляющей сейчас правительство Костагуаны. Как вы полагаете, мистер Гулд, а?
Он наклонился, и его пристальный взгляд встретился с решительным взглядом Чарлза, который, вспомнив большую шкатулку, полную отцовских писем, вложил в свой ответ всю горечь и презрение, скопившиеся за долгие годы.
— Если вас интересует, знаю ли я этих людей, их политику, методы, к которым они прибегают, я со всей решимостью могу ответить утвердительно. Эти познания приобретались мною с детства. Едва ли я способен совершить ошибку от избытка оптимизма.
— Едва ли, э? Прекрасно. Вам потребуется такт, а кроме того, умение держать их на расстоянии. Их к тому же можно запугать, намекнув, что у вас сильные сторонники. Только не перегните палку. Поддержку-то мы вам окажем, но при условии, что все будет в порядке. Начнутся неприятности, мы тотчас выйдем из игры. Я решил произвести эксперимент. Конечно, не без риска, но на риск мы согласны; ну, а уж если вы не сумеете наладить дело и все пойдет вкривь и вкось, убытки нас, конечно, не разорят, зато в дальнейшем действуйте без нас. С этими рудниками нет спешки; сейчас работы, как вы знаете, приостановлены. Надеюсь, вам понятно, что мы ни в коем случае не намерены тратить деньги впустую.
Так говорил великий человек, сидя в своей собственной конторе в большом городе, где другие люди (также обладающие немалым весом в глазах суетной толпы) с живостью следили за каждым мановением его руки. А через год с небольшим, неожиданно появившись в Сулако, он еще раз, не подыскивая слов, с такой же прямотою подчеркнул, что не намерен идти на уступки, поскольку человеку, обладающему его богатством и влиянием, это дозволено. Но, пожалуй, на сей раз он высказался доверительнее и спокойней, так как, изучив, какие работы были произведены на рудниках, а главное, как и в какой последовательности их производили, он убедился, что Чарлз Гулд вполне способен наладить дело так, чтобы оно не пошло вкривь и вкось.
«Этот парень, — подумал он, — станет тут со временем большим человеком».
Мысль эта его порадовала, ибо до сих пор единственное, что он мог сообщить в кругу своих приятелей о молодом человеке, было следующее:
— Мой шурин познакомился с ним в захолустном старинном немецком городке, рядом с которым есть шахты, и прислал его ко мне с письмом. Он из костагуанских Гулдов — они все чистокровные англичане, но родились в этой стране. Его дядюшка занимался политикой, был последним президентом провинции Сулако и расстрелян после боя, где его противники одержали верх. Отец был крупным дельцом в Санта Марте и старался не вмешиваться в политику, но умер в бедности, его разорили их бесчисленные революции. Сами видите, что представляет собой эта пресловутая Костагуана.
Разумеется, даже близкие друзья не осмеливались расспрашивать столь великого человека, какими соображениями он руководствовался. Что касается посторонних, им предоставлялось лишь почтительно размышлять о скрытых причинах его поступков. Он был таким великим человеком, что щедрая благотворительность для «сохранения истинных форм христианства» (принявшая незамысловатую форму пожертвований на строительство храмов, что немного забавляло миссис Гулд) рассматривалась его согражданами как проявление благочестия и смиренности духа. В близких же к нему кругах финансового мира к деловым связям мистера Холройда с рудниками Сан Томе отнеслись, конечно, вполне уважительно, но в то же время эти связи стали предметом сдержанных шуток.
В огромном здании фирмы Холройд (гигантском нагромождении железа, стекла и каменных глыб со сверкающей над крышей паутиной телеграфных проводов) начальники основных отделов фирмы обменивались веселыми взглядами, означавшими, что их никто не посвящал в загадку Сан Томе. Костагуанская корреспонденция (она никогда не бывала обильной — всего один увесистый конверт) невскрытой попадала в кабинет великого человека, и никаких связанных с ней распоряжений оттуда не исходило. В конторе сообщалось шепотом, что мистер Холройд отвечает на эти письма сам — причем даже не диктует, а пишет ответ пером и чернилами, и надо полагать, копии с них переписывает в свою личную тетрадь, недоступную взорам непосвященных.
Некоторые высокомерные молодые люди, незначительные винтики в подсобных механизмах одиннадцатиэтажной мастерской по производству крупных предприятий, откровенно высказывали свое личное мнение, что их великий руководитель наконец-то допустил какую-то глупость и стыдится в ней признаться; другие, немолодые и тоже незначительные, но полные романтического преклонения перед делом, поглотившим их лучшие годы, намекали с видом осведомленных людей, что поступок этот далеко не так прост; что связи фирмы Холройд с республикой Костагуана рано или поздно приведут к полному захвату этой республики названной фирмой.
В действительности же это была просто причуда. Великому человеку интересно было посетить рудники Сан Томе; настолько интересно, что он употребил на свою причуду полный отпуск, а такого большого отпуска он не позволял себе уж бог знает сколько лет. Крупной его затею никак нельзя было назвать; это даже не управление железной дорогой или промышленным предприятием. Он управлял человеком! Успех порадовал бы его чрезвычайно — как приятно вкусить прелесть новизны; а с другой стороны, именно необычность обстоятельств поможет ему немедленно прикрыть дело при первых же признаках неудачи. От человека избавиться легко. Жаль, газеты раструбили на весь свет о его поездке в Костагуану. И хотя он остался доволен Гулдом, но поддержку ему обещал в еще более суровых выражениях, чем прежде. Даже во время их последнего разговора, за полчаса до того, как он выехал со шляпой в руке из внутреннего дворика в карете, влекомой белыми мулами миссис Гулд, он сказал в кабинете Чарлза:
— Продолжайте действовать по собственному усмотрению, а я вам буду помогать, пока вы не сорветесь. Но можете не сомневаться, если начнутся неполадки, мы с вами нянчиться не станем.
На что Чарлз Гулд ответил кратко:
— Оборудование можно выслать сразу же.
Великому человеку понравилась его невозмутимость.
А объяснялась она тем, что Чарлзу были по душе эти жесткие условия. На рудниках Сан Томе нельзя иначе, это представление о них запечатлелось в его памяти с детства; отвечает же за все он один. Дело нешуточное, и он тоже относился к нему со всей серьезностью.
— Разумеется, — говорил он жене, обсуждая свой последний разговор с только что отбывшим гостем; они медленно ходили взад и вперед по галерее, а попугай раздраженно косился на них. — Разумеется, такому человеку, как он, ничего не стоит взяться за любое дело или отступиться от него в любой миг. Он не станет огорчаться от неудач. Возможно, он в чем-то потерпит неудачу, а может быть, он завтра умрет, но великая корпорация серебра и железа не погибнет и в один прекрасный день завладеет Костагуаной, а заодно и всем миром.
Они стояли возле клетки. Попугай, уловив звук знакомого слова, входящего в его лексикон, почувствовал необходимость вмешаться в беседу. Попугаи ведь как люди.
— Viva Costaguana! — воинственно выкрикнул он и тотчас же, взъерошив перья, чванливо нахохлился за сверкающими прутьями клетки.
— Ты в самом деле веришь в это, Чарлз? — спросила миссис Гулд. — По-моему, это просто омерзительный меркантилизм и…
— Милая, меня это нисколько не тревожит, — рассудительно прервал ее муж. — Я смотрю на жизнь трезво и извлекаю пользу из того, что вижу. Не все ли мне равно, говорит ли его устами сама судьба или это всего лишь эффектные фразы? В Америках, и в Северной и в Южной, произносится множество эффектных фраз. Вероятно, самый воздух Нового Света благоприятствует искусству декламации. Разве ты забыла, как наш милейший Авельянос может часами разглагольствовать…
— Ах, но это же совсем другое дело, — чуть ли не с возмущением возразила миссис Гулд. — Крайне неудачное сравнение. Дон Хосе милейший человек, и говорит он превосходно, и верит всей душой в великое будущее рудников Сан Томе. Как ты можешь сравнивать их, Чарли? — воскликнула она с упреком. — Он так пострадал… но по-прежнему полон надежд.
То обстоятельство, что мужчины отлично разбираются в делах, — в чем миссис Гулд ничуть не сомневалась, — представлялось ей удивительным: ведь сплошь и рядом, рассуждая о вопросах, где двух мнений быть не может, они обнаруживали редкостную бестолковость.
Чарлз с напряженным спокойствием, которое сразу же снискало ему горячее сочувствие жены, заверил ее, что он отнюдь их не сравнивает. Он и сам американец, если на то пошло, и, возможно, способен понять и тот, и другой вид декламации… «Если только есть нужда их понимать», — мрачно добавил он. Но он дышал воздухом Англии дольше, чем кто-либо из его родственников на протяжении трех поколений, и искренне просит его извинить. Бедняга отец его тоже умел выражать свои мысли эффектно. Помнит ли она отрывок из его последнего письма, где отец высказывает убеждение, что «господь разгневался на эти страны, иначе он позволил бы хоть лучу надежды проникнуть сквозь устрашающую тьму интриг, кровопролитий и преступлений, окутавшей Королеву Континентов».
Миссис Гулд помнила.
— Ты читал мне это, Чарли, — проговорила она тихо. — Поразительные слова. Я подумала: с какой же глубиною твой отец ощущал неизмеримую печаль этой мысли!
— Кому понравится, когда его грабят! Разумеется, он возмущался, — сказал Чарлз. — Но тем не менее нарисовал вполне правдивую картину. Что требуется в здешних краях — это законность, твердая вера, порядок, надежность. Декламировать может каждый, я же предпочитаю связать свою веру с материальными интересами. Пусть только эти материальные интересы обретут точку опоры, и тогда непременно появятся условия, без которых все наши старания ни к чему не приведут. Вот почему накопление денег оправдано здесь, где царит разор и беззаконие. Оно оправдано потому, что обеспечит спокойную жизнь не только нам, но и угнетенному народу. А потом придет черед справедливости уже в высоком смысле слова. Вот каков он — луч надежды. — Он на миг прижал ее к себе. — И кто знает, не станут ли тогда рудники Сан Томе тем лучом надежды в устрашающей тьме, который бедный мой отец отчаялся когда-либо увидеть?
Она подняла на него восхищенный взгляд. Право же, он умница: сумел облечь ее туманные мечтания в такую четкую великолепную форму.
— Чарли, — сказала она, — милый, милый мой упрямец.
Внезапно он вернулся в комнаты, оставив миссис Гулд на галерее, и надел шляпу, мягкое серое сомбреро, атрибут местной одежды, как неожиданно оказалось, очень подходивший к его английскому костюму. Потом возвратился, держа под мышкой хлыст, застегивая лайковые перчатки; он был полон решимости, и это отражалось на его лице. Жена ждала его на верхней площадке, а он, прежде чем поцеловать ее на прощанье, сказал, заканчивая их разговор:
— Нам одно должно быть совершенно ясно — путь назад закрыт. Где еще мы сможем начать жизнь заново? Что бы с нами ни случилось, наше место тут.
Он наклонился к ее запрокинутому лицу, полный нежности и отчасти угрызений совести. Он так отменно разбирался в своем деле потому, что не строил никаких иллюзий. Концессии Гулда придется сражаться за свою жизнь любым оружием, какое отыщется в этой трясине, где растленность нравов так привычна, что ее почти не замечают. Он был готов воспользоваться этим, может быть, и не вполне благовидным оружием. У него на миг возникло ощущение, что серебряные рудники, убившие его отца, заманили его дальше, чем он собирался пойти; и тут он почувствовал, ибо логика чувств причудлива, что жизнь его имеет цену, только если он достигнет успеха. Путь назад закрыт.
ГЛАВА 7
Миссис Гулд, и умная, и отзывчивая, конечно, разделяла его чувства. Его стремления вносили в жизнь азарт, а она любила азарт, будучи истинной женщиной. В то же время она немного побаивалась; и когда, покачиваясь в качалке, дон Хосе Авельянос неосторожно говорил: «Даже если вы потерпите неудачу, любезнейший мой Карлос, даже если какое-нибудь прискорбное событие сведет ваши усилия на нет — от чего храни нас бог! — вы славно послужили отечеству, и труд ваш не пропадет», — миссис Гулд бросала пытливый взгляд на мужа, который помешивал ложечкой чай с таким невозмутимым видом, будто не слышал ни единого слова. У дона Хосе вовсе не было дурных предчувствий. Наоборот, он пылко восхищался тактом любезнейшего Карлоса и его мужеством. Его английская незыблемость, как уверял дон Хосе, была надежнейшей гарантией успеха; и, повернувшись к миссис Гулд, он добавлял: «Что до вас, Эмилия, душа моя, — преклонный возраст и старинная дружба делали простительной такую фамильярность обращения, — вы столь истинная патриотка, будто вы здесь родились».
В этой фразе было больше правды, чем в нее вкладывал учтивый дон Хосе. Миссис Гулд, сопровождая мужа, который в поисках рабочих разъезжал по всей провинции, лучше знала страну, чем местные уроженки. В привычной амазонке, с лицом, напудренным так густо, что оно напоминало гипсовый слепок, а в знойные дневные часы еще и в маленькой шелковой полумаске, она сидела на стройном легконогом пони в центре небольшой кавалькады. Впереди ехали два всадника, живописные в своих огромных шляпах, со шпорами на босых пятках, в белых вышитых кальсонеро[41], кожаных куртках, полосатых пончо, и висящие у них через плечо карабины покачивались в такт шагам лошадей. В арьергарде двигалась упряжка вьючных мулов, за которой наблюдал тощий темнолицый погонщик, восседавший почти у самого хвоста на своем длинноухом копытном, вытянув вперед ноги и так сильно сдвинув на затылок шляпу, что ее широкие поля образовали вокруг его головы нечто вроде нимба.
Старый костагуанский офицер, отставной майор незнатного происхождения, однако находящийся под покровительством знати благодаря приверженности к партии «бланко», был рекомендован доном Хосе как интендант и руководитель экспедиции. В дороге он неизменно держался по левую руку от миссис Гулд, седые кончики его висячих усов спускались ниже подбородка, а добрые глаза внимательно оглядывали окрестность, чтобы он мог указать своей спутнице достопримечательности ландшафта, назвать встречающиеся им по пути маленькие деревушки, усадьбы, гасиенды[42], которые, словно приземистые крепости с гладкими стенами, возвышались над пригорками, разнообразящими там и сям ровную поверхность равнины Сулако. Перед их взором тянулись зеленые всходы полей, прерия, леса, поблескивали реки и озера — равнина, как огромный парк, простиралась от синей дымки далеких гор до бесконечного волнующегося горизонта, там, где небо сливалось с травой и большие белые облака словно медленно погружались во мрак своих собственных теней.
На волах, запряженных в деревянные плуги, пахали крестьяне, такие маленькие на необозримых просторах равнины, что казалось, они хотят взять приступом саму бесконечность. Вдали гарцевали верховые вакеро, и огромные стада, обратив в одну сторону рогатые головы, паслись, прочертив волнистой линией широкие пастбища. В тени раскидистого дерева у дороги приютилась крытая соломой хижина; тянулись вереницы нагруженных тяжелой поклажей индейцев; они снимали шляпы и молчаливо обращали грустный взгляд на кавалькаду, поднимающую за собой столб пыли над Королевской дорогой, которую построили когда-то собственными руками их порабощенные предки и которая сейчас крошится под копытами лошадей. И с каждым новым днем, казалось, миссис Гулд все лучше понимала душу этой страны, потрясенная неведомой ей до начала путешествия глубинной частью этого края, незатронутой европейским лоском, слегка коснувшимся прибрежных городов, пораженная видом громадных просторов прерий и гор и этими людьми, страдающими и безмолвными, которые в трогательном терпеливом бездействии ожидали грядущего.
Ей открылся ландшафт этого края и его радушие, неизменно проявляемое с неким дремотным достоинством в больших домах с длинными стенами без окон и массивными воротами, выходившими на открытую всем ветрам прерию. Ее усаживали во главе стола, где хозяева и служащие располагались, следуя простому и патриархальному порядку. Когда наступал вечер и в небе светила луна, дамы негромко беседовали, сидя во внутреннем дворике под апельсиновыми деревьями, и миссис Гулд очаровывали их нежные голоса и нечто таинственное в мирном укладе их жизни. А по утрам мужчины в украшенных лентами сомбреро и вышитых костюмах для верховой езды, ловко сидя на лошадях, сбруя которых была обильно выложена серебром, провожали отъезжающих гостей и торжественно прощались с ними у пограничных столбов своих поместий, предоставляя воле божией.
Не было дома, где бы она не слышала рассказов о политическом произволе; друзья, родственники разорены, брошены в тюрьмы, погибли в битвах бессмысленных гражданских войн, подвергнуты жестоким казням во исполнение бесчеловечных проскрипций, так что создавалось впечатление, будто бы управление этой страной заключается в междоусобице разбойничьих шаек, в которых собрались алчные и безумные, выпущенные из ада на землю демоны в воинских мундирах, с саблями в руках и с высокопарными речами на устах. И кто бы ни заговорил, миссис Гулд ощущала, как истосковались эти люди о мире, как их страшит кошмарная пародия на правительство, лишившая своих граждан законов, безопасности и правосудия.
Она легко перенесла два месяца странствий; в ней было уменье не поддаваться усталости — свойство, которое мы временами с изумлением обнаруживаем в хрупкой с виду женщине — свидетельство замечательной стойкости духа. Дон Пепе — старик майор — после многократных попыток оградить от тягот путешествия представительницу слабого пола, в конце концов пожаловал ей титул «Не ведающая усталости сеньора». Миссис Гулд и в самом деле становилась истинной костагуанкой. Узнав еще в Южной Европе, что представляет собою крестьянство, она понимала великую силу народа. В безмолвствующих вьючных животных с грустными глазами она умела разглядеть человека. Видела их на дороге, согнувшихся под тяжестью груза, видела, как усердно трудятся в поле одинокие фигурки в больших соломенных шляпах и трепыхающейся на ветру белой одежде. Она запоминала деревни потому, что ей врезалась в память кучка индианок у источника или молодая девушка индианка с печальным и чувственным профилем, поднимающая глиняный сосуд с холодной водой у дверей темной хижины с деревянным крылечком, сплошь уставленным высокими коричневыми кувшинами. Прочные деревянные колеса тележки, которая остановилась на пыльной дороге, наверняка были сработаны топором; угольщики, поставив каждый свою корзину с древесным углем на низкой глиняной стене прямо у себя над головой, спали рядком, растянувшись в узенькой полоске тени.
Крупная каменная кладка мостов и церквей, которые оставили после себя завоеватели, была свидетельством их пренебрежения к труду человека и вечным памятником подневольного труда исчезнувших народов. Ушли в прошлое власть короля и власть церкви, и дон Пепе, завидев на пригорке руины какой-нибудь каменной громады, возвышающиеся над низенькими глиняными стенами деревни, прерывал рассказ о своих воинских подвигах и восклицал:
— Несчастная Костагуана! Прежде все доставалось священникам, а народу — ничего; нынче все достается политическим воротилам в Санта Марте, неграм и ворам.
Чарлз беседовал с алькальдами, с прокурорами, с самыми уважаемыми людьми в городах и с кабальеро в поместьях. Коменданты районных гарнизонов снабжали его охраной, ибо он мог предъявить письменное разрешение, выданное политическим лидером Сулако, носящим это звание в данный момент. Сколько золотых двадцатидолларовых монет пришлось ему выложить за этот документ, осталось тайной, известной лишь самому Чарлзу, Великому человеку из Соединенных Штатов (тому самому, который снисходил до собственноручной переписки с Сулако) и еще одному великому человеку, уже совсем другого толка, с темно-оливковым цветом лица и бегающими глазками, который обитал в то время в ратуше Сулако и чванился своей культурой и европейскими манерами, в коих ощущался более всего французский стиль, ибо он прожил несколько лет в Европе… в изгнании, как он говорил.
Впрочем, многим было хорошо известно, что накануне того, как отправиться в изгнание, этот сеньор неосторожно проиграл в карты всю наличную казну таможни одного небольшого порта, где влиятельный друг раздобыл для него место младшего сборщика. Эта ошибка молодости наряду с другими превратностями судьбы вынудила его в течение некоторого времени прослужить официантом в одном из мадридских кафе, дабы изыскать себе средства к существованию. Но таланты его, вероятно, были велики, ибо помогли ему в конце концов столь блистательно вернуться на путь политической карьеры. Чарлз Гулд, с невозмутимым хладнокровием излагая ему суть дела, именовал его «ваше превосходительство».
Сулакское «превосходительство» вело беседу с усталым и покровительственным видом, сидя у открытого окна и так сильно наклонив назад кресло, как делают только в Костагуане. Случилось, что именно в это время военный оркестр на площади оглушительно сотрясал воздух, исполняя отрывки из различных опер, и «его превосходительство» дважды властно поднял руку, прерывая разговор, дабы прослушать любимый пассаж.
— Дивно, восхитительно, — шептал он; Чарлз тем временем, стоя рядом, ожидал с непроницаемым и терпеливым видом. — Лючия, Лючия ди Ламмермур![43] Я страстно люблю музыку. Она приводит меня в состояние восторга. О! Божественно… о! …Моцарт. Sí![44] Божественно… Так о чем вы говорили?
Конечно, до его превосходительства уже дошли слухи о намерениях Чарлза Гулда. Кроме того, он получил официальное предписание из Санта Марты. Его превосходительство напустил на себя важность просто для того, чтобы скрыть одолевавшее его любопытство и произвести впечатление на посетителя. Но после того как он запер в ящике большого письменного стола некий ценный вклад, он стал весьма любезен и возвратился на прежнее место быстрым и молодцеватым шагом.
— Если вы намерены построить возле рудников поселки, где будут жить переселенцы, вам для этого надлежит получить указ министра внутренних дел, — сказал он деловито.
— Я уже отправил просьбу с подробным изложением фактов, — спокойно ответил Чарлз Гулд, — а сейчас твердо рассчитываю на поддержку вашего превосходительства.
Его превосходительство был человеком настроения. Как только он получил деньги, его простая душа преисполнилась редкостной доброжелательностью. Неожиданно он глубоко вздохнул.
— Ах, дон Карлос! Больше всего здесь, в провинции, нам нужны передовые люди вроде вас. Спячка, спячка овладела нашими аристократами! Полное отсутствие инициативы! Ни малейшей предприимчивости! Я человек, глубоко изучивший Европу, как вы понимаете…
Прижав руку к бурно вздымающейся груди, он порывисто вскочил с кресла и, почти не переводя дыхания, целых десять минут осыпал пылкими излияниями Чарлза, который выслушал их, храня учтивое молчание; и когда, внезапно замолчав, его превосходительство рухнул в кресло, это выглядело так, словно он только что пытался взять приступом крепость. Чтобы сохранить достоинство, он поспешил отпустить неразговорчивого посетителя, важно склонив голову и проронив с угрюмой и усталой снисходительностью:
— Вы можете рассчитывать на мое доброжелательство, естественное в просвещенном человеке, если будете вести себя, как честный гражданин, заслуживающий такой поддержки.
Затем взял бумажный веер и принялся махать им с напыщенным видом, а Чарлз Гулд поклонился и вышел. Тогда глава провинции отбросил веер и долго разглядывал захлопнувшуюся дверь, изумленный и озадаченный. Наконец пожал плечами, как бы убеждая себя, что полон презрения. Тупой, равнодушный. Не интеллектуален. Волосы рыжие. Типичный англичанин. Ничтожная личность.
Его лицо потемнело. Почему все же этот Гулд так невозмутимо и холодно держится? Он был первым в длинной череде политических деятелей, присылаемых из столицы править Западной провинцией, которым представлялась оскорбительной независимая манера Чарлза Гулда во время деловых переговоров.
Чарлз исходил из того, что если уж необходимость делать вид, будто ты внимательно выслушиваешь всякую галиматью, представляет собой часть цены, которую он должен уплатить, чтобы его оставили в покое, то самому плести такую же галиматью никоим образом в его обязанности не входит. Здесь он твердо проводил черту. Провинциальным диктаторам, привыкшим, что перед ними трепещут мирные представители всех классов общества, эта «английская» сдержанность рыжеволосого инженера внушала беспокойство, принимавшее самые разные формы, — от стремления подольститься к нему до стремления его уничтожить. Мало-помалу все они узнали, что, какая бы партия ни главенствовала, человек этот сохраняет весьма прочные связи с высшими представителями власти, пребывающими в столице.
Так обстояли дела, и именно этим объяснялось, что Чарлз Гулд был отнюдь не так богат, как полагал главный инженер новой железной дороги. Следуя советам дона Хосе Авельяноса, а тот был хорошим советчиком (хотя мучительные испытания, выпавшие на его долю в годы правления Гусмана Бенто вселили в него робость), Чарлз отказался от своей доли в прибылях; тем не менее представители иностранной колонии, сплетничая о местных делах, наделили его (внешне шутливым, а по сути, вполне серьезным) титулом: «король Сулако».
На одного из адвокатов костагуанской коллегии, человека, чье доброе имя и выдающиеся способности были известны в обществе, члена знатной семьи Морага, владеющей обширными угодьями в долине Сулако, указывали с оттенком таинственности и почтительности иностранцам, как на агента рудников Сан Томе — «политического агента, знаете ли». Он был высок, осмотрителен и носил черные бакенбарды. Было известно, что он вхож ко всем министрам, а многочисленные генералы считают честью отобедать у него дома. Он с легкостью попадал на прием к президентам. Вел оживленную переписку с дядюшкой с материнской стороны, доном Хосе Авельяносом; однако свои письма — за исключением тех, где он выражал приличествующие почтительному племяннику чувства, — он редко доверял почтовому ведомству Костагуаны. Ибо это ведомство вскрывает все конверты, совершенно не чинясь и без разбора, с наглым ребяческим бесстыдством, свойственным некоторым испано-американским правительствам.
Следует отметить, что примерно в то же время, когда возобновилась работа на рудниках Сан Томе, уже упоминавшийся нами погонщик мулов, первоначально нанятый Чарлзом для предварительных поездок в Кампо, присовокупил свой маленький караван копытных к веренице возов и телег, вяло струившейся по перевалам, соединявшим нагорье Санта Марты с долиной Сулако. Дорога эта так трудна и опасна, что лишь самые неотложные обстоятельства могут вынудить воспользоваться ею, а нужды внутренней торговли, судя по всему, не требуют дополнительных транспортных средств; впрочем, поездки нашего погонщика не выглядели бессмысленными. Каждый раз, когда он отправлялся в путь, он вез несколько тюков с товаром. Очень смуглый и флегматичный, в штанах из козьей шкуры мехом наружу, он сидел на своем прытком муле возле самого его хвоста, прикрыв глаза широкими полями шляпы, с выражением блаженной безучастности на длинном лице, заунывно мурлыкал себе под нос любовную песенку, потом вдруг, не меняя выражения лица, пронзительно гикал на малочисленную тропилью[45], которая трусила впереди. За спиною у него болталась мандолина; а в одном из деревянных вьючных седел была искусно выдолблена выемка, в которую можно было украдкой засунуть плотно скатанный клочок бумаги, потом вновь заткнуть выемку деревянной пробкой и прибить гвоздиком холщовую обивку седла. Находясь в Сулако, он имел обыкновение покуривать и дремать весь день напролет, с видом человека, не обремененного заботами, сидя на каменной скамье, расположенной у входа в Каса Гулд и прямо напротив окон дома Авельяноса. Много-много лет тому назад его мать была старшей прачкой в этом доме, и никто лучше ее не умел мыть и крахмалить тонкое белье. Он и сам родился на гасиенде, принадлежащей этой семье. Его звали Бонифацио, и дон Хосе, переходя около пяти часов через дорогу, чтобы навестить донью Эмилию, неизменно отвечал на его скромное приветствие движением руки или кивком. Привратники обоих домов беседовали с ним неторопливо и доверительно. Вечера он посвящал азартным играм или захаживал в гости, веселый и щедрый, к продажным девицам, проживающим в глухих закоулках на окраине города. Впрочем, и он также был человеком осмотрительным.
ГЛАВА 8
Те из нас, кто любопытства ради побывал в Сулако в годы, предшествующие открытию железной дороги, конечно, помнят, как упорядочилась жизнь этой глухой провинции под влиянием рудников Сан Томе. Внешний вид города тогда еще оставался прежним, он изменился позже, и сейчас, как говорят, над улицей Конституции пролегает канатная дорога, и мощеные дороги уходят в глубь страны, к Ринкону и другим селениям, где иностранные коммерсанты и местные богачи построили себе виллы на современный лад; пристань — новая; рядом с гаванью разместилась огромная товарная станция железной дороги, тут же тянется длинный ряд пакгаузов, а в порту теперь возникла проблема труда, и рабочие устраивают стачки.
В прежние времена о проблемах труда никто не слыхивал. Работавшие в порту каргадоры образовывали состоявшее из различных подонков общества мятежное братство, во главе с заступником из их же среды. Бастовали они регулярно (в дни корриды), и с этой проблемой труда даже Ностромо в пору наивысшей своей славы ничего не мог толком поделать; зато наутро после каждой сиесты, когда торговки-индианки располагались на площади и раскрывали зонты из рогожи, а над городом, на темном еще небе светились бледным светом снега Игуэроты, подобно призраку, внезапно возникал всадник на серебристо-серой кобыле, и это неизменно приводило к полному урегулированию проблемы труда.
Лошадь мерным шагом двигалась по узким улочкам окраин и пересекала поросшие бурьяном пустыри между остатками крепостного вала и черными, без единого огонька скоплениями хижин, похожих скорее на хлев или собачью конуру. Всадник рукояткой тяжелого револьвера дубасил по дверям низеньких харчевен и гнусных развалюх, прислонившихся к тому, что сохранилось от полуразрушенной благородной стены, некогда ограждавшей город, по деревянным стенкам строений, столь хлипких, что в промежутках между грохотом ударов слышался храп людей, которые спали внутри. Не слезая с седла, он угрожающе выкрикивал имена обитателей этих лачуг, сперва один раз, а затем — второй. Ему отвечали сонными голосами, — ворчливо, виновато, злобно, шутливо, жалобно, — он молча сидел в темноте, а затем из дверей вылезала темная фигура и откашливалась в предрассветной тиши. Иногда из окна доносился негромкий женский голос: «Он сию минутку выйдет, сеньор», — и всадник молча ждал, сидя на неподвижной лошади. Но изредка, если ему приходилось спешиваться, то через некоторое время из дверей хибары или харчевни после сопровождаемой сдавленными проклятиями ожесточенной потасовки вылетал, раскинув руки, каргадор и плюхался на землю у ног серебристо-серой кобылы, которая лишь поводила маленькими остроконечными ушами. Лошадь привыкла к таким делам, а каргадор, поднявшись, шагал, слегка пошатываясь и бормоча себе под нос ругательства, спеша как можно скорей оказаться подальше от револьвера Ностромо.
Когда всходило солнце, встревоженный капитан Митчелл в ночном одеянии выходил на деревянную галерею, протянувшуюся вокруг здания ОПН, которое одиноко возвышалось на берегу, и видел снующие по заливу баркасы, суетящихся у грузовых кранов людей, возможно, даже слышал, как неоценимый Ностромо, уже спешившись, в клетчатой рубахе, подпоясанной красным шарфом, какие носят моряки Средиземноморья, зычным голосом отдавал приказы с дальнего края пирса. И впрямь — один на тысячу!
Развитие цивилизации, которое сопровождается целым рядом материальных перемен, стирающих индивидуальность старых городов и внедряющих некий стереотип современности, еще не затронуло город; но сквозь обветшалую древность Сулако, так явно напоминающую о себе в домах, украшенных лепниной, в зарешеченных окнах, высоких желто-белых стенах заброшенных монастырей, перед которыми протянулись мрачные ряды темно-зеленых кипарисов, уже на́чало проглядывать — очень современное по своей сути — существование рудников Сан Томе. Оно изменило и внешний вид толпы, собиравшейся по праздничным дням на площади перед открытым порталом собора, — в ней все чаще мелькали белые пончо, обшитые зеленой каймой, которые носили по праздникам шахтеры Сан Томе. Они надевали также белые шляпы, украшенные зеленой тесьмой и шнуром; все эти товары были хорошего качества и продавались очень недорого в магазине, открытом администрацией.
Миролюбивых cholo[46], носящих эти непривычные для Костагуаны цвета, почему-то очень редко избивали до полусмерти, обвиняя в неуважении к городской полиции; так же редко им грозила опасность, что где-нибудь на дороге их внезапно изловят, накинув лассо, занимающиеся набором солдат уланы — оригинальный способ вербовки добровольцев, почитаемый в республике почти законным. Было известно, что таким образом вербовали целые деревни; впрочем, как говорил дон Пепе, безнадежно пожимая плечами и объясняя этот казус миссис Гулд: «Что поделаешь! Бедняги! Pobrecitos! Pobrecitos![47] Но государству нужны солдаты».
Так рассуждал с полным знанием дела дон Пепе, старый воин, с висячими усами, худым, коричневым, словно орех, лицом и резко очерченной тяжелой челюстью, какие бывают, кстати, у пастухов, которые верхом на лошадях присматривают за стадами на обширных равнинах Юга. «Если у вас есть желание послушать старого офицера, служившего Паэсу, сеньоры», — так начинал он обычно каждую речь в клубе «Амарилья» — в клубе аристократов Сулако, — куда был принят в награду за услуги, некогда оказанные им давно почившему делу Федерации.
Клуб, ведущий начало от первых дней провозглашения независимости Костагуаны, мог назвать в числе своих основателей многих борцов за свободу. Его несчетное количество раз закрывали по произволу различных правительств, членов клуба подвергали опале, а однажды, когда грозный и неукротимый начальник гарнизона повелел им всем до единого собраться на банкет, была устроена грандиозная бойня, и никто не остался в живых (позже самые отпетые негодяи, осквернявшие своим присутствием город, ободрали их, как липку, а голые тела выбросили из окон на площадь); тем не менее в то время, о котором идет речь, клуб «Амарилья» снова процветал. Приезжих гостеприимно встречали прохладные большие комнаты, расположенные со стороны фасада и представлявшие собой исторический интерес, так как некогда служили резиденцией высокопоставленного деятеля святой инквизиции. Два крыла, дверь каждого из них была заколочена гвоздями, а за дверью постепенно осыпалась штукатурка да и сами стены; на немощеном внутреннем дворе зеленела молодая роща апельсиновых деревьев, листва которых скрывала от прохожих, что задняя часть здания превратилась в руины.
Свернув в ворота с улицы, вы словно попадали в уединенный сад, а в саду натыкались на ступеньки полуразрушенной лестницы, которую охраняла замшелая статуя некоего святого епископа в митре и с жезлом; он стоял, скрестив на груди красивые каменные руки, и кротко сносил поношение, учиненное каким-то нечестивцем, проломившим ему нос. Сверху выглядывали слуги — шоколадного цвета лица, обрамленные копной черных волос; слышался стук биллиардных шаров, а поднявшись по лестнице, вы в первой же зале могли увидеть сидящего как изваяние где-нибудь неподалеку от окна, в кресле с прямой спинкой дона Пепе, который читал старую столичную газету, держа ее на расстоянии вытянутой руки и шевеля от напряжения усами. Его вороная лошадь, жестокосердое, но выносливое тупоумное существо, дремала, стоя на мостовой под необъятным седлом и почти касаясь носом тротуара.
Дона Пепе, когда он не «отлучался в горы», как называли его поездки жители Сулако, можно было встретить также в гостиной Каса Гулд. Он сидел, со скромным достоинством поставив ноги очень прямо и слегка отодвинувшись от чайного стола. В его глубоко посаженных глазах поблескивала добродушная смешинка, и время от времени он вставлял в разговор иронические и забавные реплики. Здравомыслие и ироническая проницательность соединялись в нем с подлинной человечностью, а сочетание этих черт нередко присуще простым старым воинам, чья храбрость была многократно испытана в превратностях опасной службы. Разумеется, он ничего не смыслил в горном деле, однако должность у него была особого рода. На его попечении находились все, кто проживал на территории рудников, границы которой были обозначены краем ущелья — с одной стороны, а с другой — тем поворотом, где начинающийся от подножья горы проселок уходит в прерию, сразу же за ручьем, через который переброшен деревянный мостик, выкрашенный в зеленый цвет — цвет надежды, а заодно и цвет рудников Сан Томе.
В Сулако говорили, что во время «отлучек в горы» дон Пепе пробирается по обрывистым тропам, опоясанный огромной саблей и облаченный в потертый мундир с потускневшими майорскими погонами. Шахтеры, почти все индейцы с большими дикими глазами, называли его «таита» (отец), ибо в Костагуане было принято, что все босые обращаются таким образом к носящим башмаки; и никто иной, как Басилио, камердинер мистера Гулда и дворецкий Касы, в один прекрасный день счел нужным с полным чистосердечием торжественно доложить: «Дон сеньор гобернадор[48], прибыли».
Дон Хосе Авельянос, находившийся в то время в гостиной, был сверх всякой меры восхищен уместностью этого титула и, как только сухощавая фигура старика майора появилась в дверях, не без ехидства приветствовал его таким образом. Дон Пепе лишь улыбнулся в свои длинные усы, словно хотел сказать: «Легко отделался — могли бы придумать кличку и похуже».
Так сеньором гобернадо́ром он и остался впредь и, с легким юмором рассказывая о служебных обязанностях, которые он выполнял во вверенных ему владениях, посмеиваясь, говорил миссис Гулд:
— Стоит лишь камню удариться о камень, сеньора, гобернадор услышит этот стук.
И многозначительно постукивал по уху указательным пальцем. Даже когда количество одних только шахтеров, не считая их жен и детей, перевалило за шесть сотен, он, казалось, знал каждого из них в лицо, всех этих бесчисленных Хосе, Мануэлей, Игнасио из находящихся в его ведении деревень — Примеро, Сегундо, Терсеро[49] (так именовались три рудничных поселка). Он различал не только их плоские безрадостные лица, абсолютно одинаковые на взгляд миссис Гулд, словно многовековые страдания и покорность создали общий передающийся из поколения в поколение тип, нет, он, кажется, даже различал их по бесчисленным оттенкам красновато-коричневых, черновато-коричневых, медно-коричневых спин, когда перед началом новой смены отработавшие и идущие на работу, в одних подштанниках и кожаных шапочках, смешивались в общий поток и двигались, покачивая шахтерскими лампочками, которые несли в обнаженных руках, держа кайло на плече и громко шаркая сандалиями перед входом в шахту. Наступала передышка.
Шахтеры индейцы замирали, облокотившись на стоявшие длинным рядом пустые лотки для промывки руды; другие сидели на корточках и курили длинные сигары; по большим наклонным деревянным стокам не грохотали куски руды; слышался лишь непрестанный яростный рев воды в открытых желобах, ее негодующее ворчание и шумные всплески, возникавшие от вращения турбинных колес, да внизу на плато тяжелое уханье толчейного песта, дробящего в мелкий порошок драгоценную руду. Старши́е, каждый с медной бляхой на голой груди, выстраивали в ряд свои артели; а потом гора поглощала половину этой безмолвной толпы, вторая же половина растекалась по извилистым тропкам, которые вели на самое дно ущелья. Оно было глубоким; и узенькая полоса растительности, которая петляла среди сверкающих каменных глыб, словно гибкий зеленый шнурок, расширялась где-то глубоко внизу тремя узлами раскидистых деревьев и крытых пальмовыми листьями лачуг, а узелки эти именовались: Примеро, Сегундо, Терсеро, и в них обитали шахтеры концессии Гулда.
Слух о том, что у подножья Игуэроты появилось такое место, где можно получить работу и обеспечить своих близких, разнесся среди пастбищ на равнине; неуклонно и настойчиво, словно талая вода, он проник во все закоулки и щели самых отдаленных голубых хребтов Сьерры, и, прослышав об этом, целые семьи тронулись в путь. Впереди отец в остроконечной соломенной шляпе, следом мать со старшими детьми и тщедушный ослик; кроме главы семьи, все с узлами, да, пожалуй, еще старшая дочь, краса и гордость семейства, босоногая, стройная и тонкая, как тростинка, с угольно-черными косами и так же, как отец, без поклажи, если не считать поклажей маленькую гитару и сандалии из мягкой кожи, связанные вместе и переброшенные через плечо. Завидев таких путников, растянувшихся цепочкой где-нибудь у перекрестка проселочных дорог между пастбищами или сидящих на обочине большого тракта, те, кто путешествовал верхом, говорили:
— Поглядите-ка, и эти тоже идут на рудники Сан Томе. Всё идут, идут, и завтра мы таких же встретим.
И, пришпоривая в наступающих сумерках лошадей, толковали о величайшей новости в провинции, открытии рудников Сан Томе. Разрабатывать их будет богатый англичанин, а может, и не англичанин, quién sabe![50]Словом, какой-то иностранец, денег — куча. Да, кстати, разработки уже начались. Погонщики, которые отвозили в Сулако черных быков для следующей корриды, сообщили, что, стоя на крылечке постоялого двора в Ринконе, небольшом селении, откуда до города рукой подать, — всего одна лига, — они видели, что в горах уже зажглись огни и мерцают между деревьями. Видели они и всадницу, она сидит на лошади боком, в каком-то особом седле, и на голове у нее мужская шляпа. Кроме того, она бродит по горным тропам пешком. Женщина инженер, вот, кажется, кто она такая.
— Что за глупости! Это невозможно, сеньор!
— Sí! Sí! Una americana del norte[51].
— Ах, вот как! Ну, вашей милости лучше знать. Una americana, на них это похоже.
Посмеивались, удивленно и пренебрежительно, а сами не спускали настороженных глаз с теней на дороге, ибо если путешествуешь поздно вечером по равнине, того и гляди, повстречаешь разбойников.
В пределах вверенных ему владений дон Пепе знал не только шахтеров мужчин, но, казалось, был способен определить, из чьей семьи любые встретившиеся ему женщина, девушка или подросток, — для этого ему только требовалось смерить их внимательным, пытливым взглядом. Лишь мелюзга порою ставила его в тупик. Частенько сиживали они бок о бок с падре, задумчиво уставившись на деревенскую улицу, где мирно резвились коричневые ребятишки, прикидывали, чей вон тот или этот, вполголоса обменивались своими соображениями, а иногда вдвоем наперебой задавали всевозможные вопросы, дабы установить родословную мальца, который безмятежно брел по дороге, совершенно голый и очень серьезный, держа сигару в младенческих губах и украсив себя четками, похищенными, очевидно, именно украшения ради у матери и болтавшимися на его раздутом животе.
Духовный и светский наставники рудничной паствы были добрыми друзьями. С доктором Монигэмом, медицинским пастырем, который взял на себя эту миссию по просьбе Эмилии Гулд и жил в помещении больницы, они не были так коротки. Да и как с ним быть накоротке, с сеньором доктором, таким таинственным и жутким, кривоплечим, со свисающей на грудь головой, сардонической улыбкой и хмурым взглядом исподлобья. Зато оба других пастыря всегда работали в тесном содружестве.
Отец Роман, сухопарый, маленький, морщинистый, подвижный, с большими круглыми глазами и острым подбородком, большой любитель нюхать табак, тоже был старым служакой; великое множество простых душ исповедовал он на полях битвы своей республики, опускался рядом с умирающими на колени в высокой траве на горном склоне или в густом лесу, и пока он выслушивал их последние признания, его ноздри вдыхали пороховой дым, а в ушах гремела ружейная пальба и свистели пули. Так велик ли грех, если двое друзей с наступлением сумерек вытаскивали засаленную колоду карт и играли одну партию, прежде чем дон Пепе отправлялся перед сном проверить, все ли караульные — сторожевой отряд он создал самолично — находятся на своих постах?
Готовясь исполнить эту обязанность, дон Пепе и в самом деле опоясывался старым мечом на веранде несомненно американского белого каркасного домика, который отец Роман именовал пресвитерией. Рядом стояло похожее на большой сарай длинное, приземистое, темное здание под островерхой крышей, с деревянным крестом на коньке — церковь, куда ходили шахтеры. Отец Роман каждодневно служил здесь мессу перед мрачным запрестольным образом, запечатленным на серой могильной плите, поставленной торчком и упирающейся в пол одним углом, на которой изображалось воскресение из мертвых, — длиннорукая и длинноногая багрово-синяя фигура воспаряла ввысь, окруженная овалом мертвенно-бледного цвета, а на угольно черном переднем плане — поверженный смуглый легионер в шлеме. «Эта картина, дети мои, muy linda у maravillosa [52],— говорил отец Роман своей пастве, — созерцать которую вы можете благодаря щедрости супруги нашего сеньора администрадо́ра, нарисована в Европе, стране святых и чудес, размерами своими намного превосходящей Костагуану». И с наслаждением брал понюшку табаку. Но когда однажды любознательный прихожанин пожелал узнать, в какой стороне расположена эта Европа и как туда добираться, морем или сушей, отец Роман, желая скрыть свое замешательство, ответил сухо и сурово: «Находится она несомненно весьма далеко. Но невежественным грешникам, вроде вас, тут живущих, следовало бы лучше всерьез задуматься о вечной каре, а не расспрашивать о разных странах и народностях, коль скоро земля так огромна, что вам ничего этого все равно не постичь».
После того как раздавались прощальные: «Доброй ночи, падре», «Доброй ночи, дон Пепе», сеньор гобернадо́р отправлялся в путь, придерживая саблю на боку, склонившись вперед всем телом, делая длинные, шаркающие шаги в темноте. Шутливость, приличествующая невинной партии в карты, в течение которой игроки могут выкурить несколько сигар или, заварив щепотку парагвайского чая, услаждать себя этим напитком, сразу сменялась суровой деловитостью офицера, направляющегося проверить аванпосты расположенной лагерем армии. Стоило дону Пепе дунуть в свисток, который висел у него на шее, со всех сторон немедля слышались ответные свистки, а также лай собак, затихавший очень не скоро возле самого края ущелья; и в наступившей тишине появлялись и бесшумно двигались ему навстречу двое караульных, охранявших мост.
Длинный каркасный дом у дороги, он же лавка, к этому времени уже заперт и даже забаррикадирован; в другом каркасном белом доме, напротив первого, еще более длинном и опоясанном верандой, — больнице — светятся два окна: комнаты доктора Монигэма. Даже легкие листья перечников не шевелятся, так неподвижна, бездыханна тьма, согретая излучениями раскаленных камней. Дон Пепе останавливается на минутку, перед ним, как изваяния, стоят двое часовых, и тут внезапно высоко-высоко на отвесном склоне горы, усыпанном искорками факелов, которые словно капли просочились сверху из двух больших сверкающих огненных пятен, начинает работать грохот[53]. Лавина шума все стремительней катится вниз, набирая мощь и скорость, проносится по стенам ущелья и уползает в долину с урчаньем, подобным раскатам грома. Один житель Ринкона уверял, что в тихие ночи, внимательно прислушавшись, можно различить этот шум, даже стоя на пороге дома, и ему кажется, будто в горах бушует буря.
Чарлзу чудилось, что этот шум достигает самых дальних пределов провинции. Когда он вечером ездил верхом на рудники, шум доносился до его ушей, едва он добирался до опушки небольшого леса, начинавшегося около Ринкона. Да, без сомнения, это ворчит гора, выбрасывая в толчею поток драгоценной руды; и сердце его начинало биться с особой силой — ни с чем несравнимая радость слышать, как громовые раскаты взрывов оповещают все окрест о том, что его дерзкое желание исполнилось. В своем воображении он давно уже услышал этот звук. Он услышал именно его в тот самый вечер, когда они с женой, пробравшись сквозь лесную чащу, остановили лошадей возле ручья и впервые заглянули в дикие джунгли ущелья. Из кустов то там то сям выглядывали верхушки пальм. Выше тоненькая, отвесно падавшая струйка ручья прорыла в квадратном, словно блокгауз, уступе горы углубление и, вытекая из него, сверкала, ослепительная и прозрачная, извиваясь среди пышных темно-зеленых зарослей древовидных папоротников. Тут верхом на лошади подъехал сопровождавший их дон Пепе и, указывая рукой на ущелье, с иронической торжественностью произнес: «Вот где сущий рай для змей, сеньора».
Услышав это, они тотчас повернули лошадей и переночевали в Ринконе. Алькальд Морено — тощий старик, имевший чин сержанта во времена Гусмана Бенто, вместе с тремя хорошенькими дочками почтительно удалился из дома, предоставляя помещение иноземной сеньоре и их милостям кабальеро. Чарлза Гулда, который показался ему крупным государственным чиновником, окутанным покровом некой тайны, он попросил лишь об одном: напомнить высшему правительству, al Gobierno supremo, о пенсии (равнявшейся примерно доллару в месяц), каковая, как он полагал, ему причиталась. Она была обещана ему, говорил он, молодцевато распрямляя свой согбенный стан, «много лет тому назад за отвагу, проявленную в битвах с дикими индио[54], когда я был еще молодым, сеньор».
Отвесно падающей струйки больше нет. С ее исчезновением зачахли древовидные папоротники и уныло стоят вокруг высохшего пруда, а углубление в уступе горы — теперь просто большая впадина, до половины заполненная мусором с открытых выработок. Ручей, запруженный выше по склону, сворачивает в сторону, и вода устремляется по открытым желобам, сделанным из выдолбленных древесных стволов и поставленным на высокие козлы, а оттуда падает на лопасти колес, приводящих в движение толчейные песты, которые находятся на нижней площадке, самом большом уступе горы Сан Томе. Память о нависшей над каменистым ущельем дивной папоротниковой оранжерее, орошаемой прозрачной струей воды, сохранилась лишь в акварельном наброске, сделанном миссис Гулд; она написала его наскоро, пристроившись однажды на полянке в тени навеса, представлявшего собой просто соломенную крышу, положенную поверх трех врытых в землю кольев.
Миссис Гулд видела все это с самого начала: как расчищали территорию для рудника, как строили дорогу, как прокладывали новые тропы по каменистым склонам Сан Томе. Она жила там целыми неделями и в ту пору так редко наведывалась в Сулако, что, когда коляска Гулдов появлялась на Аламеде, среди горожан начиналось бурное волнение. Из тяжеловесных семейных экипажей, которые в это мгновение торжественно выезжали из тенистых боковых улочек, влача свой драгоценный груз — дородных сеньор и черноглазых сеньорит, ей оживленно махали белые ручки, радостно приветствуя ее. Донья Эмилия «вернулась из отлучки в горы».
Впрочем, ненадолго. Через день-другой донья Эмилия вновь «отлучалась в горы», и откормленным мулам, возившим ее коляску, вновь предстоял долгий отдых. В ее присутствии на нижней террасе воздвигли первый каркасный дом, где находилась контора и апартаменты дона Пепе; охваченная восторгом, она слушала, как содержимое первой вагонетки с рудой прогрохотало по еще единственному тогда желобу; безмолвно стояла она рядом с мужем и похолодела от волнения, когда начала действовать первая партия из пятнадцати толчейных пестов. А когда впервые началась плавка и отблески огня осветили окружающий мрак, она не уходила в дом, пока еще пустой каркасный дом, где только для нее поставили некое жесткое ложе, пока не увидела первый ноздреватый комок серебра, извлеченный из темных глубин предприятия Гулда и готовый вступить на полный превратностей путь по белу свету; ее не ведающие корысти руки дрожали от волнения, прикоснувшись к еще теплому серебряному слитку, взятому прямо из изложницы; в ее воображении этот кусок металла обладал высокими и сложными свойствами, влекущими за собой серьезные последствия, словно он не просто был выплавлен из руды, а олицетворял собою, скажем, истинное выражение чувства или возникновение нового принципа.
Дон Пепе, также весьма заинтригованный, выглядывал из-за ее плеча, и на лице у него от напряжения появились продольные морщины, что придавало ему сходство с кожаной маской, выражавшей демоническое благодушие.
— Я полагаю, ребята Эрнандеса были бы не прочь завладеть этой безделушкой, так похожей на кусок олова, — шутливо заметил он.
Разбойник Эрнандес некогда был безобидным мелким ранчеро, но во время одной из гражданских войн его вырвали из родного гнезда и заставили служить в армии. Там он вел себя как образцовый солдат, а в один прекрасный день воспользовался удобным случаем, убил полковника и убежал. Он обосновался с бандой других дезертиров, которые выбрали его главарем, где-то за безводными непроходимыми дебрями Болсон де Тоноро. Гасиенды откупались от него крупным рогатым скотом и лошадьми; о совершаемых им дерзких набегах рассказывали чудеса. Иногда, гоня перед собою упряжку мулов, он без спутников въезжал в селения и маленькие города, расположенные на Кампо, а затем с двумя револьверами за поясом заходил в какую-нибудь лавку или на склад, брал там все, что хотел, и беспрепятственно уезжал восвояси, ибо его подвиги и отвага внушали ужас местным жителям. Обычно он не трогал бедных поселян; богачей останавливал на дороге и грабил; если же в руки ему попадался чиновник, беднягу неминуемо ждала жестокая порка.
Армейские офицеры чувствовали себя уязвленными, если в их присутствии упоминалось его имя. Разбойники из его шайки на краденых лошадях нагло уходили прямо из-под носа посланных за ними в погоню отрядов регулярной кавалерии и развлекались, хитроумно заманив их в засаду в какой-нибудь овраг неподалеку от своего вертепа. Снаряжали специальные отряды, чтобы их изловить; голова Эрнандеса была оценена; шли на хитрость и пытались вступить с ним в переговоры, но это никак не отражалось на его деятельности.
И наконец, следуя истинно костагуанской манере, судебный исполнитель Тоноро, побуждаемый тщеславной надеждой взять верх над знаменитым Эрнандесом, предложил ему значительную сумму денег и обещал дать возможность покинуть страну, если тот выдаст свою шайку. Однако Эрнандес несомненно был вылеплен не из того теста, из какого лепят политических деятелей и организаторов военных переворотов в Костагуане. Этот хитроумный, хотя и ординарный замысел (из тех, что творят чудеса при подавлении местных революций) был разрушен главарем вульгарной разбойничьей шайки. У судебного исполнителя поначалу все пошло, как по маслу, но уж очень скверно кончилось для эскадрона улан, расположившихся по указанию судебного исполнителя в овраге, куда Эрнандес обещал привести своих обманутых приверженцев. Они и в самом деле прибыли в назначенный час, но ползком пробрались сквозь кустарник и оповестили о своем прибытии дружным залпом из пистолетов и ружей, опустошившим множество седел. Кавалеристы, оставшиеся в живых, спасаясь бегством, во весь опор помчались в сторону Тоноро. Ходят слухи, что командир эскадрона, благодаря хорошей лошади сильно опередивший остальных, пришел в такую ярость, что за бесчестье, нанесенное национальным войскам, ударил плашмя саблей судебного исполнителя в присутствии его жены и дочерей. Высший чиновник города Тоноро свалился в обмороке на пол, а начальник гарнизона в порыве бурных чувств пинал недвижное тело своего штатского коллеги и исцарапал шпорами его шею и лицо.
Подробности этого эпизода, столь характерного для правителей этой страны, вся история которой зиждется на угнетении, нелепой и бессмысленной политике, предательстве и зверской жестокости, превосходно были известны миссис Гулд. То, что люди разумные, утонченные, честные слушают все это, как нечто само собой разумеющееся, не единым словом не выражая негодования, являлось в ее глазах одним из признаков падения нравов и возмущало так глубоко, что она приходила в отчаяние. Продолжая разглядывать серебряный слиток, миссис Гулд покачала головой в ответ на шутку дона Пепе:
— Если бы не беззаконная тирания вашего правительства, дон Пепе, многие отщепенцы, которыми верховодит сейчас Эрнандес, зарабатывали бы себе на жизнь честным трудом и жили бы мирно и счастливо.
— Сеньора, — с жаром вскричал дон Пепе, — вы правы! Мне кажется, сам господь наделил вас умением проникать в сердца этих людей. Вы видели их за работой, донья Эмилия, — они кротки, как агнцы, терпеливы, как их собственные ослы, храбры, как львы. Я вел их под обстрел, под дула пистолетов — я, стоящий сейчас перед вами, сеньора, — во времена Паэса, являвшего собой воплощение благородства, а по смелости, насколько мне известно, равного разве что дядюшке дона Карлоса, вашего супруга. Стоит ли удивляться, что на равнине есть разбойники, если в Санта Марте нами правят одни лишь воры, мошенники и лютые змии. Тем не менее бандит есть бандит, и, чтобы переправить серебро в Сулако, нам понадобится для его охраны дюжина добрых метких винчестеров.
Поездка миссис Гулд вместе с конвоем, сопровождавшим в Сулако первую партию серебра, явилась завершающим звеном в цепочке, которую она именовала «моя жизнь на биваках», после чего она безвыездно жила в своем городском доме, как подобает и даже необходимо супруге главы такого значительного предприятия, как рудники Сан Томе. Ибо рудники Сан Томе в полном смысле этого слова превратились в государственный институт, осуществляющий насущную для провинции необходимость в порядке и устойчивости.
Казалось, из ущелья в горе Сан Томе хлынуло и растеклось по земле успокоительное ощущение надежности. Местные власти усвоили, что рудники Сан Томе это благо, ради сохранения которого не следует вмешиваться в установленные там порядки. Таково было первое завоевание Чарлза Гулда в его борьбе за торжество здравого смысла и справедливость. И в самом деле рудники, где работа шла организованно и слаженно, где шахтеры цепко держались за обретенную наконец обеспеченность, где имелся свой арсенал, где дон Пепе возглавлял вооруженный отряд караульных (в котором, как говорили, нашли себе пристанище много отщепенцев, дезертиров и даже разбойников из шайки Эрнандеса), рудники эти превратились в нечто вроде государства в государстве. Одна высокопоставленная столичная персона, когда зашел разговор о позиции властей Сулако во время политического кризиса, вскричала с ироническим смешком:
— Вы считаете их государственными чиновниками? Этих людей? Да ни в коем случае! Это рудничные чиновники… чиновники концессии, вот это кто.
Столичная персона, входившая в ту пору в состав правительства и обладавшая лицом лимонно-желтого цвета, а также весьма короткими и кудрявыми, а верней — курчавыми, как овечья шерсть, волосами, была настолько раздосадована, что потрясла желтым кулачком под носом собеседника и взвизгнула:
— Да! Все они! Молчать! Все! Вот кто они такие! Политический диктатор и начальник полиции, и начальник таможни, и генерал, словом, все, все, все они чиновники Гулда.
Затем он еще некоторое время что-то бормотал, невнятно, но достаточно отважно, затем пыл его угас, и он скептически пожал плечами. Стоит ли спорить, если уж сам господин министр принимает их милости, покуда длится быстротечная пора его власти? Но тем не менее неофициальному агенту Сан Томе, вносившему свою лепту в доброе дело, случалось порой тревожиться, что нашло отражение в его письмах дону Хосе Авельяносу, дядюшке агента с материнской стороны.
— Ни один из лютых змиев Санта Марты даже ногой не ступит на земли Костагуаны, расположенные по эту сторону моста Сан Томе, — неоднократно заверял дон Пепе миссис Гулд. — Разве что в качестве почетного гостя… ведь наш сеньор администрадо́р тонкий политик. — Однако, заходя в кабинет Чарлза, старик майор с угрюмой бодростью произносил: — Все мы рискуем головой в этой игре.
— Imperium in imperio[55], Эмилия, душа моя, — негромко бормотал дон Хосе Авельянос с видом глубочайшего душевного спокойствия, к которому, казалось, примешивалось телесное недомогание. Впрочем, может быть, это было заметно только посвященным.
Что до посвященных, они нигде не чувствовали себя уютней, чем в гостиной Каса Гулд, куда по временам заглядывал на минутку хозяин, — сеньор администрадо́р — загадочно молчаливый, сделавшийся теперь старше, жестче, так что даже морщинки обозначились глубже на его румяном, загорелом, типично английском лице; худые ноги кавалериста торопливо переступали через порог, ибо дон Карлос либо только что вернулся «из отлучки в горы», либо, позвякивая шпорами и зажав под мышкой хлыст, намеревался туда отлучиться. В своем кресле сидел и дон Пепе, держась браво, но не развязно, бродяга, который в ожесточенных смертельных стычках со своими ближними каким-то образом приобрел ироничность старого воина, знание света и манеры, в точности соответствующие его положению в обществе; Авельянос, изысканный и непринужденный, истинный дипломат всегда и во всем, так что даже, давая совет, он деликатно прикрывал за кажущимся многословием и осмотрительность свою, и мудрость, автор исторического труда о Костагуане, «Пятьдесят лет бесправия», который, как он считал, в настоящее время было бы неблагоразумно (даже окажись это возможным) «представить на суд читателей»; а кроме этих троих, — донья Эмилия, изящная, хрупкая, похожая на фею, перед сверкающим сервизом; и каждым, кто находится в гостиной, владеет одна мысль, их сплотило одно тревожное чувство, перед каждым одна и та же неизменная цель: любой ценою отстоять могущество концессии.
Здесь же нередко бывал и капитан Митчелл. Опрятный, старомодный в своем белом жилете, слегка напыщенный старый холостяк, он сидел, устроившись подле высокого окна, несколько в стороне от остальной компании, а компания, сплоченная единой заботой, также держалась несколько в стороне от него, чего он не замечал; пребывая в глубоком неведении, он полагал, что находится в самой гуще событий. Этот славный малый, которого, по его выражению, «списали на берег» после того, как он провел тридцать лет среди бурных морей, был поражен значительностью дел, происходивших на суше и не имеющих отношения к мореходству. Чуть ли не каждое событие, выходящее за пределы заурядной повседневности, «открывало новую эпоху», по мнению капитана Митчелла, или же являлось «историческим», и лишь иногда, понурив голову с седыми коротко остриженными волосами и аккуратными бакенбардами, обрамлявшими красноватое, довольно приятное лицо, он сокрушенно, хотя и не без присущей ему напыщенности, бормотал:
— Ах, это! Это была ошибка, сэр.
Прием первой партии серебра, доставленного из Сан Томе, и отправка его в Сан-Франциско на одном из почтовых пароходов, принадлежащих компании ОПН, разумеется, «открывала новую эпоху» в представлении капитана Митчелла. Слитки, уложенные в тюки из дубленой воловьей кожи, небольшие по размеру, так что их легко могли нести, взявшись за плетеные ручки, два человека, были доставлены к подножью горы служившими на рудниках часовыми, которые попарно осторожно прошли полмили по крутым извилистым горным тропам. Затем коробки погрузили в двухколесные повозки, напоминавшие объемистые сундуки с расположенной сзади дверцей, которые стояли наготове, охраняемые вооруженными часовыми, и в каждую из них было впряжено два мула цугом.
Дон Пепе запер все двери на замок, свистнул, и повозки двинулись по тряской дороге; позвякивали карабины и шпоры, щелкали бичи, а на пограничном мосту («преддверие страны воров и лютых змиев», — именовал его дон Пепе) внезапно началась суматоха: в бледном сумраке рассвета маячили шляпы на головах закутанных в плащи фигур; покачивались, прикасаясь к бедрам, опущенные вниз дула винчестеров; из-под складок пончо высовывались, держа уздечку, тонкие коричневые руки. Конвой обогнул небольшой лесок, проехал мимо глиняных хижин и низеньких изгородей селенья Ринкон, а затем, свернув с проселка на большую дорогу, ускорил шаг, — погонщики нахлестывали мулов, всадники пустили лошадей галопом, дон Карлос же, скакавший впереди, оглядываясь, видел, как мелькают в туче пыли длинные уши мулов, трепещут на повозках зелено-белые флажки, как машут руки, поднятые над сомбреро, как сверкают белки глаз; а в конце этой грохочущей и пыльной вереницы можно было еле-еле разглядеть дона Пепе, который с непроницаемым лицом, не меняя позы, словно врос в седло и ритмически покачивался на вороной с серебряной искрой лошади с короткой шеей и похожей на молоток головой.
Люди, спавшие в придорожных хижинах на мелких ранчо, услышав этот шум, догадались, что он знаменует: рудники Сан Томе шлют свой вызов обветшалой крепостной стене большого города, находящегося по другую сторону Кампо. Они подходили к порогу поглядеть, как несутся по рытвинам и каменистым ухабам повозки, с грохотом, лязгом, щелканьем бичей, как с отчаянной стремительностью и рассчитанной точностью рвущейся в бой артиллерийской батареи мчится вся эта процессия под водительством всадника, чью одинокую фигуру, виднеющуюся далеко впереди, все узнают с первого взгляда — сеньор администрадо́р, англичанин с головы до ног.
Заслышав шум, в огороженных выгонах у дороги начинали метаться нестреноженные лошади; быки и коровы с негромким мычаньем поднимались в высокой, по грудь им траве; бредущий с нагруженным осликом крестьянин-индеец, робко оглянувшись, руками подталкивал свою животинку вплотную к стене, чтобы не стояла на дороге у конвоя, который сопровождает груз серебра от Сан Томе к морскому побережью; несколько продрогших оборванцев, нашедших себе приют под статуей каменной лошади на Аламеде, тихо буркнут: «Caramba!»[56], глядя, как он мчится во всю прыть и, описав широкую дугу, врывается на пустынную улицу Конституции; ибо среди погонщиков мулов, работающих на рудниках Сан Томе, считалось обязательным для соблюдения традиции проехать через спящий город из конца в конец с такой скоростью, словно за ними гонится сам дьявол.
Первые лучи солнца заиграли на нежных лепестках примул, на голубых и розовых фасадах домов, все двери которых были еще закрыты, а из-за железных решеток на окнах не выглядывало ни единого лица. Яркое солнце освещало и длинный ряд галерей, вытянувшихся вдоль улицы, но только на одной из них виднелась белая фигурка — жена сеньора администрадо́ра, наспех уложив узлом свои густые белокурые волосы и накинув отделанный кружевами муслиновый халатик, облокотилась на перила, чтобы поглядеть, как конвой проедет мимо дома в порт. Ее муж всего лишь один раз бросил быстрый взгляд вверх, и она ему улыбнулась, затем с приличествующим случаю гамом под галереей прокатил весь караван, а потом дон Пепе на полном скаку чопорно и почтительно ей поклонился, и миссис Гулд дружески помахала в ответ.
С годами вереница запертых на замок повозок делалась все длиннее, все многочисленнее становился конвой. Каждые три месяца все более обильный поток сокровищ проносился по улицам Сулако в сторону порта, где в большом сейфе-кладовой компании ОПН дожидался отправления на север. Поток увеличивался, росла и его ценность: Чарлз Гулд, радостный и возбужденный, однажды сообщил жене, что ничего подобного той жиле, которую разрабатывает их концессия, нет и никогда не было в мире. Каждый раз, когда повозки с серебром проезжали под галереями Каса Гулд, им обоим казалось, что одержана еще одна победа в битве за мирное существование Сулако.
Несомненно успешному началу работы способствовало то, что оно совпало с относительно мирным периодом в истории Костагуаны; да и нравы смягчились по сравнению с эпохой гражданских войн, породивших железную тиранию недоброй памяти Гусмана Бенто. В столкновениях враждующих партий в конце его правления (которое в течение целых пятнадцати лет спасало страну от междоусобиц) еще оставалось много нелепого и бессмысленно жестокого, зато сильно поубавилось былой кровожадности и страшного своею слепой нетерпимостью политического фанатизма. Междоусобная борьба превратилась в низменную, подловатую, гнусную свару, справиться с которой стало несравненно легче уже хотя бы потому, что никто не скрывал своих корыстных побуждений. Было ясно: идет бесстыдная драка за добычу, количество которой все уменьшается; да и неудивительно, поскольку в стране глупейшим образом уничтожили все предприятия.
Так вышло, что провинция Сулако, служившая когда-то полем кровопролитных схваток между партиями, превратилась в нечто весьма заманчивое для людей, делающих политическую карьеру. Великие мира сего (в масштабах Санта Марты) придерживали должности в бывшем Западном штате для тех, кто им всех ближе и дороже: для племянников, братьев, мужей самых любимых сестер, для близких друзей и верных соратников …либо могущественных сторонников, коих они, возможно, сами побаивались. Благословенная провинция, где перед людьми открывались большие возможности и где щедро платили жалованье; ибо на рудниках Сан Томе существовала своя собственная неофициальная платежная ведомость, и Чарлз Гулд с сеньором Авельяносом, предварительно обсудив все пункты, доводили ее до сведения Великого Бизнесмена из Соединенных Штатов, который каждый месяц уделял примерно двадцать минут исключительно делам Сулако.
В то же время под влиянием рудников Сан Томе всякого рода материальные интересы начали приобретать в этой части республики вполне реальный статут. Если в политических кругах столицы, например, было принято считать, что должность сборщика налогов в Сулако открывает путь в министерство финансов, и точно так же дело обстоит с любым из государственных постов, то в деловых сферах республики на Западную провинцию взирали, как на землю обетованную, где успех обеспечен, в особенности если удалось установить добрые отношения с администрацией рудников. «Чарлз Гулд… отличный малый! Заручиться его поддержкой совершенно необходимо, а иначе нельзя и шагу ступить. Постарайтесь, чтобы вас представил ему Морага — вы, конечно, слышали о нем — доверенный агент „короля Сулако“».
Стоит ли удивляться, что сэр Джон, прибывший из Европы, дабы расчистить путь для своей железной дороги, буквально на каждом перекрестке в Костагуане слышал имя Чарлза Гулда, а иногда и его прозвище. Доверенный агент администрации Сан Томе в Санта Марте (на сэра Джона он произвел впечатление благовоспитанного и образованного джентльмена) оказал столь существенную помощь в организации торжественной поездки президента, что сэр Джон невольно призадумался, не скрывается ли доля истины в слухах о неограниченном, почти мистическом могуществе концессии Гулда. Слухи эти заключались в том, что администрация рудников якобы финансировала — во всяком случае частично — последнюю революцию, поставившую на пять лет у власти дона Винсенте Рибьеру, человека высокой культуры и безупречной репутации, которому лучшие люди страны доверили произвести столь необходимые для Костагуаны преобразования. Люди серьезные, разумные верили, судя по всему, что преобразования эти и в самом деле будут произведены, надеялись на благотворные перемены, полагали, что в общественной жизни страны восторжествует законность, честность, порядок.
Что ж, тем лучше, решил сэр Джон. Он привык действовать с размахом; его компания предоставила Западной провинции заем и помышляла постепенно превратить ее в свою колонию, по мере того как будет строиться Национальная Центральная железная дорога. Добросовестность, порядок, честность, мир были необходимы, чтобы осуществить эти грандиозные свершения в области материальных интересов. Сэр Джон был рад любому единомышленнику, в особенности же такому, который действительно мог ему помочь. «Король Сулако» не обманул его ожиданий. Как и предсказывал главный инженер, все трудности были преодолены после вмешательства Чарлза Гулда. Сэра Джона очень торжественно приветствовали в Сулако, как второго по значительности гостя после президента-диктатора; чем, пожалуй, можно объяснить дурное настроение генерала Монтеро во время ленча, данного на борту «Юноны» перед самым ее отплытием из Сулако с президентом-диктатором и сопровождающими его почтенными иноземными гостями.
Его превосходительство («надежда всех честных людей», как назвал его дон Хосе в публичной речи, произнесенной от имени Генеральной Ассамблеи провинции Сулако) сидел во главе длинного стола; капитан Митчелл, чье лицо побагровело, а взгляд стал совершенно неподвижным в связи с торжественностью «исторического момента», как представитель местного отделения компании ОПН занимал противоположный конец стола, в окружении хозяев этой неофициальной церемонии — капитана «Юноны» и нескольких портовых чиновников. Эти жизнерадостные, смуглолицые, низкорослые господа искоса бросали оживленные взгляды на бутылки с шампанским, которые с треском уже начали откупоривать за спинами гостей пароходные стюарды. Янтарно-желтое вино, пенясь, до краев наполнило бокалы.
Чарлз Гулд сидел рядом с иностранным послом, который монотонным и негромким голосом время от времени принимался беседовать с ним об охоте. Рядом с чужеземным гостем, чью упитанную бледную физиономию украшали монокль и желтые висячие усы, сеньор администрадо́р казался в два раза более загорелым и румяным, чем был на самом деле, и, невзирая на молчаливость, гораздо боле энергичным и живым. Соседом сеньора Авельяноса оказался еще один иноземный дипломат, темноволосый человек, державшийся спокойно, вежливо, уверенно, но, пожалуй, несколько настороженно. О формальностях никто не думал, и генерал Монтеро единственный из всех присутствующих был в парадном мундире, так густо расшитом золотом, что, казалось, его широкую грудь защищают золотые латы. Сэр Джон в самом начале ленча перебрался со своего почетного места поближе к миссис Гулд.
Великий финансист в самых пылких выражениях благодарил свою соседку за гостеприимство и выражал признательность ее супругу, обладавшему «поистине поразительным влиянием в этой части страны», как вдруг она его прервала, прошептав: «тс-с». Президент намеревался обратиться к собравшимся.
Его превосходительство уже встал. Он сказал всего несколько слов, несомненно глубоко прочувствованных и адресованных, вероятно, главным образом Авельяносу — его старому другу — о необходимости беспрестанно прилагать усилия к тому, чтобы обеспечить благосостояние их родины, вступающей, как он надеется, после только что окончившейся борьбы в период мира и процветания.
Миссис Гулд, слушая его мелодичный немного грустный голос, глядя на круглое, смуглое лицо в очках, на фигуру его превосходительства, отличавшегося малым ростом и чуть ли не болезненной тучностью, думала, что этот человек, деликатный, меланхолического склада и притом почти калека, отказавшийся от покоя и уединения и по призыву своих единомышленников вступивший на опасный, полный превратностей путь, как никто иной имеет право говорить о самопожертвовании. Тем не менее ее угнетала тревога. Он внушал скорее жалость, чем надежду, этот первый штатский — за всю историю страны — глава правительства Костагуаны, призывающий с бокалом в руке к миру, честности, уважению к закону, политической добропорядочности как внутри страны, так и в международных связях — гарантиям национальной чести.
Он сел. Раздался почтительный гул голосов, и, покуда собравшиеся за столом обменивались одобрительными замечаниями по поводу произнесенной президентом речи, генерал Монтеро поднял тяжелые набрякшие веки и с тупым беспокойством вглядывался в лица, окружавшие его. Вылезший из глухой провинции военный герой, хотя и радовался в глубине души переменам, которые принес ему внезапный взлет (он еще ни разу в жизни не бывал на борту корабля, да и море видел редко и только издали), но чутье ему подсказывало, что угрюмый, грубый, неотесанный вояка обладает неким преимуществом перед окружающими его утонченными аристократами партии «бланко». Так почему ж никто не смотрит на него, сердито думал он. Он кое-как умел читать газеты и знал, что никто иной, как он, совершил «величайший воинский подвиг современности».
— Мужу хотелось, чтобы провели железную дорогу, — сказала миссис Гулд сэру Джону, когда за столом опять возобновились прерванные разговоры. — Ведь все это приметы тех самых перемен, которых мы так жаждем для нашей страны; она и так ждала их слишком долго и, видит бог, измучена этим тяжелым ожиданием. Но признаюсь, когда позавчера во время своей ежедневной прогулки я вдруг увидела, как из лесу выехал молодой индеец, держа в руке красный флажок поисковой партии вашей компании, мне стало неприятно. Я знаю, перемены неизбежны, все полностью должно измениться. Тем не менее даже здесь, у нас, есть уголки, простые и в то же время живописные, которые хотелось бы сохранить.
Сэр Джон слушал, улыбаясь. Но тут вдруг наступил его черед призвать миссис Гулд к молчанию.
— Генерал Монтеро хочет что-то сказать, — прошептал он и тут же с комическим ужасом добавил: — Боже милостивый! Я всерьез опасаюсь, как бы он не вздумал предложить тост за мое здоровье.
Генерал Монтеро тем временем встал, звякнув ножнами, сверкнув вышитой золотом грудью; над краем стола появился массивный эфес его сабли. В пышном мундире, с бычьей шеей, крючковатым носом, приплюснутый кончик которого находился прямо над иссиня-черными крашеными усами, генерал производил впечатление зловещего переодетого вакеро. У него был низкий голос, в котором звучало нечто странное, скрипучее, металлическое. Запинаясь, он пробормотал начальные, довольно бессодержательные фразы; потом внезапно поднял голову и голосом, столь же внезапно окрепшим, резко выпалил:
— Честь этой страны в руках армии. Можете быть спокойны, я ее не уроню. — Он запнулся, беспокойно озираясь, затем увидел сэра Джона и вперил в его лицо сонливый мрачный взгляд; тут на память ему пришла, очевидно, сумма только что полученного займа. Он поднял бокал. — Пью за здоровье человека, который нам дает полтора миллиона фунтов.
Он залпом выпил шампанское и грузно опустился на стул, обводя растерянным и в то же время задиристым взглядом лица всех сидящих за столом, где после удачного тоста генерала воцарилось глубокое и, казалось, испуганное молчание. Сэр Джон не шелохнулся.
— Я думаю, мне можно не вставать, — шепнул он миссис Гулд. — Такие тосты не нуждаются в ответе.
Но тут на помощь пришел дон Хосе Авельянос и произнес краткую речь, в которой прямо сказал о благосклонном отношении Англии к Костагуане, «благосклонном отношении, — подчеркнул он, — о коем я имею возможность судить со знанием дела, поскольку в свое время был аккредитован при Сент-Джеймском дворце»[57].
И только тут сэр Джон счел необходимым произнести ответную речь, весьма изящно прозвучавшую на скверном французском и прерываемую аплодисментами и восклицаниями «Слушайте! Слушайте!» в тех местах, где капитану Митчеллу удавалось понять какое-нибудь слово. Завершив свой спич, железнодорожный магнат сразу обратился к миссис Гулд:
— Вы были так добры, что собирались меня о чем-то попросить, — галантно напомнил он ей. — О чем? Любая ваша просьба будет воспринята как милость, которую вы оказали мне.
Она поблагодарила его милой улыбкой. Гости вставали из-за стола.
— Пойдемте на палубу, — предложила она. — Оттуда я думаю показать вам объект моей просьбы.
Огромный национальный флаг Костагуаны, по диагонали разделенный на две части: красную и желтую, с двумя зелеными пальмами посредине, лениво развевался на грот-мачте «Юноны». На берегу в честь президента жгли фейерверки, рассыпавшиеся с таинственным треском тысячами искр и опоясывающие половину гавани. То и дело со свистом взлетали невидимые глазу ракеты и взрывались высоко вверху, оставляя в синем небе крохотное облачко дыма. Между гаванью и городскими воротами стояли толпы людей и размахивали пестрыми флажками на длинных палках. Издали долетали звуки бравурной музыки военных оркестров и приветственные клики. На краю пристани несколько оборванных негров время от времени палили из маленькой железной пушки и снова ее заряжали. Тонкая, неподвижная пелена пыли заволакивала солнце.
Дон Винсенте Рибьера, опираясь на руку сеньора Авельяноса, сделал несколько шагов по палубе в тени навеса; его окружили широким кольцом, и он приветливо поворачивал голову, одаряя то одного, то другого безрадостной улыбкой темных губ и слепым блеском очков. Неофициальная церемония, устроенная на борту «Юноны» с тем, чтобы дать возможность президенту-диктатору встретиться в интимной обстановке с некоторыми из своих наиболее выдающихся приверженцев в Сулако, близилась к концу. Генерал Монтеро неподвижно восседал за стеклом светового люка, на сей раз прикрыв свою плешивую голову шляпой с плюмажем, поставив саблю между ног и положив на ее эфес большие в перчатках с крагами руки. Белый плюмаж, широкое красное, как медь, лицо, иссиня-черные усы под крючковатым носом, обилие золотого шитья на рукавах и груди, сверкающие сапоги с громадными шпорами, раздувающиеся ноздри, тупой и властный взгляд — в облике славного победителя при Рио Секо было нечто зловещее и в то же время неправдоподобное — злая карикатура, доведенная до абсурда, нелепый мрачный маскарад, свирепость и жестокость на уровне гротеска, — некий идол, олицетворяющий собой воинственность ацтеков и наряженный в европейскую военную форму, выжидал, когда ему воскурят фимиам. Дипломатичный дон Хосе счел необходимым подойти к этой фантастической загадке природы, а миссис Гулд, как зачарованная смотревшая на генерала, наконец-то отвела взгляд.
Чарлз, подошедший попрощаться с сэром Джоном, услышал, как тот говорил, склонившись над рукой его жены: «Ну, конечно. Разумеется же, миссис Гулд, коль скоро речь идет о вашем протеже! Ровно никаких трудов. Считайте, что все уже сделано».
Сидя в шлюпке, которая отвезла его вместе с четой Гулдов на берег, дон Хосе Авельянос не проронил ни слова. И даже в карете он еще долго молчал. Мулы неторопливо затрусили по дороге, удаляясь от пристани, и со всех сторон к коляске потянулись руки нищих, которые в честь торжественного дня все до единого покинули церковные порталы. Чарлз Гулд с заднего сиденья кареты окидывал взглядом равнину. Она была усеяна сооружениями из зеленых веток, камыша, всяких досок, деревянных планок и кусков парусины, прикрывавших дыры в этих наскоро построенных палатках, где шла оживленная торговля сахарным тростником, сластями, фруктами, сигарами. Опустившись на корточки перед кучками горящего древесного угля и подстелив под себя циновки, индианки стряпали, в глиняных, черных от копоти котелках, кипятили воду, а затем заваривали в сделанных из тыквы бутылях парагвайский чай мате́ и ласковыми вкрадчивыми голосами предлагали этот напиток и свою стряпню приезжим из деревни.
Была огорожена площадка для скачек, на которой состязались между собой пастухи; а слева от дороги, там, где сгрудилась толпа вокруг огромного наспех воздвигнутого здания, похожего на деревянный шатер бродячего цирка с конической крытой пальмовыми листьями крышей, слышалось пронзительное пение танцоров, и сквозь хор голосов пробивалась звучная мелодия арфы, резкий звон гитары и мрачный дробный грохот индейского бубна.
После долгого молчания Чарлз Гулд сказал:
— Теперь весь этот участок принадлежит железнодорожной компании. Больше здесь уже не будет народных гуляний.
Миссис Гулд стало немного грустно. Но поскольку разговор коснулся этой темы, она упомянула о только что полученном от сэра Джона обещании не трогать домик, где живет Джорджо Виола. Она, право, никогда не могла понять, для чего понадобилось инженерам из поисковой партии разрушать этот дом. Ведь стоит он в стороне от того места, где будет проходить ведущая в гавань ветка.
Она велела остановить лошадей возле гостиницы, чтобы сразу же успокоить старика генуэзца, который с непокрытой головой вышел из дому и стоял у ступенек кареты. Миссис Гулд, разумеется, говорила с ним по-итальянски, и Джорджо Виола со спокойным достоинством поблагодарил ее. Старик гарибальдиец был признателен ей от всего сердца, ведь если бы не помощь этой женщины, его жена и дети лишились бы крова.
Он уже стар и бродяжничать больше не в силах.
— Я навсегда смогу остаться тут, синьора? — спросил он.
— Вы можете здесь жить так долго, как захотите.
— Bene[58]. Тогда нашему прибежищу нужно придумать название. Прежде это не имело смысла.
Он хмуро улыбнулся, и от уголков его глаз разбежались морщинки.
— Завтра же я возьму кисть и напишу название своей гостиницы.
— Как же она будет называться, Джорджо?
— «Объединенная Италия», — сказал старик гарибальдиец и отвернулся на миг. — Скорее в честь погибших, — добавил он, — чем в честь страны, которую у нас, солдат свободы, хитростью выкрали проклятые пьемонтцы, приверженцы королей и попов.
Миссис Гулд слабо улыбнулась и, наклонившись к нему, стала расспрашивать о жене и детях. Он отправил их нынче в город. Хозяйка чувствует себя лучше; синьора очень добра, что справляется о его семье.
По дороге проходили люди, по двое, по трое и целыми группами — мужчины, женщины и семенившие за ними ребятишки. Всадник на серебристо-серой кобыле тихо остановился в тени дома; он снял шляпу, приветствуя сидящих в карете, а те в ответ заулыбались ему и дружелюбно закивали головами. Старик Виола, чрезвычайно довольный только что услышанными новостями, на минуту прервал разговор и торопливо сообщил вновь прибывшему, что благодаря доброте английской синьоры дом не будет разрушен, и он сможет жить тут хоть всю жизнь. Всадник выслушал его внимательно, но ничего не сказал.
Когда карета тронулась в путь, он опять снял шляпу, серое сомбреро, украшенное серебряным шнуром с кистями. Яркие краски мексиканского серапе[59], переброшенного через луку седла, огромные серебряные пуговицы на вышитой кожаной куртке, два ряда мелких серебряных пуговок вдоль боковых швов на штанах, белоснежная рубашка, шелковый пояс с вышитыми концами, серебряные бляшки на седле и на уздечке свидетельствовали об изысканном вкусе знаменитого капатаса каргадоров, итальянского матроса, одетого с таким великолепием, с каким даже в самый торжественный день не наряжались жившие на равнине богатые молодые ранчеро.
— Для меня это великое дело, — бормотал старик Джорджо, все еще поглощенный мыслями о доме, ибо он устал от перемен. — Синьора замолвила за меня словечко у этого англичанина.
— Старика англичанина, у которого хватает денег, чтобы купить железную дорогу? Он отплывает через час, — беспечно произнес Ностромо. — Что ж, buon viaggio[60]. Я доставил в сохранности его дряхлые кости от перевала Энтрада в равнину, а потом сюда, в Сулако, с таким тщанием, словно это мой родной отец.
Старый Джорджо только рассеянно качнул головой. Потом Ностромо указал на карету, приближавшуюся уже к заросшим мхом воротам в старой городской стене, так буйно увитой ползучими растениями, что она напоминала сплошные заросли джунглей.
— А еще я в одиночку просидел всю ночь с револьвером на товарном складе компании и охранял там груду серебра, принадлежащую вон тому англичанину, опять же с таким тщанием, будто это мое собственное серебро.
Виола по-прежнему был погружен в свои мысли. «Для меня это великое дело», — повторил он, обращаясь, очевидно, к самому себе.
— Правильно, — согласился блистательный капатас. — Знаешь что, старик, зайди-ка на минутку в дом и принеси мне сигару, только в моей комнате не надо их искать. Там нет ни единой.
Виола вошел в гостиницу и тут же возвратился, все еще погруженный в раздумье; он протянул ему сигару с отсутствующим видом, бормоча себе под нос; «Растут дети… девочки к тому же! Девочки!» Он вздохнул и умолк.
— Как, всего одна? — удивился Ностромо и с веселым любопытством взглянул на старика, который еще так и не очнулся. — Впрочем, не важно, — с надменной небрежностью добавил он. — Одной сигары вполне достаточно, покуда не потребуется вторая.
Он закурил и выронил спичку. Джорджо Виола взглянул на него и внезапно сказал;
— Мой сын был бы сейчас точно таким же бравым парнем, если бы остался в живых.
— Что? Твой сын? Ну да, ты прав, старик. Если он был похож на меня, человек из него получился бы.
Он повернул лошадь и медленно поехал между палатками, время от времени останавливаясь, чтобы дети и взрослые, приехавшие из дальней части Кампо, могли полюбоваться на него. Матросы, работавшие на грузовых баркасах компании, махали ему издали рукой; и знаменитый капатас каргадоров, сопровождаемый восхищенными и завистливыми взглядами и подобострастными приветствиями, не спеша продвигался в толпе, направляясь к огромному, похожему на цирк сооружению.
А толпа становилась все гуще; громче бренчали гитары; остальные всадники словно застыли на своих местах, покуривали, и сигарный дым плыл над толпой; у дверей строения с конической крышей образовалась невообразимая толкучка, а изнутри доносилось шарканье и топот ног в такт музыке, пронзительной и дребезжащей, со скачущим ритмом, и эти звуки покрывал глухой и басовитый рокот бубна. Оглушительный и властный гул барабана, который доводил до неистовства местных крестьян и будоражил даже европейцев, казалось, неодолимо влек к себе Ностромо, и, пока тот пробирался к шатру, какой-то человек в изорванном выцветшем пончо шел у его стремени, не обращая внимания на сыпавшиеся на него то справа, то слева толчки, и упрашивал «его милость» дать ему какую-нибудь работу в порту. Плачущим голосом он предлагал ежедневно отдавать «сеньору капатасу» половину своего заработка, если тот позволит ему примкнуть к лихому братству каргадоров; с него и половины вполне хватит, уверял он. Однако верный помощник капитана Митчелла — «неоценимый в нашем деле, совершенно неподкупный человек» — окинул оборванца критическим взглядом и лишь молча покачал головой.
Проситель отстал; а немного времени спустя и самому Ностромо пришлось остановиться. Из дверей сооружения с конической крышей толпой повалили танцоры, мужчины, женщины, потные, на ослабевших ногах, с дрожащими руками и, выпучив глаза, разинув рты, прислонились, чтобы отдышаться, к стене балагана, за которой все так же в бешеном темпе звенели арфы и гитары и неумолчно рокотал барабан. Из балагана слышатся хлопки, хлопают сотни рук; слышится пронзительное пение, потом внезапно утихает, переходит в негромкий и слитный хор голосов, звучит припев любовной песенки и замирает наконец. Из толпы вылетает брошенный меткой рукою красный цветок и задевает щеку капатаса.
Точным движением Ностромо успел его подхватить, но обернулся не сразу. Когда же наконец он соизволил оглянуться, толпа расступилась, чтобы пропустить смуглую красотку, с маленьким золотым гребнем в высоко подобранных волосах, которая шла ему навстречу по внезапно образовавшемуся живому коридору. На ней была белоснежная блузка, открывавшая округлые руки и шею; синяя шерстяная юбка с пышными складками впереди, слегка присборенная на боках и туго обтягивающая сзади, подчеркивала манящую задорность походки. Она подошла к нему и положила на холку лошади руку, бросив снизу вверх на всадника робкий и кокетливый взгляд.
— Любимый, — прошептала она нежно, — почему ты делаешь вид, будто не замечаешь меня, когда я прохожу?
Он помолчал, а потом ясным голосом хладнокровно ответил:
— Потому что я тебя разлюбил.
Рука на лошадиной холке дрогнула. Девушка опустила голову, чтобы не встречаться взглядом с людьми, которые стояли широким кругом, в центре коего находились расточительный, великодушный, грозный и непостоянный капатас и его подружка.
Ностромо глянул вниз и увидел, что по ее щекам струятся слезы.
— Стало быть, пришла пора, возлюбленный мой? — прошептала она. — Ты сказал мне правду?
— Нет, — отозвался Ностромо и с беспечным видом отвернулся. — Я солгал. Я люблю тебя так же крепко, как прежде.
— В самом деле? — игриво переспросила она, хотя на щеках ее еще не просохли слезинки.
— В самом деле.
— Истинная правда?
— Ну конечно, правда; только не заставляй меня клясться перед мадонной, что стоит у тебя в комнате, — сказал Ностромо со смешком и заметил, что все стоявшие вокруг заулыбались.
Она надула губки, — ей это очень шло, — но вид у нее был несколько встревоженный.
— Нет, об этом я просить тебя не стану. Я и так вижу любовь в твоих глазах. — Она положила ему на колено руку. — Отчего ты так дрожишь? От любви? — Ее голос пробивался сквозь несмолкаемый глухой грохот бубна. — Но уж если ты так сильно влюблен, подари своей Паките золоченые четки, и она повесит их на шею мадонны, что стоит у нее в комнате.
— Нет, — сказал Ностромо, глядя сверху вниз в ее просящие глаза.
— Нет? Ну, а какой же подарок сделает мне в день праздника ваша милость, — сердито спросила она, — чтобы мне не было стыдно перед всеми этими людьми?
— Неужели тебе будет стыдно, если твой возлюбленный хотя бы один раз ничего тебе не подарит?
— И в самом деле! Вашей милости — вот кому будет стыдно, моему нищему любовнику, — язвительно отрезала она.
Ее резкий ответ вызвал смех. Острый язычок, такая не даст спуску! Те, кто оказались свидетелями этой сцены, подзывали приятелей, отыскивая их взглядом. Круг зевак становился теснее.
Девушка повернулась, сделала шаг, другой, увидела, что все смотрят на нее с насмешливым любопытством, и тут же кинулась назад, поднялась на цыпочки, ухватилась за стремя и обратила на Ностромо сверкающий, гневный взгляд. Он наклонился к ней, сидя в седле.
— Хуан, — прошипела она. — Я так бы и вонзила кинжал тебе в сердце.
Грозный капатас, с блистательной беспечностью не скрывающий от посторонних глаз своих любовных интриг, обнял разгневанную красотку за шею и поцелуем заставил ее умолкнуть. Толпа загудела.
— Нож! — громким голосом распорядился он, крепко прижимая к себе Пакиту.
В кольце, которое сомкнулось вокруг них, сверкнуло двенадцать лезвий. Нарядно одетый молодой человек ринулся вперед, сунул нож в руку Ностромо и столь же молниеносно вновь скрылся в толпе, чрезвычайно довольный собою. Ностромо не удостоил его даже взглядом.
— Нет, Пакита. Тебе не удастся сделать меня посмешищем, — сказал он. — Подарок ты получишь, а чтобы каждый знал, кто нынче твой любовник, можешь срезать с моей куртки все серебряные пуговицы.
Столь остроумное решение вопроса вызвало в толпе громкий смех и аплодисменты, а тем временем смуглянка орудовала отточенным, словно бритва, ножом, всадник же с невозмутимым видом позвякивал серебряными пуговицами, которых все больше скапливалось у него в руке. Когда Ностромо опустил девушку на землю, пересыпав ей в руки серебро, оно еле умещалось в ее сложенных ладонях. Пакита что-то с жаром прошептала ему, затем, надменно глядя прямо перед собой, пошла прочь от него и смешалась с толпою.
Кольцо зевак распалось, и великолепный капатас каргадоров, незаменимый человек, надежный и испытанный Ностромо, в поисках счастья случайно высадившийся на побережье Костагуаны итальянский матрос, неторопливо направился к гавани. Именно в этот миг «Юнона» отплывала и поворачивалась к берегу кормой; а когда Ностромо снова остановил лошадь, он увидел знамя на импровизированном флагштоке, который специально на этот случай соорудили в давно уже разоруженном стареньком форте у входа в гавань. Из гарнизона Сулако спешно доставили сюда половину батареи полевых пушек, дабы устроить прощальный салют в честь президента-диктатора и военного министра.
Когда почтовый пароход «Юнона» выбирался из залива, запоздалый пушечный залп возвестил об окончании первого неофициального визита дона Винсенте Рибьеры в Сулако, для капитана же Митчелла он возвестил окончание очередного «исторического события». А когда спустя полтора года «надежде всех честных людей» пришлось проделать этот путь вторично, он тоже был проделан неофициально, и свергнутому президенту, спасавшемуся бегством по узким горным тропам на хромом муле, лишь благодаря Ностромо удалось избегнуть бесславной гибели от рук разъяренной толпы. Это было событием совсем иного рода, и капитан Митчелл рассказывал о нем так:
— Сама история… история, сэр! И этот мой подручный — вы его знаете, — Ностромо, оказался в самой гуще исторических событий. Он в полном смысле слова повлиял на ход истории, сэр.
Впрочем, этому событию, в котором так достойно проявил себя Ностромо, суждено было тотчас повлечь за собой другое событие, каковое капитан Митчелл никоим образом не мог назвать «историческим», равно как не мог назвать его и «ошибкой». В словаре капитана Митчелла для этого события были припасены другие слова.
— Сэр, — говаривал он впоследствии, — это была не ошибка. Перст судьбы. Роковая случайность, и не более того, сэр. А бедняга мой подручный снова оказался в самой гуще… ну, прямо-таки в самой гуще, сэр! Вот уж воистину перст судьбы… и сдается мне, он с тех пор так и не смог оправиться.
Часть вторая
ИЗАБЕЛЛЫ
ГЛАВА 1
Невзирая на течение борьбы, в которой добрые и дурные вести попеременно сменяли друг друга и о которой дон Хосе сказал: «Честь нации висит на волоске», концессия Гулда «Imperium in Imperio» не прекращала своей деятельности; Игуэрота все так же продолжала извергать сокровища своих недр на деревянные желоба, которые доставляли драгоценную руду к неутомимым толчейным пестам; на окутанном тьмою Кампо еженощно мерцали отсветы огней Сан Томе; и каждые три месяца конвой сопровождал к порту груз серебра с такой регулярностью, словно ни война, ни ее последствия не в силах вторгнуться в пределы Западной провинции, огражденной высокими горами. Все сражения происходили по другую сторону этой могучей стены, над острыми вершинами которой возвышался белый купол Игуэроты, и строители железной дороги еще не пробили в этой стене тоннель — было проложено лишь начало путей, они шли по ровному месту от Сулако до Айви Вэлли, там, где начинался подъем на перевал. И телеграф не пересек еще горы; его столбы — хрупкие маяки равнины — добрались только до лесистого подножья горы, и густые заросли прорезала прямая, словно проспект, колея. Провода обрывались внезапно в строительном лагере у белого соснового стола, на котором помещался аппарат Морзе, в сбитой из тонких досок продолговатой времянке, покрытой крышей из гофрированного железа и стоявшей в тени гигантских кедров — штаб-квартира инженера, ведущего укладку пути.
Оживление царило и в гавани: в порт прибывало оборудование для железной дороги, на побережье передвигались войска. Пароходы компании ОПН не стояли без дела. Костагуана не располагала собственным флотом, и, не считая нескольких таможенных катеров, ей принадлежало лишь два старых торговых паровых судна, ныне используемых как транспортные.
Капитан Митчелл, которого все сильнее затягивало «в самую гущу исторических событий», вырывался временами на часок в гостиную Каса Гулд, где, почему-то не ощущая, что именно здесь-то и происходит самое важное, с восторгом заявлял, как он рад наконец-то передохнуть в тиши от постоянных тревог и волнений. Если бы не его бесценный Ностромо, он, право же, просто не знал бы, как быть. Он никак не ожидал, — чистосердечно признавался он миссис Гулд, — что распроклятая костагуанская политика взвалит на него столько хлопот.
Когда над правительством Рибьеры нависла опасность, дон Хосе Авельянос обнаружил талант организатора и красноречие, отголоски которого докатились до Европы. Ибо, предоставив правительству Рибьеры новый заем, Европа стала интересоваться Костагуаной. В зале Генеральной ассамблеи провинции, расположенном в помещении муниципалитета Сулако, где на стенах висели портреты освободителей, а старый флаг Кортеса[61] хранился в застекленном ящике, подвешенном над креслом председателя, прозвучали все его речи: самая первая, заключавшая в себе пылкое заявление: милитаризм — наш враг; знаменитая — о чести, висящей на волоске, произнесенная по случаю голосования: необходимо ли сформировать второй сулакский полк для защиты нового правительства; а когда во всех провинциях вновь вывесили запрещенные во времена Гусмана Бенто флаги, дон Хосе продемонстрировал еще один образчик великолепного ораторского искусства и приветствовал эти старые символы Войны за Независимость, возродившиеся ныне во имя новых идеалов. Идея федерализма отжила свой век. Сам дон Хосе не желает возвращения к прежним политическим доктринам. Они были обречены на гибель. Их более нет. Но доктрина справедливости бессмертна. Пусть второй сулакский полк, которому он вручает старинный флаг провинции, проявит свою доблесть в борьбе за порядок, мир, прогресс; пусть он способствует возникновению чувства национального достоинства, без которого, — заявил он энергически, — «мы покроем себя позором и станем притчей во языцех среди всех остальных держав мира».
Дон Хосе Авельянос любил свою родину. Охраняя ее интересы, он не жалел собственных денег, когда служил дипломатом, и его слушателям было хорошо известно, как его арестовали при Гусмане Бенто и каким издевательствам он подвергался в заключении. Удивительно, что он не сделался жертвой одной из жестоких казней, нередких во времена этого скорого на расправу тирана, ибо Гусман правил страной с тупой жестокостью фанатика. Власть Верховного Правительства в его затуманенном сознании превратилась в объект самозабвенного поклонения, словно какое-то гневное божество. Сам он был символом этого божества, а его противники, федералисты — заклятыми грешниками, к которым он испытывал ненависть, отвращение и ужас, как рьяный инквизитор к еретикам. Несколько лет таскал он по всей стране в арьергарде Армии Умиротворения шайку арестантов, «отъявленных негодяев», горько сетовавших на судьбу за то, что их никак не соберутся казнить. Постепенно их становилось все меньше, а оставшиеся продолжали свой путь, полуголые, тощие, как скелеты, закованные в кандалы, заросшие грязью, обовшивевшие, с открытыми ранами, все люди знатные, образованные, богатые, ныне научившиеся драться друг с другом за кусочек гнилого мяса, который им швыряли солдаты, и жалостно клянчить у повара-негра глоток мутной воды.
Среди них звенел цепями и дон Хосе Авельянос, казалось, не умиравший только с целью доказать, как долго может продержаться последняя искорка жизни в человеческом теле, измученном голодом, болью, надругательством и жестокими пытками.
Иногда группа офицеров собиралась в сложенном из ветвей шалаше, туда же вызывали кого-нибудь из пленных и проводили допрос, во время которого применяли примитивные методы пытки, и, опасаясь расплаты за свою жестокость, предпочитали не оставлять свидетелей. Тогда случалось, один или два счастливца брели неверною походкою в глубь леса в сопровождении солдат, которые, выстроившись шеренгой, их там расстреливали. И каждый раз армейский капеллан — субъект небритый и немытый, опоясанный саблей, с вышитым белыми нитками на левой стороне лейтенантского мундира маленьким крестом — следовал за ними, держа в углу рта сигарету, а в руке — табурет, дабы выслушать исповедь приговоренных и отпустить им грехи; ибо Гражданин Спаситель Нации (как именовали в официальных речах Гусмана Бенто) не был противником разумного милосердия. Слышался нестройный залп, порою вслед за ним еще один выстрел — это приканчивали раненого; над зелеными кустами поднималось и уплывало вдаль голубоватое облачко дыма; Армия Умиротворения шла дальше по саваннам, через леса, пересекала реки, вторгалась в деревни, опустошала усадьбы ненавистных аристократов, завладевала расположенными на равнине городами, исполняя свою патриотическую миссию и оставляя позади объединенное государство, где скверна федерализма еще долго не сможет пробиться сквозь дым сожженных домов и запах пролитой крови.
Дон Хосе Авельянос сумел остаться в живых.
Возможно, высокомерно подмахивая приказ о его освобождении, Гражданин Спаситель Нации решил, что этот закосневший в предрассудках аристократ слишком сломлен телом и душою и слишком беден, а потому уже не может быть опасным. А возможно, это был просто каприз. Гусман Бенто, обычно преисполненный разного рода фантастических страхов и мрачных опасений, был подвержен временами неожиданным и необоснованным приступам самонадеянности, и ему мнилось тогда, будто он вознесся на самую вершину власти, где ему уже не могут повредить происки заговорщиков — простых смертных.
В этих случаях он неожиданно приказывал отслужить благодарственную мессу, исполнявшуюся с большой помпой в главном соборе Санта Марты дрожащим и раболепным архиепископом, ставленником Спасителя Нации. Он слушал мессу, сидя в позолоченном кресле перед высоким алтарем[62], а вокруг стояли штатские и военные члены его правительства. Храм был битком набит представителями неофициальных кругов столицы, ибо любое заметное в обществе лицо подвергло бы себя опасности, не примкнув к этим проявлениям благочестия, вдруг осенившего президента.
Воздав таким образом дань той единственной силе, которую он соглашался признать более могущественной, чем его собственная власть, он, словно издеваясь, вдруг принимался щедро изливать милосердие на своих политических противников. Пожалуй, теперь он только так и мог наслаждаться сознанием своей власти: наблюдать, как выползают на свет из темных, шумных тюремных камер его сломленные в борьбе соперники. Их беспомощность служила пищей для его ненасытного тщеславия, а в крайнем случае их можно было снова арестовать. Полагалось, чтобы все женщины, принадлежавшие к семьям освобожденных, сразу же являлись к нему на специальную аудиенцию, дабы засвидетельствовать благодарность. Воплощение этого странного божества — El Gobierno Supremo[63]— принимало посетительниц стоя, в треугольной шляпе на голове, и негромким, но угрожающим голосом призывало их проявить свою признательность, воспитав детей в духе преданности самому демократичному из правительств, «созданному мною для счастья нашей страны». В ту пору, когда он был пастухом, ему выбили в драке передние зубы, поэтому великий человек говорил шепеляво и невнятно. Он неустанно трудится ради блага Костагуаны, окруженный враждой и крамолой. Пора бы им угомониться, не то он разучится прощать!
Дону Хосе Авельяносу было даровано это прощение.
Его здоровье и имущественные дела находились в столь плачевном состоянии, что вполне могли доставить истинное удовольствие создателю демократических основ государства. Дон Хосе уехал в Сулако. У его жены было в этой провинции именье, и ее нежная забота и уход вернули узника к жизни. Когда она умерла, их дочь, единственное дитя, была уже достаточно взрослой, чтобы посвятить себя «бедному папе».
Мисс Авельянос родилась в Европе и одно время обучалась в Англии; это была высокая, серьезная девушка со спокойными сдержанными манерами, высоким белым лбом, густыми темно-каштановыми волосами и чудесными голубыми глазами.
Ее достоинства и сила характера приводили в трепет местных сеньорит. Говорили, она до невозможности ученая и серьезная. А что касается гордости, так ведь известно: все Корбеланы гордецы, а ее мать из Корбеланов. Преданность горячо любимой дочери играла в жизни дона Хосе огромную роль. Он принимал ее бездумно и слепо, как все люди, которые, хотя и созданы по образу и подобию божьему, скорей похожи на каменных идолов, бесчувственно взирающих на воскуряемый перед ними дым жертвоприношений. Он был сломлен, он был разорен, но человек, одержимый страстью, не может стать полным банкротом в жизни. Дон Хосе Авельянос страстно желал своей стране мира, процветания и (как сказано в конце предисловия к книге «Пятьдесят лет бесправия») «почетного места в содружестве цивилизованных наций». Последняя фраза свидетельствовала о том, что в нем жив не только патриот, но и министр, глубоко уязвленный той непорядочностью, которую его правительство проявило по отношению к иноземным держателям акций.
Когда окончилась тирания Гусмана Бенто, в стране разгорелась грызня между различными кликами, каждая из которых думала только о том, чтобы урвать себе побольше, и вот тут-то, пожалуй, его желание наконец удалось осуществить. Он был уже слишком стар, чтобы стать участником событий в Санта Марте. Но непосредственные участники событий то и дело обращались к нему за советом. Сам он полагал, что принесет больше пользы, находясь вдали от столицы, в Сулако. Его имя, его связи, положение, которое он занимал когда-то, его опыт снискали дону Хосе уважение его класса. Когда же стало известно, что этот человек, живущий в пристойной бедности в городской резиденции Корбеланов (дом напротив Каса Гулд), располагает возможностью оказать весьма существенную поддержку их делу, его влияние возросло еще больше.
Он написал призыв в форме открытого письма, и вопрос о кандидатуре президента решился в пользу дона Винсенте Рибьеры. Еще один неофициальный документ государственной важности, написанный доном Хосе (на сей раз в виде обращения от имени провинции), принудил дона Винсенте Рибьеру, весьма щепетильного приверженца конституции, принять на себя очень широкие полномочия, которыми облекли его сроком на пять лет результаты конгресса в Санта Марте, где за него голосовало подавляющее большинство. Письмо представляло собою наказ обеспечить благосостояние народа на основе прочного мира в стране, а также восстановить национальный кредит, удовлетворив все справедливые притязания иноземных держав.
Результаты голосования достигли Сулако в дневное время, после того, как почтовая служба проделала свой обычный кружной путь через порт Каиту и дальше вдоль берега пароходом. Дон Хосе, ожидавший вестей в гостиной Гулдов, встал с качалки и уронил шляпу, которую держал на коленях. Он ерошил обеими руками свои короткие серебристые волосы и от радости лишился дара речи.
— Эмилия, душа моя, — вскричал он наконец, — позвольте мне обнять вас!
Окажись здесь капитан Митчелл, он несомненно счел бы уместным возвестить начало новой эры; но если дон Хосе и подумал о чем-нибудь подобном, красноречие его на сей раз подвело. У вдохновителя нового возрождения партии «бланко» подогнулись колени. Миссис Гулд торопливо подошла к нему и, с улыбкой подставив щеку доброму старому другу, незаметно подставила ему также и плечо, в чем он безусловно нуждался.
Дон Хосе тут же собрался с силами, но не мог произнести ничего связного, а только бормотал: «Милые вы мои патриоты! Милые вы мои патриоты!..» и глядел то на Чарлза, то на миссис Гулд. В его сознании мелькнула мысль о новом историческом труде, где он запечатлел бы для будущих поколений ревностные усилия тех, кто посвятил себя возрождению горячо любимой родины. Высокий строй души позволил автору книги «Пятьдесят лет бесправия» даже о Гусмане Бенто написать с беспристрастием истинного историка: «И все же наши потомки не с одним лишь чувством омерзения должны вспоминать об этом обагренном кровью сограждан чудовище. Он, пожалуй, любил свою родину. Он обеспечил ей двадцать лет мирной жизни и, обладая неограниченной властью над судьбами и имуществом каждого, умер в бедности. Возможно, главный его порок — невежество, а не жестокость».
Человек, способный так написать о свирепом тиране (отрывок взят из книги «Пятьдесят лет бесправия») сейчас, в преддверии успеха был охвачен безграничной нежностью к двум молодым своим сподвижникам, приехавшим из-за океана.
Точно так же, как когда-то много лет назад, спокойно, подчиняясь скорее практической необходимости, чем абстрактной политической доктрине, Генри Гулд вынул саблю из ножен, так и сейчас, когда настали совсем другие времена, Чарлз Гулд сделал главную ставку на серебро Сан Томе. «Костагуанскому англичанину» в третьем поколении было столь же чуждо политическое интриганство, как его дядюшке бунтарские замашки. Инстинктивное прямодушие, свойственное и тому и другому, побудило их к действию. Оба воспользовались наиболее подходящим в данных обстоятельствах оружием.
Позиция Чарлза Гулда — главенствующая позиция сейчас, когда республика старалась вернуться к мирной жизни и возобновить кредит, — была очень ясна. Для начала надо приспособиться к обстоятельствам, иными словами, к коррупции, столь наивно откровенной, что она даже не внушала отвращения, а требовала лишь достаточно отваги, чтобы не спасовать перед этой слепой силой, разрушающей все, к чему она прикоснется. Он считал ниже своего достоинства даже гневаться на нее. Просто использовал ее с холодным бесстрашным презрением, и ледяная учтивость его манер скорее подчеркивала, нежели скрывала это презрение, что делало ситуацию гораздо менее позорной. Не склонный обольщаться иллюзиями, он, возможно, в глубине души страдал, но никогда не обсуждал с женой этическую сторону вопроса. Он знал, что, хотя чары несколько развеялись, Эмилия достаточно умна, чтобы понять: дело, которому они себя посвятили, не погибнет, и порукой тому не только линия поведения, избранная ее мужем, но главным образом его натура. Рудники процветали, и в его руках оказалась огромная сила. Постоянная зависимость от клики алчных невежд вызывала у него досаду. Для миссис Гулд эта зависимость была унизительна. И уж несомненно опасна.
В ходе конфиденциальной переписки между Чарлзом Гулдом, «королем Сулако», и живущим в Калифорнии серебряным и стальным «королем» возникла мысль, что любое движение, возглавляемое образованными и честными людьми, непременно нужно будет поддержать, но самим оставаться в тени. «Можете сказать Вашему другу Авельяносу, что я так считаю», — выбрав нужный момент, написал мистер Холройд, сидя в своей штаб-квартире, расположенной в помещении одиннадцатиэтажной фабрики великих предприятий. И вскоре после этого, благодаря кредиту, открытому Третьим Южным банком (через дом от фирмы Холройда), партия «рибьеристов» в Костагуане приняла вполне практическую форму под наблюдением управляющего рудниками Сан Томе. И дон Хосе, наследственный друг семьи Гулдов, смог тогда сказать: «Возможно, милый Карлос, мои надежды осуществятся».
ГЛАВА 2
После того как к длинной череде гражданских войн добавилась еще одна, исход которой решила победа, одержанная Монтеро при Рио Секо, «люди чести», как именовал их дон Хосе, впервые за полвека смогли вздохнуть свободно. «Пятилетний наказ» стал основой возрождения республики, о котором дон Хосе Авельянос так горячо мечтал и на которое так пылко надеялся, что эти чувства стали для него чем-то вроде эликсира вечной молодости.
А когда над этими мечтами и надеждами внезапно — но не вполне неожиданно — нависла угроза со стороны «этой скотины Монтеро», его охватило такое жгучее негодование, что оно даже несколько взбодрило его. Еще во время визита президента-диктатора в Сулако из Санта Марты пришло тревожное сообщение от Мораги относительно военного министра. Тогда между доном Винсенте и его главным советчиком и идеологом партии произошел серьезный разговор относительно генерала Монтеро и его братца. Но дон Винсенте, получивший в Кордовском университете степень доктора философии, с преувеличенным уважением относился к военным дарованиям, таинственная суть которых, казалось, совершенно не зависела от интеллекта и подавляла его своей загадочностью. Победитель при Рио Секо был героем, популярным в народе, и память о его подвигах была еще так свежа, что президент-диктатор не решался открыто проявить по отношению к нему неблагодарность. Правительство уже начинало осуществлять грандиозные планы, имевшие целью возрождение Костагуаны: новый заем, строительство железной дороги, заселение неосвоенных земель. Восстанавливать сейчас против себя общественное мнение столицы было крайне нежелательно. Дон Хосе согласился с этими доводами и постарался выбросить из головы воспоминания о грозном призраке в шитом золотом мундире, сапогах и при сабле, решив, что в нынешней ситуации все эти атрибуты несущественны.
Прошло менее полугода после визита президента-диктатора, и на Сулако обрушилось известие о военном мятеже, затеянном дабы защитить национальную честь. Военный министр, производивший смотр артиллерийского полка, обратился к офицерам с воззванием, в котором объявил, что честь нации продана иностранцам. Президент пошел на поводу у иностранных держав, потребовавших уплаты давно просроченных долгов, и этим показал, что неспособен управлять государством. Позже из письма, полученного от Мораги, выяснилось, что инициатива и даже самый текст «возмутительной» речи исходили от второго Монтеро, экс-партизана и коменданта столицы. Доктор Монигэм, за которым послали на рудники, проскакал три лиги в темноте и, приняв самые решительные меры, спас дона Хосе от разлития желчи.
Оправившись от потрясения, дон Хосе не стал предаваться унынию. Поначалу и в самом деле приходили хорошие известия. В течение ночи на улицах столицы шел бой, затем мятеж был подавлен. К несчастью, обоим Монтеро удалось бежать на юг, в их родную провинцию Энтре-Монтес. Столица провинции, Никойа, бурно приветствовала победителя при Рио Секо, героя, возглавившего знаменитый лесной переход. Войска местного гарнизона в полном составе перешли на его сторону. Братья формировали армию, собирали вокруг себя недовольных, рассылали агентов, а те дурачили народ, лицемерно взывая к патриотическим чувствам, и сулили легкую добычу потерявшим человеческий облик бродягам и бандитам. У монтеристов даже появилась своя пресса, которая туманно намекала на тайные обещания помощи, полученные от «нашей великой сестры. Северной республики», стремившейся помешать гнусным проискам европейцев; в каждом выпуске газетка поносила «это ничтожество Рибьеру», замышлявшего, связав свою родину по рукам и ногам, бросить ее в жертву торгашам иноземцам.
Сулако, мирный, патриархальный, соседствующий с плодородной равниной и серебряными рудниками, жил в счастливом уединении, и бряцание оружия лишь изредка долетало до него. Тем не менее, располагая деньгами и людьми, он неминуемо должен был стать передним краем обороны; но даже слухи добирались до него кружным путем — порой случалось, что они проникали из-за границы, ведь город был отрезан от остальной части республики не только естественными преградами, но и превратностями войны. Прежде почту доставляли из Каиты, но сейчас этот порт был осажден монтеристами. Мало-помалу перестали существовать наземные средства связи — через горный перевал, — и под конец ни один погонщик мулов не решался пуститься в столь опасный путь; некоторое время курьером служил Бонифацио, но однажды даже он не вернулся из Санта Марты — возможно, побоялся выехать, а возможно, был схвачен одним из вражеских отрядов, постоянно совершавших набеги на территорию между столицей и Кордильерами. Впрочем, каким-то таинственным образом в провинцию проникали печатные воззвания монтеристов, а также их агенты, грозившие смертью всем деревенским и городским дворянам. Очень скоро, в самом начале мятежа разбойник Эрнандес предложил (через посредничество старика священника из глухой деревушки в джунглях) передать двух таких агентов официальным властям в Тоноро. Он сообщал, что эти агенты явились к нему от имени генерала Монтеро и обещали полное прощение и чин полковника, если он со своей шайкой примкнет к армии мятежников. На предложение Эрнандеса отклика не последовало. Его просто присоединили, как доказательство честных намерений главаря шайки, к челобитной, с которой он обращался к Генеральной Ассамблее Сулако, смиренно испрашивая разрешения войти вместе со всеми своими сотоварищами в войска ополчения, формировавшегося в Сулако для защиты Пятилетнего наказа о возрождении страны. Челобитная Эрнандеса, как и любой другой документ, спустя некоторое время оказалась в руках у дона Хосе. Он показал миссис Гулд эти несколько страничек грубой, серой от грязи бумаги, изъятых, возможно, в какой-нибудь сельской лавчонке и исписанных неразборчивым безграмотным почерком старого падре, которого извлекли из его хижины, притулившейся к глинобитной стене деревенской церквушки и сделали секретарем знаменитого и грозного сальтеадора[64].
При свете лампы они склонились вдвоем в гостиной Гулдов над документом, заключающим в себе яростный и в то же время робкий крик души человека, которого тупая, злобная, слепая сила превратила из честного крестьянина в бандита. В постскриптуме священник сообщал, что, хотя его на десять дней лишили свободы, обращались с ним гуманно и уважительно, как и подобает обходиться с духовным лицом. Далее выяснилось, что он исповедовал главаря шайки и большинство ее членов и может засвидетельствовать искренность их добрых намерений. Он наложил на них тяжкие епитимии, разумеется, в виде покаянных молитв и постов; но он твердо убежден, что им трудно будет надолго обрести в душах своих мир с господом богом, покуда они не обретут мира с людьми.
Эрнандес, кажется, никогда еще не бывал в столь безопасном положении, как сейчас, когда смиренно испрашивал позволения присоединиться к ополченцам и тем заслужить прощение для себя и своей шайки. Дело в том, что он мог теперь удаляться на большое расстояние от неосвоенных земель, где обычно скрывался, ибо в провинции совсем не осталось регулярных частей. Гарнизон Сулако отбыл воевать на юг под звуки духового оркестра, исполнявшего «Марш Боливара» на капитанском мостике одного из пароходов компании ОПН. Стоявшие на берегу громоздкие семейные экипажи раскачивались на высоких рессорах, чему причиной был энтузиазм сеньор и сеньорит, вскочивших на ноги, чтобы помахать кружевными платочками вслед до отказа груженным военной силой баркасам, которые отплывали от пристани один за другим.
Погрузкой распоряжался Ностромо, а верховный контроль осуществлял капитан Митчелл, раскрасневшийся от солнца, в ослепительно белом жилете, всем своим видом олицетворяющий доброжелательность и заботу защитника материальных благ цивилизации. Командующий войсками генерал Барриос при прощании уверил дона Хосе, что через три недели Монтеро будет посажен в деревянную клетку, и три пары волов повезут ее по городам республики.
— И тогда, сеньора, — продолжал он, обнажив свою курчавую седую голову перед сидевшей в коляске миссис Гулд, — и тогда, сеньора, мы перекуем свои мечи на орала и разбогатеем. Даже я, как только мы покончим с этим пустяковым недоразумением, намерен основать в своем именье на равнине какое-нибудь предприятие и мирно и спокойно наживать капитал. Вы ведь знаете, сеньора, вся Костагуана знает, — да что я говорю! — знает весь континент, что Пабло Барриос получил сполна свою долю воинской славы.
Чарлз Гулд не присутствовал на этих волнующих патриотические души проводах. В его обязанности не входило следить за погрузкой солдат. Ни обязанности, ни намерения, ни склонности не побуждали его к этому. Его обязанности, намерения, склонности побуждали его прилагать все силы к тому, чтобы не иссякал поток сокровищ, хлынувший из затянувшегося было, а затем стараниями Гулда — одного лишь Гулда — вновь раскрывшегося рубца в склоне горы. По мере того как ширились рудники, он готовил себе помощников из местных обитателей. Штейгеры, техники, клерки и в первую очередь дон Пепе, гобернадор рудничного люда. Тяжесть всех остальных трудов, связанных с «Imperium in Imperio» — знаменитой концессией Гулда, одна лишь тень которой сокрушила жизнь его отца, полностью легла на плечи Чарлза.
Миссис Гулд не принимала участия в управлении рудниками. Ее представителями в повседневной жизни концессии Гулда были два наместника, священник и доктор, но Эмилия жаждала впечатлений и с волнением откликалась на события, происходившие вокруг нее, невольно очищая и возвышая их силою женского воображения. В день отбытия гарнизона она привезла в порт обоих Авельяносов, отца и дочь.
Дон Хосе взвалил на себя в эту мятежную пору целый ряд обязанностей, в частности, он стал председателем Комитета патриотов, вооружившего большую часть находившихся в Сулако войск усовершенствованной моделью винтовки. Совсем недавно одна из крупных европейских держав сняла эту модель с вооружения, заменив ее чем-то еще более смертоносным. Какую часть рыночной стоимости этого списанного оружия составили доброхотные даяния богатейших в стране семейств и какую часть ожидаемых за границею сумм удалось достать дону Хосе, осталось тайной, лишь одному ему известной; однако ricos[65], как называл их народ, раскошелились под воздействием его прославленного красноречия. Некоторые дамы в порыве патриотизма вручили свои драгоценности человеку, который был душою и вдохновителем партии.
Временами казалось, что и вдохновение его, и душа ослабели за долгие годы непоколебимой веры. Сидя в коляске рядом с миссис Гулд, высокий, неподвижный, с красивым, старым, чисто выбритым лицом, словно вылепленным из желтого воска и не окрашенным даже тенью румянца, уставившись в одну точку взглядом темных глаз, затененных полями фетровой шляпы, он производил впечатление почти неодушевленного существа. Антония, прекрасная Антония, как именовали мисс Авельянос в Сулако, сидела напротив миссис Гулд и отца; четко очерченные, созревшие формы, овал серьезного лица, полные красные губы делали ее более взрослой на вид, чем миссис Гулд, с живым подвижным личиком, тоненькую и прямую, как струнка, под слегка покачивающимся тентом коляски.
Антония постоянно опекала отца; ее дочерняя преданность была всем известна и смягчала неблагоприятное впечатление от высокомерного пренебрежения правилами, обязательными для благовоспитанной барышни испано-американского происхождения. Да и была ли она барышней в привычном смысле слова? Говорили, дон Хосе часто диктует ей документы государственной важности, и ей дозволено читать все имеющиеся в его библиотеке книги. Принимая в отцовском доме гостей, — неловкость ситуации устранялась благодаря присутствию престарелой дамы (родственницы Корбеланов), неподвижно восседавшей в кресле и совершенно глухой, — Антония, не смущаясь, отстаивала свое мнение в споре с двумя, а то и тремя собеседниками. Разумеется, такая девушка не стала бы поглядывать сквозь переплет окна на возлюбленного, укрывшегося в портике дома напротив и закутанного в плащ — а в Костагуане только так и принято ухаживать. Все были убеждены, что ученая и гордая Антония с ее заграничным воспитанием и заграничными идеями никогда не выйдет замуж, разве что за иностранца из Европы или Северной Америки, а это вполне вероятно сейчас, когда весь мир, казалось, был готов нагрянуть в Сулако.
ГЛАВА 3
Когда генерал Барриос умолк, Антония небрежным жестом подняла открытый веер, будто хотела заслонить от солнца голову, на которую была наброшена только легкая кружевная шаль. Взгляд блестящих синих глаз из-под густых черных ресниц, на мгновенье задержавшись на отце, обратился в сторону молодого человека лет тридцати, не более, среднего роста, довольно плотного, в светлом пальто. Опираясь на гибкую тонкую трость, он издали смотрел на них; впрочем, увидев, что замечен, тут же тихо подошел и облокотился на дверцу коляски.
Низко вырезанный воротничок рубашки, галстук, повязанный широким узлом, весь стиль одежды, начиная от круглой шляпы и кончая лакированными ботинками, воплощали французскую элегантность; что же касается наружности, он являл собой ярко выраженный тип белокурого креола. Пушистые усы и короткая курчавая золотистая бородка не скрывали румяных, свежих, слегка выпяченных и казавшихся надутыми губ. Кожу круглого и полного лица отличала та здоровая, теплая белизна, что присуща лишь креолам и не поддается лучам родного солнца. Правда, уроженец Костагуаны Мартин Декуд редко подвергался воздействию костагуанского солнца. Его родители уже много лет жили в Париже, где сам он изучал юриспруденцию, слегка баловался литературой и, впадая по временам в восторженное состояние, мечтал стать поэтом, как и другой иноземец испанского происхождения Жозе Мария Эредиа[66].
В оставшееся время он скуки ради сочинял статьи о положении дел в Европе и печатал их в «Семинарио», самой уважаемой газете в Санта Марте, где они выходили под рубрикой «наш специальный корреспондент сообщает», хотя фамилия автора абсолютно ни для кого не являлась секретом. В Костагуане, где ревностно обсуждали любую мелочь, касающуюся живущих в Европе компатриотов, все знали, что статьи в «Семинарио» пишет «Декуд-сын», талантливый молодой человек, несомненно вращающийся в высших сферах общества. В действительности же это был бездельник бульвардье[67], который познакомился кое с кем из знаменитых репортеров, захаживал в редакции некоторых газет и считался своим человеком на увеселительных сборищах журналистов. Эта жизнь — ее удручающую пустоту маскировало лишь уменье постоянно пускать пыль в глаза, подобно тому, как блестки, украшающие шутовской наряд, скрашивают дурацкие выходки клоуна, — выработала в нем склонность к космополитизму на французский лад, — французский лишь по видимости, но отнюдь не по сути, — а говоря точнее, поверхностность и безразличие, рядящееся в тогу интеллектуального превосходства. О дальней своей родине он говорил французским приятелям примерно так: «Вообразите себе атмосферу оперы-буфф, где все комические партии: государственных деятелей, разбойников и так далее, а также и всевозможные сценические эпизоды: похищения, интриги, убийства из-за угла исполняются вполне серьезно. Это смешно невероятно, кровь течет рекой, а актеры воображают, будто воздействуют на судьбы вселенной. Разумеется, правительство вообще, любое, везде, вызывает у всех неглупых людей отношение сугубо ироническое; однако мы, латиноамериканцы, право же, всех превзошли. Нормальный человек, по-моему, неспособен участвовать в этом кошмарном фарсе. Тем не менее бедняги рибьеристы, о которых теперь стали так много говорить, и в самом деле предпринимают какие-то комические шаги, чтобы сделать страну пригодной для житья, и даже платят некоторые государственные долги. Я вам советую, друзья мои, позаботиться о ваших акционерах и написать сеньору Рибьере. Уверяю вас, если то, что мне пишут, правда, удобный момент для них наконец-то наступил».
И он с пылом принимался объяснять, чего добивается дон Винсенте Рибьера, унылый человечек, угнетенный сознанием своих же собственных благородных целей и значительностью одержанных им побед, что представляет собой Монтеро (un grotesque vaniteux et fé roce)[68], a также, каким образом сложная финансовая комбинация, включающая в себя строительство железных дорог и заселение обширных пространств земли, сможет послужить основой для нового займа.
И приятели французы говорили потом, что, по-видимому, малыш Декуд недурно разбирается в этом вопросе. Один влиятельный парижский журнал попросил у него статью о положении в Костагуане. Он сочинил эту статью, где серьезность стиля уживалась с легковесностью воззрений. Потом он спрашивал близких друзей:
— Читали вы мой опус о возрождении Костагуаны — ловко я его сварганил, а?
Он воображал себя парижанином с головы до ног. Парижанином он вовсе не был, зато ему грозила опасность остаться на всю жизнь дилетантом какого-то неопределенного толка. Он до того привык иронизировать над всем, что ему это даже мешало распознавать искренние порывы своей же собственной души. Когда его внезапно избрали доверенным агентом комитета по делам стрелкового оружия в Сулако, он был повергнут в глубочайшее изумление «фантастической причудой», которая, конечно, могла возникнуть только у его «милейших земляков».
— Словно кирпич мне на голову свалился. Я… я — доверенный агент! В жизни ничего подобного не слышал! Да что я смыслю в этих винтовках? C’est funambulesque![69]— возмущенно жаловался он любимой сестре; члены семьи Декудов, кроме стариков, отца и матери, изъяснялись между собой только по-французски. — А ты бы видела конфиденциальное объяснительное письмо! На восьми страницах… не меньше!
Под письмом этим, написанным рукой Антонии, стояла подпись дона Хосе, который призывал вступить на почву общественной деятельности «молодого одаренного костагуанца» и со всей искренностью изливал душу своему талантливому крестнику, человеку, располагающему достатком и досугом, имеющему обширные связи и заслуживающему всяческого доверия благодаря происхождению и воспитанию.
— Иными словами, — цинично пояснил Мартин сестре, — я не способен присвоить денежные фонды комитета или выложить государственную тайну нашему здешнему Chargé d’Affaires[70].
Вся эта затея осуществлялась за спиной военного министра Монтеро, которому остальные члены правительства не доверяли, но не имели возможности быстро от него избавиться. Монтеро ничего не должен был знать до тех пор, покуда новые винтовки не окажутся в руках солдат Барриоса. В секрет был посвящен лишь президент, чье положение являлось очень сложным.
— Занятно! — откликнулась на этот рассказ сестра и конфидентка Мартина, на что брат с сарказмом истинного парижанина вскричал:
— Неимоверно! Ты только вообрази себе: глава правительства с помощью частных лиц ведет подкоп под своего же собственного незаменимого военного министра. Нет, мы неподражаемы! — и расхохотался от души.
Позже он удивил сестру, очень ревностно и умело выполнив свою миссию, которую обстоятельства сделали щекотливой, а отсутствие у него специальных знаний — нелегкой. Сестра ни разу в жизни не видела, чтобы Мартин о чем-нибудь так хлопотал.
— Это забавно, — пояснил он лаконично. — Меня осаждает множество жуликов, пытающихся мне всучить всяческую огнестрельную рухлядь; они устраивают в мою честь изысканные завтраки: я стараюсь поддержать в них надежду; все это чрезвычайно увлекательно. А тем временем совсем в другом месте делается настоящее дело.
Выполнив возложенное на него поручение, он внезапно объявил, что намерен лично проследить, как драгоценный груз прибудет в Сулако. Такой бурлеск, полагал он, заслуживает, чтобы его уж доиграли до конца. Не очень связно поясняя причину столь внезапного своего отъезда, он пощипывал золотистую бородку, но проницательная юная девица, сначала широко открыв от изумления глаза, затем взглянула на него, прищурившись, и медленно произнесла:
— Я думаю, ты хочешь увидеть Антонию.
— Какую Антонию? — раздраженно и высокомерно осведомился костагуанский бульвардье. Резко повернувшись, он направился к двери, а сестра шутливо крикнула ему вдогонку:
— Ту самую Антонию, которую ты видел, когда у нее на спине болтались две косички.
Он видел ее восемь лет назад, незадолго до того, как Авельяносы навсегда покинули Европу, и запомнил тоненькую шестнадцатилетнюю девушку, отличающуюся той непримиримой строгостью, какая бывает лишь в юности, и настолько независимым складом ума, что она осмелилась неуважительно отозваться о его позиции умудренного жизнью скептика. Однажды, потеряв, по-видимому, терпение, она запальчиво объявила ему, что жизнь его бесцельна, а принципы — легковесны. Ему было тогда двадцать лет — единственный сын, избалованный обожающими его родителями. Ее нападки так его ошеломили, что ему не удалось сохранить тон иронического превосходства со школьницей, ничтожной пигалицей. Но впечатление, оставленное этим разговором, было настолько велико, что с тех пор все подруги сестер вызывали в его памяти Антонию Авельянос — некоторые смутно напоминали ее, другие были очень уж на нее не похожи. Рок, воистину рок, подсмеивался он над собой. Ну и, конечно, в тех известиях, которые семья Декудов регулярно получала из Костагуаны, то и дело мелькала фамилия их друзей, Авельяносов — арест бывшего министра и надругательства, которым он подвергся в заключении, невзгоды и опасности, выпавшие на долю его семьи, отъезд в Сулако, разорение, смерть жены.
Монтеристы начали мятеж прежде, чем Мартин Декуд доехал до Костагуаны. Он пробирался туда кружным путем, пароходом прямого следования, затем на судне «Западной береговой службы» компании ОПН. Драгоценный груз прибыл как раз вовремя, чтобы охвативший всех ужас сменился решимостью и надеждой. Публично Мартина Декуда бурно приветствовали familias principales[71]. С глазу на глаз дон Хосе, все еще потрясенный, ослабевший, обнял его и прослезился.
— Ты приехал сам! Иного и нельзя было ожидать от Декуда. Наши худшие опасения, увы, подтвердились, — бормотал он, жалобно, с любовью. И снова обнял крестника. Действительно, для тех, кто обладал разумом и совестью, пришла пора объединиться, ибо делу их грозила опасность.
И тут Мартин Декуд, приемное дитя Европы, окунулся в совершенно новую для него атмосферу. Он беспрепятственно позволил себя обнять и почтительно слушал хозяина дома. Он был невольно тронут страстью и печалью, неведомыми в более утонченных сферах европейской политики. А когда в большом пустынном полутемном зале появилась стройная высокая Антония, легкой походкою приблизилась к нему, протянула руку (будучи эмансипированной девицей) и негромко произнесла: «Я рада видеть вас здесь, дон Мартин», он почувствовал, что невозможно сказать им обоим о своем намерении вернуться в следующем месяце в Европу. Тем временем дон Хосе продолжал осыпать его похвалами. Он с полным основанием может занять любую должность, не говоря уже о том доверии, которым пользуется здесь в кругу общественности, да к тому же какой пример для местной молодежи способен подать блистательный защитник возрождения Костагуаны, неоценимый истолкователь политического кредо партии перед лицом всего мира. Каждый ведь читал его великолепную статью в знаменитом парижском журнале. Мир оповещен, а приезд автора статьи в Костагуану именно сейчас приобретает грандиозное общественное значение. Декуд был раздосадован и в то же время смущен. Он собирался возвратиться в Париж через Соединенные Штаты, побывать в Калифорнии, посетить Йеллоустоун, увидеть Чикаго, Ниагару, заглянуть в Канаду, возможно, ненадолго задержаться в Нью-Йорке и подольше — в Ньюпорте, он захватил с собой рекомендательные письма. Но рукопожатие Антонии было таким чистосердечным, в голосе так неожиданно прозвучало столько одобрения и теплоты, что он низко поклонился и просто сказал:
— Я чрезвычайно признателен вам за столь теплую встречу; однако нужно ли благодарить человека за то, что он вернулся к себе на родину? Я уверен, донья Антония так не считает.
— Разумеется, сеньор, — ответила она спокойно и открыто, как привыкла говорить всегда. — Но если человек этот возвращается, как вернулись вы, тот, кто живет здесь, может порадоваться… и за него, и за себя.
Мартин Декуд ничего не сказал о своих прежних планах. Он не только не проронил о них ни слова ни единой душе, но лишь полмесяца спустя в гостиной Каса Гулд (где, разумеется, сразу же стал желанным гостем) наклонился, сидя на стуле, к хозяйке с галантной фамильярностью воспитанного человека и спросил, не замечает ли она, что он сделался сегодня другим, — иными словами, не появилась ли в нем некая возвышенная серьезность. В ответ миссис Гулд посмотрела на него молча, пытливо, слегка расширив глаза, в которых искрилась слабая тень улыбки; она часто обращала на собеседника взгляд, полный нежного внимания, ненавязчиво самозабвенного стремления понять как можно лучше его мысль, и мужчины находили этот взгляд обворожительным.
— Ведь отныне, — невозмутимо продолжал Декуд, — он не будет понапрасну обременять землю. В этот миг, — говорил он, — миссис Гулд глядит на редактора местной газеты. Миссис Гулд покосилась на Антонию, которая сидела, выпрямившись, в углу старинной испанской софы с высокой спинкой, помахивала большим черным веером, и ее скрещенные ножки выглядывали из-под черной юбки. Глаза Декуда тоже задержались на грациозной фигуре девушки, и, понизив голос, он сказал, что мисс Авельянос хорошо известно, что у него нежданно появилось призвание к профессии, которой до сих пор в Костагуане занимались только полуграмотные негры и вконец обнищавшие стряпчие. Затем учтиво, но с некоторым вызовом встретив взгляд хозяйки дома, обращенный уже на него и полный доброжелательства, он шепотом сказал: «Pro patria!»[72]
Дело в том, что он внезапно уступил настояниям дона Хосе взять на себя руководство газетой, которая будет «выражать чаяния нашей провинции». Дон Хосе давно уже лелеял эту мысль. Необходимое для типографии оборудование (недорогое, конечно) и большой запас бумаги были получены из Америки некоторое время назад; оставалось лишь подыскать нужного человека. Найти такового не мог даже сеньор Морага в Санта Марте, а дело не терпело отлагательств; нужно было противопоставить что-то потоку небылиц, которые распространяла пресса монтеристов, — гнусная клевета, демагогические обращения к народу, призывающие его подняться с ножами в руках и немедленно покончить с этими «бланко», средневековым отребьем, зловещими мумиями, бессильными паралитиками, вступившими в сговор с иностранцами, дабы отдать им все земли и поработить народ.
Сеньора Авельяноса страшила шумиха «негритянского либерализма». Единственным спасением ему представлялась газета. И когда в Декуде они наконец обрели нужного им человека, сразу же на Пласе[73] между окнами одного из домов над арками нижнего этажа появились нарисованные кистью большие черные буквы. Дом этот стоял рядом с огромным магазином Ансани, где продавались башмаки, шелка, скобяной товар, кисея, деревянные игрушки, крошечные серебряные руки, ноги, головы, сердца (для жертвоприношений), четки, шампанское, дамские шляпки, патентованные лекарства и даже несколько пыльных книг в бумажных обложках, главным образом на французском языке. Большие черные буквы группировались в слова: Редакция газеты «НАШЕ БУДУЩЕЕ». Редакция трижды в неделю выпускала двойной листок, плод талантов и усилий Мартина; и желтолицый толстячок Ансани в широком черном костюме и ковровых домашних туфлях, то исчезающий, то появляющийся из многочисленных дверей своего заведения, приветствовал кособоким, низким поклоном редактора местной газеты, осуществляющего в соседнем доме свое недавно обретенное призвание.
ГЛАВА 4
Возможно, именно обязанности редактора побудили его, Мартина, присутствовать при выступлении войск. Послезавтрашнее «Наше будущее» несомненно расскажет об этом событии, но сейчас его издатель стоял, прислонившись к коляске, и, казалось, ровным счетом ничего не видел.
Когда толпа любопытных начинала слишком нажимать, пехотинцы, построенные в три шеренги поперек пирса, грозно брали штыки наизготовку; испуганная оглушительным бряцанием оружия толпа разом откатывалась, и головы людей оказывались под самым носом крупных белых мулов. Хотя на пристани собралось множество народу, шум был слабый, приглушенный; в воздухе стояла бурая туча пыли, то там то сям среди пеших зрителей мелькали всадники, верней, виднелась верхняя часть их туловищ, и все головы были повернуты в одну сторону. Почти каждый всадник посадил сзади себя приятеля, который, чтобы не упасть, обеими руками вцепился ему в плечи; поля их шляп, соприкасаясь, образовывали диск, над коим виднелись две остроконечные тульи, а снизу выглядывали два лица. По временам какой-нибудь малый хрипло выкрикивал что-то, обращаясь к приятелю, стоявшему в строю, или пронзительный женский голос вдруг восклицал: «Adiós!» — добавляя к восклицанию имя своего милого.
Генерал Барриос в поношенном голубом форменном фраке и белых галифе, которые суживались над голенищами красных сапог странного фасона, с непокрытой головой стоял возле коляски, слегка ссутулившись и опираясь на тонкую трость. Да! Да! Воинской славы на его долю пришлось более чем достаточно, твердил он, обращаясь к миссис Гулд и в то же время стараясь сохранить бравую осанку. Над верхней губой генерала топорщились жидкие иссиня-черные усы, у него был крупный крючковатый нос, худая длинная челюсть и черная шелковая повязка на одном глазу. Другой глаз, маленький и глубоко посаженный, приветливо поглядывал по сторонам. Несколько европейцев (все, как один, мужчины), конечно же, пробрались поближе к коляске Гулдов и стояли с отрешенным выражением лиц — все они полагали, что прежде, чем окруженный грозным воинством и штабом генерал устремился в порт, он выпил в клубе «Амарилья» слишком много пунша, шведского пунша (его бутылками ввозил Ансани). Но миссис Гулд спокойно наклонилась к нему и выразила убеждение, что в скором будущем генерала ожидает новая слава.
— Сеньора! — возразил он с большим чувством. — Подумайте, бога ради, о чем вы говорите! Какая еще может быть слава для такого, как я, с лысиной и крашеными усами?
Пабло Игнасио Барриос, сын деревенского алькальда, дивизионный генерал, главнокомандующий Западным военным округом, редко бывал в высшем свете Сулако. Он предпочитал нецеремонную мужскую компанию, где мог рассказать, как охотился на ягуара, похвастать умением набрасывать лассо, с которым совершал такие чудеса, какие «женатому ни за что не проделать», как говорится среди жителей равнины; он описывал поистине фантастические ночные охотничьи облавы, стычки с дикими быками, сражения с крокодилами, приключения в бескрайних лесах и переправы через полноводные реки. И не одно лишь желание похвастать так оживляло память генерала, но и искренняя любовь к той полной опасностей жизни, которую он вел в дни молодости, до того, как навсегда покинул крытую тростником родительскую хижину в лесной чаще. Он добрался до самой Мексики и воевал там против французов, бок о бок с Хуаресом[74] (как он утверждал) и таким образом стал единственным военным в Костагуане, имевшим дело с европейскими войсками на поле боя. Это обстоятельство окружило его имя блеском лучезарной славы, которую лишь впоследствии затмила восходящая звезда Монтеро.
Барриос всю жизнь был заядлым картежником. Он рассказывал о себе, не таясь, знаменитую историю, как во время одной кампании (он командовал тогда бригадой) в ночь перед битвой проиграл в «монте»[75] всех своих лошадей, пистолеты, мундир и даже эполеты. Наконец он отправил в сопровождении охраны саблю (наградную саблю с золотым эфесом) в городишко, расположенный в тылу занятой его бригадой позиции с тем, чтобы немедленно заложить ее за пятьсот песет у заспанного перепуганного лавочника. На рассвете, проиграв и эти деньги, он спокойно встал и произнес: «Ну, а теперь ринемся в смертный бой». Так он узнал, что генерал способен вести в сражение войска, вооруженный только тросточкой. «Это вошло у меня с тех пор в привычку», — пояснял он.
Он всегда был по уши в долгах; даже в периоды процветания, выпадавшие порою среди превратностей судьбы костагуанского генерала, в те дни, когда он занимал высокие посты, его шитые золотом мундиры почти всегда были в закладе у какого-нибудь торговца. Неприятности, связанные с заимодавцами, так измучили его под конец, что он решился пренебречь пышностью амуниции и усвоил эксцентричную манеру носить старые ветхие мундиры, что сделалось его второй натурой. Однако политическая партия, на чью сторону становился Барриос, могла не опасаться, что он ее предаст. Истинный солдат по натуре, он считал недопустимым для себя вступать в гнусную торговлю, где покупаются и продаются победы. Член иностранного дипломатического корпуса в Санта Марте высказал о нем однажды такое суждение: «Барриос человек редкостной честности и в какой-то степени даже не лишен воинских дарований, mais il manque de tenue»[76]. После победы рибьеристов он стал командующим считавшегося очень доходным Западного военного округа. Произошло это главным образом стараниями его кредиторов (лавочников из Санта Марты, очень тонких политиков), которые развили бурную деятельность, публично и приватно осаждали сеньора Морагу, влиятельного агента администрации рудников Сан Томе, и осыпали его душераздирающими жалобами, утверждая, что, если генералу не достанется этот пост, «все мы будем разорены». Благодаря счастливой для генерала случайности, в обширной переписке мистера Гулда-старшего с сыном благожелательно упоминалось его имя, что тоже ему несколько помогло; но, разумеется, главную роль сыграла его репутация безупречно честного человека. Никто не сомневался в личной храбрости «убийцы тигров», как именовал его простой народ. Говорили, правда, что ему не везет на поле боя… впрочем, судя по всему, в Костагуане наступала мирная эпоха.
Солдаты любили его за доброту, которая расцвела нежданно, словно прекрасный и редкий цветок, в рассаднике кровавых гнусных путчей; и когда во время военных парадов он медленно ехал по улицам, благодушно, хотя и презрительно поглядывая на толпу своим единственным глазом, простонародье бурно его приветствовало. В особенности женщины этого сословия, которые, кажется, были положительно очарованы длинным крючковатым носом, острым подбородком, толстой нижней губой, черной шелковой повязкой на глазу, лихо пересекающей генеральский лоб. Высокое положение в обществе всегда обеспечивало ему внимательных слушателей в лице кабальеро, которым он рассказывал о своих охотничьих подвигах, безыскусственно, обстоятельно и наслаждаясь от души. Общество дам его тяготило, ибо налагало некоторые ограничения, не компенсируя их никакими преимуществами, во всяком случае, он таковых не видел. За все время, что он находился на своем высоком посту, он, пожалуй, не более трех раз беседовал с миссис Гулд; но он заметил, что она часто ездит верхом вместе с сеньором администрадо́ром, и заявил во всеуслышание, что в ее левой руке, которой она держит поводья, больше толку, чем во всех дамских головках Сулако. Ему захотелось как можно более учтиво попрощаться с женщиной, которая не вихляется в седле, да к тому же замужем за человеком, чье знакомство весьма существенно для тех, кто всегда нуждается в деньгах. Его внимательность простерлась до таких пределов, что он приказал стоявшему рядом с ним адъютанту (низкорослому коренастому капитану с татарской физиономией) поставить перед коляской капрала с шеренгой солдат, чтобы в случае если толпа отхлынет назад, она «не обеспокоила мулов сеньоры». Затем, повернувшись к небольшой группе европейцев, которые стояли очень близко от них и наблюдали за выступлением войск, он повысил голос и успокоительно произнес:
— Сеньоры, не надо впадать в уныние. Без опасений продолжайте себе строить ваши железные дороги, ваши телеграфы. Ваши, — Констагуана достаточно богата и заплатит за все, — а иначе вас бы здесь не было. Ха, ха! Право, не стоит волноваться из-за маленькой шалости моего друга Монтеро. Очень скоро вы увидите его крашеные усы сквозь решетку крепкой деревянной клетки. Да, сеньоры! Ничего не бойтесь, развивайте нашу страну, трудитесь, трудитесь!
Английские инженеры выслушали этот призыв, не проронив ни единого слова, и генерал, покровительственно помахав им рукой, снова обратился к миссис Гулд:
— Вот что нам необходимо, как говорит дон Хосе. Предприимчивость! Нам нужно трудиться! Стать богатыми! Посадить Монтеро в клетку — моя задача; и когда мы справимся с этим пустяковым делом, тогда осуществится мечта дона Хосе, и мы станем богаты, все до единого, в точности, как англичане, ибо только деньги спасут нашу страну, и…
Однако тут с пристани прибежал молодой офицер в новеньком с иголочки мундире и прервал изложение идей сеньора Авельяноса. Генерал досадливо от него отмахнулся; но офицер с почтительным видом продолжал настаивать на своем. Лошади уже в трюме, шлюпка спущена с корабля и дожидается генерала; тогда Барриос, яростно сверкнув одиноким глазом, приготовился удалиться. Дон Хосе встал, намереваясь выдавить из себя приличествующую случаю фразу. Муки надежд и опасений тяжко сказались на нем, и он собирал последние крохи своего ораторского дарования, дабы о них смогла узнать даже далекая Европа. Антония крепко сжала ярко-красные губы и опустила голову, закрыв веером лицо; а молодой Декуд, хотя и чувствовал на себе взгляд девушки, упорно смотрел в сторону, облокотившись о дверцу с высокомерным и рассеянным выражением.
Самый вид этих людей и обстоятельства, в которых они оказались, совершенно невозможные на родине миссис Гулд, где ничего подобного никогда не бывало, да и люди держат себя иначе, повергали ее в такое отчаяние, что она прилагала героические усилия, стараясь скрыть его, и была не в силах рассказать об этом отчаянии даже мужу. Его молчаливая сдержанность стала ей теперь понятней. Душевную близость они ощущали не наедине, а на глазах у всех — быстро обмениваясь взглядами при любом неожиданном повороте событий. Она училась у него бескомпромиссному молчанию — ведь если вся мерзость, нелепость, дикость, необходимая для достижения их целей, считается нормальной в этой стране, единственное, что можно сделать — это молчать. Величавая Антония, конечно, выглядела более зрелой и безмятежно спокойной; зато она не умела прятать за оживленным и приветливым выражением лица внезапные уколы душевной боли.
Миссис Гулд одарила прощальной улыбкой Барриоса, кивнула инженерам-англичанам (которые все разом приподняли над головами шляпы), сказав им: «Надеюсь вскоре видеть вас у себя», затем взволнованно обратилась к Декуду: «Садитесь же, дон Мартин», и услыхала, как, открывая дверцу кареты, он по-французски тихо пробормотал: «Le sort en est jeté»[77]. Эти слова ее рассердили. Уж кто кто, а он должен бы знать, что карты розданы давным-давно, и игра идет нешуточная. Приветствуя отбывающего генерала, на пристани завопила толпа, раздались возгласы отдающих команду офицеров и барабанный бой. Миссис Гулд вдруг почувствовала какую-то слабость и, устремив неподвижный взгляд на спокойное лицо Антонии, подумала с тревогой, что же будет с Чарли, если это нелепое существо потерпит поражение. «A la casa, Ignacio»[78],— крикнула она в неподвижную широкую спину кучера, который неторопливо подобрал вожжи, бормоча себе под нос: «Sí, la casa. Sí, sí, niña»[79].
Коляска бесшумно покатила по мягкой дороге, и длинные тени уже вытянулись на пыльной равнине, по которой там и сям были разбросаны темные кусты, груды вскопанной земли, низкие деревянные домики под металлической крышей, принадлежащие железнодорожной компании. Редкая череда телеграфных столбов шагала прочь от города, унося с собой тонкий, почти невидимый провод, словно поджидающий в сторонке прогресс вытянул слабенькое, дрожащее щупальце, чтобы, едва наступит мир, тут же вторгнуться в страну и опутать петлею ее усталое сердце.
Из окна столовой гостиницы «Объединенная Италия» выглядывали загорелые, украшенные бакенбардами лица строителей железной дороги. В другом конце гостиницы, там, где жили signori inglesi, на пороге стоял только старый Джорджо с дочками и, увидев коляску, обнажил свою лохматую голову, белую, как снега Игуэроты. Миссис Гулд велела кучеру остановиться. Она почти всегда здесь останавливалась, чтобы побеседовать со своим протеже; а сегодня от волнения, от жары, от пыли ей к тому же захотелось пить. Она попросила стакан воды. Джорджо велел девочкам принести из дома воду и подошел к карете; улыбка освещала его морщинистое лицо. Не так уж часто выпадал ему случай повидать свою благодетельницу, которая была к тому же англичанкой, что, на его взгляд, также заслуживало похвалы. Он извинился за отсутствие жены. У нее скверный день сегодня; подавленное состояние — он похлопал себя по широкой груди. Не встает весь день с кресла.
Забившийся в угол кареты Декуд хмуро разглядывал старого революционера и вдруг резко, почти бесцеремонно, спросил:
— Что вы думаете обо всем этом, гарибальдиец?
Старый Джорджо с любопытством посмотрел на него и вежливо ответил, что войска отлично промаршировали мимо его дома. Одноглазый Барриос и его офицеры за такое короткое время совершили с новобранцами просто чудеса. Эти индио, которых лишь на днях изловили, двигались чрезвычайно быстро, да при этом еще отбивали шаг, словно берсальеры; видно, что их хорошо кормят, и мундиры на них в полном порядке. «Мундиры!» — повторил он с чуть заметной снисходительной улыбкой. Проницательный взгляд стал на миг задумчивым, суровым. Совсем не так было в его времена, когда солдаты, сражавшиеся в джунглях Бразилии и на равнинах Уругвая, голодали, ели полусырую конину без соли, были одеты в жалкие лохмотья, а единственным оружием им служили привязанные к палке ножи. «И все же мы обычно побеждали угнетателей», — с гордостью закончил он.
Оживление его покинуло. Он обескураженно махнул рукой; добавил, правда, что попросил одного сержанта показать ему новую винтовку. В его времена такого оружия не было; и уж если Барриос не сможет…
— Сможет, сможет, — нетерпеливо перебил дон Хосе. — Мы в полной безопасности. Достойнейший сеньор Виола — человек с большим житейским опытом. Смертоносное оружие — не так ли? Вы отлично выполнили свою миссию, дон Мартин.
Декуд, откинувшись на спинку сиденья, задумчиво разглядывал старика Виолу.
— Гм… Так, так. С большим житейским опытом. Ну, а сами, в глубине души, на чьей вы стороне?
Миссис Гулд наклонилась к подошедшим девочкам. Линда очень осторожно, чтобы не дай бог не разлить, принесла стакан воды на подносе; Гизелла уже успела нарвать букет цветов и протягивала его миссис Гулд.
— На стороне народа, — сурово ответил старый Виола.
— Мы все на стороне народа… в конечном итоге.
— Да, — гневно буркнул старик. — А народ тем временем за вас воюет. Слепцы! Esclavos[80].
В это время из комнаты, отведенной для Signori Inglesi, вышел Скарф, молодой инженер-путеец. Он приехал на дрезине с дальнего конца колеи и едва успел умыться и переодеться. Он был славный юноша, и миссис Гулд приветливо с ним поздоровалась.
— Какой сюрприз, я так счастлив встретить вас, миссис Гулд. Только что прибыл. Мне, как всегда, не повезло. Конечно, ничего не успел повидать. Представление уже окончилось, и говорят к тому же, вчера вечером дон Хусте Лопес устроил бал и танцевали там до упаду. Это правда?
— Молодые патриции, — вдруг вмешался Декуд на своем очень хорошем английском, — и в самом деле танцевали, прежде чем отправились сражаться во главе с великим Помпеем.
Скарф ошеломленно посмотрел на него.
— Вы, кажется, незнакомы, — вмешалась миссис Гулд, — мистер Декуд — мистер Скарф.
— Полно. Мы ведь не идем походом на Фарсал[81],— торопливо возразил дон Хосе, также переходя на английский. — Не нужно так шутить, Мартин.
Антония глубоко вздохнула. Молодой инженер совсем растерялся. «С великим кем?» — пролепетал он упавшим голосом.
— К счастью, Монтеро не Цезарь, — продолжал Декуд. — И даже два Монтеро, сложенных вместе, не составят пристойной пародии на Цезаря. — Он скрестил на груди руки, глядя на сеньора Авельяноса, снова погрузившегося в неподвижность. — Один лишь вы, дон Хосе, настоящий древний римлянин — vir Romanus[82], красноречивый и непоколебимый.
Услыхав фамилию Монтеро, Скарф поспешил излить обуревавшие его несложные чувства. Громко, с юношеским задором он выразил надежду, что этому Монтеро зададут хорошую взбучку, после чего о нем уже больше никто никогда не услышит. Просто немыслимо себе представить, что будет с железной дорогой, если мятежники придут к власти. Ее, может быть, вообще перестанут строить. Уже не первая железная дорога в Костагуане, от которой останутся только рожки да ножки. «Это, знаете ли, одна из их так называемых национальных проблем», — продолжал он, морща нос, словно почуял какой-то подозрительный запах в сложной смеси своих фундаментальных познаний о положении дел в Южной Америке. «И, конечно, — говорил он с оживлением, — в его возрасте просто неслыханная удача получить „такое роскошное место… вы представляете!“. Он так рванул вперед, что остальным ребятам теперь до старости его не догнать. „А поэтому долой Монтеро. Честь имею, миссис Гулд“».
Простодушная улыбка медленно сползла с его лица, когда он увидел помрачневшие лица своих слушателей, сидящих в коляске; один лишь «старикан» дон Хосе сидел как восковая статуя к нему в профиль, устремив в пространство неподвижный взгляд, и, казалось, ни слова не слышал. Скарф не очень хорошо знал Авельяносов. Они не давали балов, и Антония никогда не сидела возле окошка нижнего этажа, в отличие от других юных леди, которые часто там появлялись в обществе какой-нибудь пожилой дамы, чтобы поболтать с кабальеро, верхом разъезжавшим по улице. То, что все эти креолы так на него уставились, несущественно; но миссис Гулд, с ней-то что произошло? Она сказала: «Поезжайте, Игнасио», — и медленно наклонила голову, прощаясь с ним. Скарф услышал, как фыркнул этот круглолицый офранцузившийся субъект. Он покраснел до самых бровей и перевел взгляд на Джорджо Виолу, который вместе с девочками отступил на несколько шагов, держа шляпу в руке.
— Мне нужна лошадь, немедленно, — довольно резко сказал он старику.
— Sí, señor. Лошадей сколько угодно, — пробормотал гарибальдиец, рассеянно поглаживая загорелыми руками две детские головки, одну черноволосую, отливающую бронзой, и вторую белокурую, с медными прядями. Толпа зрителей возвращалась с пристани, и огромное облако пыли плыло над дорогой. Верховые, ехавшие впереди, заметили стоявших у гостиницы людей. «Ступайте домой, к матери, — сказал Виола. — Вот так растут себе, а я все старею, и нет ни единой души…»
Он посмотрел на молодого инженера и умолк, словно внезапно проснулся; затем скрестил на груди руки и занял свою обычную позицию, прислонившись к косяку и обратив неподвижный взгляд на белеющий вдали склон Игуэроты.
Мартин Декуд зашевелился на сиденье, словно ему захотелось переменить позу, и, наклонившись к Антонии, прошептал: «Вы, наверное, меня возненавидели». Затем вслух принялся поздравлять дона Хосе с тем, что все инженеры — убежденные рибьеристы. То, что в успехе их дела заинтересованы иностранцы, вселяет большие надежды. «Сейчас вы слышали одного из них. Он отлично осведомлен и полон доброжелательства. Приятно думать, что благополучие Костагуаны принесет кое-какую пользу всему миру».
— Он очень молод, — негромко отозвалась миссис Гулд.
— Но какая житейская мудрость, — тут же возразил Декуд. — Впрочем, в нашем случае устами этого младенца глаголет истина. Вы правы, дон Хосе. Природные сокровища Костагуаны не лишены интереса для прогрессивной Европы, представленной этим милым юношей, точно так же, как триста лет назад богатство наших предков не давало покоя всей Европе, ее отважным флибустьерам. Мы, испанцы, обреченная нация, наши усилия всегда тщетны: Дон-Кихот и Санчо Панса, дух рыцарства и материализма, высокопарные высказывания и низменная мораль, отчаянная борьба за идеалы и победное шествие коррупции. Мы так сражались за независимость, что весь континент содрогнулся, и добились в результате пародии на демократию, стали беспомощными жертвами негодяев и головорезов, наши учреждения — посмешище, наши законы — жалкий фарс, Гусман Бенто — наш хозяин! Мало того, мы пали так низко, что даже, когда такой человек, как вы, пробудил наконец нашу совесть, тупоголовый дикарь Монтеро — боже милостивый! Какой-то Монтеро! — превратился для нас в смертельную угрозу, а невежественный, хвастливый индио, Барриос, стал нашим защитником.
Дон Хосе, оставив без внимания основную суть филиппики Декуда, будто ни слова не слыхал из нее, вступился за Барриоса. Этот человек вполне способен выполнить ту часть задания, которая ему отведена в общем плане компании. Высадившись в Каите, он ударит с фланга по войскам мятежников, наступающих с юга на столицу, защищаемую еще одной армией, в рядах которой находится президент. Дон Хосе, объясняя все это, оживленно наклонился вперед, а дочь глядела неподвижным взглядом на отца, который так внезапно оживился и разговорился. Декуд безмолвствовал, словно горячность дона Хосе лишила его дара речи. Городские колокола отзвонили к вечерне, когда карета проезжала под старинными воротами, ведущими с пристани в город и похожими на некий причудливый монумент, сооруженный из камней и листьев. Колеса гулко загрохотали под аркой ворот, но внезапно некий странный пронзительный визг заглушил их стук, и Декуд, сидевший сзади, обернувшись, увидел, как бредущие по дороге люди все разом повернули головы в сомбреро и ребосо[83], чтобы взглянуть на локомотив, который промчался за домом Джорджо Виолы и скрылся, оставив лишь хвост белого пара, а тот растаял, будто растворившись в долгом, истерическом вопле, похожем на воинственный клич. И казалось, все это лишь померещилось им: призрак паровоза, мелькнувший в арке ворот, и всколыхнувшаяся толпа зрителей, идущих с пристани, где им показали военный спектакль, и бесшумно движущихся теперь по пыльной дороге. А ведь это был вполне материальный паровоз, возвращавшийся на товарную станцию. Пустые вагоны легко катили по одинокой колее; не грохотали колеса, не вздрагивала земля. Проезжая мимо Каса Виола, машинист поднял руку в знак приветствия и ловко сбавил скорость, въезжая на обнесенную частоколом товарную станцию; а когда умолк душераздирающий скрип тормозов, что-то глухо, тяжело забухало, и, смешавшись с лязгом цепей, шум этот отозвался под сводом ворот беспорядочной сумятицей звуков, напоминающей удары и кандальный звон.
ГЛАВА 5
Коляска Гулдов первой вернулась из гавани в опустевший город. На старинной мостовой, покрытой узорно выложенными плитами, попадались выбоины и щели, и осанистый Игнасио, памятуя о рессорах сработанного в Париже экипажа, поехал шагом, благодаря чему сидевший в уголке Декуд получил полную возможность разглядеть не торопясь внутреннюю сторону ворот. Невысокие боковые башенки поддерживали огромное нагромождение камней, из верхней части которого торчали пучки травы, а укрепленный над аркой высеченный из серого камня геральдический щит с гербом стерся до такой степени, что на нем впору было изображать новую эмблему, знаменующую победно грядущий прогресс.
Грохот на железнодорожной колее усилил раздражение Декуда. Он что-то пробормотал про себя, потом заговорил, отрывисто, сердито, а женщины слушали и молчали. Они даже не глядели на него; дон Хосе, сидевший рядом с миссис Гулд, слегка покачивался при каждом толчке, и лицо его, затененное полями серой шляпы, как всегда, казалось восковым, полупрозрачным.
— Эти звуки представляют в новом освещении старую-престарую истину.
Декуд говорил по-французски, возможно, из-за сидевшего на козлах Игнасио; широкую спину старого кучера плотно обтягивала короткая шитая золотом ливрея, а его большие мясистые уши, под коротко стриженными волосами, буквально стояли торчком.
— Да, шум за городской стеной стал новым, а принцип остался прежним.
Декуд брюзгливо помолчал и начал снова, исподлобья взглянув на Антонию.
— Вообразите себе, как наши предки в шлемах, латах выстраиваются за воротами, а с приплывших в гавань кораблей уже высадилась орава искателей приключений. Грабеж, конечно. И в то же время деловое предприятие. Ведь каждую из этих экспедиций снаряжали дельцы, солидные, почтенные жители Англии. Историческое событие, как любит говорить наш обаятельный мореплаватель Митчелл.
— Митчелл отлично организовал погрузку войск! — перебил его дон Хосе.
— Организовал погрузку!.. Да ее, собственно, организовал этот генуэзец матрос! Вернемся все же к шумам; в старинные времена за воротами ревели трубы. Боевые трубы! Именно трубы, не сомневаюсь. Я где-то читал, что Дрейк, самый великий из всей этой братии, любил обедать в одиночестве у себя в каюте, а трубачи играли для него. В ту пору город наш был очень богат. Его захватили пираты. Сейчас вся наша страна превратилась в сокровищницу, и эта компания ломится в нее, а мы заняты тем, что режем друг другу глотки. Единственное, что пока еще нас спасает, это их соперничество друг с другом. Но в один прекрасный день они придут к соглашению, и, когда мы наконец кончим междоусобицы, станем благопристойны и респектабельны, у нас уже ничего не останется. Так бывало всегда. Мы замечательный народ, но уж, видно, нам на роду написано, чтобы нас всегда… — он не сказал слова «грабили», а после паузы проговорил: — Эксплуатировали.
Миссис Гулд сказала:
— О… вы несправедливы!
А Антония тут же вмешалась:
— Не отвечайте ему, Эмилия. Это он нападает на меня.
— Надеюсь, вы не думаете, что мои слова направлены против дона Карлоса! — откликнулся Декуд.
Затем коляска остановилась перед дверями Каса Гулд. Молодой человек помог дамам выйти. Дамы вошли в дом: дон Хосе с Декудом следовали за ними, а последним подагрической походкой ковылял старичок привратник с несколькими небольшими свертками.
Дон Хосе взял под руку редактора местной газеты.
— Вы должны выпустить большую убедительную статью об выступлении в Каиту непобедимой армии Барриоса! Страна нуждается в моральной поддержке. Кроме того, следует подобрать подходящие выдержки из статьи и переслать их телеграфом в Европу и Соединенные Штаты, чтобы не сеять панику за границей.
Декуд пробормотал: «Да, да, конечно, нужно успокоить наших друзей спекулянтов». Длинная открытая галерея была уже в тени, вдоль балюстрады выстроились растения в вазонах, на длинных стеблях неподвижно красовались цветы, и все стеклянные двери гостиных были распахнуты настежь. В дальнем конце галереи тихо прозвучало и замерло звяканье шпор.
Басилио, отступив к стене, тихим голосом сообщил проходившим мимо дамам: «Сеньор администрадо́р только что вернулся из поездки в горы». В большой зале под высоким белым потолком стояла старинная испанская и современная французская мебель, а полукружие низких кресел и поблескивающий между ними серебром и фарфором чайный столик создавали впечатление, будто сюда заглянул также и будуар со всей сопутствующей ему интимной женской утонченностью.
Дон Хосе сидел в кресле-качалке, положив на колени шляпу, а Декуд разгуливал взад и вперед по гостиной, пробирался между столами, заваленными всяческими безделушками, и временами почти исчезал, проходя за высокими спинками кожаных диванов. Ему все вспоминалось гневное лицо Антонии; непременно нужно с нею помириться. Не для того он остался в Сулако, чтобы ссориться с Антонией.
Мартин Декуд был недоволен собой. Ему, человеку, приобщившемуся к европейской культуре, претило все, что он видел и слышал тут. Он составил себе мнение о здешних делах, еще находясь за океаном, однако на парижских бульварах к костагуанским революциям относишься иначе. Оказалось, здесь, на месте, невозможно воскликнуть: «Что за фарс!» и выбросить из головы всю эту трагикомедию.
Став непосредственным свидетелем событий, он почувствовал, что они его задевают, а искренняя вера Антонии в правоту их дела придавала особую остроту этому ощущению сопричастности. Его коробила примитивность местной политической борьбы. Он и не знал, насколько он чувствителен.
«Вероятно, я в большей степени костагуанец, чем предполагал», — подумал он.
Высокомерие служило защитной маской, которой прикрывался этот скептик, чья деятельность становилась все более оживленной из-за влюбленности в Антонию. Он успокаивал себя тем, что он не патриот, а просто влюбленный.
Дамы сняли шляпки и вошли в гостиную; миссис Гулд опустилась в низкое кресло у чайного столика. Антония заняла свое обычное место — в углу кожаной кушетки, стройная, грациозная, с веером в руках. Декуд, разгуливавший из угла в угол, повернулся и, подойдя к кушетке, облокотился о ее спинку.
Стоя позади Антонии, он долго говорил ей что-то на ухо с полуулыбкой и как бы извиняясь за свою фамильярность. Она слегка придерживала веер, лежавший у нее на коленях. На Мартина она не поднимала глаз. Говорил он быстро, все более настойчивым и ласковым тоном. Наконец он позволил себе рассмеяться:
— Нет, право же. Извините меня. Но иногда ведь нужно быть серьезным. — Он умолк. Она слегка обернулась; взгляд голубых глаз медленно скользнул в его сторону, затем так же медленно — вверх, ласковый и вопросительный.
— Ведь не считаете же вы, что я серьезен, когда в каждом номере «Нашего будущего» именую Монтеро gran bestia?[84] Это несерьезное занятие. Да и вообще все занятия несерьезны, даже те, за неудачу в которых мы расплачиваемся, получив пулю в сердце.
Ее пальцы сжали веер.
— Видите ли, какие-то резоны, верней, какой-то смысл должен все же проникать в работу нашей мысли; некий проблеск истины. То есть истины не пустой, не связанной с политикой или газетами. Я ненароком сказал то, что думаю. Вы тут же рассердились! Если вы окажете мне милость немного подумать, вы увидите, что я рассуждаю, как патриот.
Ее алые губы впервые раскрылись, и ответила она мягко:
— Да, но вам совсем не важна цель. Каждый должен делать то, к чему он расположен. И мне кажется, что совершенно безразличных в нашем деле нет, исключая разве что вас, дон Мартин.
— Боже упаси! Мне очень жаль, если я заставил так о себе думать, — произнес он небрежно и помолчал, ожидая ответа.
Она стала медленно обмахиваться веером. Он подождал и с нежностью шепнул:
— Антония!
Она улыбнулась и на английский манер протянула руку склонившемуся перед ней в поклоне Чарлзу, а Декуд, опершись локтями о спинку кушетки, буркнул: «Bonjour».
Сеньор администрадо́р рудников Сан Томе на миг наклонился к жене. Они обменялись несколькими словами, из которых удалось расслышать только фразу «огромный энтузиазм», произнесенную миссис Гулд.
— Все несерьезны, — понизив голос, произнес Декуд. — И даже он.
— Чистая клевета, — возразила Антония, но не очень сердито.
— А вы его попросите подбросить свои рудники в тигель великого общего дела, — шепотом посоветовал Декуд.
Тут заговорил дон Хосе, бодро потирая руки. Войска имели такой бравый вид, а на плечах у этих храбрецов было такое множество новеньких винтовок, что все это, казалось, вселило в него восторженное ощущение уверенности.
Чарлз, очень высокий, худой, слушал, стоя перед креслом дона Авельяноса, но на лице его ничего нельзя было прочесть, кроме благожелательного и почтительного внимания.
Тем временем Антония встала и, пройдя через комнату, посмотрела в одно из трех продолговатых окон, выходящих на улицу. Декуд последовал за ней. Окно было раскрыто, и он прислонился к его косяку. Длинные прямые складки занавеси из тяжелой ткани, ниспадающей с широкого медного карниза, частично скрывали его от глаз тех, кто находился в комнате. Скрестив на груди руки, он не отрываясь глядел на Антонию, которая стояла к нему в профиль.
Постепенно мостовую заполнили люди, идущие из гавани; слышалось шарканье ног и негромкие голоса. Время от времени неспешно проезжала карета по щербатой мостовой улицы Конституции. В Сулако мало у кого имелся свой экипаж; даже в самые людные часы все их можно было пересчитать, окинув одним взглядом Аламеду. На высоких рессорах покачивались громоздкие фамильные ковчеги, и в каждом множество хорошеньких напудренных лиц с оживленными черными глазками. Дон Хусте Лопес, президент Генеральной Ассамблеи Западной провинции, проехал первым с тремя очаровательными дочерьми, в черном сюртуке с крахмальным белым галстуком, очень чинный, словно руководил дебатами на заседании Ассамблеи. Хотя все они посмотрели вверх, Антония не помахала им рукой, а сидевшие в карете сделали вид, что не заметили эту молодую пару — костагуанцев с европейскими манерами, чьи чудачества обсуждались в самых знатных домах Сулако с окнами, огражденными ажурной решеткой.
Затем мимо прокатила вдовствующая сеньора Гавиласо де Вальдес, красивая и важная, в огромном экипаже, в котором она обычно приезжала в Сулако из загородного имения, сопровождаемая вооруженным эскортом всадников в кожаных костюмах и сомбреро, с карабинами у луки седла. Сеньора де Вальдес происходила из очень знатной семьи, была горда, богата и добросердечна. Ее второй сын, офицер, только что отбыл с Барриосом. Старший, угрюмый шалопай, гремел на все Сулако шумными кутежами и вел в клубе крупную игру. Переднее сиденье занимали два младших сына с желтыми кокардами рибьеристов. Сеньора де Вальдес тоже сделала вид, будто не замечает, как сеньор Декуд беседует с Антонией на глазах у посторонних, бросая вызов общепринятым обычаям. А ведь он, насколько известно, даже не ее жених! Впрочем, будь он таковым, их поведение все равно непристойно. Но старая дама, предмет почтения и восхищения лучших семейств провинции, была бы еще больше скандализована, если бы могла услышать фразы, которыми они обменивались.
— Значит, вы полагаете, я действую без цели? В этом мире у меня одна лишь цель.
Антония еле заметно отрицательно качнула головой, все так же не спуская взгляда с находившегося напротив дома Авельяносов, серого, обветшалого, с железными решетками на окнах, как в тюрьме.
— И ее так несложно осуществить, — продолжал он, — эту цель, которая, возможно, без моего ведома, всегда жила в моей душе… с того самого дня, когда вы так безжалостно обошлись со мной в Париже, если помните.
Ему показалось, что уголок ее губ — тот, который был ему виден, — тронула едва заметная улыбка.
— Знаете, вы были просто ужасающая особа, нечто вроде Шарлотты Корде[85] в школьном платьице; воинствующая патриотка. Я полагаю, вы могли бы вонзить кинжал в Гусмана Бенто?
— Вы мне оказываете слишком много чести, — прервала она.
— Во всяком случае, — ответил он с горькой иронией и напускной беспечностью, — вы послали бы меня с кинжалом без малейших угрызений совести.
— О, par exemple![86]— произнесла она негромко, уязвленная его словами.
— Разумеется, — подтвердил он. — По чьей воле, как не по вашей, я пишу в местной газете совершенно убийственный вздор? Убийственный для меня! Мое уважение к себе уже убито. К тому же вы понимаете, — продолжал он совсем уже легкомысленным тоном, — что Монтеро, если одержит победу, разделается со мной тем единственным способом, каким такой зверь может разделаться с образованным человеком, павшим столь низко, что трижды в неделю именует его превосходительство скотиной. Интеллектуальная экзекуция над моим интеллектом уже произведена; а в перспективе маячит еще одна, причитающаяся журналисту моего ранга.
— Если он одержит победу… — задумчиво проговорила Антония.
— Вам, кажется, приятно наблюдать, как моя жизнь висит на ниточке, — ослепительно улыбаясь, продолжал Декуд. — А второй Монтеро, партизан, нареченный в воззваниях «верный и преданный брат мой»… я и о нем писал, что при Рохасе он помогал гостям снимать пальто и прислуживал за столом в нашей миссии в Париже, а в промежутках шпионил за политическими иммигрантами. Эту святую истину он смоет кровью. Моей кровью! Что это у вас такой сердитый вид? Это просто эпизод в биографии одного из наших великих людей. Как вы думаете, что он со мной сделает? В переулке, выходящем на площадь, есть монастырская стена, прямо напротив дверей «Корриды». Вы ее знаете? Там, где написано «Entrada de la Sombra»[87]. Надпись, пожалуй, подходящая. Так вот именно возле этой стены дядюшка нашего хозяина отдал богу свою англо-южноамериканскую душу. А мог спастись бегством, имейте в виду. Тот, кто сражается с оружием в руках, имеет возможность спастись бегством. Если бы вас тревожила моя судьба, вы бы отправили меня вместе с Барриосом. На плече у меня висела бы одна из тех винтовок, на которые так уповает дон Хосе, и, вооруженный таким образом, я с гордостью шагал бы в одном строю с нищими пеонами и индейцами, не знающими ничего ни о нашей политике, ни о наших резонах. Самая слабая надежда для солдата самой слабой армии в мире более основательна, чем упования, которыми я по вашей милости довольствуюсь в Сулако. Участвуя в войне, можно отступить, а что остается тому, кто подстрекает жалких невежественных дурней убивать и умирать?
Он говорил все тем же легкомысленным тоном, а она стояла неподвижно, словно не замечая его присутствия, сложив руки и придерживая пальцами веер. Он помолчал немного, подождал.
— Придется становиться к стенке, — произнес он с шутливой безнадежностью.
Но и эти его слова не заставили ее взглянуть на него. Она не повернула головы, и ее глаза все так же пристально разглядывали дом Авельяносов, теряющий достоинство дом, признаки обветшания которого — начавшие крошиться пилястры, сломанные карнизы — постепенно исчезали в сумерках. Она стояла совершенно неподвижно, и шевелились только ее губы:
— Мартин, я сейчас запла́чу.
Он молчал, ошеломленный, холодея от счастья, и глаза его выражали изумление, недоверчивость, а на губах застыла ироническая улыбка. Не важно, что вам говорят, а важно, кто это сказал, ибо нет уже ничего нового, что могли бы сказать друг другу мужчина и женщина; а он не ждал подобных слов от Антонии, чего-чего, но такого не ждал. Они пикировались неоднократно, но впервые она была с ним столь откровенна. Не успела она повернуться к нему, неторопливо, с величавой, строгой грацией, как он умоляюще заговорил:
— Моя сестра ждет не дождется, когда она наконец сможет обнять вас. Отец будет счастлив. О матери я просто не говорю. Наши матери были как родные сестры. Мы можем немедленно уехать — на той неделе на юг отходит почтовый пароход. Уедем сразу же! Ваш Морага болван. Монтеро нужно было подкупить. В этой стране только так и делают. Такова традиция… такова политика. Почитайте «Пятьдесят лет бесправия».
— Оставьте бедного папу в покое, дон Мартин. Он искренне верит…
— Я с величайшей нежностью отношусь к вашему отцу, — торопливо перебил он. — Но я люблю вас, Антония! А Морага удивительно бездарно вел дела. Да и отец ваш, похоже, плоховато распорядился. Монтеро следовало подкупить. Подозреваю, он всего-навсего хотел урвать свою долю от знаменитого займа для развития нации. Почему эти олухи из Санта Марты не сделали его послом где-нибудь в Европе или не отдали ему что-нибудь на откуп? Он взял бы жалованье на пять лет вперед и прожигал бы жизнь в Париже, тупой и свирепый индеец!
— Этот человек, — рассудительно и спокойно отозвалась она на яростную вспышку собеседника, — буквально отравлен тщеславием. Мы получаем сведения не только от Мораги, у нас есть и другие осведомители. А его брат тоже плетет интриги.
— Да, конечно! — воскликнул он. — Ну, разумеется, вам все известно. Вы же читаете всю корреспонденцию, вашей рукой написаны все документы… все государственные документы, идея которых возникла тут, в этой гостиной, вдохновленная слепым почтением к теории политической непорочности. Ведь у вас всегда перед глазами Чарлз Гулд. Король Сулако! И он, и его шахта свидетельствуют, чего можно достичь. Вы полагаете, он преуспел потому, что всегда неуклонно следовал по стезе добродетели? А все эти строители… как честно они трудятся! Ну, разумеется, они трудятся честно. Но как быть, если нельзя честно трудиться, не удовлетворив все притязания бандитов? Он что, не мог растолковать сэру Джону Как-Там-Его-Кличут, что от Монтеро нужно откупиться, и от Монтеро, и от негров либералов, уцепившихся за его расшитый золотом рукав? Откупиться, дать ему столько золота, сколько этот дурень весит… вот сколько весит, столько золота ему и отвалить, и сапоги его туда же прибавить, и саблю, и шпоры, и шляпу набекрень, словом, все.
Антония покачала головой. «Это было невозможно», — еле слышно прошептала она.
— Он потребовал все? Да?
Теперь она наконец повернулась к нему и стояла в глубокой нише окна, очень близко и все так же неподвижно. Ее губы торопливо шевелились. Декуд, прислонившись к стене, слушал, скрестив на груди руки и опустив глаза. Он впитывал в себя все интонации ее ровного голоса, улавливал волнение в его горловых звуках, ему казалось, что ее полные здравого смысла слова плывут по воздуху, подхваченные волнами рожденного в сердце чувства. И у него были стремления — он стремился вырвать ее из затхлого мира всех этих реформ и воззваний. Их усилия напрасны, напрасны; но она околдовала его, и он слушал, очарованный ею, а иногда неопровержимая убедительность какой-нибудь фразы вдруг рассеивала чары, и он невольно ощущал уже не силу ее обаяния, а острый интерес. Некоторые женщины, размышлял он, подходят к самому преддверию гениальности. Им не нужно ни знать, ни думать, ни понимать. Страсть заменяет им все это, и он готов был поверить, что сделанное ею какое-нибудь глубокое замечание, оценка характера какой-либо личности или суждение о каком-то событии находятся на грани чуда. В Антонии, в повзрослевшей Антонии, проглядывала поразительная пылкость той непримиримой школьницы, которую он знал когда-то. Она полностью овладела его вниманием: порой он неохотно соглашался с нею; по временам вполне серьезно ей возражал. Мало-помалу они начали спорить; занавесь почти скрывала их от сидевших в зале.
За окном темнело. Из глубокого провала между домами, тускло освещенного слабым светом фонарей, веяло тишиной, вечерней тишиной Сулако, города, где очень мало карет, где не подковывают лошадей, а жители носят мягкие сандалии. Из окон Каса Гулд на дом Авельяносов падали яркие прямоугольники света. Временами снизу доносилось шарканье подошв; по стене, то вспыхивая, то исчезая, пробегал отсвет сигареты; и ночной воздух, словно охлажденный снегами Игуэроты, освежал их лица.
— Мы, западный люд, — сказал он, употребляя выражение, которым именовали себя исконные жители этой провинции, — мы привыкли жить отдельно, сами по себе. Пока мы сможем удерживать в своих руках Каиту, до нас никто не доберется. Какие бы волнения не сотрясали страну, ничьим войскам еще ни разу не удалось пробраться к нам через горы. Мятеж в центральных провинциях сразу же отрезал нас от мира. И до чего же все стало сложно! Сообщение о том, как продвигаются войска Барриоса, будет передано по телеграфу в Соединенные Штаты и только после этого оно достигнет Санта Марты, переданное телеграфом же, с другого побережья. Земля наша плодородна, ее недра богаты, в жилах нашей знати течет древняя, благородная кровь, а народ наш на редкость трудолюбив. Нам следовало бы образовать самостоятельное государство. Федерализм на ранней стадии был приемлем для нас. Затем произошло слияние, которому так противился дон Энрике Гулд. Слияние, а следом за ним тирания, и после этого вся остальная Костагуана повисла у нас на шее, как ярмо. А ведь у нас достаточно земли для того, чтобы мы жили независимо. Взгляните на эти горы! Сама природа нам кричит: «Отделяйтесь!»
Она взглянула на него возмущенно. Наступило молчание.
— Да, да, знаю, это противоречит теории, изложенной в «Истории пятидесяти лет бесправия». Я просто-напросто пытаюсь логично рассуждать. Но почему-то все мои попытки вы встречаете враждебно. Вас так сильно напугали мои вполне резонные доводы?
Антония покачала головой. Нет, они ее не напугали, но предложенная им идея подрывала самые основы ее убеждений. Ее патриотизм был шире. Мысль о вероятности отделения никогда не возникала у нее.
— А возможно, именно благодаря разъединению вам удастся сохранить хотя бы некоторые из ваших же убеждений, — пророчески сказал Декуд.
Она молчала. Она казалась утомленной. Они стояли рядом, облокотившись о подоконник, мирно, дружелюбно, ибо устали толковать о политике и им просто хотелось молча ощущать близость друг друга, глубокую тишину, подобную паузе в симфонии страсти. В дальнем конце улицы, у самой площади, на мостовой красными пятнышками мерцали угли в жаровнях, на которых рыночные торговки стряпали себе ужин. Свет фонаря внезапно осветил безмолвную фигуру человека, яркое пончо, обшитое каймой, широкое, прямое на плечах и сужающееся ниже колен. Со стороны гавани ехал всадник, его лошадь шла неторопливо, и подле каждого фонарного столба мерцала серебристо-серым сиянием ее шкура, а над светлым корпусом животного маячил темный силуэт всадника.
— Вот он едет, знаменитый капатас каргадоров, — негромко сказал Декуд, — во всем своем величии и с сознанием честно выполненного долга. Он великий человек у нас в Сулако, второй после дона Карлоса Гулда. Но он славный малый, мы с ним подружились, и, надеюсь, вы ничего не имеете против.
— В самом деле! — сказала Антония. — Каким это образом вы с ним подружились?
— Журналисту положено прощупывать пульс жизни простого народа, а этот человек — один из вождей нашего народа. Журналисту положено знать знаменитостей, а этот человек знаменит на свой лад.
— Да, в самом деле, — задумчиво произнесла Антония. — Всем известно, этот итальянец очень влиятелен.
Всадник проехал под балконом, и в слабом свете фонаря блеснули на мгновенье подковы, сверкнуло массивное стремя, длинные серебряные шпоры; но зато уж совершенно невозможно было разглядеть мелькнувшую в желтоватом отблеске света темную закутанную фигуру с прикрытым полями сомбреро лицом.
Декуд и Антония по-прежнему стояли рядом, опершись о подоконник, касаясь друг друга локтями, опустив головы и вглядываясь в темноту. А за спиной у них сверкала ярко освещенная гостиная. На редкость неприличный tête-à-tête; во всей республике от границы до границы такое могла позволить себе только Антония — поразительное создание, несчастная девушка, у которой не было матери и даже компаньонки, а лишь беспечный отец, чьи заботы свелись к тому, что он дал ей образование.
Даже сам Декуд, казалось, понимал, что большего он желать уже не может до тех пор, пока… пока революция эта не придет к концу, и он сможет увезти Антонию в Европу, где нет нескончаемой гражданской войны, удивительную бессмысленность которой, пожалуй, еще трудней переносить, чем ее мерзостность. Вслед за первым Монтеро, конечно, найдется второй, население страны всех рас и оттенков кожи не имеет представления о законности, повсюду дикость и неистребимый деспотизм. Как сказал в порыве горечи великий Боливар: «Америка неуправляема. Тот, кто борется за ее независимость, подобен человеку, пытающемуся вспахать море». Ему все это безразлично, смело заявил Декуд; он не раз говорил Антонии, что, хотя ей удалось превратить его в журналиста партии «бланко», патриотом он не стал. Прежде всего это слово лишено смысла для цивилизованного человека, которому претит узость идейных убеждений; а во-вторых, оно безнадежно опорочено в этой несчастной стране, где никогда не утихают мятежи; здесь оно превратилось в девиз дикости и темноты, стало личиной, прикрывающей беззакония, алчность, преступления и просто разбой.
Он сам удивлялся, что говорит с таким жаром. Ему не нужно было понижать голос, голос его и так звучал негромко — еле слышный шепот в безмолвии темных домов, в которых окна, как и положено в Сулако, давно закрыты ставнями. Только окна в большой гостиной Каса Гулд вызывающе излучали ослепительный свет — четыре яркие полосы, словно некий призыв, врывались в безмолвный мрак улицы. После короткой паузы в нише окна снова зазвучали негромкие голоса.
— Но мы ведь стараемся все изменить, — возражала Антония. — Именно этого мы и хотим. Это наша заветная цель. Наше великое дело. А слово, к которому вы с таким презрением относитесь, обозначает также жертвенность, мужество, постоянство, страдания. Мой отец, который…
— Пытается вспахать море, — перебил, опустив взгляд, Декуд.
Внизу послышались торопливые тяжелые шаги.
— Ваш дядюшка входит в дом, — сказал Декуд. — Он отслужил сегодня утром на площади мессу для отбывающих в Каиту войск. Для него соорудили нечто вроде алтаря из барабанов. Вынесли из храма все иконы. На лестнице, на самой верхней ступеньке, построили в шеренгу всех деревянных святых. Этакий блистательный эскорт, сопровождающий генерал-епископа. Я наблюдал за этим торжеством из окон «Нашего будущего». Он изумителен, ваш дядюшка, последний из Корбеланов. Как ослепительно было его одеяние с большим крестом из темно-красного бархата на спине. И все время, пока продолжалась месса, наш спаситель и надежда наша Барриос пил пунш, сидя у открытого окна в клубе «Амарилья». Esprit fort[88]— милейший наш Барриос. Я все время ждал, что отец Корбелан тут же, на месте, обрушит анафему на голову с черной повязкой на глазу, видневшуюся в окне по ту сторону площади. Ничего подобного. Наконец войска отправились на пристань. Немного погодя появился окруженный офицерами Барриос в мундире, на котором были расстегнуты все пуговицы, и, остановившись у обочины тротуара, принялся разглагольствовать. Внезапно в дверях собора возник ваш дядюшка, уже не в ослепительном облачении, а в черной рясе, и выглядел он устрашающе, словно дух мщения. Он бросил взгляд на офицеров, тут же грозно направился к ним, взял генерала под руку и отвел его в сторону. Крепко держа его за локоть, он прогуливался с ним в тени в течение четверти часа. Все это время он возбужденно что-то говорил, размахивая длинной черной рукой. Забавная получилась сцена. Офицеры окаменели. Поразительный человек ваш дядюшка, прославленный миссионер. К неверующим он относится гораздо лучше, чем к еретикам, а к язычникам гораздо лучше, чем к неверующим. Ко мне он так милостив, что иногда именует меня язычником.
Антония слушала, опершись на перила, потихоньку открывая и закрывая веер; а Декуд говорил взволнованно и нервно, словно боялся, что она уйдет при первой же паузе. Оттого что они стояли, уединившись, и между ними возникла какая-то близость, и руки их слегка соприкасались, у него сладко замирало сердце, и в ироническом течении его речи временами сквозила нежность.
— Меня радует всякий признак расположения любого из ваших родственников, Антония. К тому же, возможно, он меня понимает. Но и он для меня не загадка, наш падре Корбелан. Все представления о политической чести, справедливости и порядочности для него сосредоточены в одном — возврате конфискованного церковного имущества. Ничто иное не смогло бы извлечь из джунглей Костагуаны этого усердного сеятеля на ниве обращения диких индейцев в христианство и сделать его рибьеристом! Ничто, кроме этой безумной надежды. Он и сам станет писать воззвания против любого правительства, если найдет сторонников. Что думает по этому поводу дон Карлос Гулд? Впрочем, пожалуй, никто не знает, что он думает, ибо он непроницаем, как все англичане. Может быть, он думает только о рудниках; о своей «Imperium in Imperio». Что до миссис Гулд, то она думает о школах, о больницах, о матерях с младенцами, о больных стариках и старухах в трех рудничных поселках. Если вы обернетесь, то увидите, как она с пристрастием расспрашивает этого хмурого лекаря в клетчатой рубашке — как бишь его? Монигэма — или выпытывает что-то у дона Пепе, или слушает отца Романа. Они все сегодня здесь — министры ее правительства. Ну что же, она женщина здравомыслящая, а дон Карлос, я полагаю, здравомыслящий человек. Несокрушимое английское здравомыслие основано отчасти на том, что не нужно слишком много думать; достаточно сосредоточиться на предметах, которые могут немедленно принести практическую пользу. Эти люди не похожи на нас. У нас нет политических мотивов; только политические страсти… иногда. Что такое убеждения? Замыслы, направленные на достижение наших личных целей, практических или эмоциональных. Зря никто не станет патриотом. Это слово отлично нам служит. Но я человек трезвого ума, а потому не должен был употреблять его при вас, Антония! У меня нет патриотических иллюзий. Одни лишь иллюзии влюбленного.
Он помолчал и произнес еле слышно: «Впрочем, они могут очень далеко завести».
Сзади, за их спинами, нарастал гул голосов, это вздымался прилив политических страстей, который каждые двадцать четыре часа заполнял гостиную Гулдов. Гости приходили по одному, по двое, по трое: высшие чиновники провинции, железнодорожные инженеры, загорелые, в твидовых костюмах, и их шеф, с седеющей головой, улыбался снисходительно и добродушно, глядя на оживленные молодые лица. Скарф, большой любитель фанданго, уже улизнул выяснить, не устроили ли где-нибудь на окраине танцевальный вечер. Дон Хусте Лопес отвез домой дочек и сейчас торжественно входил в гостиную в черном отутюженном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, причем они были закрыты его окладистой каштановой бородой. Несколько членов Законодательной Ассамблеи тотчас сгрудились вокруг президента, дабы обсудить военные известия и последнее воззвание бунтовщика Монтеро, призывающего во имя «справедливо возмущенной демократии» Законодательные Ассамблеи всех провинций отложить на время заседания, покуда меч его не установит в стране мир, и народ сможет изъявлять свою волю. Практически это призыв к гражданской войне: он неслыханно обнаглел, злодей, безумец.
Особенно негодовали депутаты Ассамблеи, столпившиеся за спиною Хосе Авельяноса. Дон Хосе, возвысив голос, кричал им из-за спинки кресла: «Сулако уже ответил им сегодня армией, которая ударит с фланга. Если все остальные провинции проявят хотя бы половину патриотизма, который мы, западный люд…»
Крики одобрения заглушили дребезжащий дискант человека, олицетворяющего жизнь и душу партии. Да, да! Верно! Удивительно верно! Сулако, как всегда, впереди! Громкоголосая кичливость, порожденная надеждой, которую события дня заронили в сердца этих кабальеро, полных тревоги за свои стада, свои земли, безопасность своих семей. Все поставлено на карту… Нет! Монтеро не победит ни в коем случае. Этот злодей, этот бессовестный индеец! Пошумели, покричали, причем каждый посматривал в ту сторону, где стоял дон Хусте, с видом беспристрастным и торжественным, словно председательствовал на заседании Ассамблеи. Декуд обернулся на шум и, прислонившись к подоконнику, гаркнул во всю силу своих легких: «Gran bestia!»
Шум в гостиной сразу утих. Все взгляды обратились в сторону оконной ниши, благожелательно и выжидающе, но Декуд уже вновь повернулся к гостиной спиной и, опершись на подоконник, смотрел на безмолвную улицу.
— Кульминация моей редакторской деятельности; неопровержимый аргумент, — сказал он Антонии. — Я изобрел этот термин, последнее слово в великом споре. И все же я не патриот. Я не в большей степени патриот, чем капатас наших каргадоров, этот генуэзец, так искусно заправляющий делами в порту, — провозвестник материальных атрибутов нашего прогресса. Капитан Митчелл ведь неоднократно сознавался, что до того, как появился этот человек, он никогда не мог сказать, сколько времени потребуется для разгрузки судна. Бедный прогресс! Вы видели сейчас, как после праведных трудов этот человек проехал на своей знаменитой серой кобыле, направляясь в какую-нибудь бальную залу с земляным полом, где он будет кружить головы девицам. Счастливец! Работая, он использует свои способности; досуг состоит в том, что он выслушивает похвалы, в которых его превозносят до небес. И ему все это нравится. Ну, можно ли быть более счастливым? Тебя боятся и тобой восхищаются…
— Это предел ваших мечтаний, дон Мартин? — перебила Антония.
— Я говорил о людях такого рода, — сухо ответил Декуд. — Герои всегда и везде внушали страх и восхищение. Чего еще можно желать?
Декуд уже не раз замечал, как его саркастические суждения разлетались в прах, наткнувшись на серьезность Антонии. В нем шевельнулось раздражение, ему почудилось, что и она подвержена той ничем необъяснимой женской бестолковости, которая у заурядных людей так часто мешает ясности отношений. Но он тут же подавил досаду. Он никак не мог считать Антонию заурядной, хотя достаточно скептически относился к себе, чтобы вынести своей особе любой приговор. В его голосе прозвучала глубокая нежность, когда он возразил ей, что мечтает лишь о блаженстве столь возвышенного свойства, что оно едва ли достижимо на земле.
Она вспыхнула невидимым в темноте румянцем, таким жарким, что его не мог охладить долетавший с гор ветер, — возможно, там внезапно растаял снег. Жаркий шепот Декуда вряд ли был причиной таяния снегов в горах, но, уж конечно, растопил лед ее сердца. Она быстро повернулась, словно ей захотелось немедленно унести произнесенное шепотом признание в ярко освещенную гостиную.
А в гостиной бушевали политические страсти, шквал надежды поднял там целую бурю, и волны бились о четыре стены, поднимаясь выше уровня прилива. В центре оживленной дискуссии по-прежнему находилась окладистая борода дона Хусте. Все говорили в полном упоении. Даже в модуляции голосов окружавших Чарлза европейцев, — датчанин, два француза, очень сдержанный толстый немец с опущенными глазами, представители тех самых материальных интересов, которые обрели в Сулако точку опоры под благодетельной защитой рудников Сан Томе, — кроме привычной учтивости, проникала нотка радостного возбуждения и благодушия. Чарлз Гулд, вокруг которого они толпились, являл собой несомненный символ той предельной устойчивости, какую возможно достичь на зыбкой почве, сотрясаемой революциями. Один из двух французов, черноволосый, маленький, волосатый, со сверкающими живыми глазками, размахивал крохотными загорелыми ручками с тонкими запястьями. По поручению синдиката европейских предпринимателей он побывал в удаленной от моря части провинции. Его проникновенное «Monsieur l’Administrateur», повторяемое каждую минуту, пронзало глухой рокот других голосов. Он рассказывал о том, что обнаружил во время поездки. Он был в экстазе. Чарлз Гулд вежливо смотрел на него сверху вниз.
Наступил момент, когда миссис Гулд обычно незаметно удалялась в собственную маленькую гостиную, смежную с «большой». Ожидая Антонию, она встала и, грациозная, слегка усталая, внимательно слушала главного инженера железной дороги, который медленно и без единого жеста рассказывал ей что-то по всей видимости смешное, поскольку глаза у нее весело блестели. Антония, прежде чем отойти от окна, чтобы присоединиться к миссис Гулд, на мгновенье повернула голову к Декуду.
— Почему вы допускаете, что человек может считать свою мечту недостижимой? — быстро проговорила она.
— Осуществления своей мечты я буду добиваться до конца, Антония, — ответил он сквозь зубы, поклонившись очень низко и несколько отчужденно.
Главный инженер все еще продолжал свою забавную историю. Железнодорожное строительство в Южной Америке отличалось специфическими особенностями, которые представлялись ему невероятно комичными, и он отлично рассказывал о дикарских предрассудках и дикарской хитрости, с которыми ему приходилось здесь сталкиваться. Он последовал за дамами, выходившими из гостиной, и миссис Гулд очень внимательно его слушала. Никто не обратил внимания, как все они вышли сквозь стеклянную дверь на галерею. Лишь высокий священник, который молча и торжественно, сцепив за спиной руки, разгуливал по гостиной, на мгновенье приостановился и посмотрел им вслед. Отец Корбелан, которого Декуд увидел из окна, когда тот входил в Каса Гулд, за все время пребывания в гостиной не обратился ни к кому ни с единым словом. Длинная узкая сутана подчеркивала его высокий рост; могучий торс при ходьбе наклонялся вперед; а прямая черная полоска сросшихся бровей, резкие очертания костлявого лица, белая отметина шрама на выбритой до синевы щеке (память, оставленная упорствующими в языческих заблуждениях индейцами, на которых его преподобие обрушил свой проповеднический пыл) придавали облику служителя божьего не респектабельный вид — он смахивал на капеллана разбойничьей шайки.
Отец Корбелан разжал руки и погрозил Мартину узловатым пальцем.
В гостиную вошла Антония. Декуд сделал шаг в ее сторону. Но остался у самого окна. Он стоял, касаясь занавеси спиной, и лицо его выражало притворную серьезность, как у взрослых, участвующих в детской игре. Он невозмутимо поглядел на грозящий ему перст священника.
— Сегодня на площади я наблюдал, как ваше преподобие произнесли специальную проповедь с целью обратить генерала Барриоса в христианскую веру, — сказал он, стоя совершенно неподвижно.
— Несусветная чушь! — прогремел низкий голос отца Корбелана, и все головы повернулись к нему. — Он пьяница. Сеньоры, бог вашего генерала — бутылка!
При первых же звуках этого властного презрительного голоса наступило неловкое молчание, словно все собравшиеся внезапно утратили уверенность в себе. Впрочем, никто не стал оспаривать мнение отца Корбелана.
Было известно, что отец Корбелан прибыл в Сулако из мест глухих и диких, дабы отстаивать священные права церкви с тем же фанатическим бесстрашием, с которым он нес слово божие кровожадным язычникам, лишенным чувства сострадания и не имеющим ничего святого, ровным счетом ничего. О его подвигах миссионера в дебрях, где не ступала нога христианина, рассказывали легенды. Он обращал в истинную веру целые племена и, находясь среди индейцев, сам жил, как дикарь. Говорили, что падре по целым дням разъезжал верхом с индейцами, полуголый, со щитом, обтянутым воловьей кожей и, — как знать, — весьма вероятно, с копьем в руке. Что он странствовал, облаченный в звериные шкуры, в поисках прозелитов где-то у самой кромки горных снегов. Было известно также, что сам падре Корбелан никогда не рассказывал о своих подвигах. Зато он ни от кого не скрывал, что считает политических деятелей из Санта Марты более жестокосердными и погрязшими в скверне, чем те язычники, которых он обращал в христианство. Неуемное рвение, с которым он добивался мирских благ для церкви, наносило ущерб делу рибьеристов. Все знали, что он отказался стать епископом ликвидированной епархии Западной провинции, покуда церкви не возвратят отобранное у нее. Политический лидер Сулако (тот самый сановник, которого капитан Митчелл спас впоследствии от разъяренной толпы) с циничным простодушием намекал, что их превосходительства министры послали падре через горы в Сулако, выбрав самое скверное время года в надежде, что его до смерти заморозят ледяные порывы высокогорных вихрей. Ежегодно таким образом погибало несколько погонщиков мулов, людей выносливых и закаленных. Но не тут-то было. Их превосходительства, возможно, не представляли себе, каким твердым орешком окажется падре Корбелан. Тем временем среди простонародья прошел слух, что все рибьеристские реформы имеют одну только цель — отобрать у людей всю землю. Часть этой земли отдадут иностранцам, строящим железную дорогу; а львиную долю захватят попы.
Вот к чему привело чрезмерное рвение викария. Даже в краткое напутствие (услышанное только первыми рядами), с которым он обратился к войскам на площади, он ухитрился вставить свою идею фикс о поруганной церкви, ожидающей, когда раскаявшееся государство возместит нанесенный ей ущерб. Политический лидер был вне себя. Но не такое простое дело засадить зятя дона Хосе в тюрьму.
Политический лидер, человек добродушный и любимый народом, вышел к вечеру из ратуши и направился в Каса Гулд без сопровождающих лиц, учтиво и с достоинством отвечая на приветствия и знатных, и незнатных, без различья. Он подошел прямо к Чарлзу и придушенным свистящим шепотом сообщил, что с удовольствием выслал бы викария из Сулако на какой-нибудь безлюдный остров, ту или иную Изабеллу, например. «Предпочтительно на ту, где нет воды, а, дон Карлос?» — добавил он, полушутя-полусерьезно.
Неуемный священник, который строптиво отверг предложенный ему в качестве резиденции дворец епископа и предпочел подвесить свой видавший виды походный гамак в ограбленном до нитки доминиканском монастыре, где оставались лишь голые стены да пауки, внезапно вздумал добиваться полного прощения для разбойника Эрнандеса! Мало того, он, кажется, вступил в переговоры с ним, самым отпетым преступником в стране. Полиции, разумеется, известно, каким образом он осуществляет свой план. Падре связался с этим отчаянным итальянцем, капатасом каргадоров, единственным человеком, способным выполнить такое поручение, и отправил с ним письмо. Отец Корбелан обучался в Риме и говорил по-итальянски. Известно, что ночью капатас побывал в старом доминиканском монастыре. Старуха, которая прислуживала викарию, слышала, как эти двое, разговаривая по-итальянски, произносили имя Эрнандеса; и не далее как в прошлую субботу днем капатас выехал из городских ворот верхом и ускакал из города. Его не видели два дня. Полицейские могли бы, конечно, погнаться за итальянцем, если бы им не внушали страх каргадоры, люди буйные, с которыми лучше не связываться. Не так-то просто сейчас поддерживать порядок в Сулако. В город стекаются всякого рода подозрительные личности, которых влекут деньги в карманах рабочих, строящих железную дорогу. Речи отца Корбелана посеяли смуту в народе. И политический лидер Сулако пояснил Чарлзу, что, если сейчас, когда из провинции выведены все войска, в городе начнется мятеж, власти будут бессильны.
Высказав все это, он угрюмо отошел и, закурив длинную тонкую сигару, сел в кресло неподалеку от дона Хосе, с которым, наклонившись в его сторону, время от времени обменивался несколькими фразами. Он сделал вид, что не заметил появления священника, и каждый раз, когда у него за спиной раздавались раскаты голоса отца Корбелана, лишь досадливо пожимал плечами.
Некоторое время отец Корбелан оставался неподвижным, стоя в позе, очень характерной для него, и выглядел зловещим мстителем. Огромное впечатление производила эта черная фигура человека, казалось, сжигаемого фанатизмом. Но вот падре посмотрел на Декуда, его взгляд сразу стал мягче, и, медленно вытянув вперед длинную черную руку, он сказал негромким низким голосом:
— Ну а уж ты… ты настоящий язычник.
Он приблизился к нему на шаг, указывая пальцем в грудь Декуду. Тот стоял очень спокойно, почти касаясь стены затылком. Затем, упрямо вздернув подбородок, улыбнулся.
— Отлично, — согласился он с несколько утомленной небрежностью человека, привыкшего к такого рода пикировке. — А может быть, вы пока еще не обнаружили, какому божеству я поклоняюсь? С Барриосом было проще, со мной — сложней.
Выслушав эти слова, священник хотел безнадежно махнуть рукой, но воздержался.
— Ты ни в бога, ни в черта не веришь, — ответил он.
Декуд и бровью не повел.
— Но я не поклоняюсь и бутылке, — добавил он. — Точно так же не поклоняются ей и другие доверенные лица вашего преподобия. Я имею в виду капатаса наших каргадоров. Он тоже не пьет. Вы очень точно определили мою натуру, и это делает честь вашей проницательности. Но почему вы назвали меня язычником?
— И в самом деле, — отрезал священник. — Ты в десять раз хуже. Даже чудо не сможет тебя обратить.
— Я не верю в чудеса, — негромко произнес Декуд. Отец Корбелан недоуменно пожал широкими плечами.
— Нечто вроде француза… безбожник… материалист… — Он медленно ронял каждое слово, будто взвешивая результаты тщательного анализа. — Перестал быть сыном своей страны и не сделался сыном какой-то другой, — задумчиво продолжал он.
— Иными словами, ничего человеческого, — шепотом заметил Декуд, по-прежнему упираясь в стену затылком и устремив взгляд в потолок.
— Жертва нашего вероломного века, — заключил отец Корбелан низким, приглушенным голосом.
— Тем не менее приносит некоторую пользу как журналист. — Декуд переменил наконец позу и заговорил более оживленно. — Изволили ваше преподобие прочесть первый номер «Нашего будущего»? Он, право же, ничем не отличается от остальных. В статьях на политические темы Монтеро по-прежнему именуется gran bestia, а его братец партизан назван помесью лакея со шпионом. Впечатление огромное. В заметках о местных делах газета призывает правительство провинции включить в состав национальных войск шайку разбойника Эрнандеса, вне всякого сомнения находящегося под покровительством католической церкви или во всяком случае викария. Весьма здравая мысль.
Священник кивнул и круто повернулся, скрипнув каблуками тупоносых башмаков со стальными пряжками. Он снова сцепил за спиной руки и принялся тяжелыми шагами расхаживать по комнате. Поворачивался он каждый раз так порывисто, что полы его сутаны слегка разлетались, словно от ветра.
Гостиная мало-помалу пустела. Когда политический лидер встал, собираясь уйти, большая часть тех, кто еще оставался в комнате, в знак уважения внезапно поднялась с мест, а дон Хосе Авельянос перестал раскачиваться в своем кресле. Но политический лидер провинции, милейший человек, сделал умоляющий жест, помахал рукой Чарлзу Гулду и скромно удалился.
В комнате стало гораздо тише, и в негромком жужжанье голосов повторяющееся визгливое восклицанье «Monsieur l’Administrateur», издаваемое субтильным волосатым французом, казалось, приобрело чуть ли не сверхъестественную пронзительность. Лазутчик синдиката капиталистов по-прежнему пребывал в восторженном состоянии.
— Запасы меди стоимостью в десять миллионов долларов, вы представляете себе, monsieur l’Administrateur, и к ним буквально нужно только руку протянуть. Протянешь руку, десять миллионов — твои! К тому же строится железная дорога, да, да, железная дорога! У нас в синдикате прочтут мой отчет и просто глазам не поверят. Все это слишком хорошо.
Он впал в экстаз, он визжал от восторга, а все стоявшие и сидевшие вокруг глубокомысленно кивали головами, и Чарлз Гулд с непроницаемым спокойствием взирал на него.
Только священник продолжал шагать по комнате, и полы его сутаны развевались каждый раз, когда он поворачивался. Декуд насмешливо бросил ему: «Эти господа толкуют о своих богах».
Тот внезапно остановился, пристально взглянул на редактора местной газеты, слегка пожал плечами и опять, словно неутомимый пилигрим, возобновил свой путь.
Европейцы один за другим покидали гостиную, распадалось кольцо людей, толпившихся вокруг Чарлза Гулда, и вот наконец управляющий Великими Серебряными Рудниками стал виден с головы до ног, высокий и худой, оставленный отливом шумной толпы убывавших гостей, а еще немного погодя на квадратной отмели ковра, где пестрели яркие цветы и узоры, стали отчетливо видны его коричневые ботинки. Отец Корбелан приблизился к качалке дона Хосе Авельяноса.
— Пойдем, братец, — проговорил он с грубоватым добродушием и невольной нетерпеливостью человека, дождавшегося окончания утомительной и бесполезной церемонии. — Домой! Домой! Здесь только болтовней занимались. А мы сейчас поразмышляем и помолимся богу, дабы он направил нас по верному пути.
Он возвел к потолку свои черные глаза. Когда рядом с ним стоял тщедушный дипломат — жизнь и душа партии, — падре казался монументальным, и взор его сверкал жгучим фанатизмом. Однако голос партии, вернее, ее рупор, Декуд-сын, уехавший из Парижа и сделавшийся журналистом ради прекрасных глаз Антонии, отлично знал, что все это не так, что он всего лишь упрямый священник, одержимый одною идеей и нелюбимый народом, ибо мужчинам он внушает ненависть, а женщинам — страх.
Мартин Декуд, дилетант в искусстве жизни, полагал, будто он черпает поистине художественное наслаждение, наблюдая причудливые крайности, к которым может привести искренняя и самоотверженная убежденность. «Это, как сумасшествие. Иначе не может и быть — человек разрушает себя», — часто думал Декуд. Ему казалось, что любое убеждение, стоит ему претвориться в действие, становится формой безумия, которое, как известно, боги насылают на тех, кого хотят погубить. Тем не менее, наблюдая именно эту форму безумия, он испытывал наслаждение знатока, погрузившегося в созерцание шедевра в области особо любимого им вида искусства. Они не плохо ладили между собой, журналист и священник, пожалуй, оба понимали, что доведенная до совершенства убежденность, точно так же, как глубочайший скептицизм, могут очень далеко увести по боковым дорогам политических акций, и эта мысль внушала им почтение.
Большая волосатая рука священника коснулась руки дона Хосе, и тот послушно встал. Декуд вышел вслед за ними. Теперь в огромной пустой комнате, наполненной голубоватым туманом табачного дыма, остался только один гость, толстощекий, с набрякшими веками и свисающими вниз усами торговец кожей из Эсмеральды, который прибыл в Сулако по суше, перебравшись с несколькими пеонами через прибрежный горный хребет. Он был полон впечатлений после только что совершенной поездки, предпринятой главным образом для того, чтобы повидать сеньора администрадо́ра рудников Сан Томе и попросить о помощи, необходимой ему в делах, связанных с экспортом его товара. Торговец надеялся сильно увеличить экспорт кожи сейчас, когда в стране наконец-то устанавливается порядок.
А порядок устанавливается, он повторил это несколько раз, с умоляющей плаксивой интонацией, искажавшей звучность испанского языка, на котором он к тому же тараторил с такой торопливостью, что язык этот звучал, как жалкий нищенский жаргон. Сейчас у них в республике простой человек может вести свое небольшое торговое дело и даже подумывать о его расширении… без опасений. Не так ли? Казалось, он умолял Чарлза Гулда подтвердить его соображения хоть единым словом, просто буркнуть что-нибудь в знак согласия, ну, хотя бы кивнуть головой.
Но не добился ни того, ни другого, ни третьего. Он забеспокоился сильнее и внезапно умолкал, тревожно озираясь, но окончательно замолчать не смог и принялся поэтому рассказывать о своих переживаниях во время опасного путешествия в горах. Дерзкий разбойник Эрнандес покинул дебри, где всегда скрывался, пересек Кампо и, по слухам, прячется теперь в ущельях прибрежного хребта. Вчера, когда до Сулако оставалось всего несколько часов пути, торговец кожей и его слуги заметили на дороге трех подозрительных мужчин, которые переговаривались о чем-то, не слезая с лошадей. Двое сразу умчались и скрылись в неглубокой ложбине слева. «Мы остановились, — продолжал купец из Эсмеральды, — и я попробовал укрыться за низкорослым кустарником. Но ни один из моих слуг не пожелал поехать вперед и выяснить, что все это означает, а третий всадник, казалось, ожидал, когда же мы к нему приблизимся. Я понял, что скрываться бесполезно. Они уже заметили нас. Мы медленно выехали на дорогу. Нас била дрожь. Он не остановил нас — всадник на серой кобыле, в шляпе, надвинутой на самые глаза, — и ни единым словом не приветствовал, когда мы проезжали мимо; но немного погодя мы услышали, что он скачет за нами вдогонку. Мы все разом повернулись, но он не оробел. Он подскакал к нам, тронул носком сапога мою ногу, попросил сигару и засмеялся так, что я похолодел. На первый взгляд он не был вооружен, но когда доставал спички, я увидел у него на поясе огромный револьвер. Я затрепетал. У этого человека, дон Карлос, были черные, устрашающего вида усы, и, поскольку он не предложил продолжить путь, мы не смели тронуться с места. Наконец он выпустил через ноздри дым от моей сигары и сказал: „Сеньор, пожалуй, будет лучше, если я поеду сзади вашего отряда. Вы теперь уже совсем недалеко от Сулако. Езжайте с богом“. Что нам оставалось делать? Мы двинулись в путь. Ведь не спорить же с ним. А вдруг это сам Эрнандес; правда, мой слуга, который неоднократно ездил в Сулако морем, утверждает, что отлично помнит этого человека и что это капатас каргадоров пароходной компании. Позже, вечером того же дня я увидел его на перекрестке возле Пласы; сидя верхом, он разговаривал с какой-то черноволосой смуглянкой, а та держалась рукой за гриву его серой кобылы».
— Уверяю вас, сеньор Гирш, — негромко произнес Чарлз Гулд, — что в данном случае вы не подвергались ни малейшему риску.
— Очень может быть, сеньор, но я до сих пор дрожу. Устрашающий субъект… на вид, по крайней мере. И вообще, что это значит? Служащий пароходной компании разговаривает с бандитами; я не преувеличиваю, сеньор; те, другие всадники, были бандиты… в уединенном месте, да и сам он вел себя, как настоящий разбойник! Сигара пустяки, но что ему мешало потребовать мой кошелек?
— Да нет же, сеньор Гирш, — по-прежнему вполголоса заметил Чарлз, с несколько отсутствующим видом отводя глаза от запрокинутого круглого лица, украшенного крючковатым носом и обращенного к нему с выражением чуть ли не детской мольбы. — Если вам повстречался капатас каргадоров — а это несомненно он, ведь так? — вы находились в полной безопасности.
— Благодарю вас. Вы очень добры. Крайне устрашающего вида человек, дон Карлос, уверяю вас. Он с такой фамильярностью попросил у меня сигару. А если б у меня не оказалось сигары, что тогда? Я до сих пор содрогаюсь. И о каких это делах мог он разговаривать с разбойниками в таком пустынном месте?
Но Чарлз Гулд теперь, не скрывая, думал о чем-то другом и ни жестом, ни единым звуком ему не ответил. Символическое воплощение концессии Гулда при всей своей непроницаемости обладало множеством расположенных на поверхности оттенков. Немота тяжелый недуг; но у короля Сулако имелось в запасе достаточно слов, и это его наделяло загадочной весомостью безмолвной силы. Его молчание, подкрепленное неиспользованным даром речи, так же отчетливо, как произнесенные вслух слова, выражало согласие, сомнение, возражение… Иногда даже просто ответ. Некоторые разновидности его молчания, говорившие: «подумаем»; другие, ясно означавшие: «добро»; лаконичное «понятно», сопровождавшееся кивком головы, после того, как он в течение получаса терпеливо выслушивал собеседника, были равносильны словесному контракту, и им слепо верили, ибо за всеми этими разновидностями стояли великие рудники Сан Томе, авангард и передний край материальных интересов, являвшие собой такую силу, что во всей Западной провинции от края и до края не было человека, чьи стремления могли бы ей противостоять, а вернее, чьи стремления она не смогла бы купить, уплатив в десять раз больше, чем запрошено.
Однако горбоносому человечку из Эсмеральды, обуянному мечтой вывезти за границу кожи, молчание Чарлза Гулда не сулило ничего хорошего. Как видно, время для того, чтобы расширить дело скромного торговца, было выбрано неудачно. И он мысленно тут же на месте проклял всю эту страну и ее обитателей, как рибьеристов, так и монтеристов; и едва не разрыдался в приступе слепого гнева при мысли о том, какое множество воловьих шкур пропадет понапрасну на дремотных просторах Кампо, где одинокие пальмы вздымаются, как корабли на море, и горизонт неизменно представляет собой четко очерченный замкнутый круг, а небольшие рощицы украшенных пышной листвою деревьев неподвижны, будто острова, и о них разбиваются волны травы. Там валяются и гниют шкуры, которые можно было бы небезвыгодно продать… гниют потому, что их бросили люди, призванные выполнять более срочные дела, ибо в стране бушуют политические страсти. И нелепость всего этого глубоко возмутила практическую меркантильную душу сеньора Гирша в то время, как сам он почтительно и в то же время обескураженно прощался с мощью и величием рудников Сан Томе, представленных в лице Чарлза Гулда. Бедняга не удержался и пробормотал несколько горестных фраз, которые вырвались из самых глубин его изболевшегося сердца:
— Все это, дон Карлос, ужасная, ужасная нелепость. В Гамбурге цены на кожу непрестанно растут… растут. Разумеется, правительство Рибьеры покончит со всем этим… когда твердо станет на ноги. А пока…
Он вздохнул.
— Да, пока… — отозвался Чарлз Гулд с непроницаемым видом.
Гость пожал плечами. Однако сеньору Гиршу еще не время было уходить. Оставалось одно небольшое дельце, о котором ему очень хотелось бы упомянуть, если дозволено. Суть в том, что в Гамбурге у него есть добрые друзья (он невнятно пробормотал название фирмы), которым было бы весьма желательно заключить контракт на поставку динамита, сообщил он. Им желательно заключить сделку с рудниками Сан Томе, а затем, спустя немного времени, возможно, и с другими рудниками, которые без сомнения… Человечек из Эсмеральды уже собирался пуститься в подробности, но Чарлз перебил его. Похоже было, что и терпение сеньора администрадо́ра наконец исчерпалось.
— Сеньор Гирш, — сказал он. — На рудниках у меня столько динамита, что стоит сбросить его в равнину с горы, — он слегка повысил голос, — и половина города взлетела бы на воздух, если бы у меня возникло такое желание.
Чарлз улыбнулся в округлившиеся от страха глаза торговца кожами, который торопливо бормотал: «Ну, конечно, конечно». Вот теперь ему пора уходить. Невозможно вести переговоры о поставках взрывчатых веществ с управляющим, который так фундаментально запасся динамитом и завел такую странную манеру разговаривать с людьми. Он истерзался страхами во время путешествия верхом, он подвергал себя опасности оказаться в руках свирепого разбойника Эрнандеса, и ни малейшего толку. Ничего не вышло с кожами, с динамитом тоже… даже плечи предприимчивого израильтянина выражали тоску. У дверей он низко поклонился главному инженеру железной дороги. Но, спустившись по лестнице во внутренний дворик, вдруг остановился, пораженный недоумением, и, задумавшись, прижал к губам толстые коротенькие пальцы.
— Зачем ему такая прорва динамита? — прошептал он. — И почему он так говорил со мной?
Главный инженер, заглянувший в дверь опустевшей гостиной, когда отхлынул прилив официальных гостей и мимо инженера прокатилась последняя кругленькая капля — сеньор Гирш, дружески кивнул хозяину дома, который неподвижно высился, словно крупных размеров бакен среди отмелей стульев, кресел, столов.
— Доброй ночи, я уезжаю. Там, внизу, у меня велосипед. Теперь железная дорога будет знать, к кому всегда можно обратиться за динамитом, если нам его не хватит. С земляными работами мы на некоторое время покончили. Вскоре надо будет приступать к взрывам.
— Не вздумайте обращаться ко мне, — сказал Чарлз Гулд с невозмутимым спокойствием. — Я даже унции динамита никому не дам. Даже унции. Не дал бы и родному брату, если бы у меня был брат и служил главным инженером на железной дороге, сулящей прибыли всему миру.
— А какова причина? — безмятежно осведомился главный инженер. — Плохой характер?
— Нет, — флегматично ответил Чарлз. — Политика.
— Я сказал бы, радикальная, — заметил главный инженер, по-прежнему стоя на пороге.
— Вы это так называете? — отозвался Чарлз из недр гостиной.
— Я имею в виду, что такой курс направлен на самую основу, то есть корни, — с веселой улыбкой пояснил инженер.
— Пожалуй, да, — неторопливо согласился Чарлз. — Концессия Гулда так глубоко пустила корни в этой стране, в этой провинции, в этом горном ущелье, что ее только динамитом и выбьешь. Я выбрал этот курс. Это моя последняя карта.
Главный инженер присвистнул.
— Интересная игра, — сказал он с некоторой неуверенностью. — И вы уже сообщили Холройду, каким козырем запаслись?
— Это козырь лишь в том случае, если он будет использован в карточной партии; если к концу игры мне больше нечем будет бить. А до этого можно называть его, э-э…
— Оружием? — подсказал инженер.
— Нет. Его можно называть аргументом, — мягко поправил Чарлз. — Именно в этом качестве я и представил его мистеру Холройду.
— И что он ответил? — с нескрываемым любопытством спросил инженер.
— Он, — проговорил Чарлз Гулд, сделав небольшую паузу, — он сказал нечто вроде того, что держаться будем насмерть, а надежды возложим на бога. У меня возникло впечатление, что он немного испугался. Но, — продолжил управляющий рудников Сан Томе, — он ведь, знаете ли, далеко отсюда, а в этой стране, как вам известно, есть пословица: до бога высоко.
Тут инженер расхохотался, и раскаты его смеха были слышны даже с нижних ступенек лестницы, где мадонна с младенцем смотрела из неглубокой ниши на его подрагивающие от хохота широкие плечи.
ГЛАВА 6
В Каса Гулд воцарилась глубокая тишина. Хозяин дома, пройдя по коридору, открыл дверь в свой кабинет и увидел жену, сидевшую в глубоком кресле, — в этом кресле он любил обычно покурить, — которая с задумчивым видом разглядывала свои туфельки. Она не подняла на него глаз, даже когда он вошел.
— Устала? — спросил Чарлз.
— Да, немного, — ответила она. И, по-прежнему не поднимая глаз, звенящим голосом добавила: — Какое-то жуткое чувство нереальности от всего этого.
Чарлз, остановившись перед длинным заваленным бумагами столом, где лежали также охотничий хлыст и шпоры, сочувственно посмотрел на жену:
— Ты измучилась сегодня днем на пристани — ужасная жара и пыль к тому же, — проговорил он тихим, мягким голосом. — Да еще вода блестит под солнцем и слепит глаза.
— Глаза можно закрыть, чтобы их не слепил блеск воды, — сказала миссис Гулд. — Но, Чарли, милый, как ни закрывай глаза, нельзя не видеть наше положение; это ужасно…
Она подняла взгляд и посмотрела ему в лицо, которое уже не выражало сострадания и вообще никаких чувств.
— Почему ты ничего не говоришь? — Ее голос прозвучал почти как стон.
— Я полагал, что с самого начала ты полностью поняла меня, — медленно выговаривая слова, ответил Чарлз. — Я полагал, все, что надо сказать, давно сказано. А теперь больше не о чем говорить. Нужно было действовать. Мы действовали и продолжаем действовать. У нас нет пути назад. Я думаю, что уже в самые первые дни путь назад был нам отрезан. Мало того, мы не имеем даже права остановиться на полпути.
— О, если бы заранее знать, как далеко ты собираешься зайти, — ответила она почти шутливо, хотя сердце замирало у нее в груди.
— До самого конца, конечно, пусть даже очень далеко. — Ответ был произнесен так решительно, что миссис Гулд должна была опять приложить немалые усилия, чтобы скрыть испуг.
Она встала с милой улыбкой, и ее маленькая фигурка показалась еще меньше из-за тяжелой прически и нарядного платья с длинным шлейфом.
— Но всегда к успеху, — сказала она, и в ее голосе послышалось что-то похожее на просьбу.
Чарлз окинул ее взглядом голубых, внимательных, суровых глаз и без колебания ответил:
— Выбора просто нет.
Он произнес это очень уверенно. А что касается слов, то сказал он все, что позволяла ему совесть.
Улыбка слишком долго, пожалуй, задержалась на ее губах. Она сказала еле слышно:
— Я пойду к себе; у меня немного разболелась голова. В самом деле, и жара, и пыль… ты, наверно, уедешь на рудники до рассвета?
— В полночь, — ответил Чарлз. — Завтра мы привезем серебро. А потом возьму три свободных дня и проведу их с тобой в городе.
— Ах, ты едешь встречать конвой. В пять часов я выйду на галерею, чтобы видеть, как ты будешь проезжать. Так до встречи!
Чарлз быстрыми шагами обошел вокруг стола и, схватив ее руки, склонился над ними и прижал их к губам. Прежде чем он выпрямился, она освободила одну руку и, будто ребенка, нежно погладила его по щеке.
— Попробуй отдохнуть часок-другой, — сказала она тихо, покосившись на висевший в дальнем конце комнаты гамак. Ее длинный трен чуть слышно скользнул по красным плиткам пола. На пороге она обернулась.
Две большие лампы в круглых матовых абажурах освещали мягким светом стены, на которых отчетливо виднелись застекленная полка с оружием, бронзовый эфес кавалерийской сабли Генри Гулда на фоне бархатного коврика и акварельный эскиз ущелья Сан Томе. И, взглянув на эскиз в черной деревянной рамке, миссис Гулд со вздохом сказала:
— Лучше б нам не трогать его, Чарли.
— Нет, — ответил Чарлз угрюмо. — Не трогать его мы не могли.
— Может быть, — задумчиво произнесла миссис Гулд. Ее губы дрогнули, но она улыбнулась с милой, трогательной напускной отвагой. — Уж очень много змей мы растревожили в нашей «райской обители», верно, Чарли?
— А… я помню, — ответил Чарлз, — это дон Пепе говорил, что ущелье Сан Томе настоящий рай для змей. Мы несомненно потревожили множество змей. Но ты же знаешь, милая, сейчас там все иначе, чем когда ты писала этот этюд. — Он указал на акварель, которая одиноко висела на огромной пустой стене. — Змеи там больше не живут. Мы привели туда людей и уже не вправе бросить их на произвол судьбы: поищите, мол, себе еще какое-нибудь место, где вы начнете новую жизнь.
Тут он посмотрел жене в глаза твердым, даже жестким взглядом, и миссис Гулд, собрав все свое мужество, бесстрашно встретила этот взгляд, а затем вышла, тихо притворив за собой дверь.
После белой, ярко освещенной комнаты полутемная галерея, вдоль перил которой тянулась сплошная стена растений — переплетенные стебли, листья, — казалась мирной и таинственной лесной прогалиной. В полосках света, падавших из распахнутых дверей гостиных, ожили и засверкали как под жаркими лучами солнца белые, красные, лиловые цветы; и фигура миссис Гулд, проходившей мимо этих открытых дверей, обрисовывалась так же четко, как люди в бликах солнца, пестреющих там и сям на сумрачных лесных полянах. Остановившись у дверей большой гостиной, она прижала ко лбу руку, и в свете ламп блеснули драгоценные камни в кольцах.
— Кто тут? — испуганно спросила она. — Это вы, Басилио?
Она заглянула в гостиную и увидела Мартина Декуда, который бродил среди столов и стульев с таким видом, будто что-то искал.
— Антония оставила здесь веер, — сказал Декуд каким-то странным, растерянным тоном. — Я вернулся за ним.
Но он прекратил поиски, прежде чем успел договорить, и стремительно подошел к миссис Гулд, которая смотрела на него растерянно и удивленно.
— Сеньора, — заговорил он, понизив голос.
— Что, дон Мартин? — спросила она. И, почувствовав, что вопрос прозвучал чересчур возбужденно, пояснила со смешком; — Я ужасно нервничаю сегодня.
— Непосредственная опасность пока нам не грозит, — сказал Декуд, уже не пытаясь скрыть, что он и сам взволнован. — Ради бога не пугайтесь. Я уверяю вас, пугаться нет причин.
Миссис Гулд, устремив на него взгляд широко открытых бесхитростных глаз и даже заставив себя улыбнуться, ухватилась за косяк, чтобы не пошатнуться.
— Вы, наверное, не представляете себе, какое ощущение тревоги вызываете, так неожиданно появившись…
— Я вызываю ощущение тревоги! — перебил он с неподдельным удивлением и досадой. — Клянусь, я сам нисколько не тревожусь. Потерялся веер; он, конечно, найдется. Но мне кажется, в гостиной его нет. Я уже все тут осмотрел. Не понимаю, как могла Антония… Ну, что слышно? Вы нашли его, приятель?
— Нет, сеньор, — раздался за спиною миссис Гулд тихий голос Басилио, дворецкого Каса Гулд. — Я думаю, сеньорита потеряла его не в этом доме.
— Еще раз поглядите, нет ли его во внутреннем дворике. Ступайте, друг мой; поищите на лестнице, возле двери; пол осмотрите, каждую плиту; словом, ищите, пока я к вам не спущусь… Этот малый, — добавил он по-английски, обращаясь к миссис Гулд, — имеет скверную привычку подкрадываться незаметно, благо ходит босиком. Как только я пришел, я тотчас же отправил его искать этот веер, чтобы объяснить, почему я возвратился так внезапно и поспешно.
Он замолчал, и миссис Гулд с искренней теплотой сказала:
— Мы всегда вам рады. — Она немного помолчала. — Однако мне не терпится узнать причину вашего возвращения.
Тут Декуд сделал вид, что нисколько не встревожен, напротив.
— Терпеть не могу, когда за мной шпионят. Да, вы спрашиваете о причине? Как же, как же, причина есть: пропал не только любимый веер Антонии, исчезло еще кое-что. Когда, проводив дона Хосе и Антонию, я возвращался домой, мне повстречался капатас каргадоров на своей знаменитой кобыле и заговорил со мной.
— Что-то случилось в семье Виолы? — спросила миссис Гулд.
— Виолы? Вы имеете в виду старика гарибальдийца, который держит гостиницу, где живут инженеры? Нет, у них все в порядке. Капатас мне ничего о них не говорил, зато сказал, что видел на площади телеграфиста, который шел без шляпы и разыскивал меня. Получены известия из центральной части страны, миссис Гулд. Отголоски известий, вернее сказать.
— Хорошие известия? — тихо спросила миссис Гулд.
— Бесценные, на мой взгляд. Но если требуется более точное определение, я бы их назвал дурными. Заключаются они в том, что под Санта Мартой в течение двух дней происходила битва и рибьеристы потерпели поражение. Случилось это, вероятно, несколько дней назад… возможно, неделю. Слух только что достиг Каиты, и тамошний телеграфист немедля передал это известие своему коллеге в Сулако. Выходит, мы с тем же успехом могли бы и не снаряжать генерала Барриоса.
— Что же нам делать? — прошептала миссис Гулд.
— Теперь уже ничего. Он отбыл, и воинство тоже. Доберется до Каиты денька через два, там и узнает новости. Что он будет делать дальше, трудно сказать. Отстаивать Каиту? А может быть, сдастся на милость Монтеро? Или распустит армию — это вероятнее всего — и уплывет на одном из пароходов компании ОПН на север либо на юг — в Вальпарайсо либо в Сан-Франциско, совершенно неважно куда. У нашего Барриоса огромный опыт по части репатриаций и изгнаний за пределы республики, знаменующих поворотные пункты в политической игре.
Декуд пристально посмотрел в глаза миссис Гулд, которая ответила ему таким же взглядом, и добавил, с любопытством ожидая, каков будет отклик:
— И все же, если бы Барриос с двумя тысячами этих усовершенствованных винтовок оказался сейчас здесь, мы смогли бы кое-что сделать.
— Нет, Монтеро непобедим, непобедим! — безнадежно прошептала миссис Гулд.
— Может, это утка? В смутные времена появляются целые выводки подобных птичек. И даже если правда? Так и быть, допустим самое скверное, допустим, что это правда.
— Если так, то все погибло, — сказала она со спокойствием отчаяния. — Все потеряно!
Неожиданно, словно прозрев, она поняла, что за личиной напускной беспечности Декуд скрывает жгучее беспокойство. Да, она могла прочесть это теперь в его глазах, смотревших с вызовом и в то же время настороженно, в дерзком и презрительном изгибе губ. И внезапно у него вырвалась фраза, французская фраза, словно этот костагуанский бульвардье был способен выражать свои мысли лишь на этом языке:
— Non, madame. Rien n’est perdu[89].
Услыхав эти слова, миссис Гулд очнулась от оцепенения и с живостью спросила:
— Что вы намерены делать?
Он ответил ей сразу же, но сквозь сдерживаемое волнение уже снова пробивалась присущая ему ирония.
— А каких поступков вы можете ожидать от истого костагуанца? Новой революции, конечно. Клянусь честью, миссис Гулд, я настоящий hijo del país[90], сын своей родины, что бы там ни говорил обо мне падре Корбелан. И не такой уж я скептик, чтобы не верить в свои собственные идеи, и в свои собственные стремления, и в те средства, которыми я намерен их осуществить.
— Да, — с сомнением произнесла миссис Гулд.
— По-моему, я вас не убедил, — снова по-французски продолжал Декуд. — Тогда скажем так: в свои страсти.
Миссис Гулд невозмутимо выслушала и этот новый довод. Она прекрасно поняла, о чем идет речь, и Декуду вовсе незачем было торопливым шепотом ее уверять:
— Ради Антонии я пойду на что угодно. Я что угодно смогу вынести ради нее. Я готов подвергнуться любой опасности.
Казалось, он черпает все новую и новую отвагу, высказывая свои мысли вслух:
— Вы не поверите, если я стану утверждать, что любовь к родине побуждает меня…
Она безнадежно махнула рукой, словно говоря, что этого побуждения теперь уже ни от кого не ожидает.
— Революция в Сулако, — продолжал Декуд, приглушенно и в то же время с жаром. — Великое дело мы осуществим именно там, где оно начиналось, там, где оно родилось, миссис Гулд.
Нахмурившись, в раздумье прикусив губу, она отступила от двери.
— Вы расскажете это вашему мужу? — встревоженно остановил ее Декуд.
— Но ведь вам понадобится его помощь?
— Несомненно, — подтвердил он не задумываясь. — Разве можно миновать рудники Сан Томе? Но я бы предпочел, чтобы пока мистер Гулд ничего не знал о моих… надеждах.
Увидев, что она озадачена, Декуд приблизился к миссис Гулд и доверительно пояснил:
— Поймите, он такой идеалист.
Миссис Гулд вспыхнула, и глаза ее потемнели.
— Чарли идеалист! — изумленно проговорила она. — Как вам такое пришло в голову?
— И впрямь, — согласился Декуд. — Когда буквально на глазах у нас возникли рудники, а это величайшее событие в масштабах всей Южной Америки, слово «идеалист» звучит, конечно, странно. Но возьмем те же рудники, ведь он до такой степени возвел их в идеал… — Он мгновенье помолчал. — Миссис Гулд, вы знаете, до какой степени возведены вашим супругом в идеал существование, значение, важность рудников Сам Томе? Известно это вам?
Без сомнения, он говорил с полным знанием дела. И его слова произвели желаемое действие. Миссис Гулд, готовая вспылить, вдруг смирилась с тихим вздохом, похожим на стон.
— Что вам известно? — спросила она еле слышно.
— Мне ничего неизвестно, — твердо ответил Декуд. — Но он англичанин, не так ли?
— Что из этого следует?
— Только то, что он не может действовать и существовать, не идеализируя самое простое чувство, желание, поступок. Он не поверит даже себе, пока не ощутит, что его побуждения достойны волшебной сказки. Боюсь, земля недостаточно хороша для него. Вы простите мою откровенность? Кроме того, пусть вы меня и не простите, такова правда жизни, которая больно бьет по… как это именуется у вас? — по англосаксонской чувствительности, а я в настоящий момент не склонен рассматривать всерьез отношение вашего мужа к житейским делам и — да будет мне позволено это сказать — даже ваше.
Миссис Гулд не выглядела оскорбленной, ничуть:
— Я думаю, Антония вас полностью понимает?
— Понимает? Да, она понимает меня. Но не уверен, что одобряет. Впрочем, это безразлично. Как видите, я настолько честен, что признаюсь вам в этом, миссис Гулд.
— Вы, конечно, предлагаете отделиться, — сказала она.
— Конечно, отделиться, — подтвердил Декуд. — Да. Полностью отсечь всю Западную провинцию от взбунтовавшейся страны. Но что гораздо важнее, у меня есть намерение, мое единственное серьезное намерение, не быть отделенным от Антонии.
— И больше ничего? — спросила миссис Гулд.
— Абсолютно. Я не обманываю себя относительно моих побуждений. Антония не оставит ради меня Сулако, зато Сулако способен оставить республику на произвол судьбы. Что может быть яснее? Я люблю, чтобы ситуация была обрисована ясно. Я не могу расстаться с Антонией, а потому единая и неделимая республика Костагуана должна расстаться с одной из своих провинций. К счастью, с политической точки зрения это тоже разумно. Самая богатая, самая плодородная часть страны не будет ввергнута в анархию. Мне самому все это крайне безразлично; однако я не могу отрицать, что приход Монтеро к власти означает для меня смертный приговор. Я еще не видел ни одного воззвания, в которых он сулит прощение всем своим противникам, перечисляя их, где в списке значилась бы и моя фамилия; она всегда отсутствует, наряду с несколькими, весьма немногими. Братцы меня ненавидят, вы отлично это знаете, миссис Гулд; а тут внезапно возникает слух, будто они выиграли битву. Вы скажете, что, если слух подтвердится, я вполне успею убежать.
Миссис Гулд упавшим голосом произнесла, что ему не следует так клеветать на себя, и он умолк на мгновение, устремив на нее полный мрачной решимости взгляд.
— Я сбежал бы, миссис Гулд. Непременно сбежал бы, если бы это способствовало исполнению моего единственного в настоящее время желания. У меня хватает мужества в этом признаться, хватило бы и выполнить это. Но женщины, даже наши женщины, идеалистки. Не я, а Антония не захочет бежать. Новейший вид тщеславия.
— Вы называете это тщеславием? — с возмущением сказала миссис Гулд.
— Назовите гордостью, если угодно, и отец Корбелан разъяснит вам, что гордыня смертный грех. Но я не горд. Я просто очень сильно влюблен и поэтому не убегу. В то же время я намерен остаться в живых. Любовь ведь для живых, а не для мертвых. А посему необходимо, чтобы Сулако не признал Монтеро своим властителем.
— И вы полагаете, мой муж окажет вам поддержку?
— Думаю, окажет, ибо, как только найдется апеллирующий к его чувствам повод, он, подобно всем идеалистам, не сможет бездействовать. Но я не стану с ним говорить. Голые факты не смогут повлиять на его чувства. Пусть уж убеждает себя на свой лад, и, откровенно говоря, я, вероятно, и не смог бы сейчас с должным почтением обсуждать с ним его сентиментальные соображения и, пожалуй, ваши тоже, миссис Гулд.
Миссис Гулд несомненно решила ни в коем случае не обижаться. С рассеянной улыбкой она думала об известиях, сообщенных Декудом. Антония, насколько можно судить по ее полупризнаниям, отлично понимает, что представляет собой этот молодой человек. Его план несомненно сулит спасение, хотя пока это скорее просто идея, а не план. И даже если идея эта неверна, вреда она принести не может. Да к тому же, вполне вероятно, дурные слухи не подтвердятся.
— Вы уже знаете, как нужно действовать? — спросила она.
— Очень просто. Барриос отбыл, и прекрасно; он будет удерживать в своих руках Каиту, а Каита это дверь, через которую можно морем проникнуть в Сулако. Переправить через горы крупные силы им не удастся. С теми отрядами, которые они пошлют, справится даже шайка Эрнандеса. А мы тем временем организуем ополчение. И тогда тот же Эрнандес пригодится. Он наносил поражение регулярным войскам будучи разбойником; без сомнения, он сумеет это осуществить, если мы сделаем его полковником или даже генералом. Вы однажды утверждали, что этот злосчастный бандит являет собою животрепещущий пример того, как жестокость, несправедливость, невежество и самовластие не только отнимают у людей имущество, но и губят их души. Ну, а если этот человек станет вдруг причиной гибели тех зол, которые толкнули честного ранчеро на преступную стезю, в этом есть поэзия возмездия, не так ли? Отличная идея, вы со мной согласны?
Декуд легко перешел на английский, на котором говорил очень правильно и чисто.
— Вспомните также о ваших больницах, школах, дряхлых старцах и болящих матерях, о всех тех людях, которых вы с мужем ввергли в каменистое ущелье Сан Томе. Вы не чувствуете, что ответственны перед ними? Не кажется ли вам, что будет лучше, если мы сделаем еще одно усилие, вовсе не такое безнадежное, как это представляется на первый взгляд, чем…
Декуд закончил свою мысль резким движением руки, означающим: «Чем если всех нас уничтожат», и миссис Гулд в ужасе отвернулась.
— Почему вы не скажете все это моему мужу? — спросила она, не глядя на Декуда, который с интересом наблюдал, какое впечатление производят его речи.
— О, но ведь дон Карлос такой англичанин, — начал он. Миссис Гулд остановила его:
— Перестаньте, дон Мартин. Он такой же костагуанец… Нет! Он в гораздо большей степени костагуанец, чем вы сами.
— Сентиментален, очень сентиментален, — нежно и вкрадчиво проворковал Декуд. — Сентиментален на тот особый, ни с чем не сравнимый манер, который свойственен лишь вашему народу. Я наблюдаю короля Сулако с тех пор, как ввязался в это идиотское дело, на которое меня, возможно, толкнула злодейка судьба — ведь следствием ее происков всегда являются наши безотчетные поступки. Но я не жалуюсь, я не сентиментален, я не умею облекать свои личные желания в сверкающую драгоценностями шелковую мантию. Жизнь для меня не нравоучительный роман, в основе которого лежит милая сказочка. Нет, я практик, миссис Гулд. Я не стыжусь своих побуждений. Но простите, я отвлекся. Просто я хотел сказать, что занимаюсь некоторыми наблюдениями. Не стану вам рассказывать, что я обнаружил.
— Не надо. В этом нет необходимости, — вновь отвернувшись, прошептала миссис Гулд.
— Именно так. За исключением одного несущественного обстоятельства: ваш муж меня не любит. Сущий пустяк, но при сложившемся положении он обретает какую-то комическую значительность. Это комично и в то же время очень важно, ибо ясно: для выполнения моего плана нужны деньги… а иметь дело приходится с двумя сентиментальными господами.
— Я не уверена, что понимаю вас, дон Мартин, — сдержанно сказала миссис Гулд. — Но если допустить, что я вас поняла, кто — второй?
— Великий Холройд из Сан-Франциско, конечно, — с беспечным видом шепнул Декуд. — Я думаю, вы прекрасно меня понимаете. Женщины, конечно, идеалистки, но они так проницательны.
Миссис Гулд не стала выяснять, продиктовано ли это замечание желанием съязвить или, наоборот, польстить, и пропустила его мимо ушей. Зато имя Холройда пробудило в ней новую тревогу.
— Завтра вечером в порт доставят груз серебра; его добывали целых полгода, дон Мартин, — в смятении воскликнула она.
— Ну, и пусть себе доставляют, — прошептал ей прямо в ухо Декуд, в отличие от миссис Гулд почти спокойный.
— Да, но если пойдут слухи и к тому же окажется, что они справедливы, в городе могут начаться беспорядки, — возразила миссис Гулд.
Декуд допускал, что это возможно. Он отлично знал, что представляют собой дети Кампо: злобные, вороватые, мстительные и кровожадные, они отнюдь не обладают теми великими достоинствами, которыми, кажется, наделены их братья из прерий. Но не надо забывать, что существует тот второй сентиментальный господин, почему-то склонный придавать конкретным фактам несколько странный идеалистический смысл. Поток серебра должен не иссякая струиться на север, с тем чтобы вернуться в виде финансовой поддержки великого торгового дома Холройда. Находясь в горах на руднике, в сейфе-кладовой для хранения ценностей, серебряные слитки менее пригодны для его целей, чем, скажем, свинцовые, из которых, к примеру, можно лить пули. Так пусть же серебро доставят в порт, где оно будет дожидаться погрузки.
Ближайший пароход, который отплывает на север, захватит этот груз, хотя бы для того, чтобы спасти рудники Сан Томе, производящие так много ценностей. К тому же очень может быть, слухи не подтвердятся, поспешил он ее успокоить.
— А кроме того, сеньора, — добавил он в заключение. — Мы довольно долго можем держать эти вести в секрете. Я разговаривал с телеграфистом, стоя посредине Пласы, и поэтому убежден, что нас никто не подслушал. Мимо нас не пролетела даже птица. А затем позвольте мне сказать вам еще одну вещь. Я подружился с этим человеком, которого называют Ностромо, с капатасом. Не далее как сегодня вечером у нас состоялась беседа: он куда-то ехал на своей знаменитой кобыле, а я шел рядом. Он обещал, что, если вспыхнет мятеж по какой бы то ни было причине, даже по причине, очень тесно связанной с политикой (вы поняли — по какой), его каргадоры, влиятельная часть нашего городского населения, — вы не можете не согласиться — поддержат европейцев.
— Он вам это обещал? — с живостью переспросила миссис Гулд. — А что его заставило давать такие обещания?
— Право, не знаю, — признался Декуд, несколько озадаченный. — Он действительно мне это обещал, но ответить на ваш вопрос я затрудняюсь. Разговаривал он с обычной своей беззаботностью, которую, не будь он простым матросом, я назвал бы аффектированной.
Декуд внезапно замолчал и, пораженный неожиданной мыслью, посмотрел на миссис Гулд.
— Скорей всего, я полагаю, он намерен извлечь из этого какую-то выгоду. Не забывайте, ради того огромного влияния, которым он пользуется среди простонародья, ему приходится и подвергать себя опасности, и тратить бездну денег. Престиж штука серьезная, и за него надо платить. Мы познакомились во время танцев в гостинице, которую держит один мексиканец неподалеку от города, за крепостной стеной, и Ностромо сказал мне, что приехал сюда нажить состояние. Возможно, престиж кажется ему своего рода капиталовложением.
— А может быть, престиж ценен для него сам по себе, — возразила миссис Гулд, досадуя на злоязычие своего собеседника. — Виола, гарибальдиец, у которого Ностромо живет уже несколько лет, называет его Безупречным.
— Ах да, он один из ваших протеже, приятель старика трактирщика. Что ж, превосходно. Капитан Митчелл тоже превозносит его до небес. Я только и слышу всевозможные рассказы о его силе, его храбрости, его преданности, и рассказам этим нет конца. Нет конца достоинствам. Гм, безупречный! Вот уж и впрямь почетный титул для десятника портовых грузчиков. Безупречный! Красиво, но туманно. Впрочем, надеюсь, здравомыслия он тоже не лишен. И я беседовал с ним, исходя из этого утешительного для практических людей предположения.
— А я предпочитаю думать, что у него нет корыстных целей, и поэтому на него можно положиться, — сказала миссис Гулд, и если она позволяла себе изредка нечто похожее на резкость, то это нечто прозвучало сейчас в ее ответе.
— Ну, в таком случае серебро еще в большей безопасности, сеньора. Пусть его доставят сюда. Пусть его сюда доставят, а затем оно уплывет на север и вернется к нам в виде кредита.
Миссис Гулд посмотрела в сторону двери, ведущей в кабинет ее мужа. Декуд, который наблюдал за ней так внимательно, словно вся его судьба зависела от нее, разглядел в полутьме галереи, как она чуть заметно кивнула. Он с улыбкою поклонился, сунул руку во внутренний карман пальто и вынул веер из светлых перьев, прикрепленных к раскрашенным листьям сандалового дерева.
— Я его взял с собой, — весело пояснил он, — чтобы был предлог на всякий случай. — Он снова поклонился. — Доброй ночи, сеньора.
Миссис Гулд двинулась по галерее, удаляясь от комнаты мужа. Мысль об участи рудников Сан Томе преследовала ее, угнетала, страшила. Это началось уже давно. Сперва была просто идея. Она с тревогой наблюдала, как идея превращается в фетиш, а теперь уже фетиш превратился в чудовищную сокрушительную силу. Казалось, вдохновение, которое объединяло их когда-то, покинуло теперь ее душу и превратилось в стену из серебряных кирпичей, воздвигнутую между ней и мужем безмолвными духами зла. Он оторван от жены и окружен непроницаемой стеной из драгоценного металла, а жена осталась за пределами этой стены со своей школой, больницей, дряхлыми старцами и болящими матерями, жалкими останками вдохновенных мечтаний их юности. «Бедные, бедные!» — вздохнула она.
Снизу донесся громкий голос Мартина Декуда:
— Я нашел веер доньи Антонии. Поглядите, Басилио, вот он!
ГЛАВА 7
Система взглядов, которую Декуд именовал разумным материализмом, заключалась, в частности, и в том, что он не верил в возможность дружбы между женщиной и мужчиной.
Единственное исключение, которое он допускал, только подтверждало, говорил он, общее правило. Дружба между братом и сестрой, если разуметь под дружбой стремление откровенно рассказывать о своих мыслях и чувствах, как рассказывают о них любому приятелю; искренность, бесцельная и в то же время необходимая, — потребность поделиться самым сокровенным в надежде вызвать глубочайшее сочувствие другого существа.
Его любимая сестра, красивый, несколько своенравный, наделенный решительным характером ангел, чьим велением покорялись папа и мама Декуд в квартире, занимающей второй этаж очень элегантного парижского особняка, была той конфиденткой, которой Мартин Декуд сообщал о своих мыслях, поступках, надеждах, сомнениях и даже неудачах…
«Приготовь наш маленький кружок в Париже к известию о рождении еще одной южноамериканской республики. Одной больше, одной меньше, не все ли равно? Они возникают, словно ядовитые цветы на клумбе бесчестности и порока; но семя, из которого проросла эта, зародилось в мыслях твоего брата, чего, я думаю, достаточно, чтобы заслужить одобрение любящей сестры. Я пишу тебе сейчас при свете одинокой свечи в гостинице, которую держит итальянец по фамилии Виола, протеже миссис Гулд. В доме, а дом этот, насколько мне известно, был выстроен лет триста назад фермером из бывших конкистадоров, промышлявшим ловлей жемчуга, сейчас царит глубокая тишина. Такая же тишина и на равнине между городом и портом; но только там не так темно, как в доме, потому что пикеты итальянских рабочих, охраняющих железную дорогу, разожгли костры вдоль всей линии.
Вчера здесь не было так тихо. В городе вспыхнул ужасный мятеж, бунт местного населения, который удалось подавить только сегодня к концу дня. Целью мятежников без сомнения был грабеж, но и этой цели они не достигли, как ты, наверное, уже знаешь из каблограммы, посланной через Сан-Франциско и Нью-Йорк вчера вечером, когда кабель еще действовал. Вероятно, ты уже прочитала, что энергичные действия служащих на железной дороге европейцев спасли город от разрушения, и можешь этому поверить. Каблограмму составлял я сам. У нас здесь нет корреспондента агентства Рейтер. Кроме того, я стрелял по бунтовщикам из окон клуба в компании с несколькими другими молодыми людьми из хороших семейств. Нашей задачей было очистить улицу Конституции, дабы обеспечить „исход“ женщин и детей, которые нашли себе приют на двух грузовых баржах, стоящих сейчас в гавани. Это было вчера. Из той же каблограммы ты узнала, что президент Рибьера, пропавший без вести после битвы под Санта Мартой, появился, благодаря поразительному стечению обстоятельств, здесь, в Сулако, на хромом муле в самой гуще уличных сражений. Оказалось, он бежал, спасаясь от Монтеро, в сопровождении некоего Бонифацио, погонщика мулов, перебрался через горы и угодил прямо в руки разъяренной толпы.
Капатас каргадоров, итальянский моряк, о котором я тебе писал уже прежде, спас его от позорной смерти. У этого человека удивительный талант всегда оказываться именно там, где можно совершить нечто живописное.
В четыре часа утра мы с ним находились в редакции „Нашего будущего“, куда он явился в такое раннее время специально, чтобы предупредить меня, что в городе начинаются волнения, а также сообщить, что он и его каргадоры будут поддерживать законность и порядок. Когда стало совсем светло, мы с ним вдвоем увидели многолюдную толпу пеших и конных, которая явилась на площадь и швыряла камни в окна ратуши. Ностромо (он известен здесь под этой кличкой) показал мне своих каргадоров, мелькающих в толпе.
В Сулако солнце всходит поздно, ибо должно сперва взобраться на горы. В его ярком свете, сменившем рассветную мглу, Ностромо увидел на противоположной стороне громадной площади, у того места, где стоит собор, какого-то всадника, вокруг которого бесновалась орава проходимцев гнуснейшего вида. Он тотчас же сказал: „Этот человек не здешний. Почему они привязались к нему?“ Тут он достал серебряный свисток, которым пользуется обычно на пристани (этот человек, по-моему, считает ниже своего достоинства притрагиваться к металлу менее ценному, чем серебро), и дважды в него дунул, очевидно, подавая условный сигнал каргадорам. Затем он выбежал из помещения редакции, а они его окружили. Выбежал и я, но слишком поздно, чтобы поспеть за ними и помочь спасти жизнь незнакомца, теперь уже пешего, потому что его хромой мул свалился на землю.
Усмотрев в моем лице ненавистного аристократа, толпа сразу набросилась на меня, но, к счастью, мне удалось пробраться в клуб, где дон Хаиме Бергес (ты, вероятно, помнишь, как он был у нас в Париже года три назад) сунул мне охотничье ружье. На раскрытых ломберных столах лежали кучки патронов. Мне запомнились два или три опрокинутых стула, бутылки, катившиеся по полу среди рассыпанных карточных колод, которые упали, когда кабальеро бросились к окнам, прекратив игру, и стали стрелять по толпе. Большая часть молодых дворян провела эту ночь в клубе, ожидая, что в городе начнутся беспорядки. Свечи в обоих канделябрах сгорели до самого донышка. В тот момент, когда я входил в зал, кто-то угодил в окно железной гайкой, по-видимому, похищенной из железнодорожных мастерских, и разбил большое зеркало, вделанное в стену.
Я заметил также одного из здешних лакеев, связанного по рукам и по ногам шнурами от занавеси и брошенного в угол. Смутно припоминаю, как дон Хаиме мне пояснил, что во время ужина этот малый подсыпал в еду отраву и был застигнут за этим занятием. Зато не смутно, а вполне отчетливо помню, как пронзительно, не умолкая ни на миг, он вопил, умоляя нас сжалиться, но на его крики не обращали внимания… настолько, что никто даже не позаботился заткнуть ему кляпом рот. Он выл так омерзительно, что я уже подумывал, не сделать ли мне это самому. Но на такие пустяки не оставалось времени. Я занял место у окна и принялся стрелять.
Только днем, гораздо позже, мне стало известно, кто был тот несчастный, которого Ностромо с помощью своих каргадоров, а также нескольких итальянцев рабочих спас от пьяных негодяев. Поразительный человек — когда нужно сделать нечто впечатляющее, он всегда тут как тут. Именно так я ему и сказал, когда мы встретились после того, как в городе была восстановлена некая видимость порядка, и ответ его меня удивил. Он угрюмо сказал: „А много ли я получаю за это, сеньор?“ Тут мне пришло в голову, что, вероятно, он тщеславен и тщеславие его насыщают преклонение простонародья и доверие вышестоящих».
Декуд, не подымая от письма головы, остановился, чтобы закурить, затем выпустил клуб дыма и снова взялся за карандаш.
«Разговор этот происходил вчера на Пласе, и Ностромо сидел на ступеньках собора, опираясь на колени руками, в которых держал уздечку своей знаменитой серебристо-серой кобылы. Он со своим отрядом каргадоров отлично действовал в течение всего дня. Вид у него был усталый. Не знаю, какой вид был у меня. Я полагаю, очень грязный, но в то же время, думаю, вполне довольный. Как только беглый президент был переправлен на борт парохода „Минерва“, успех повернулся к бунтовщикам спиной. Их вытеснили из порта и из респектабельной части города снова на окраину, в их родимые трущобы. Мне еще следует для полной ясности добавить, что мятеж (первоначальной целью коего являлся захват серебра, привезенного из Сан Томе и хранившегося в подвалах таможни, а также присущее этим бездельникам желание поживиться за счет „богачей“) приобрел впоследствии политическую окраску, поскольку два депутата Генеральной Ассамблеи провинции, сеньоры Гамачо и Фуэнтес, оба из Болсона, возглавили бунт… правда, позже, уже днем, когда толпа, потеряв надежду на поживу, сгрудилась на узких улочках окраин и принялась орать: „Viva la libertad![91] Долой феодализм!“ (Интересно, как они себе представляют феодализм?) „Долой вандалов и паралитиков!“ Надеюсь, сеньоры Гамачо и Фуэнтес знают, что́ делают. Это предусмотрительные господа. На заседаниях Ассамблеи они именовали себя „умеренными“ и с лицемерно скорбным видом всегда выступали против решительных шагов. При первых же известиях о победе Монтеро они мало-помалу утратили свойственную им меланхоличность и принялись осыпать беднягу дона Хусте Лопеса, президента Ассамблеи, наглыми выпадами, которые так ошеломили старика, что в ответ он лишь поглаживал бороду да звонил в колокольчик. Затем, когда крах рибьеристов уже не вызывал ни малейших сомнений, они внезапно превратились в убежденных „либералов“, причем все делали вместе, как сиамские близнецы, и в конце концов даже возглавили бунт во имя принципов генерала Монтеро.
Свою последнюю акцию они совершили вчера в восемь часов вечера — организовали комитет монтеристов, заседающий, насколько мне известно, на постоялом дворе, который держит некий мексиканец, бывший матадор и к тому же великий политик; имени его я не запомнил. С постоялого двора получено послание, адресованное нам, вандалам и паралитикам из клуба „Амарилья“ (у нас тоже есть свой комитет), в котором нас призывают заключить на время перемирие, „дабы, — заявляют эти наглецы, — благородное дело свободы не было запятнано гнусными эксцессами консерваторов“. Каковы! Пока мы с Ностромо сидели на ступеньках собора, в клубе составляли достойную отповедь, для чего все собрались в зале, большой комнате, на полу которой темнели пятна крови и в изобилии валялись стреляные гильзы, осколки стекла, подсвечники, обломки стульев. Впрочем, все это чушь. Реальной властью в городе располагают только инженеры с железной дороги, поместившие своих людей в сборные дома, которые компания приобрела, чтобы использовать в качестве станционных построек, и Ностромо, чьи каргадоры спали в этот час под сводчатыми галереями торгового дома Ансани.
Переломанная мебель, почти вся позолоченная, была выброшена из ратуши на площадь, где ее свалили грудой и зажгли костер, пламя которого вздымалось так высоко, что языки его доставали до статуи Карла IV. На ступеньках пьедестала лежал труп с широко раскинутыми руками и прикрытым сомбреро лицом — возможно, оказанная каким-либо приятелем последняя услуга. Отблески огня плясали на листве ближайших к площади деревьев, посаженных вдоль Аламеды, и освещали угловые дома переулка, вход в который был загорожен кучей сваленных вперемешку повозок и воловьих туш. На одной из этих туш сидела Какая-то темная личность, закутанная с головой, и курила сигарету. Перемирие, как видишь. Кроме нас двоих и этого бродяжки, единственным живым существом на всей площади был каргадор, который ходил взад и вперед перед фасадом заведения Ансани с длинным ножом, охраняя сон своих друзей. И во всем городе светились, кроме костра, лишь окна клуба на углу улицы Конституции».
Дописав до этого слова, дон Мартин Декуд, южноамериканский денди с парижских бульваров, встал и прошелся по усыпанному песком полу обеденного зала, находившегося в одном из двух крыльев гостиницы «Объединенная Италия», принадлежавшей Джорджо Виоле, старому сподвижнику Гарибальди. Ярко раскрашенная литография Верного Сына Свободы показалась тусклой при свете одинокой свечи человеку, не знавшему верности, если не считать той верности, с какой он следовал велению собственных чувств. Он посмотрел в окно и обнаружил, что дом окружен непроницаемой тьмой, сквозь которую нельзя разглядеть ни гор, ни улиц, ни даже тех строений, что стояли возле гавани совсем близко, и ни единого звука не слышно, словно глубокое безмолвие Гольфо Пласидо объяло и воды, и землю, сделав ее не только слепой, но и немой.
Немного погодя Декуд почувствовал, как под ногами у него подрагивает пол, и услышал вдали лязганье железа. Где-то далеко, в глубинах мрака, возник яркий белый свет, он с грохотом близился и разрастался. Подвижной состав, который обычно стоял на запасных путях в Ринконе, сейчас для безопасности перегоняли на товарную станцию. Мелькнул фонарь локомотива, а следом некое таинственное колыханье тьмы — это поезд с глухим ревом пронесся вихрем у самой гостиницы, и весь дом задрожал. И снова ничего не разглядеть, только на краю последней платформы обнаженный до пояса негр в белых штанах безостановочно размахивал горящим факелом. Декуд стоял не шевелясь.
На спинке стула, с которого он только что встал, висело его элегантное парижское пальто на шелковой жемчужно-серой подкладке. Но когда он повернулся, чтобы снова подойти к столу, свеча осветила его лицо, грязное и исцарапанное. Розовые губы запеклись от жары, почернели от порохового дыма. И холеная бородка потускнела от ржавчины и пыли. Воротничок и манжеты измялись; синий шелковый галстук болтался, как тряпка; на лбу темнело жирное пятно. Он не раздевался и ни разу не приблизился к воде — если не считать того, что изредка, торопливо и жадно, отхлебывал глоток — около сорока часов. Мучительная одержимость отчаянной борьбы завладела им полностью, запечатлела на нем свои приметы, и глаза его блестели сухим, бессонным блеском. Он хрипло пробормотал: «Интересно, найдется здесь хлеб?» — обвел комнату рассеянным взглядом, затем опустился на стул и снова взялся за карандаш. Только сейчас он вспомнил, что не ел уже много часов.
Потом мелькнула мысль, что никто на свете не поймет его так хорошо, как сестра. Когда речь идет о жизни и смерти, даже в сердце скептика возникает желание как можно точней описать свои чувства и таким образом дать объяснение поступкам, ибо иначе их никто уже не сможет понять к тому времени, когда уйдут участники драмы, уйдут туда, где никакие расследования не помогут докопаться до истины, которую уносит с собой смерть. Поэтому Декуд не стал искать еду и не воспользовался случаем поспать хоть часок, а, торопливо заполняя страницы большого блокнота, писал письмо сестре.
Связь между ними стала такой тесной, что он не мог от нее утаить ни усталости душевной, ни физического утомления, ни иных телесных ощущений, донимавших его. Он снова взялся за письмо так, словно говорил с ней. Он написал: «Я очень хочу есть», — и в этот миг ему почти казалось, что сестра сидит рядом с ним.
«У меня такое ощущение, будто я в пустыне (продолжал он). Возможно, потому, что в окружающем меня хаосе, где то и дело рушатся чьи-то стремления, намерения, надежды, я единственный человек, имеющий определенную идею. Все инженеры ушли отсюда два дня назад и охраняют собственность Национальной Центральной железной дороги, величайшего предприятия нашей Костагуаны, доходы от которого положат себе в карман англичане, французы, американцы, немцы и бог знает кто еще. В гостинице зловещая тишина. Над средней частью дома надстроено нечто вроде второго этажа, где вместо окон узкие отверстия, наподобие бойниц, из которых, вероятно, отстреливались от индейцев в те времена, когда неизменно присущее нашему родимому континенту варварство еще не облачалось в черные фраки политиканов, а вопило и носилось полуголое с луком и стрелами в руках. Сейчас, по-моему, в этой верхней пристройке умирает хозяйка дома, и рядом с ней ни души, один старик муж. Туда наверх ведет узкая лесенка, из тех, встав на которой можно в одиночку защищаться от целой толпы, и я только что слышал сквозь стену, как старикан ходил за чем-то в кухню. Шорох тихий, словно мышь скребется в норке. Все слуги вчера разбежались и не вернулись до сих пор, а может быть, и вообще не вернутся. Так что в доме, кроме хозяев, остались лишь две девочки, их дочки. Отец велел им спуститься вниз, и они прокрались в обеденный зал, возможно, потому что здесь сижу я. Дети забились в угол и жмутся друг к дружке; я их заметил совсем недавно и почувствовал себя еще более одиноким».
Декуд обернулся в их сторону и спросил:
— Здесь у вас есть хлеб?
Хлеба не было — черная головенка Линды закачалась над светлой головкой младшей сестры, которая сидела, прижавшись к плечу старшей.
— Вы не можете достать мне хоть немного хлеба? — настойчиво допытывался Декуд. Девочка не шелохнулась; из угла на него пристально смотрели ее большие темные глаза.
— Вы меня боитесь? — спросил он.
— Нет, — сказала Линда. — Мы вас не боимся. Вы пришли сюда с Джан Батистой.
— Ты говоришь о Ностромо? — спросил Декуд.
— Его так называют англичане, да только это имя не годится ни человеку, ни животному, — сказала девочка, ласково поглаживая голову сестры.
— Но он ведь позволяет так называть себя, — возразил Декуд.
— Не в этом дело, — отрезала Линда.
— А!.. Ну ладно, тогда я буду называть его капатасом.
Разговор на этом прекратился, и Декуд снова начал строчить, а спустя немного времени повернулся к ним вторично.
— Когда он должен возвратиться? — спросил он.
— После того как Джан Батиста вас привез, он поехал в город за сеньором доктором для мамы. Он вернется скоро.
— Если только его не подстрелят где-нибудь по дороге, — довольно внятно проворчал себе под нос Декуд; тоненький голосок Линды прозвучал очень решительно:
— Никто не посмеет стрелять в Джан Батисту.
— Ты думаешь? — сказал Декуд. — Ты уверена в этом?
— Я это знаю, — убежденно ответила девочка. — Здесь нет людей, таких храбрых, чтобы напасть на Джан Батисту.
— Особой храбрости не нужно, чтобы, сидя за кустом, спустить курок, — прошептал Декуд совсем тихо. — Ночь, к счастью, темная, иначе мало было бы шансов спасти серебро из знаменитых рудников.
Он опять склонился над блокнотом, просмотрел написанное и снова взялся за карандаш.
«Таково было положение вчера, после того как „Минерва“ с беглецом президентом отбыла из гавани, и бунтовщиков оттеснили на окраину. Я отправил каблограммы, в которых оповещал о наших успехах, вероятно, не столь уж озабоченное ими человечество, а затем сел рядом с Ностромо на ступеньках собора. Довольно странное явление: хотя контора телеграфной компании находится в одном здании с „Нашим будущим“, толпа, которая выбросила из окна редакции все, что был напечатано, и расшвыряла по площади типографские литеры, ничего не тронула у наших соседей. Когда мы беседовали с Ностромо, Бернгардт, телеграфист, держа бумажную ленту, вышел из-под арки. Этот маленький человечек привязал себя к исполинской сабле и с головы до пят обвешался револьверами. Он смешон, но в то же время это самый храбрый из немцев, когда-либо отстукивавших телеграфным ключом знаки Морзе.
Он получил депешу из Каиты, которая сообщала, что пароходы с армией Барриоса только что прибыли в порт, и кончалась словами: „Войска полны энтузиазма“. Я подошел к фонтану, и какой-то спрятавшийся за деревом негодяй выстрелил в меня с Аламеды. Однако я пренебрег этим и продолжал пить: сейчас, когда Барриос высадился в Каите, а от победоносной армии Монтеро нас отделяют непроходимые хребты Кордильер, мне кажется, я крепко держу в руках свою новую республику, невзирая на господ Гамачо и Фуэнтеса. Я собирался лечь спать, но когда дошел до Каса Гулд, оказалось, что внутренний дворик полон раненых, лежащих прямо на соломе. Горели фонари, стояла душная ночь, и в замкнутом стенами дворе пахло хлороформом и кровью. В дальнем конце дворика рудничный доктор Монигэм перевязывал раненых; на противоположном, у подножья лестницы, отец Корбелан, стоя на коленях, исповедовал умирающего каргадора. Миссис Гулд ходила среди этих жертв побоища с бутылью в одной руке и большим комком ваты в другой. Она посмотрела на меня отсутствующим взглядом. Ее горничная шла за ней следом, тоже с бутылью, и тихо плакала.
Я стал носить из водоема воду для раненых. Потом отправился на верхний этаж и на лестнице встретил нескольких дам из самых знатных семейств, которые выглядели бледней, чем обычно, и несли, набросив их на плечи, бинты. Оказывается, далеко не все здешние дамы спаслись бегством на пароходах. Люди честные в этот страшный день нашли приют в Каса Гулд. На лестничной площадке девушка с распущенными волосами преклонила колени перед нишей, где стоит мадонна в голубых одеждах с позолоченным нимбом вокруг головы. По-моему, это была старшая мисс Лопес; лица мне не удалось разглядеть, зато бросился в глаза высокий французский каблук ее маленькой туфельки. Она была безмолвна, не шевелилась и даже не плакала; в полной неподвижности застыла она так — черный силуэт на фоне белой стены, молчаливое воплощение страстного благочестия. Я уверен, она испугалась ничуть не больше, чем те бледнолицые дамы, которые с бинтами шли навстречу мне по лестнице. Одна из них села на верхние ступеньки и торопливо рвала на полосы кусок простыни — молодая супруга пожилого местного богача. Я ей поклонился, и она, оставив свое занятие, махнула мне рукой в ответ, словно ехала в карете по Аламеде. На женщин нашей родины нужно смотреть, когда в стране происходит восстание. Спадает слой румян и перламутровой пудры, и вместе с ним они сбрасывают с себя безразличие к окружающему миру, которым с первых лет младенчества наделяют их воспитание, традиции, обычай. Мне вспомнилось твое лицо, отмеченное с детства печатью живого ума, и я подумал, как оно непохоже на лица этих женщин, выражающие безропотное смирение, когда недобрый ветер политических бурь сдувает с них косметику и заученную мину.
В большой гостиной наверху заседало нечто вроде совета старейшин, остатки канувшей в Лету Генеральной Ассамблеи. У дона Хусте Лопеса обгорело полбороды, когда он наклонился к дулу, заряженному как назло самодельными пулями, и сейчас все с болью в сердце поглядывали на него. Когда дон Хусте поворачивал голову, казалось, что внутри его фрака помещаются два человека: один импозантный с аристократическими бакенбардами, а второй испуганный и неопрятный.
При моем появлении все закричали: „Декуд! Дон Мартин!“ Я спросил: „О чем вы совещаетесь здесь, господа?“ По-моему, у них не было председателя, хотя дон Хосе Авельянос сидел во главе стола. Они ответили хором: „О том, как сохранить нашу жизнь и собственность“. „До прибытия новых должностных лиц“, — добавил дон Хусте, повернувшись в мою сторону импозантной стороной лица. Мне показалось, что струя холодной воды хлынула на разгоравшуюся во мне идею свободной республики. В ушах у меня зашумело, все расплылось перед глазами, будто комната внезапно наполнилась туманом.
Я неуверенно, как пьяный, подошел к столу. „Вы совещаетесь о том, как сдаться“, — сказал я. Все сидели неподвижно, уткнув носы в листки бумаги, лежавшие, бог знает зачем, перед каждым из них. И только дон Хосе закрыл лицо руками и тихо произнес: „Никогда! Никогда!“ Но чем дольше я смотрел на него, тем сильнее мне казалось, что стоит только дунуть, и он улетит, — таким хрупким, таким слабым, таким изнуренным он выглядел. Он не выживет, что бы ни произошло. Человек его возраста не может перенести такого крушения надежд; к тому же разве он не видел, как страницы „Пятидесяти лет бесправия“ валялись на Пласе, плавали в сточных канавах, служили пыжами для петард, заряженных горстями типографских литер, носились по ветру, как их затаптывали в грязь? Я заметил даже, как некоторые страницы покачивались на волнах залива. Безрассудно ожидать, что он выживет. Безрассудно и даже жестоко.
— Да знаете ли вы, — крикнул я, — что вам принесет капитуляция? Что сделают с вашими женами, детьми, с вашим имуществом?
Так я ораторствовал целых пять минут, по-моему, ни разу не переведя дыхания, твердил им о наших надеждах на успех и о жестокости Монтеро, которого изобразил страшным зверем, каким ему несомненно очень хотелось бы и в самом деле стать, если бы у него хватило ума установить во всей стране царство террора. А затем еще пять минут, если не больше, я превозносил их мужество и отвагу с красноречием, на которое вдохновила меня моя пылкая любовь к Антонии.
Ведь мы говорим хорошо только тогда, когда движимы личным чувством — к примеру, разоблачаем врага, защищаем свою жизнь или добиваемся того, что нам поистине дороже жизни. Мой голос гремел, дорогая сестренка. Он звучал так оглушительно, что, казалось, вот-вот рухнут стены зала, а когда я умолк, то увидел, что все смотрят на меня испуганно и недоверчиво. Вот и все, чего я достиг! Только поникшая голова дона Хосе опускалась все ниже и ниже. Я приблизил ухо к его морщинистым губам и услышал, как он прошептал что-то вроде: „Ну что ж, с богом тогда, Мартин, сын мой!“ Он говорил невнятно. Я уверен лишь, что расслышал слово „бог“. Мне показалось, что я уловил его последнее дыхание… дыхание покидающей его души.
Он, впрочем, еще жив. Я видел его после этого; но от него осталось только дряхлое, укутанное до подбородка тело, которое лежит на спине с открытыми глазами так неподвижно, что может показаться, что он уже не дышит. Возле кровати на коленях стояла Антония; тут я покинул их, а сам отправился на итальянский постоялый двор, где вездесущая смерть тоже поджидает очередную жертву. Но я знаю: он уже умер там, в Каса Гулд, когда шепотом одобрил мои намерения, без сомнения кощунственные для него, дипломата, вся душа которого скована почтением к священной сущности обязательств, договоров и торжественных заявлений. Я громко воскликнул в ответ: „Нет бога в стране, где люди не желают даже пальцем шевельнуть в свою защиту“.
Тем временем дон Хусте начал весьма продуманную речь, впечатление от которой было подпорчено плачевным состоянием его бороды. Я не стал дожидаться конца и вышел. Кажется, он нас убеждал, что намерения Монтеро (которого он уважительно именовал „генералом“), возможно, вовсе не плохи, „хотя, — продолжал он, — этот незаурядный человек (всего неделю назад мы называли его скотиной), вероятно, ошибся в выборе средств“. Как ты догадываешься, я не выслушал всю речь полностью. Мне известны намерения генеральского брата, Педрито, участника герильи[92], которого я разоблачил несколько лет назад в Париже, в посещаемом южноамериканскими студентами кафе, где он пытался выдать себя за секретаря посольства. Он приходил туда и разглагольствовал часами, теребя волосатыми ручищами фетровую шляпу, и воображал себя чуть ли не Наполеоном, по меньшей мере герцогом де Морни[93]. Уже в те времена о старшем брате он говорил только высоким стилем. Он мог почти не опасаться, что его выведут на чистую воду, так как студенты, юноши из обедневших дворянских семей, не были, как ты, конечно, понимаешь, завсегдатаями посольства. Только Декуд, человек без принципов и чувства чести, как все утверждали, порой забавы ради заглядывал туда, как мог бы, скажем, заходить взглянуть на дрессированных обезьян.
Намерения Педрито мне известны. Ведь я собственными глазами видел, как он собирает грязные тарелки со стола. Кое-кому, возможно, и позволят жить в вечном страхе, а мне предстоит умереть.
Нет, я не дослушал до конца, как дон Хусте Лопес самым серьезным образом пытается убедить себя в милосердии, справедливости, честности и бескорыстии братьев Монтеро. Я повернулся и ушел искать Антонию. Я нашел ее в галерее. Когда я открыл дверь, она протянула ко мне руки.
— Чем они там занимаются? — спросила она.
— Беседуют, — сказал я, глядя ей в глаза.
— Да, да, но…
— Пустые речи, — перебил я. — За безумными надеждами скрывают страх. Они тут все великие парламентарии… на английский, знаете ли, образец. — От ярости мне трудно было говорить. Антония безнадежно махнула рукой.
Из-за двери, которую я оставил приоткрытой, доносился голос дона Хусте; словно в приступе помешательства, он с торжественной мрачностью, размеренно и монотонно, изрекал фразу за фразой.
— В конце концов стремление к демократизации, по всей вероятности, закономерно. Пути прогресса непредсказуемы, и, если судьба нашей страны находится в руках Монтеро, нам надлежит…
Я с грохотом захлопнул дверь. Вполне достаточно… и даже слишком. Вероятно, никогда еще прекрасное лицо женщины не выражало столько ужаса и отчаяния, как лицо Антонии в этот миг. Я не выдержал и схватил ее за руки.
— Что они сделали с моим отцом? Они его убили? — спросила она.
Ее глаза сверкали гневом, но я как зачарованный продолжал смотреть на нее, и постепенно ее взгляд смягчился.
— Это капитуляция, — сказал я. Помню, я тряс ее руки. — Но не все здесь заняты пустой болтовней. Ваш отец во имя господа просил меня продолжать начатое.
Что-то есть в Антонии, дорогая сестричка, отчего мне кажется, будто я способен на какой угодно подвиг. Стоит мне взглянуть в ее лицо, и я готов свернуть горы. А между тем я люблю ее так же, как любят женщин все другие мужчины, — я слышу голос сердца и больше ничего. Она для меня дороже, чем церковь для отца Корбелана (прошлой ночью настоятель нашего собора покинул город, возможно, намерен присоединиться к шайке Эрнандеса). Она мне дороже, чем для этого сентиментального англичанина его бесценные рудники. О его жене не стану говорить. Ей, возможно, было некогда знакомо чувство. Рудники Сан Томе разделили этих двоих.
— Ваш отец, Антония, — повторял я. — ваш отец, вы слышите, просил меня продолжать.
Она отвернулась, и в ее голосе было столько страдания…
— Просил? — воскликнула она. — Тогда я боюсь, что он действительно не заговорит больше уж никогда.
Она высвободила руки, которые я все еще сжимал, достала носовой платок и расплакалась. Я не стал ее утешать: видеть ее несчастной было все же предпочтительнее, чем не видеть ее вообще, чем никогда больше ее не увидеть; убегу я или умру, оставшись здесь, вместе нам не быть, у нас нет будущего. А при таком положении дел я не мог себе позволить сочувствовать ее преходящей печали. Не дав ей выплакаться, я отослал ее за доньей Эмилией и доном Карлосом. Без их сантиментов мой план обречен на гибель; удивительное явление сентиментальность этих людей, которые даже самое страстное свое желание исполнят лишь в том случае, если оно будет облечено в лучезарные ризы идеи.
Мы составили прошлой ночью совет четырех, — обе женщины, дон Карлос и я. — заседавший в бело-синем будуаре миссис Гулд.
Король Сулако несомненно считает себя безупречно честным человеком. Таковым он и является, в чем может убедиться тот, кто сумеет пробиться сквозь броню его молчаливости. Возможно, он полагает, что именно неразговорчивость и делает его честность такой безупречной. Эти англичане живут иллюзиями, которые каким-то образом помогают им достигать вполне практических успехов. Во время разговора он изредка бросает „да“ и „нет“, бесстрастные, как изречения оракула. Впрочем, меня не вводит в заблуждение его молчаливость. Я знаю, что его заботит: рудники; а жену его заботит только драгоценная особа ее мужа, который нерасторжимо связал себя с концессией Гулда и взвалил эту ношу на плечи маленькой хрупкой женщины. Меня это не смущало. Моей задачей было заставить его так преподнести все дело Холройду (стальному и серебряному королю), чтобы обеспечить его финансовую поддержку.
Вчера вечером, в это самое время, ровно двадцать четыре часа назад, мы полагали, что привезенное с рудников серебро лежит в хранилищах таможни и в полной безопасности дожидается, когда его увезет направляющийся на север пароход. И до тех пор пока поток серебра будет не иссякая течь на север, сентиментальный Холройд не только не поборет в себе стремления насаждать на отсталых континентах Земли справедливость, трудолюбие, мир, но и любезную его сердцу мечту научить нас истинному христианству. Позже на наш конклав был допущен самый важный из европейцев, живущих в Сулако, главный инженер железной дороги, который прискакал из гавани верхом. Тем временем совет старейшин в большой гостиной все еще размышлял; и лишь один из них выскочил в коридор и спросил слугу, нельзя ли принести чего-нибудь поесть. Когда главный инженер вошел в будуар, он осведомился, стоя на пороге:
— Что творится в вашем доме, дорогая миссис Гулд? Внизу госпиталь, а наверху открыли ресторан. Я видел, как в гостиную вносили подносы, уставленные разными аппетитными блюдами.
— А здесь, в будуаре, — заметил я, — перед вами тайный кабинет будущей Западной республики.
Он был так озабочен, что даже не улыбнулся, даже удивления не появилось на его лице.
Он сказал, что был на товарной станции и отдавал распоряжения по поводу мер, необходимых для охраны собственности дороги, когда его позвали в их телеграфную контору. С ним хотел говорить инженер конечного пункта дороги, находящегося сейчас у подножья горы. В конторе были только главный инженер и телеграфист, читавший вслух сообщение прямо с телеграфной ленты, которая выползала из аппарата и кольцами укладывалась на полу. Суть сообщения, которое, волнуясь, отстукивал другой телеграфист в деревянной хижине в дебрях леса, заключалась в том, что за президентом Рибьерой послана погоня. Это оказалось полной неожиданностью для всех нас, живущих в Сулако.
Рибьера уступил настойчивым просьбам друзей и покинул штаб-квартиру своей разбитой армии, взяв в качестве проводника только погонщика мулов Бонифацио, выразившего готовность участвовать в этом рискованном предприятии. Он отбыл на рассвете на третий день после битвы. Остатки его войск улетучились за ночь.
Президент и Бонифацио сели на лошадей и во весь опор помчались к Кордильерам; позже они пересели на мулов, вступили на горные тропы и едва успели пересечь Пустынное Плоскогорье, как порывистый ледяной ветер пронесся по каменистому плато и до крыши засыпал снегом каменную хижину, в которой они ночевали. После этого злосчастный Рибьера перенес множество испытаний: ему пришлось остаться без проводника, он лишился мула, с превеликим трудом пешком спустился на Кампо, и, так как до Сулако оставался еще долгий путь, он наверняка погиб бы, если бы не попросил о помощи одного крестьянина. Этот человек, который, кстати, узнал его с первого взгляда, отдал ему своего мула, крепкое и сильное животное, которого дородный и неискусный в верховой езде беглец замучил до смерти. А за ним в самом деле гнался отряд, во главе которого стояла такая важная персона, как Педро Монтеро, брат генерала.
К счастью, холодные ветры плоскогорья задержали преследователей на вершине перевала. В отряде, не защищенном от их пронизывающих порывов, погибли все животные и несколько человек. Отставшие погибли, но основная часть отряда выжила. Они нашли беднягу Бонифацио, который полумертвый лежал у подножья крутого склона, и добили его штыком, в точности следуя бесчеловечным обычаям междоусобной войны. Им удалось бы захватить и Рибьеру, если бы по какой-то неизвестной причине они не вздумали свернуть со старинной наезженной Королевской дороги, после чего они заблудились в лесах уже у подошвы гор. И тут они внезапно наткнулись на строительный лагерь железной дороги. Инженер конечного пункта по телеграфу сообщил начальнику, что Педро Монтеро сидит прямо тут, в конторе, и слушает, как щелкает аппарат. Педро намерен захватить Сулако во имя „демократии“. Он держит себя очень властно. Его люди, — разумеется, без позволения, — прирезали нескольких принадлежащих компании коров и жарят мясо на тлеющих углях. Педро засыпал инженера множеством вопросов относительно серебряных рудников и с большой дотошностью допытывается, что стало с продукцией, полученной за последние шесть месяцев. Он надменно приказал: „Спроси у своего начальника, вот по этому самому телеграфу, он должен все знать; скажи ему, дон Педро Монтеро, наместник Кампо и министр Центральной части страны в кабинете нового правительства, желает получить точные сведения“.
Его ноги были обмотаны окровавленными тряпками, у него худое, изможденное лицо, нечесаная борода и шевелюра, а вошел он, прихрамывая и опираясь на кривую ветку, заменявшую ему трость. Его сподвижники, вероятно, пребывали в еще более плачевном состоянии, но оружия, кажется, не побросали, во всяком случае, сохранили часть боеприпасов. Их осунувшиеся физиономии заглядывали и в дверь, и в окна. Так как хижина, где стоял аппарат, одновременно служила спальней инженеру, Монтеро сразу плюхнулся на чистую постель, скорчился там, трясясь в приступе лихорадки, и диктовал приказы, которые надлежало передать по телеграфу в Сулако. Он требовал, чтобы ему прислали поезд, на который он погрузит всех своих людей.
— На это я ответил, — рассказывал нам главный инженер, — что не рискую отправлять вагоны во внутреннюю часть страны, поскольку там уже несколько раз были попытки устроить железнодорожную катастрофу. Я отказал им из-за вас, Гулд, — добавил главный инженер. — Ответ последовал такой, — я в точности цитирую моего подчиненного. — „Грязная скотина, лежащая на моей кровати, спрашивает: „А если я тебя застрелю?““ На что мой подчиненный, который, как я понимаю, сам выполнял обязанности телеграфиста, ответил, что поезд от этого не возникнет. Тогда Монтеро, зевая, сказал: „Наплевать, на Кампо лошадей хватает“. Потом перевернулся на бок и уснул в постели Гарриса.
Вот почему, дорогая сестрица, я сегодня превратился в беглеца. Последняя депеша с конечного пункта гласит, что Монтеро со своей бандой отбыл на рассвете, после того как они всю ночь угощались жареной говядиной. Они забрали всех лошадей; обменяют их на свежих по дороге; не пройдет и тридцати часов, как они будут здесь, а потому Сулако неподходящее место ни для меня, ни для огромного груза серебра, принадлежащего концессии Гулда.
Впрочем, это еще не самое худшее. Гарнизон Эсмеральды перешел на сторону победившей клики. Об этом мы узнали от служащего городской телеграфной компании, явившегося ранним утром в Каса Гулд, чтобы сообщить нам эти вести. Он пришел еще затемно. Его коллега из Эсмеральды известил его, что местный гарнизон, застрелив нескольких офицеров, захватил стоявший в гавани на якоре правительственный пароход. Для меня это тяжелейший удар. Я думал, что могу положиться на всех жителей этой провинции. Я ошибся. В Эсмеральде вспыхнул такой же бунт, какой пытались затеять в Сулако, с той разницей, что здесь у них ничего не вышло. Телеграфист из Эсмеральды все время переговаривался с Бернгардтом, и последние переданные им слова были: „Они ломятся в дверь и ворвались в здание телеграфной станции. Вы отрезаны. Поддерживать связь больше не могу!“
Но ему удалось обмануть бдительность своих стражей, которые пытались помешать ему связаться с окружающим миром. Удалось, несмотря ни на что. Каким образом — не знаю, но несколько часов спустя он опять вызвал Сулако и передал следующее: „Мятежники захватили стоящий в заливе правительственный пароход и грузят на него войска, чтобы отправиться вдоль берега в Сулако. Берегитесь. Через несколько часов они будут готовы к отплытию и еще до рассвета могут оказаться у вас“.
Вот все, что он сумел нам сообщить. Его оттащили от телеграфного аппарата и, видимо, на сей раз навсегда, так как после этого Бернгардт неоднократно вызывал Эсмеральду, но ответа не получал».
Написав эти слова, Декуд поднял голову и прислушался. Было очень тихо, и в комнате, и во всем доме; только капала вода из фильтра в огромный глиняный кувшин. За окнами тоже царила гробовая тишина. Декуд опять склонился над блокнотом.
«Ты понимаешь, что я не спасаюсь бегством, — писал он. — Я просто отбываю с драгоценным грузом, увезти который надо во что бы то ни стало. Педро Монтеро — по просторам Кампо, и мятежный гарнизон Эсмеральды — морем движутся к нему с двух сторон. Добыча, на которую они нацелились, оказалась для них доступной лишь благодаря случайности. Тебе не надо объяснять, что главный предмет их вожделений не последняя партия серебра, а сами рудники; если бы не Сан Томе, о Западной провинции, конечно, никто не стал бы вспоминать еще несколько месяцев, а потом на досуге ее спокойно прибрали бы к рукам. Дону Карлосу Гулду предстоит много хлопот, чтобы спасти рудники, — всю сложную систему управления и людей, работающих там, — свою „Imperium in Imperio“, предприятие, дающее огромный доход, которое он со свойственной его натуре сентиментальностью почему-то считает олицетворением справедливости. Он одержим этой идеей, как другие бывают одержимы любовью или жаждой мести. Если я правильно сужу об этом человеке, он не допустит в Сан Томе мятежников, в крайнем случае уничтожит рудники. В размеренное и холодное существование идеалиста тайком проникла страсть. Страсть, постичь которую я могу только умом. Страсть, непохожая на чувства, знакомые нам, людям иной крови. Но его страсть не менее опасна, чем наша.
Жена Гулда тоже это понимает. Поэтому для меня она отличная союзница. Она готова поддержать любое мое предложение, так как чутье подсказывает ей, что в конце концов все они будут способствовать безопасности концессии Гулда. И он считается с ее мнением, потому что, вероятно, доверяет ей, но мне кажется, главная причина в его желании загладить перед ней свою вину, которую он смутно ощущает: неверность сердца, побудившая его принести в жертву ради полюбившейся ему идеи жизнь и счастье женщины. Она уже знает, что он посвятил себя не ей, а рудникам. Но бог с ними. Каждому своя судьба, начертанная сентиментальностью или страстью. Главное, что миссис Гулд поддержала мой совет увезти серебро из города, из страны, немедля, любой ценой, невзирая на все опасности. Цель дона Карлоса сохранить незапятнанную репутацию своих рудников; цель миссис Гулд оградить мужа от последствий его холодной всепоглощающей страсти, которая внушает ей больший ужас, чем внушило бы его увлечение другой женщиной. Цель Ностромо спасти серебро.
Мы решили погрузить его на самый большой баркас, принадлежащий компании, и переправить через залив в маленький порт, расположенный на самом отдаленном краю полуострова Асуэра, за пределами Костагуаны, откуда его заберет первый же пароход, идущий на север. Воды здесь спокойные. Мы незаметно ускользнем в густую тьму залива, прежде чем появятся бунтовщики из Эсмеральды; а к рассвету будем уже вне поля зрения, невидимы, спрятаны Асуэрой, которая и сама-то, если глядеть отсюда с берега, напоминает голубое облачко на горизонте.
Неподкупный капатас каргадоров выполнит эту задачу; я же, вдохновленный страстью, но не целью, буду сопровождать его, а затем вернусь… доигрывать свою роль в этом фарсе и, в случае удачи, получить награду, вручить которую мне может лишь Антония.
Я не увижу ее до отъезда. Я оставил ее, как уже говорил, у постели дона Хосе. На улице было темно, дома заперты, и я шел сквозь ночь к городским воротам. Вот уже двое суток в Сулако не зажигают фонарей, и тени под аркой ворот так черны и непроглядны, что показались мне строением, похожим на невысокую башню, из которой доносились тихие унылые жалобы, а в ответ что-то невнятно бормотал мужской голос.
Я уловил беспечные и небрежные интонации того самого генуэзского моряка, случайно, как и я, оказавшегося в Сулако и вовлеченного в водоворот событий, к которым так же, как и я, он относится с хладнокровным презрением скептика. Единственное, к чему он, насколько я могу судить, стремится — это пользоваться доброй славой. Предмет желаний, достойный благородной души, но в то же время выгодный для очень умного негодяя. Да, да. Он сам мне сказал: „Хочу, чтобы обо мне хорошо говорили. Sí. señor“[94]. Говорят о нем хорошо или думают, ему, по-моему, безразлично. Интересно, что это — полнейшая наивность или практический расчет? Исключительные личности всегда меня интересовали, потому что очень точно выражают моральное состояние общества.
Я, не останавливаясь, прошел под аркой, и он догнал меня уже на дороге, ведущей в порт. У женщины, которая с ним говорила, случилась беда. Из щепетильности я его не расспрашивал. Он сам заговорил, немного погодя. Оказалось совсем не то, что я думал. Это была просто старая женщина, старуха кружевница, которая разыскивала сына, метельщика улиц. Вчера на рассвете приятели сына подошли к дверям их лачуги и вызвали его. Он ушел вместе с ними, и с тех пор мать его не видела; она оставила на потухших углях еду, не достряпав ее до конца, и поплелась в порт, где, как ей сказали, в то утро, когда начался бунт, убили нескольких парней из города. Один из каргадоров, охранявших таможню, принес фонарь и подвел ее к лежавшим прямо на земле трупам. Ее сына среди них не оказалось, и сейчас она шла обратно. Она сильно устала и, охая, присела передохнуть на каменную скамью под аркой. Капатас расспросил старуху и, выслушав ее жалобный сбивчивый рассказ, посоветовал поискать сына среди раненых во внутреннем дворе Каса Гулд. А еще он дал ей четверть доллара, — беспечно добавил он.
— Зачем вы это сделали? — спросил я. — Вы ее знаете?
— Нет, сеньор. По-моему, я ее никогда не видел. Да и не мудрено. Она, возможно, уже много лет не выходила на улицу. Это ведь одна из тех местных старух, что сидят на корточках перед очагом где-нибудь за хижиной, а рядом лежит палка, но у них не хватает сил даже отогнать от своих кастрюль бродячую собаку. По голосу слышно, что смерть просто забыла о ней. Только старые ли, молодые, деньги они любят и будут хорошо говорить о человеке, от которого их получили. — Он коротко рассмеялся. — Ох, с какой жадностью схватила она монету. — Он помолчал. — Последнюю, между прочим, — добавил он.
На это я не сказал ничего. Он известен своей щедростью и невезением в „монте“, из-за чего до сих пор остался таким же нищим, каким был в день приезда сюда.
— Я полагаю, дон Мартин, — заговорил он задумчиво, что-то прикидывая в уме, — я полагаю, сеньор администрадо́р Сан Томе наградит меня когда-нибудь за то, что я спас его серебро?
Я ответил, что иначе, разумеется, и быть не может. Он шел и бормотал себе под нос: „Да, да. Ну, конечно, конечно, и вот заметьте, сеньор Мартин, как это важно, когда о тебе хорошо говорят! Никому бы и в голову не пришло дать такое поручение другому человеку. Меня когда-нибудь за это щедро наградят. Только поскорее бы, — добавил он. — Время в этой стране летит так же быстро, как и повсюду“.
Таков, дорогая сестричка, мой спутник, с которым я пустился в великое бегство ради великого дела. Он скорей наивен, чем практичен, скорей искусен, чем ловок, щедрее растрачивает себя, чем тратят деньги люди, прибегающие к его услугам. Во всяком случае, он так думает о себе, и в его мыслях больше гордости, чем сентиментальности. Я рад, что подружился с ним. В роли сотоварища он гораздо более значителен, чем в те времена, когда являлся чем-то вроде гения невысокого ранга — оригинальный итальянец, моряк, которому позволялось в часы затишья заходить в редакцию „Нашего будущего“ и запросто болтать с издателем после того, как номер отправлен в набор. К тому же любопытно встретить человека, измеряющего ценность жизни личным престижем.
Сейчас я ожидаю его здесь. Когда мы прибыли на постоялый двор Виолы, девочки сидели внизу, а старик генуэзец при виде земляка закричал ему, чтобы тот немедленно отправлялся за доктором. Иначе мы уже двигались бы к пристани, где, вероятно, капитан Митчелл с помощью нескольких добровольцев из числа европейцев и немногих избранных каргадоров грузит баркас серебром, дабы оно не попало в лапы к Монтеро, а наоборот — было использовано ему на погибель.
Ностромо вскочил на лошадь и как бешеный помчался в город. Он что-то долго не возвращается. Эта отсрочка позволяет мне поговорить с тобой. К тому времени, когда этот блокнот попадет к тебе в руки, многое может случиться. Но мне выпала передышка сейчас, когда над нами уже витает смерть в этом безмолвном доме, затерявшемся в глухой ночи; наверху умирает женщина, и двое детей съежились в уголке и молчат, а сквозь стену слышно, как старик ходит вверх и вниз по лестнице и шуршит тихонько, будто мышь в норе. Я же, единственный посторонний в доме, не знаю толком, числить ли себя среди мертвых или живых. „Кто знает?“ — обычно отвечают здесь на любой вопрос. Но нет! Моя любовь к тебе, конечно, не мертва, да и все вместе, этот дом, ночь, дети, молча сидящие в полутемной комнате, даже то, что я здесь нахожусь, — все это жизнь… Наверное, жизнь, хотя очень похоже на сон».
Дописав последнюю строку, Декуд внезапно забылся. Он качнулся над столом, словно в него попала пуля. Уже через мгновение он в замешательстве огляделся — ему почудилось, будто он слышит, как катится по полу его карандаш. Низкая дверь обеденного зала распахнулась, в нее падал ослепительный свет факела, выхватывающего из темноты голову коня. Лошадь мела хвостом по ноге всадника с длинной железной шпорой на голой пятке. Девочки исчезли, а посредине комнаты стоял Ностромо и поглядывал на Мартина из-под полей низко надвинутого на лоб сомбреро.
— Я привез в карете сеньоры Гулд этого английского доктора с уксусной физиономией, — сказал Ностромо. — Думаю, несмотря на всю свою мудрость, он не сможет на сей раз спасти хозяйку. Они послали за детьми. Дурной знак.
Ностромо сел на край скамьи.
— Она, наверное, хочет благословить их на прощанье.
Постепенно приходя в себя, Декуд сказал, что он, кажется, крепко уснул, и Ностромо, слегка улыбаясь, подтвердил, что, заглянув в окно, видел, как он неподвижно привалился к столу и уткнулся лицом в руки. Английская сеньора тоже приехала в карете и сразу поднялась наверх вместе с врачом. Она его попросила не будить пока дона Мартина; но когда Ностромо послали за детьми, ему пришлось войти в обеденный зал.
Половина лошади и половина всадника за дверью внезапно дернулись; свет факела из пакли и смолы, засунутого в железную корзину, которая покачивалась на палке, прикрепленной к луке седла, на миг ворвался в комнату, куда торопливо вошла миссис Гулд, очень усталая и бледная. Капюшон темно-синего плаща упал ей на спину. Мужчины встали.
— Тереза хочет видеть вас, Ностромо, — сказала она.
Капатас не двинулся с места. Декуд, стоявший спиной к столу, принялся застегивать сюртук.
— Серебро, миссис Гулд, серебро, — тихо произнес он по-английски. — Не забывайте, что гарнизон Эсмеральды захватил пароход. Они могут в любой момент появиться у входа в гавань.
— Доктор говорит, надежды нет, — быстро сказала миссис Гулд, тоже по-английски. — Я отвезу вас в своей карете в порт, потом вернусь сюда и заберу девочек. — Она повернулась к Ностромо и сразу же перешла на испанский. — Почему вы все еще здесь? Жена старого Джорджо хочет вас видеть.
— Я иду, сеньора, — отозвался капатас.
Появился доктор Монигэм; он привел назад детей. Миссис Гулд бросила на него вопросительный взгляд, но он лишь покачал головой и тут же вышел, сопровождаемый Ностромо.
Лошадь факельщика стояла, не двигаясь и опустив голову, а всадник отпустил поводья и закуривал сигарету. Отблески пламени метались по фасаду дома, на котором чернели крупные буквы названия гостиницы; впрочем, полностью освещено было только слово «ИТАЛИЯ». Один из бликов падал на карету миссис Гулд и дремлющего на козлах желтолицего осанистого Игнасио. Рядом с ним Басилио, костлявый и смуглый, обеими руками прямо перед собой держал винчестер и с ужасом таращился в темноту. Ностромо осторожно прикоснулся к плечу доктора.
— Она и в самом деле умирает, сеньор доктор?
— Да, — ответил доктор, и его изувеченная шрамом щека как-то странно дернулась. — А вот почему ей хочется вас увидеть, ума не приложу.
— С ней ведь и раньше бывало такое, — проговорил Ностромо, не глядя ему в лицо.
— Знаете что, капатас, могу вас заверить, больше с ней такого уже не будет, — злобно огрызнулся доктор Монигэм. — Воля ваша — можете подняться к ней, а можете и не подниматься. Разговоры с умирающими неприбыльное занятие. Но она в моем присутствии сказала донье Эмилии, что относилась к вам, как мать с того дня, когда вы сошли на этот берег.
— Да! И никогда никому обо мне не сказала ни единого доброго слова. Больше было похоже на то, что она не может мне простить, как это я живу на белом свете да к тому же стал таким человеком, каким ей хотелось бы видеть своего умершего сына.
— Возможно! — прогремел возле них низкий скорбный голос. — У женщин есть разные способы себя мучить. — Это вышел из дому Джорджо Виола. Его тень была густой и черной, и факел освещал его лицо, крупную голову с пышными седыми волосами. Он протянул руку и подтолкнул капатаса к дверям.
Доктор Монигэм, порывшись в деревянном полированном ящичке с лекарствами, который лежал на сиденье коляски, вынул флакончик со стеклянной пробкой и сунул его в большую дрожащую руку старика Джорджо.
— Время от времени давайте по столовой ложке, разбавив водой, — сказал он. — Ей будет полегче.
— А кроме этого для нее уже ничего не осталось? — с болью в голосе спросил старик.
— Нет. Ничего, — не поворачиваясь, отозвался доктор и щелкнул замком.
Ностромо медленно прошел по большой кухне, ничем не освещенной, кроме углей, горевших в плите, на которой громко булькала вода, кипевшая в железном котле. По узкой лестнице, заключенной между двумя стенами, струился яркий свет из комнаты наверху; и лихой капатас каргадоров, бесшумно движущийся в мягких комнатных сандалиях, с пышными усами и в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, которая не закрывала мускулистую шею и бронзовую грудь, был точь-в-точь матрос со Средиземного моря, только что сошедший на берег с какой-нибудь груженной вином или фруктами фелуки. Поднявшись наверх, он остановился, широкоплечий, узкобедрый, гибкий, и посмотрел на большую кровать, похожую на парадное ложе, застланную белоснежным бельем, а среди всего этого великолепия сидела Тереза, не опираясь на подушки и низко опустив красивое темнобровое лицо. Густые черные, как смоль, волосы, в которых виднелось лишь несколько белых нитей, покрывали ее плечи; одна волнистая прядь спустилась и прикрыла щеку. В этой позе она замерла неподвижно, однако все ее существо выражало беспокойство и тревогу, а глаза смотрели только на Ностромо.
Капатас носил красный шарф, много раз обвитый вокруг талии, и массивный серебряный перстень, блеснувший на указательном пальце руки, которую он поднял, чтобы подкрутить усы.
— Эти восстания, эти восстания, — задыхаясь, говорила сеньора Тереза. — Взгляни, Джан Батиста, они убили меня наконец!
Ностромо ничего не ответил, и женщина, глядя снизу вверх, настойчиво повторила:
— Взгляни, это последнее восстание меня убило, пока ты ездил куда-то сражаться за что-то, что тебя вовсе не касается, дурак.
— К чему так разговаривать? — пробурчал сквозь зубы капатас. — Вы, наверное, никогда не поверите, что у меня есть голова на плечах. Я должен быть всегда таким, каким меня все знают; это важно: что бы ни случилось — я такой же, как всегда.
— Ты и в самом деле не меняешься, — с горечью заметила она. — Только о себе и думаешь, а плату получаешь похвалами от людей, которым на тебя наплевать.
Враждебность связывала их так же тесно, как связывают взаимное согласие и приязнь. Ностромо не оправдал ожиданий Терезы. А ведь никто иной, как она, уговорила его уйти с корабля в надежде, что он станет другом и защитником ее дочерей. Жена старого Джорджо знала, что слаба здоровьем, и ее мучил страх: как в случае беды придется ее одинокому немолодому мужу и беззащитным детям. Ей захотелось принять в свою семью этого спокойного и уравновешенного на вид молодого человека, симпатичного и покладистого, да к тому же, как он ей рассказывал, оставшегося с младенческих лет сиротой и не имевшего в Италии родственников, кроме дяди, владельца и капитана фелуки, который так скверно обращался с племянником, что тот сбежал от него тринадцати лет.
Он показался ей отважным и трудолюбивым человеком, который непременно добьется в жизни своего. Он будет благодарен им и, конечно, привыкнет и станет для них с мужем, как сын; и кто знает, когда вырастет Линда… десять лет разницы между мужем и женой не так уж много. Ее собственный супруг почти на двадцать лет ее старше. А кроме того, Джан Батиста привлекательный парень; он нравится и мужчинам, и женщинам, и детям, потому что от него всегда словно исходит тихий сумеречный свет, глубокое незыблемое спокойствие, которое придает еще больше обаяния его мужественной внешности, твердости и решительности.
Старый Джорджо, не имевший представления о помыслах и надеждах жены, был очень расположен к своему молодому земляку. «Не положено мужчине быть тихоней», — повторял он ей не раз испанскую пословицу, вступаясь за бесшабашного капатаса. А Тереза ревновала его к успеху. Ей казалось, Ностромо ускользает от нее. Ее практическая натура возмущалась безалаберностью, с какой он расточал те самые свои способности, которые так высоко ценились. Слишком уж мало ему за них платили. А он не знает меры в своей щедрости — готов кому угодно услужить, — думала она. И денег не откладывает. Она ела его поедом за бедность, за подвиги, за приключения, за амурные дела, за известность; но в сердце своем ни разу от него не отступилась, словно он и вправду был ее сыном.
И сейчас, больная, такая больная, что уже чувствовала холодное, черное дыхание надвигающегося конца, она захотела его увидеть. Будто протянула онемевшую руку и ждала, чтобы та обрела былую цепкость. Но бедняга переоценила свои силы. Она не могла собраться с мыслями; в голове стоял туман и в глазах — туман. Слова не выговаривались, и только самая главная в ее жизни забота, самое главное желание словно оставалось неподвластным смерти.
Капатас сказал:
— Я все это слышал уже много раз. Вы несправедливы, но меня это не задевает. Только сейчас, сдается мне, у вас не хватит сил говорить, а у меня недостанет времени слушать. Я занят, мне поручено очень важное дело.
С большим усилием она спросила его, правда ли, что у него нашлось время привезти ей врача. Ностромо кивнул.
Она обрадовалась, даже почувствовала себя лучше, узнав, что этот человек был так милостив и позаботился о тех, кто действительно нуждался в его помощи. Это доказывает его дружбу. Ее голос окреп.
— Священник нужен мне больше, чем доктор, — горячо заговорила Тереза. Головы она не подняла; только скосила глаза, чтобы видеть стоящего возле кровати Ностромо. — Ты съездишь за священником? Не торопись, подумай! Тебя просит умирающая!
Ностромо решительно покачал головой. Он не верил священникам, не верил в их причастность к промыслу божию. Врач может помочь делом, но священник как таковой просто ничто и ни добра, ни зла сделать не может. Ностромо даже не разделял той неприязни, которую испытывал к ним старый Джорджо. Его больше всего поражала их полнейшая никчемность.
— Хозяйка, — сказал он, — вы уже и раньше так болели, а через несколько дней поправлялись. Мне нельзя больше задерживаться, у меня не осталось ни одной минутки. Попросите сеньору Гулд, пусть она пришлет вам священника.
Ему было неловко, он понимал, что отказывать в такой просьбе — кощунство. Тереза верит священникам, она исповедуется им. Но ведь все женщины исповедуются. Он не сделал ничего страшного. И все же у него на миг заныло сердце — он представил себе, как важна для нее последняя исповедь, если она верует хоть немного. Впрочем, хватит. У него и в самом деле не осталось ни одной минуты.
— Ты отказываешь мне? — изумилась она. — О… воистину, ты всегда останешься самим собой.
— Да поймите же, хозяйка, — твердил он. — Я должен спасти серебро, привезенное из Сан Томе. Вы меня слышите? Это такая ценность, с какой не сравнятся сокровища, которые, как говорят, охраняют призраки и демоны на Асуэре. Истинная правда. Я решил: пусть это будет самый отчаянный поступок за всю мою отчаянную жизнь.
Ее охватила бессильная ярость. Отказаться выполнить даже такую просьбу! Ностромо, глядевший сверху на ее опущенную голову, не видел ее лица, искаженного гневом и болью. Он только видел, как она дрожит. Ее опущенная голова вздрагивала. Широкие плечи тряслись.
— Ну что ж, господь, надеюсь, смилуется надо мною.
А ты уж постарайся, чтобы и на твою долю досталось что-нибудь, кроме укоров совести, которые когда-нибудь одолеют тебя.
Она тихонько засмеялась.
— Отхвати хоть раз в жизни изрядный куш, незаменимый Джан Батиста, общий любимец, для которого покой умирающей женщины значит меньше, чем похвалы людей, наделивших тебя дурацким прозвищем — и ничем больше — в обмен за твою душу и тело.
Ностромо шепотом выругался.
— Оставьте мою душу в покое, хозяйка, а о теле я позабочусь сам. Какой вред принесли вам люди, которые нуждаются во мне? Что вам все неймется, чем это я обездолил вас и вашу семью? Те самые люди, которыми вы меня все время попрекаете, столько сделали для старика Джорджо, сколько даже и не помышляли сделать для меня.
Он хлопнул себя ладонью в грудь; говорил он горячо, но не повышая голоса. Он подкрутил один ус, потом другой, и в его взгляде блеснуло беспокойство.
— Уж не я ли виноват, что никто, кроме меня, не может выполнить их поручений? Чепуху вы говорите, мать, да еще сердитесь… Зачем все это? Разве вам хотелось бы, чтобы я был глупенький и смирный и торговал арбузами на рынке или стал гребцом и катал в лодочке вдоль набережной пассажиров, как какой-нибудь подлипала неаполитанец, у которого нет ни храбрости, ни доброго имени? Вам нравится, когда молодой человек живет, как монах? Не верю. Вы ведь не хотите, чтобы ваша старшая дочь вышла замуж за монаха. Она пока еще ребенок. Чего вы боитесь? Сколько лет уже вы злитесь на меня за все, что я делаю; с тех самых пор, когда по секрету вы заговорили со мной насчет Линды и попросили ничего не рассказывать старому Джорджо. Муж для одной и брат для другой, так ведь вы сказали? Ну что ж, я не против. Мне нравятся ваши малышки, а мужчине рано или поздно надо жениться.
Но после этого, с кем бы вы ни говорили, вы всегда меня охаиваете. Почему? Вы, может быть, рассчитывали надеть на меня ошейник и посадить на цепь, как сторожевую собаку, каких держат на товарной станции? Посмотрите на меня, хозяйка, я тот же самый человек, который как-то вечером сошел на берег и сидел потом в крытой пальмовыми листьями хижине на окраине, где вы жили тогда, и все вам про себя рассказал. В те времена вы не были ко мне несправедливы. Что же случилось с тех пор? Кто я был? Никому не известный парень. А теперь? Доброе имя, говорит ваш Джорджо, это сокровище, падрона.
— Они вскружили тебе голову своими похвалами, — задыхаясь проговорила женщина. — Расплачиваются с тобой словами. Твоя дурость доведет тебя до нищеты и до всяческих несчастий, и умрешь ты с голоду. Даже уличные воры будут смеяться над тобой, великий капатас.
Ностромо окаменел. Прошло несколько минут, а Тереза так и не взглянула в его сторону. Вызывающая хмурая улыбка исчезла с его лица, а затем он, не поворачиваясь, стал отступать к двери. Вот он уже скрылся за порогом, а она так и не посмотрела на него. Он и по лестнице спускался, пятясь, ошеломленный едкими речами этой женщины, так унизившей его доброе имя, которое он сам себе добыл и, конечно, хотел сохранить.
Внизу на кухне горела свеча, и на потолке и стенах этой просторной комнаты лежали густые тени, но красноватый отблеск пламени уже не освещал проем распахнутой, ведущей во двор двери. Карета, где сидели миссис Гулд и дон Мартин, двигалась к набережной, и верховой с факелом ехал впереди. Доктор Монигэм, оставшийся в гостинице, присел на угол деревянного стола, скособочив шею и скрестив на груди руки, морщинистый и бритый, брюзгливо скривив губы, равнодушно уставившись своими выпуклыми глазами в черный земляной пол. У плиты, на которой по-прежнему шумно кипела в котле вода, замер, будто пораженный внезапной мыслью, старик Джорджо, выставив вперед одну ногу и сжимая подбородок рукой.
— Adiós, viejo[95],— сказал Ностромо, ощупывая на поясе рукоятку револьвера и поправляя в ножнах кинжал. Он взял со стола синее пончо в красную полоску и надел через голову. — Adiós, приглядывай за вещами в моей спальне и, если от меня больше не будет вестей, отдай сундучок Паките. Там нет ничего ценного, только новое серапе, которое я привез из Мексики, да несколько серебряных пуговиц с моей парадной куртки. Не беда! И пуговицы, и серапе должны приглянуться ее следующему любовнику, и он может не беспокоиться, что после смерти я застряну на земле, как те гринго, что бродят по Асуэре.
Доктор Монигэм саркастически улыбнулся. Лишь после того как старик Джорджо, еле заметно кивнув и не сказав ни единого слова, поднялся по узкой лестнице наверх, он обратился к Ностромо:
— В чем дело, капатас? Я думал, вы неспособны потерпеть неудачу.
Ностромо, высокомерно взглянув на врача, остановился на пороге, свертывая сигарету, затем чиркнул спичкой и, закурив, поднял ее над головой и держал так, пока пламя не добралось до пальцев.
— Нет ветра, — проворчал он. — Послушайте, сеньор, вы знаете, какое поручение мне дали?
Доктор угрюмо кивнул.
— Я сейчас как приговоренный к смерти, сеньор доктор. На этом побережье человек, который везет сокровища, на каждом шагу рискует напороться на нож. Понимаете вы это, сеньор доктор? Я, обреченный, буду плыть себе и плыть на баркасе, пока не встречу пароход, идущий на север, и уж тогда по всей Америке заговорят о капатасе каргадоров из Сулако.
Доктор Монигэм хрипло рассмеялся. Ностромо, уже стоя на пороге, повернулся.
— Но если ваша милость сможет отыскать кого-нибудь другого, кто возьмется за это дело и сумеет его провернуть, я отступлюсь. Жизнь мне еще не совсем надоела, хотя я так беден, что могу увезти с собой все свое имущество, взвалив его на спину лошади.
— Вы слишком много играете в карты и не отказываете ни в чем смазливым девушкам, — с притворным простодушием заметил доктор Монигэм. — Так богатства не наживешь. Тем не менее никто из моих знакомых не считает вас бедняком. Я надеюсь, вы сорвете крупную ставку, если благополучно вывернетесь из этой авантюры.
— А какую ставку сорвала бы ваша милость? — спросил Ностромо и выпустил за порог дым от сигареты.
Доктор помолчал, прислушиваясь, не спускается ли кто по лестнице, и ответил со своим обычным отрывистым смешком:
— За то, что ходишь, будто бы приговоренный к смерти, как вы выразились, славный капатас, единственной наградой могут послужить все эти сокровища, без изъятия.
Ностромо скрылся за порогом и что-то проворчал, рассерженный его язвительным ответом. Доктор Монигэм услышал торопливый стук копыт. Ностромо с бешеной скоростью ринулся в ночную тьму. Находившиеся возле пристани здания, принадлежащие компании ОПН, были освещены, но не успел он до них добраться, как ему встретилась коляска Гулдов. Впереди ехал всадник, и свет его факела освещал бегущих рысью белых мулов, дородного Игнасио на козлах, а рядом с ним Басилио с карабином в руках. Миссис Гулд крикнула ему: «Вас ожидают, капатас!» Она уже возвращалась, возбужденная и озябшая, сжимая в руке бумаги Декуда. Он вручил ей блокнот с просьбой переслать его сестре. «Возможно, это последние слова, которые я написал ей», — сказал он, пожимая миссис Гулд руку.
Капатас, не останавливаясь, промчался мимо. У въезда на пристань какие-то люди с винтовками метнулись ему наперерез и ухватились за стремя; остальные его окружили — это были каргадоры пароходной компании, которых капитал Митчелл поставил караульными. Услышав его голос, они подобострастно расступились. На дальнем конце пирса, возле подъемного крана, где толпилась еще одна группа людей и вспыхивали в темноте сигары, с облегчением загомонили: «Ностромо! Ностромо!» Вокруг Чарлза Гулда сгрудилась большая часть европейцев, живущих в Сулако, словно серебро было эмблемой их общего дела, символом могущества материальных интересов. Они собственноручно грузили его на баркас. Ностромо узнал высокую тонкую фигуру дона Карлоса Гулда, молчаливо стоявшего несколько в стороне, а рядом с ним другого, тоже высокого человека, — это был главный инженер, который сказал, обращаясь к Гулду: «Если уж суждено ему пропасть, то в миллион раз лучше, чтобы оно осталось на дне моря».
Мартин Декуд крикнул с баркаса: «До встречи, господа, когда мы снова обменяемся рукопожатиями и поздравим друг друга с созданием Западной республики». Лишь приглушенный ропот голосов отозвался на его громкий, звенящий выкрик; а затем ему показалось, будто пирс тихо уплывает в ночь; на самом деле это Ностромо отталкивал от берега баркас тяжелым и длинным веслом. Декуд стоял, не шевелясь; ему чудилось, будто они движутся куда-то ввысь. Раздался всплеск, потом еще, и ни звука больше, только глухой стук подошв, когда Ностромо прыгнул на палубу. Он поднял парус; дыхание ветра обвевало щеки Декуда. Все исчезло в темноте, лишь светился фонарь, который капитан Митчелл подвесил к верхушке столба на конце пирса, чтобы Ностромо было легче выбраться из гавани.
В густой тьме, не видя друг друга, они молчали до тех пор, пока подталкиваемый порывами ветра баркас не скользнул в еще более глубокий мрак залива, благополучно миновав два почти неразличимых мыса, которые тянулись справа и слева от него. Ветер стих, затем снова подул, но так слабо, что баркас двигался бесшумно, будто плыл по воздуху.
— Ну, вот мы и вышли в залив, — произнес спокойный голос Ностромо. Потом добавил: — Сеньор Митчелл опустил фонарь.
— Да, — сказал Декуд. — Теперь нас никто не разыщет.
Тьма, совсем уж непроглядная, окутала баркас со всех сторон. Вода в заливе была такой же черной, как тучи у них над головами. Ностромо раза два зажег спичку, чтобы взглянуть на компас, а после поворачивал штурвал, сообразуясь с дуновениями ветра, которые он чувствовал щекой.
Ни разу в жизни не испытывал Декуд ничего подобного — таинственность бескрайних вод, еще недавно таких бурных и столь внезапно затихших, словно раздавленных тяжестью густого мрака. Гольфо Пласидо уснул глубоким сном, укрывшись своим черным пончо.
Самым главным теперь было удалиться от берега и до рассвета добраться до середины залива. Где-то рядом находились Изабеллы. «Слева от вас, если вы будете смотреть вперед, сеньор», — внезапно сказал Ностромо. А когда умолк его голос, тишь неимоверная — ни огонька, ни звука — с такою мощью навалилась на Декуда, что заглушила все его чувства, будто очень сильный наркотик. По временам он даже не понимал, спит он или бодрствует. Как человек, охваченный сном, он ничего не видел, ничего не слышал. Даже когда он подносил к лицу руку, то не мог ее разглядеть, словно ее и не было. Этот внезапный переход от волнения, страстей, опасностей, от всего, что они видели и слышали на берегу, к безмолвию и тьме был настолько полным, что напоминал, пожалуй, смерть, однако мысли его были живы. В этом состоянии, похожем на вечный покой, они мелькали, отчетливые, легкие, словно те неземные светлые сны, что снятся нам, живущим на земле, и, возможно, тревожат души тех, кого смерть уже освободила от мирских сожалений и надежд. Декуд встряхнулся и слегка поежился, хотя было тепло. У него возникло очень странное ощущение, будто душа его всего лишь миг назад вернулась в тело из глубочайшей тьмы, бесследно поглотившей землю, море, небо, горы и рифы.
Послышался голос Ностромо, хотя и он, стоящий у румпеля, тоже, казалось, растворился во тьме без следа.
— Вы не заснули там, дон Мартин? Если бы такое было возможно, я бы, пожалуй, подумал, что я тоже вздремнул. Удивительная вещь мне примерещилась: словно где-то рядом с нашим баркасом кто-то стонет, всхлипывает, охает; в общем, звук, похожий и на вздох, и на плач.
— Странно, — пробормотал Декуд, лежавший на прикрытых парусиной тюках с брусками серебра. — Как вы считаете, возможно, чтобы в заливе оказалось еще какое-нибудь судно? Мы ведь не способны его разглядеть.
Это было так нелепо, что Ностромо даже засмеялся. Совершенно абсурдная мысль. Вокруг царило столь полное глубокое безлюдье, что его можно было даже ощутить. А когда перестал дуть ветер, темнота навалилась на Декуда как камень.
— Кошмарное ощущение, — пробормотал он. — Мы хоть немного продвигаемся, капатас?
— Не быстрее, чем запутавшаяся в траве букашка, — ответил Ностромо; казалось, его голос приглушала эта безжалостная тьма, окутавшая все вокруг теплой и плотной пеленою. Иногда он умолкал надолго, делался невидим и неслышим, словно каким-то волшебством на время уходил с баркаса.
После того как перестал дуть ветер, Ностромо управлял баркасом вслепую и даже отдаленно не представлял себе, куда же он движется в этом беспросветном мраке. Он все пытался разглядеть острова. Но их совсем не было видно, будто они опустились на дно. Наконец он улегся на тюки рядом с Декудом и прошептал ему на ухо, что если из-за безветрия рассвет застанет их вблизи от гавани, то они смогут на веслах пробраться за скалами к гористой части Большой Изабеллы и спрятать там баркас. Его встревоженность и мрачность удивили Декуда. Для него их поездка являлась чисто политической акцией. Просто по ряду причин необходимо, чтобы серебро не попало в руки к Монтеро, но его спутник воспринимал их предприятие совсем иначе.
Кабальеро, оставшиеся там, на берегу, кажется, ни малейшего представления не имеют, какого рода поручение взвалили на него. Возможно, под воздействием окружавшей их унылой тьмы Ностромо нервничал и возмущался. Декуд был изумлен. Капатас, глубоко равнодушный к опасностям, представлявшимся его спутнику весьма реальными, в то же время позволял себе негодовать, что ему так бездумно поручили дело, связанное со смертельным риском. Это более опасно, заявил Ностромо, засмеявшись, затем выругавшись, чем послать кого-нибудь в глубокие ущелья Асуэры за сокровищами, которые, как говорят, охраняют демоны и привидения.
— Сеньор, — сказал он, — нам непременно нужно встретить этот пароход. Нам придется плавать по морю и ожидать его до тех пор, пока мы не съедим и не выпьем все, что имеется тут на борту. А если нам не повезет и мы его пропустим, нам нельзя возвращаться на берег, и мы останемся в открытом море, ослабеем, а может быть, сойдем с ума и умрем, и наши трупы будут здесь валяться, пока какой-нибудь из пароходов компании не наткнется на баркас с двумя мертвецами, которые ценою жизни спасли серебро. Это единственный способ спасти его, сеньор; потому что — неужели вы не понимаете? — высадиться на берег даже в сотне миль отсюда, имея его при себе, — все равно что подставить голую грудь под кинжал. Это поручение свалилось на меня, будто смертельная болезнь. Узнает кто-нибудь о нем, и мне конец, и вам тоже, сеньор, ведь нас схватят вместе. Здесь достаточно серебра, чтобы обогатить целую провинцию, не говоря уже о побережье, где живут одни лишь воры и бродяги. Сеньор, они решат, что сами небеса послали им эти богатства прямо в руки, и не задумываясь перережут нам глотки. Я не рискнул бы довериться даже самой светлой личности, обитающей на этом диком побережье. Даже если мы по первому же требованию отдадим эти тюки, нас все равно могут убить. Вы это понимаете или объяснить подробней?
— Объяснять не нужно, — с несколько подчеркнутым равнодушием отозвался Декуд. — Я и сам отлично понимаю, что обладание этими сокровищами примерно то же, что смертельная болезнь для тех, кто оказался в нашем положении. Но ведь надо же было вывезти их из Сулако, а кому это поручить, как не вам?
— Конечно, мне; да только я не верю, — сказал Ностромо, — что, если бы эти сокровища пропали, дон Карлос Гулд так уж обеднел бы. Их еще много там, внутри горы. В безветренные ночи, когда я, бывало, закончив работу в порту, ездил к одной девушке в Ринкон, я слышал, как они катятся и летят по желобам. Вот уже много лет куски серебряной руды катятся по этим желобам с шумом, похожим на рокот грома, и шахтеры говорят, что в сердцевине горы их достаточно, чтобы грохотать еще долгие годы. Тем не менее позавчера мы сражались, спасая серебряный груз от толпы, а сегодня ночью меня вдруг отправляют в эту треклятую темень, из какой и выбраться-то невозможно, потому что нет ветра, словно это серебро последнее на свете, и на него надо купить хлеба для голодных. Ха-ха! Ничего, я увезу его даже без ветра, и это станет самым славным и самым отчаянным приключением из всех, которые случались в моей жизни. Обо мне будут рассказывать и тогда, когда нынешние дети сделаются взрослыми, а взрослые — стариками. Ну-ну! Мне сказали, это серебро не должно достаться монтеристам, что бы ни произошло с Ностромо, капатасом; и оно им не достанется, поверьте, поскольку ради безопасности его подвесили к шее Ностромо.
— Да, я понимаю, — буркнул Декуд. Он и в самом деле понимал, что у его спутника свой, совершенно особый взгляд на дело, которое им поручили.
Ностромо перестал рассуждать о том, позволительно ли эксплуатировать способности человека, не выяснив, как следует, что представляет собой этот человек, и предложил вставить длинные весла в уключины и подвести баркас поближе к Изабеллам. Ничего хорошего не получится, если солнце взойдет и осветит баркас с сокровищами в какой-то миле от входа в порт. Обычно, чем гуще мрак, тем резче порывы ветра, которые, как он рассчитывал, помогут им продвинуться вперед; но этой ночью укрытый облачным пончо залив не дышал и напоминал скорее умершего, чем спящего.
Мягкие руки дона Мартина нестерпимо болели, когда он тянул к себе что было сил огромное весло, ухватившись за его толстую рукоятку. Стиснув зубы, он мужественно продолжал грести. Как и Ностромо, он попал во власть тревожного ощущения нереальности, и ему казалось, будто, орудуя сейчас тяжелым веслом, он совершает нечто необходимое для того, чтобы обрести новую реальность, а любовь к Антонии облагораживала это странное и непривычное занятие. Впрочем, как ни старались они оба, тяжело нагруженный баркас еле двигался. В промежутках между ритмичными всплесками весел было слышно, как вполголоса ругается Ностромо. «Петли тут какие-то выписываем, — бормотал он. — Черт… островов совсем не видно».
Дон Мартин не умел грести и вскоре выбился из сил. Время от времени на него наваливалась ужасная слабость и охватывала его целиком — от кончиков натруженных ноющих пальцев до каждой клеточки тела, — а потом ему делалось жарко, и силы вновь возвращались к нему. Он сражался, разговаривал, страдал душевно и физически, не давая отдыха ни уму, ни телу сорок восемь часов подряд. Он ни разу не передохнул, почти не ел, его мысли и чувства находились в непрестанном напряжении. Даже любовь к Антонии — источник вдохновения и сил — обернулась нестерпимо трагичной гранью во время их недолгой встречи у постели дона Хосе. И вот внезапно все, все это кончилось, и он вышвырнут какой-то силой в черный залив, безмолвный, застывший, мрачный, и ему в этом унылом затишье еще трудней, еще мучительнее ворочать веслом. Он представил себе, как опускается на дно баркас, и неожиданно почувствовал: мысль о гибели ему приятна. «Сейчас я начну бредить», — подумал он. Лишь большим усилием воли он сумел унять дрожь в руках и ногах, внутреннюю дрожь, порожденную непосильным нервным напряжением, и бешеное биение сердца в груди.
— Передохнем, капатас, — предложил он беспечно. — До рассвета еще много часов.
— Это верно. По-моему, нам осталось пройти милю или чуть больше. Если у вас устали руки, конечно, отдохнем. Другого отдыха я вам не могу обещать, раз уж вы обязались сохранить эти сокровища, хотя, если они не сохранятся, не обеднеет ни один бедняк. Нет, сеньор; не будет нам ни отдыха, ни покоя до тех пор, пока мы не разыщем идущий на север пароход или какое-нибудь судно не наткнется на баркас и не обнаружит наши трупы на тюках с серебром, принадлежащим этому англичанину. А еще лучше — не так. Por Dios![96] Прежде чем голод и жажда лишат меня сил, я возьму топор и обрублю планшир до ватерлинии. Клянусь всеми святыми и чертями, я скорее утоплю сокровища в море, чем отдам их в чужие руки. Раз уж наши кабальеро соизволили почтить меня таким милым поручением, пусть знают, что они не ошиблись во мне.
Декуд лежал на тюках и тяжело дышал. Все ощущения, все чувства, побуждавшие его когда-либо к действию, представлялись ему сейчас кошмарным сном. Даже страстная любовь к Антонии, которая неумолимо им завладела и извлекла его из глубин всегда присущего ему скептицизма, сейчас утратила черты реальности. На миг его охватили полная апатия и равнодушие, не лишенные, впрочем, приятности.
— Я убежден, что никому их тех, кто дал нам это поручение, даже в голову не приходило толкать вас на такой отчаянный поступок.
— Тогда зачем они так сделали? Шутили? — злобно огрызнулся человек, обозначенный в платежной ведомости штатных сотрудников компании ОПН в Сулако, как «десятник портовых грузчиков». — Получается, ради шутки меня разбудили, когда я отсыпался после двух суток уличных боев, и велели мне поставить жизнь на плохую карту? А ведь здесь все знают, что я невезучий игрок.
— Поскольку всем известно, капатас, как вам везет в любви, — усталым и протяжным голосом сказал Декуд, в надежде несколько смягчить разгневанного собеседника.
— Послушайте меня, сеньор, — не унимался Ностромо. — Я же сразу согласился, отказываться не стал. Как только мне сказали, что я должен сделать, я сразу понял, какой это риск, и тотчас решил: согласен. Каждая минута была дорога. Сперва я ждал вас. Затем, когда мы прибыли в «Объединенную Италию», старик Джорджо послал меня за англичанином врачом. А потом, как вам известно, меня пожелала видеть умирающая. Я не хотел к ней идти, сеньор. Я уже чувствовал: это проклятое серебро все сильнее давит мне на плечи, а бедняжка знала ведь, что умирает, и я подумал, не попросит ли она меня съездить за священником. Падре Корбелан, который никого не боится, приехал бы и слова не сказал; но падре Корбелан далеко, в шайке у Эрнандеса, где он в полной безопасности, а наши местные жители, которые с удовольствием разодрали бы его на части, не жалуют священников. Во всем городе не сыщется ни единого попа, который согласился бы сегодня ночью высунуть свою жирную физиономию из норы, чтобы спасти христианскую душу, разве только под моей защитой. Она все это понимала. Я притворился, будто не верю, что она умирает. Сеньор, я отказался привести священника к умирающей женщине…
В темноте послышалось, как Декуд зашевелился, меняя позу.
— Верно, верно, отказались, капатас! — воскликнул он уже не прежним тоном. — Ну, что ж, знаете ли… это, в общем, хорошо.
— Вы не верующий, дон Мартин? Я тоже. Так стоило ли тратить время? Но она… она-то верует. Не дает мне эта мысль покоя, просто сердце надрывает. Она ведь, может, уже умерла, а мы болтаемся тут без толку, и ветра нет как нет. Будь они прокляты, все эти их суеверия. Умирала небось и думала, что я ее лишил царства небесного. Нет уж, это непременно будет самое отчаянное дело в моей жизни.
Декуд промолчал. Он глубоко задумался, пытаясь проанализировать, какие чувства пробудило в нем то, что он услышал сейчас от Ностромо. В темноте опять раздался голос капатаса:
— Дон Мартин, пора браться за весла и искать Изабеллы. Если мы их не разыщем до начала дня, нам останется одно — пустить баркас ко дну. Не забывайте, сюда вскоре может прибыть пароход с солдатами из Эсмеральды. Сейчас поплывем прямо. Я нашел огарок свечи, и нам придется рискнуть и засветить огонек, чтобы сверяться с компасом. Ветра нет, свечу не задует… будь он проклят, этот черный залив!
Огонек свечи горел почти ровно. Он клочками выхватывал из темноты обшивку и шпангоуты на пустой части баркаса. Ностромо греб стоя. Декуд видел только нижнюю половину его тела, обвязанный вокруг талии красный шарф, поблескивающую рукоятку заткнутого за пояс револьвера и деревянную ручку длинного кинжала на боку. Декуд собрался с силами и тоже принялся грести. Ветер был настолько слаб, что не мог задуть свечу, но пламя ее слегка покачивалось, поскольку баркас медленно продвигался вперед. Он был так велик, что при всем старании им не удавалось делать больше мили в час. Но и при этой скорости они успевали доплыть до Изабелл задолго до начала дня. У них оставалось еще добрых шесть часов в запасе, а расстояние от гавани до Большой Изабеллы не превышало двух миль. Декуд понял, что только нетерпение, снедавшее капатаса, побуждает его так спешить.
Время от времени они переставали грести и вслушивались, не приближается ли пароход из Эсмеральды. В такой тиши можно было издали услышать шум плывущего по морю парохода. Увидеть, разумеется, ничего было нельзя. Они не видели даже друг друга. Даже парус, до сих пор не снятый, невозможно было разглядеть. Отдыхали они очень редко.
— Caramba! — внезапно воскликнул Ностромо во время одного из перерывов, когда оба они перестали грести и стояли, опираясь на рукоятки весел. — Что случилось? Не расстраивайтесь, дон Мартин.
Декуд уверил его, что он нисколько не расстроен. Стоявший на корме Ностромо замер и прислушивался несколько минут, затем шепотом подозвал к себе Мартина.
Склонившись к самому уху Декуда и даже прикасаясь к нему слегка губами, он заявил, что, по его убеждению, на баркасе кто-то есть, кроме них. Он уже два раза слышал сдавленное рыдание.
— Сеньор, — прошептал он с изумлением и ужасом. — Я уверен, что тут кто-то плачет.
Декуд ничего этого не слышал и недоверчиво отнесся к сообщению Ностромо. Впрочем, выяснить, как обстоят дела, было нетрудно.
— Диво дивное, — пробормотал Ностромо. — Может, кто залез сюда и спрятался, когда баркас стоял у пристани?
— Вы говорите, похоже на плач? — спросил Декуд, тоже понизив голос. — Кем бы ни был этот человек, если он плачет, он не может быть очень опасным.
Они перелезли через сложенные посредине судна тюки с драгоценным металлом, стали шарить по палубе. И нащупали наконец ноги какого-то человека; он был тих и неподвижен, как мертвец. Молчали и они, порядком напугавшись; не произнеся ни слова, ухватили его за ворот и под мышки и вытащили на корму обмякшее, безжизненное тело.
Огарок осветил круглую физиономию с крючковатым носом, черными усами и маленькими пейсами. Человек был на редкость грязен. Давно не бритые щеки поросли щетиной. Толстые губы слегка приоткрыты, но глаза зажмурены. С немалым изумлением Декуд узнал сеньора Гирша, торговца кожами из Эсмеральды. Узнал его и Ностромо. Озадаченно воззрились они друг на друга, обнаружив это простертое между ними тело, босые ступни которого приходились выше головы, тело человека, с нелепым упорством притворявшегося, будто он то ли спит, то ли потерял сознание, то ли умер.
ГЛАВА 8
Столь необычная находка на мгновенье заглушила их собственные тревоги и чувства. Чувства же лежавшего на палубе сеньора Гирша заключались, вероятно, в том, что он испытывал смертельный ужас. Долгое время он не подавал признаков жизни, пока наконец уговоры и увещевания Декуда, а скорее того слова Ностромо, который раздраженно сказал, что человек этот, наверное, умер, а значит, его надо выбросить за борт, не принудили сеньора Гирша открыть сперва один глаз, а затем — второй.
Оказалось, что ему не удалось найти надежных попутчиков и выехать из Сулако. Квартировал он у Ансани, владельца универсального магазина на Пласе. Но когда разразился мятеж, он, не дождавшись дня, выбежал из дому, причем так поспешно, что забыл надеть ботинки. Сломя голову выскочил он в одних носках и, держа в руке шляпу, бросился в сад при доме Ансани. Страх придал ему прыти, и он успешно перелез через несколько невысоких стен, а затем очутился в глухом переулке среди заросших зеленью развалин францисканского монастыря. Обезумев от отчаяния, он врезался в самую гущу колючих кустов, где основательно исцарапался и разодрал одежду в клочья. Он пролежал там, притаившись, весь день и от страха, а также от жары ему так сильно хотелось пить, что во рту все пересохло, и язык прилип к нёбу.
Три раза в монастырь врывалась буйная толпа, разыскивая с криками и бранью падре Корбелана; но когда наступил вечер, Гирш все еще лежал в кустах, уткнувшись лицом в землю, и тогда он подумал, что страшнее всего тишина, что он умрет, не в силах ее вынести. Не очень ясно представляя себе, что побуждает его покинуть это убежище, он выбрался из кустарника и, никем не замеченный, выскользнул из города в безлюдные переулки окраин. Он бродил в темноте у железнодорожных путей, но в голове у него все смешалось от страха, и он даже не решился подойти к кострам, которые жгли пикеты рабочих-итальянцев, охранявших железнодорожную линию. Вероятно, у него возникла не вполне отчетливая мысль укрыться на товарной станции, но там на него с лаем бросились собаки; подняли крик караульные; кто-то выстрелил наугад в темноту. Он пустился наутек. По чистейшей случайности он побежал в сторону зданий компании ОПН. Дважды он спотыкался о трупы людей, убитых днем во время уличных боев. Впрочем, живых он боялся сильнее. Он крался, полз, то припадал к земле, то вдруг бросался бегом, руководимый каким-то животным инстинктом, прячась от света и голосов. Он хотел кинуться в ноги капитану Митчеллу и попросить убежища в одном из зданий компании.
Он уже приближался к ним ползком, как вдруг один из караульных громко крикнул: «Quién vive?»[97] Неподалеку от него лежало несколько убитых, и он тотчас распластался на земле рядом с уже остывшим трупом. Кто-то громко сказал: «Там, наверное, ползает один из этих раненых мерзавцев. Прикончить его, что ли?» Другой голос ответил, что идти без фонаря рискованно: а вдруг это какой-либо мятежный «либерал» специально поджидает случая ткнуть ножом в живот честному человеку. Гирш не стал слушать дальше, а поспешно отполз к краю пристани и спрятался среди пустых бочек. Спустя немного времени мимо его убежища прошло несколько человек, которые разговаривали и курили. Ни на секунду не задумавшись, могут ли они нанести ему какой-нибудь вред, он опрометью бросился к дальнему концу пирса, увидел там стоявший на якоре баркас и прыгнул в него. Обуреваемый желанием укрыться как можно надежней, он прополз к самому носу, где и лежал, скорее мертвый, чем живой, мучаясь от голода и жажды, почти теряя сознание от ужаса, как вдруг услышал шаги и голоса рабочих-европейцев, сопровождающих вагонетку с серебром, которую толкала по рельсам артель каргадоров.
Из реплик этих людей Гирш сразу же понял, что происходит, но ничем не выдал своего присутствия, опасаясь, как бы его не прогнали на берег. Им целиком завладело одно настойчивое, непреодолимое желание: во что бы то ни стало выбраться из этого ужасного Сулако. Сейчас он очень сожалел об этом. Он слышал, что Ностромо говорил Декуду, и предпочел бы снова оказаться на берегу. Он не испытывал никакого желания участвовать в отчаянном деле… да к тому же, находясь на судне, откуда даже некуда бежать. Страждущий дух его не вынес испытаний, Гирш зарыдал, и обладавший острым слухом капатас его немедля обнаружил.
Его усадили, прислонив к борту спиной, и он, всхлипывая, продолжал печальную повесть о своих приключениях, пока голос его не прервался, а голова поникла на грудь. «Воды», — прошептал он с усилием. Декуд поднес к его губам бидон. Гирш пришел в себя необычайно быстро и сразу же вскочил. Ностромо грозно приказал ему идти вперед. Гирш был из тех людей, которых страх подхлестывает, как бич, и имел преувеличенное представление о жестокости капатаса. С редкостным проворством он скрылся в темноте в носовой части баркаса. Было слышно, как он лезет по брезенту; потом грузно шмякнулся о палубу и охнул. А затем ни звука, словно, свалившись с тюков, он свернул себе шею. Ностромо угрожающе гаркнул в темноту:
— Лежать тихо! Не шевелиться. Даже если будешь громко дышать, подойду и всажу тебе в голову пулю.
Когда люди в опасности, одно лишь присутствие труса, как бы смирно он себя ни вел, делает положение еще более ненадежным. Возбуждение Ностромо улеглось, и на смену досаде пришла угрюмая задумчивость. Декуд негромко, будто рассуждая сам с собой, заметил, что в конце концов это фантастическое обстоятельство мало что меняет. Непонятно, какой вред может принести этот человек. Самое большее, будет путаться под ногами, как неодушевленный и бесполезный предмет — деревянный чурбан, к примеру.
— Я не стал бы без крайней нужды сбрасывать с палубы чурбан или бревно, — спокойно произнес Ностромо. — Случись какая-либо поломка, оно может пригодиться. Но в нашем положении такого человека, как он, следует выбросить за борт. Даже если бы он оказался храбрым, как лев, он нам не нужен. Мы ведь плывем на этом баркасе не для того, чтобы просто спастись. Когда смелый человек, спасая свою жизнь, проявляет изобретательность и отвагу, в этом нет ничего дурного, сеньор; но вы же слышали, что он рассказывал, дон Мартин. Надо поистине быть незаурядным трусом, чтобы проделать все то, что привело его сюда… — Ностромо помолчал. — А трусу на этом баркасе не место, — добавил он сквозь зубы.
Декуду нечего было возразить. Они находились в таком положении, когда спорить и проявлять щепетильность нельзя. Потерявший голову от страха человек мог в любой момент и самым неожиданным образом оказаться опасным. Ведь очевидно, что с Гиршем нельзя поговорить, вразумить его и убедить вести себя разумно. Об этом вполне достоверно свидетельствовала вся история его бегства. Декуд от души пожалел, что он не умер тогда же от страха. Природа, создавшая его таким, с безжалостной точностью рассчитала ту дозу смертоносного ужаса, которую он в состоянии перенести и остаться в живых. Он, конечно, заслуживал сострадания. Декуд, одаренный достаточным воображением, чтобы посочувствовать ему, решил не вмешиваться и не препятствовать Ностромо действовать так, как он сочтет нужным. Но Ностромо не предпринял никаких шагов. И судьба сеньора Гирша повисла на волоске в непроглядной тьме залива, будучи предана на волю обстоятельств, предугадать которые никто не мог.
Неожиданно Ностромо протянул руку и погасил свечу. У Декуда возникло такое чувство, будто его спутник одним движением разрушил мир торговых сделок, любви, революций, в котором до сих пор он с приятным сознанием своего превосходства смело анализировал связь причин и следствий, а также страсти, включая свою.
У него даже перехватило дух. Не так легко освоиться с новизной положения. Всегда уверенный в своем уме, он страдал сейчас, лишенный того единственного оружия, которым пользовался мастерски. Но разум не способен проникнуть сквозь тьму, окутывающую Тихий Залив. Единственное, на что он мог положиться, — самонадеянное тщеславие его спутника. Откровенное, лишенное сложностей, наивное, действенное тщеславие. Декуд, который во всем сейчас от него зависел, пытался полностью его понять. Он заметил, что при всей многогранности этой столь разнообразно проявляющей себя натуры Ностромо всегда действует под влиянием одной-единственной побудительной причины. Вот почему, невзирая на непомерное тщеславие, этот человек так ошеломляюще прост. Но сейчас что-то осложнилось. Ностромо возмущен, что на него взвалили поручение, выполняя которое так легко потерпеть крах. «Любопытно, — подумал Декуд, — как бы он вел себя, если бы меня тут не было».
Ностромо снова принялся ворчать:
— Трусу на этом баркасе не место. Тут и храбрости-то недостаточно. У меня меткий глаз и твердая рука; никто не видел меня усталым или неуверенным; но, клянусь богом, дон Мартин, меня послали в эту черную тишь выполнять такое дело, при котором не помогут ни меткий глаз, ни твердая рука, ни смекалка… — Он шепотом выпалил замысловатую череду испанских и итальянских ругательств. — В таком деле лишь одним возьмешь — отчаянностью.
Странно контрастировали эти слова с царившим вокруг покоем, с бесстрастной недвижностью вод. Внезапно послышался рокот дождя; Декуд снял шляпу и, когда волосы его намокли, вздохнул свободно. Затем он почувствовал, как его щеки обдувает струйка воздуха. Баркас тронулся с места, но дождь сильно его обогнал. Теперь капли уже не падали им на головы и руки, их шепот замер далеко впереди. Ностромо удовлетворенно хмыкнул и взялся за штурвал, что-то негромко приговаривая, — так делают иногда моряки, призывая ветер дуть посильнее. За последние три дня Декуд еще ни разу так отчетливо не чувствовал, что он в полной мере обладает достоинством, которое капатас именует отчаянностью.
— По-моему, снова начинается дождь, — сказал он лениво и спокойно. — Надеюсь, он пройдет стороной.
Ностромо тут же прекратил свою беседу с ветром.
— Вам кажется, снова дождь пошел? — спросил он с сомнением. Тьма уже не была такой густой. Декуд мог теперь разглядеть силуэт своего спутника и даже парус — он проступал в ночной темноте, словно огромная снежная глыба.
Звук, услышанный Декудом, резко разносился по воде. Ностромо узнал этот звук — смесь шороха и шипенья, — идущий во все стороны от парохода, который движется по гладкой поверхности моря в безветренную ночь. Это могло быть только судно, захваченное гарнизоном Эсмеральды. Пароход шел без огней. Шум паровой машины, с каждой минутой становившийся все громче, временами совсем умолкал, затем внезапно начинался снова, и при этом каждый раз гораздо ближе, будто это судно, которого они не только не видели сами, но даже не могли догадаться, в какой же оно стороне, направлялось прямо к ним. А баркас тем временем медленно и бесшумно шел под парусом, и ветер дул так слабо, что, только перегнувшись через борт и опустив в воду руку, Декуд мог убедиться, что они все же не стоят на месте. Безразличие и сонливость покинули его. Он был рад, что баркас движется вперед. После всей этой тишины шум парохода казался непомерно, ошеломляюще громким. И особенно пугало, что они по-прежнему его не видят. Внезапно все утихло. Пароход остановился, но так близко, что, когда он выпустил пар, воздух задрожал у них прямо над головами.
— Стараются определить свое местоположение, — прошептал Декуд. Он снова перегнулся через борт и опустил руку в воду. — Совсем неплохо движемся, — сообщил он Ностромо.
— Похоже, мы пройдем прямо у него перед носом, — озабоченно заметил капатас. — Это то же, что играть со смертью в жмурки. Лучше нам остановиться. Ни в коем случае нельзя, чтобы нас обнаружили.
От волнения его голос стал хриплым. Лицо по-прежнему скрывалось в темноте, только белки блестели. Он крепко ухватил Декуда за плечо.
— Единственное, что мы можем сделать, чтобы этот пароход, который кишмя кишит солдатами, не захватил сокровища. Будь это другой пароход, он не стал бы выключать огни. А на этом, вы обратили внимание, даже искорка не блеснет, так что совсем нельзя понять, где он находится.
Декуд стоял как парализованный; только мысли с неистовой скоростью проносились в голове. За одну секунду он вспомнил безутешный взгляд Антонии, когда он уходил, а она осталась у постели отца в мрачном доме Авельяносов, где окна закрыты ставнями, зато распахнуты все двери, в доме, покинутом всеми слугами, кроме старого негра у ворот. Вспомнил, как в последний раз был в Каса Гулд, какие доводы приводил, вспомнил даже интонации своего голоса, непоколебимость Чарлза и лицо его жены, такое бледное от усталости и тревоги, что глаза будто изменили цвет и стали черными.
В мозгу у него проносились целые фразы из воззвания, которое, как он решил, должен разослать Барриос из своей штаб-квартиры в Каите, как только прибудет туда; зародыш нового государства, воззвание сепаратистов, которое он, прежде чем уйти из дома Авельяносов, торопливо прочел лежащему в постели дону Хосе, все время чувствуя на себе пристальный взгляд его дочери. Богу ведомо, понял ли хоть что-нибудь старый дипломат; говорить он не мог, но Декуд видел, как поднялась над покрывалом его рука; она двигалась так, словно старик хотел его перекрестить, — жест благословения, согласия.
У Декуда и сейчас лежал в кармане черновик воззвания, написанный карандашом на нескольких листках бумаги, на каждом из которых жирным шрифтом было напечатано наверху: «УПРАВЛЕНИЕ РУДНИКОВ САН ТОМЕ. СУЛАКО. РЕСПУБЛИКА КОСТАГУАНА». Он писал как бешеный за столом Чарлза Гулда, торопливо хватая листок за листком. Миссис Гулд несколько раз заглянула ему через плечо; но сеньор администрадо́р, стоявший в том же кабинете, широко расставив ноги, даже взглядом его не удостоил, когда он дописал до конца. Отмел самым решительным образом. Вероятно, движимый презрением, а не осторожностью; поскольку ни слова не сказал против того, что бланки «управления» используются для столь компрометирующего документа. И этим проявил пренебрежение — пренебрежение истинных англичан к заурядному благоразумию, как будто все, находящееся за гранью их собственных мыслей и чувств, не заслуживает серьезного отношения. В течение нескольких секунд Декуд люто ненавидел Чарлза Гулда и даже ощутил неприязнь к миссис Гулд, чьим заботам — правда, без слов — вверил безопасность Антонии. Лучше тысячу раз погибнуть, чем быть обязанным таким людям, мысленно воскликнул он. Рука Ностромо, все еще сжимавшая его плечо и впивавшаяся в него все сильнее, наконец заставила его опомниться.
— Темнота наш друг, — прошептал ему на ухо капатас. — Я хочу опустить парус, и пусть нас спасает этот черный залив. Если мы будем стоять тихо с голой мачтой, нас никто не разглядит. Так что нужно поспешить, покуда пароход не подошел ближе. Ведь будет скрипеть блок, — допустим, даже негромко — этого достаточно, чтобы сокровища Сан Томе попали в руки тем бандитам. — Он двигался бесшумно, как кошка. Декуд не слышал ни звука, и лишь потому, что исчезло похожее на снежную глыбу квадратное пятно, он понял: рея опущена так осторожно, будто сделана из стекла. Уже через секунду он услыхал рядом с собой тихое дыхание Ностромо.
— Вы лучше совсем не двигайтесь с места, дон Мартин, — посоветовал капатас. — Вы можете споткнуться или сдвинуть что-то, и будет шум. Тут валяются весла, багры. Если вам дорога жизнь, не шевелитесь. Por Dios, дон Мартин, — добавил он свистящим шепотом, но вполне дружелюбно, — я сейчас на все готов, и, если бы не знал вашу милость, как человека храброго, способного выстоять до конца, что бы ни случилось, я воткнул бы вам нож в сердце.
Вокруг царила мертвая тишина. Трудно было себе представить, что рядом стоит пароход, битком набитый людьми, и что с мостика этого парохода напряженно всматриваются в темноту множество глаз в надежде увидеть берег. Пар был полностью выпущен, и, вероятно, пароход остановился достаточно далеко от баркаса, чтобы те, кто на нем находились, могли что-либо услышать.
— Охотно верю, капатас, — еле слышно заговорил Декуд, — только в этом нет необходимости. Я не стану метаться по палубе по другим причинам, а не оттого, что испугался вашего ножа. Меня вы можете не опасаться. Но вы не забыли…
— Я разговаривал с вами открыто, как с человеком, таким же отчаянным, как я, — пояснил капатас. — Мы должны спасти наш груз от монтеристов. Я трижды говорил капитану Митчеллу, что предпочел бы поехать один. И дону Карлосу Гулду то же самое говорил. Это было в Каса Гулд. За мной послали. Там были дамы, и, когда я попробовал объяснить, почему мне не хочется брать вас с собой, они обе пообещали мне большое вознаграждение, если я вас спасу. Довольно странно разговаривать так с человеком, которого посылаешь почти на верную смерть. Эти господа, кажется, не в состоянии понять, какие они дают поручения. Я говорю им, что ничего не могу для вас сделать. Вы бы оказались в большей безопасности, если бы попали в шайку Эрнандеса. Вполне могли бы выехать из города верхом, и самое страшное, что грозило бы вашей жизни, — случайная пуля, пущенная вам вдогонку в темноте. Но они будто оглохли. Мне пришлось пообещать, что я буду ждать вас у ворот, ведущих в гавань. И я дождался вас. А сейчас, поскольку вы человек смелый, вы находитесь в такой же безопасности, как это серебро. Не в большей и не в меньшей.
В тот же миг, словно откликнувшись на его слова, невидимый в темноте пароход тронулся с места, правда, на малой скорости, что легко было определить по неторопливым ударам винта. Он продвинулся на порядочное расстояние, судя по звуку, но к баркасу не подошел. Наоборот, даже немного от него удалился, а затем все стихло опять.
— Ищут Изабеллы, — прошептал Ностромо, — как только найдут, прямым курсом направятся к гавани, чтобы захватить таможню и серебро. Видели вы когда-нибудь Сотильо? Красивый малый, и голос такой бархатный. Когда я сюда приехал, я его часто встречал на проспекте, он беседовал с сеньоритами, сидевшими у окон, и все время показывал свои белые зубы. Но один из моих каргадоров, который раньше служил в солдатах, рассказал мне, что однажды этот Сотильо, когда его послали вербовать рекрутов в дальней части Кампо, велел забить одного человека до смерти. Ему, конечно, и в голову не пришло, что компания нашла человека, способного его переиграть.
Декуда беспокоило, что капатас все время что-то бубнит, — это непривычное многословие могло быть признаком слабости. А впрочем, человек, который много говорит, может оказаться ничуть не менее решительным, чем тот, кто угрюмо молчит.
— Пока что мы еще не переиграли Сотильо, — возразил он. — Вы не забыли об этом помешанном, которого отправили на носовую часть баркаса?
Ностромо помнил о сеньоре Гирше. Он горько себя проклинал, что не осмотрел как следует судно, прежде чем отчалить от пристани. Он проклинал себя за то, что не заколол Гирша кинжалом и не выбросил его за борт, как только на него наткнулся и не успел еще взглянуть ему в лицо. Уж раз они взялись за столь отчаянное предприятие, значит, так и надо было поступать. Но что бы там ни случилось в дальнейшем, они уже успели переиграть Сотильо. Даже если этот несчастный, который молчит сейчас, как мертвец, почему-либо зашумит и выдаст их присутствие, то Сотильо, — если именно Сотильо командует находящимися на пароходе солдатами, — все равно не сможет совершить задуманный им грабеж.
— У меня в руках топор, — послышался яростный шепот Ностромо. — Тремя ударами я могу прорубить борт до самой ватерлинии. Кроме того, на корме у каждого баркаса есть заглушка, и я точно знаю, где она. Вот здесь — прямо у меня под ногой.
Декуд слышал: в этих отрывистых фразах звучит решимость — знаменитый капатас кипит от гнева и будет беспощаден. Прежде чем на пароходе услышат крик («Крикнет раз, ну, скажем, два, никак не больше», — скрипнув зубами, добавил Ностромо), а после этого разыщут в темноте баркас, вполне достанет времени, чтобы утопить это проклятое сокровище, которое навесили ему на шею.
Он буквально прошипел последние слова на ухо Декуду. Тот ничего не ответил. И так все ясно. Обычное спокойствие, присущее этому человеку, исчезло. Ностромо не считал, что ему следует сейчас быть спокойным. На поверхность вырвалось нечто глубоко запрятанное, о чем никто не подозревал. Декуд бесшумно снял пальто и разулся; он не придерживался мнения, что честь обязывает его утонуть вместе с серебром. Он направлялся к Барриосу, в Каиту, о чем отлично знал капатас; и, стремясь к этой цели, он тоже был намерен на свой лад действовать со всей решимостью, на какую способен. Ностромо буркнул:
— Верно, верно! Вы политик, сеньор. Разыщете Барриоса с солдатами и начнете новую революцию.
Тут он добавил, что при каждом грузовом баркасе есть лодка, в которой могут уместиться не менее двух человек. Их лодочка привязана к корме и идет на буксире, сзади.
Декуд не знал об этом. В такой темноте невозможно было ничего разглядеть, и, лишь когда Ностромо положил его руку на леер, он облегченно вздохнул. Не очень-то приятно себе представлять, как ты плывешь неведомо куда в кромешной тьме или, может быть, кружишься на месте и будешь так кружиться, пока силы не иссякнут, и ты утонешь. Тот, кому грозит такой ужасный, унизительно бесславный конец, теряет веру в себя, и ему трудно сохранить позу беспечного скептика. Поэтому узнать, что тебе предстоит долго плыть в лодке, испытать голод и жажду, возможно, оказаться в руках врага, который тебя арестует и казнит, после того как ты уже вообразил, как барахтаешься вплавь в темном заливе, настолько утешительно, что ради этого можно позволить себе утратить некоторую долю самоуважения. Ностромо предложил ему немедленно сесть в лодку, но он не согласился. «Опасность может ведь нагрянуть неожиданно, сеньор», — заметил капатас и тут же пообещал спустить лодку в тот же миг, как необходимость этого станет очевидной.
Но Декуд небрежно уверил его, что сядет в лодку лишь в последнюю секунду и, уж конечно, вместе с капатасом. Царившая в заливе темнота не казалась ему теперь символом смерти. Наоборот, она внезапно сделалась живой, едва он узнал, что где-то рядом с ними в этом мраке таится опасность. В то же время темнота служила им защитой. Отрадно сознавать, как надежно тебя укрывает густая пелена мрака. «Как стена, как стена», — бормотал он.
Его смущала только мысль о сеньоре Гирше. То, что они не связали его и не сунули ему в рот затычку, представлялось сейчас Декуду пределом беспечности. Пока это злосчастное создание не лишено возможности поднять крик, им непрестанно угрожает опасность. Сейчас он онемел от страха, но кто может предугадать, когда безмолвие внезапно сменят пронзительные вопли.
Он обезумел, объятый ужасом, и это его и спасло — дикий взгляд, судорожно дергающиеся губы; взглянув в его лицо, Ностромо и Декуд не смогли сделать то, что диктовала им суровая необходимость. Момент, когда они могли заставить его замолчать навсегда, упущен. «Раньше это нужно было делать», — ответил Ностромо на запоздалые сетования Декуда. А теперь без шума не получится, тем более что они даже не могут в точности сказать, где он прячется. Какое бы место в носовой части баркаса он ни выбрал, чтобы скорчиться там и трястись, искать его рискованно. Напугается и завопит во весь голос, взывая о пощаде. Лучше уж его не трогать, тем более что он ведет себя так смирно. Но Декуд чувствовал, как в нем растет тревожная боязнь, что Гирш вот-вот нарушит тишину.
— Жаль, капатас, что вы не воспользовались удобным моментом, — проворчал он.
— Убить его! Да что вы! Я сперва хотел послушать, как он здесь очутился. Очень уж странно все выходило. Ну можно ли представить себе такую цепь случайностей? А потом, сеньор, после того как вы дали ему воды, у меня рука не поднялась. Нет, нет, я ведь уже увидел, как вы подносите к его губам бидон, словно он вам брат родной. Сеньор, вонзить кинжал в человека можно только не думая. А между тем, если бы мы отняли у него его жалкую жизнь, в этом не было бы ничего жестокого. Его страх нам помешал, вот и все. Ваше сострадание спасло его, дон Мартин, а теперь уже поздно. Он непременно поднимет шум.
На пароходе была такая тишина, в такой глубокой неподвижности замерли море и ветер, что Декуду чудилось: любой, даже самый слабый звук может беспрепятственно и внятно разнестись по всему миру. Что, если Гирш кашлянет или чихнет? Находиться в зависимости от таких идиотских случайностей невыносимо, и он не мог относиться к своему положению с иронией. Да и Ностромо все сильнее мучила тревога. «А вдруг там, на пароходе, — думал он, — решили, что не стоит плыть в таком мраке, и простоят, не двигаясь, до рассвета? Это серьезная опасность». И теперь он уже боялся, как бы служившая ему защитой темнота в конце концов не оказалась причиной его гибели.
Находившимся на пароходе отрядом солдат, как правильно предположил Ностромо, командовал Сотильо. Он понятия не имел о том, что случилось в городе за последние двое суток; не знал он также, что телеграфисту из Эсмеральды удалось предупредить своего коллегу в Сулако. Подобно большинству офицеров, служивших в гарнизонах провинции, Сотильо примкнул к рибьеристам главным образом потому, что считал, будто эту партию поддерживают несметные богатства концессии Гулда. Он нередко бывал в Каса Гулд, где выдавал себя за убежденного бланкиста, и пылко ораторствовал о реформе перед доном Хосе Авельяносом, бросая полные искренности взоры в сторону миссис Гулд и Антонии.
Все знали, что он происходит из хорошей семьи, подвергнувшейся преследованиям и разоренной во время деспотии Гусмана Бенто. Его взгляды казались в высшей степени естественными и уместными для человека такого происхождения. Да он, собственно, и не лгал; с величайшей естественностью он демонстрировал возвышенные чувства, между тем как все его красноречие и энтузиазм воодушевлялись лишь одной, как ему тогда представлялось, очень весомой и практической идеей, а идея эта состояла в том, что муж Антонии Авельянос вне всякого сомнения станет своим человеком в концессии Гулда.
Он даже высказал эту точку зрения Ансани, когда просил у него то ли в шестой, то ли в седьмой раз небольшую сумму в долг в сыром и темном помещении с толстыми железными решетками на окнах, которое примыкало к самой главной лавке во всем ряду торговых заведений, расположенных под многочисленными арками его дома. Он намекнул владельцу магазина, что пребывает в наилучших отношениях с эмансипированной сеньоритой, а сеньорита так дружна с англичанкой, ну, просто как сестра. Он слегка выставил вперед одну ногу и подбоченился, дабы Ансани мог по достоинству его оценить, а сам смотрел на него пристально, высокомерно.
«Ну, гляди же, лавочник несчастный! Разве может женщина отвергнуть такого, как я, а тем более эмансипированная девица, о чьем вольном поведении сплетничает весь город?» — казалось, спрашивал он.
В Каса Гулд он, разумеется, держал себя совсем иначе — ни малейших признаков развязности и даже некоторая торжественная мрачноватость. Как большинство его соотечественников, он был очень чувствителен к красивым фразам, особенно если сам же их произносил. У него не было никаких убеждений, не считая того, что он был убежден в неотразимости своих достоинств. Зато это убеждение было настолько непоколебимым, что даже появление в Сулако Декуда и его дружба с Гулдами и Авельяносами не обеспокоили его. Наоборот, он постарался сблизиться с приехавшим из Европы богатым костагуанцем в надежде брать у него время от времени крупные суммы в долг. Его единственным побуждением всегда являлось желание раздобыть как можно больше денег для удовлетворения дорого стоящих склонностей, которым он безудержно предавался. Он считал себя тонким знатоком по части амурных дел, но им руководил лишь примитивный инстинкт животного. Случалось, без свидетелей он давал волю своей природной злобности: не находил он также нужным сдерживать себя, скажем, в присутствии Ансани, когда заходил к нему в контору в надежде одолжить денег.
Влекомый потоком собственного красноречия, он получил пост начальника гарнизона Эсмеральды. Этот небольшой порт имел немалое значение, поскольку там находился передаточный пункт подводного кабеля, соединявшего Западную провинцию с внешним миром, а также станция ведущей в Сулако железнодорожной ветки. Дон Хосе Авельянос предложил его кандидатуру, а Барриос с грубым хохотом сказал:
— Ну, конечно, Сотильо туда и отправим. Самый подходящий человек, чтобы караулить кабель, и к тому же дамы и девицы Эсмеральды, вероятно, уже заждались, когда наступит их черед. — Барриос, несомненно отважный человек, был невысокого мнения о Сотильо.
Подводный кабель Эсмеральды служил единственным средством связи между рудниками Сан Томе и великим финансистом, в чьей молчаливой поддержке черпало все свои силы рибьеристское движение. Противники этого движения имелись даже здесь. Сотильо безжалостно с ними расправлялся до тех пор, пока известие о неблагоприятном повороте событий на арене военных действий не навело его на мысль, что, каким бы ни оказался исход, рудники в любом случае достанутся победителю. Впрочем, следовало соблюдать осторожность. Для начала он стал напускать на себя таинственность и мрачность каждый раз, когда у него возникали какие-нибудь дела с муниципалитетом Эсмеральды, состоявшим из лояльных рибьеристов. А немного позже эти господа, узнав, что начальник гарнизона собирает у себя по ночам офицеров, и смертельно перепуганные этими просочившимися неведомо откуда сведениями, полностью пренебрегли своими государственными обязанностями и попрятались по домам. Затем в один прекрасный день все письма, прибывшие из Сулако по суше, были изъяты из почтового отделения группой солдат и доставлены в комендатуру без малейших попыток как-либо скрыть это, замаскировать или принести извинения. Сотильо сообщили из Каиты, что Рибьера потерпел полный крах.
Таким образом он впервые заявил о перемене своих убеждений. Гонимые еще недавно демократы, пребывавшие в постоянном страхе, что их могут арестовать, заковать в кандалы и даже подвергнуть порке, сейчас преспокойно входили в широкие двери комендатуры и столь же спокойно выходили из этих дверей, рядом с которыми дремали, стоя под тяжелыми седлами, лошади вестовых, а сами вестовые в изодранных мундирах и соломенных шляпах с конусообразной тульей коротали время, развалившись на скамье в тени, протянув вперед босые ноги и грея на солнце пятки; а часовой в красном бязевом мундире с дырявыми локтями красовался на крыльце комендатуры и весьма надменно взирал на простых смертных, которые все как один снимали шляпы, проходя мимо него.
В своих мечтах Сотильо не воспарял выше желания спасти собственную шкуру и заодно ограбить вверенный его попечениям город, однако опасался, что, так поздно примкнув к победителям, не дождется от них особой благодарности. Слишком уж долго он полагался на могущество рудников Сан Томе. Похищенная с почты корреспонденция подтверждала полученные ранее сведения, что в таможне Сулако хранится великое множество серебряных слитков. Завладеть этим сокровищем — вот акция, достойная настоящего монтериста; такого рода услуга непременно будет вознаграждена. Имея на руках это богатство, он сможет договориться с победителем об условиях, выгодных для себя и своих солдат. Он ничего не знал о мятеже, не знал, что президент бежал в Сулако и что Монтеро-младший преследует его по пятам. Он считал, что на руках у него все козыри. Начал он с того, что захватил передаточный пункт подводного кабеля, а также правительственный пароход, который стоял на якоре в гавани Эсмеральды, представлявшей собой узенькую бухту. Пароходом без всяких трудов завладела рота солдат, быстро забравшихся туда по сходням, так как судно стояло у самой пристани; но лейтенант, которому было поручено арестовать телеграфиста, остановился по дороге возле единственного в Эсмеральде кафе, где угостил своих солдат бренди, а также подкрепился сам за счет владельца, известного рибьериста. Вся компания порядком напилась и отправилась дальше по улицам с громкими воплями и гиканьем, порой стреляя шутки ради в окна. Вышло так, что это небольшое развлечение, исход которого мог оказаться для телеграфиста роковым, дало ему возможность послать предупреждение в Сулако. Лейтенант, который с саблей наголо, пошатываясь, поднялся по лестнице, в скором времени уже лобызал телеграфиста в обе щеки, ибо настроение его внезапно и молниеносно изменилось, что нередко случается с пьяными. Он горячо обнимал телеграфиста за шею, уверял его, что всех офицеров местного гарнизона сделают полковниками, и слезы счастья струились по его осовелому лицу. Вследствие этого, когда немного позже в телеграфный пункт явился майор, он обнаружил, что все войско спит на ступеньках лестницы и в коридорах, а телеграфист, решивший пренебречь этой внезапной возможностью спастись бегством, торопливо щелкает ключом передатчика. Майор велел немедля увести его без шляпы и со связанными на спине руками, но скрыл истину от Сотильо, который так и не узнал, что в Сулако послано предупреждение.
Полковник был не таков, чтобы, задумав внезапное нападение, отказаться от своих намерений из-за какой-то темноты. Он был твердо уверен в успехе; с необузданным ребяческим нетерпением дожидался он, когда же наконец наступит вожделенный час. После того как пароход обогнул Пунта Мала и вошел в глубокую тьму залива, он уже не покидал мостик, а вокруг стояли офицеры, возбужденные не меньше его. Бедняга капитан, на которого Сотильо и его сподвижники попеременно воздействовали то угрозами, то уговорами, чем совершенно задурили ему голову, старался вести пароход со всей возможной осторожностью, которую они позволяли ему проявить. Некоторые из них безусловно были сильно пьяны; но надежда заграбастать этакую уйму серебра сделала их безрассудно храбрыми и в то же время на редкость нетерпеливыми. К примеру, командир батальона, старый майор, человек глупый и подозрительный, впервые в жизни оказавшийся в море, внезапно погасил фонарь нактоуза, единственный на пароходе, который разрешалось зажигать, чтобы можно было пользоваться компасом. Майор не мог понять, каким образом этот фонарь помогает им искать дорогу. Когда капитан парохода возмутился и потребовал, чтобы фонарь зажгли опять, майор топнул ногой и похлопал по рукоятке своей сабли.
— А, вот как! Я разоблачил тебя, — вскричал он торжествующе. — Ты сейчас на себе волосы рвать готов, оттого что не сумел меня провести. Разве я малое дитя, чтобы поверить, будто фонарь, который горит в этом медном ящике, может как-то тебе указать, где находится порт. Я старый солдат. Я предателя за милю нюхом чую. Ты хотел этим лучом подать знак своему другу англичанину. Чтобы такая вот штуковина указывала путь! Чушь собачья! Que picardía![98] Все вы тут в Сулако подкуплены иностранцами. Я этой саблей тебя пополам разрублю.
Остальные офицеры столпились вокруг майора и старались его успокоить, ласково ему втолковывая:
— Ну, что вы, майор, что вы. Это такой морской прибор. Здесь нет никакого предательства.
Капитан тут же на мостике упал ничком и решительно отказывался подняться.
— Лучше уж прикончите меня сразу, — повторял он сдавленным голосом.
Пришлось вмешаться Сотильо.
Поднялся такой шум, что рулевой, напуганный суматохой, бросил штурвал и убежал. Он нашел приют в машинном отделении и посеял немалое беспокойство среди механиков, которые, невзирая на угрозы караульных солдат, остановили машину и решительно заявили, что пусть их лучше пристрелят на месте, но они не желают захлебнуться тут водой, когда судно пойдет ко дну.
Все это произошло, когда Декуд и Ностромо в первый раз услышали, как остановился пароход. После того как был вновь установлен порядок и загорелся фонарь нактоуза, пароход снова двинулся на поиски Изабелл и прошел довольно далеко от баркаса. Островов нигде не было видно, и, снизойдя к жалобным мольбам капитана, Сотильо позволил вторично остановить пароход и подождать, чтобы немного посветлело, что случалось время от времени, когда в густой пелене облаков, постоянно перемещающихся над заливом, образовывался просвет.
Стоя на мостике, Сотильо то и дело яростно шипел на капитана. Тот умоляюще и раболепно заклинал его милость полковника принять во внимание, что в ночную пору дарованные человеку способности отчасти ограничивает темнота. Сотильо клокотал от нетерпения и гнева. Такой случай выпадает лишь раз в жизни.
— Если глаза твои не приносят пользы, я их выколю, — пообещал он.
На его слова капитан ничего не ответил, так как именно в это мгновенье кончился дождь и смутно замаячила Большая Изабелла, а затем исчезла, словно ее смыла волна непроницаемого мрака, прихлынувшая перед новым ливнем. Но ему и этого вполне хватило. Громким голосом человека, вновь вернувшегося к жизни, он известил Сотильо, что не далее чем через час они прибудут к пристани Сулако. Судно тотчас же двинулось полным ходом, а на палубе поднялась оживленная возня, ибо солдатам приказали готовиться к высадке.
Все это явственно слышали Декуд и Ностромо. Капатас понял, что случилось: на пароходе наконец-то обнаружили Изабеллы и сейчас прямым курсом идут на Сулако. Он полагал, что судно пройдет очень близко; однако, понадеялся он, стоя неподвижно и к тому же с опущенным парусом, баркас, может быть, останется незамеченным. «Даже в том случае, если они заденут нас бортом», — прошептал он.
Вновь начался дождь; сперва слегка накрапывал, похожий на сырой туман, затем разошелся и хлынул бурно, отвесными стремительными струями; свистящий шорох и глухой ритмичный шум приближающегося парохода слышался совсем близко. Декуд, опустив голову, чтобы ливень не хлестал в глаза, едва успел подумать, скоро ли пароход поравняется с ними, как вдруг их судно накренилось. Через корму с шипением хлынула пена, раздался скрип шпангоутов, и баркас сильно тряхнуло. Казалось, чья-то гневная рука крепко вцепилась в него и повлекла куда-то, стремясь уничтожить. Конечно, он не удержался на ногах, его окатила волна, потащила куда-то. Все вокруг бурлило, бесновалось; безумный, странный крик разнесся в темноте. Это пронзительно завопил сеньор Гирш, призывая на помощь. Декуд крепко стиснул зубы. Столкнулись!
Пароход слегка задел бортом баркас, чуть не утопил его, расшатал несколько шпангоутов и повернул при этом его корпус параллельно собственному курсу. А на борту парохода никто не ощутил удара от столкновения. Как всегда в таких случаях, всю силу толчка приняло на себя меньшее судно. Даже Ностромо решил, что их отчаянному предприятию пришел конец. Его отбросило от штурвала, когда палуба ушла у него из-под ног. Еще мгновенье, и пароход прошел бы мимо, отшвырнув с дороги баркас и не заметив даже, потонул он или нет, но, так как он был основательно нагружен и припасами и множеством находящихся на борту людей, его якорь опустился довольно низко и зацепился за одну из металлических вант на мачте баркаса. В течение двух или трех напряженных секунд пароход тянул к себе баркас.
Вот тогда-то Декуду и показалось, что кто-то крепко вцепился в их судно и тянет за собой, стремясь его уничтожить. Что произошло на самом деле, он, разумеется, не мог понять. Все это случилось так быстро, что он не успел о чем-либо подумать. Но ощущения его были предельно четки; он полностью владел собой; мало того, ему приятно было сознавать, как он спокоен в тот самый миг, когда его швырнуло головой вперед на транец, и он, лежа плашмя, барахтался в воде. Он услышал крики и узнал голос сеньора Гирша, когда поднимался на ноги, по-прежнему охваченный странным ощущением, будто что-то стремительно несет его сквозь мрак. Он не вскрикнул, не произнес ни слова; не успел ничего разглядеть; и, вслушиваясь в отчаянные вопли о помощи, почувствовал, что внезапно его перестало тащить, а потому сильно качнуло вперед и он упал, раскинув руки, на груду тюков с серебром. Он инстинктивно ухватился за них, опасаясь нового толчка; и сразу же опять услышал пронзительные и отчаянные вопли, раздававшиеся теперь уже совсем не рядом, а почему-то далеко над морем в стороне, словно некий демон ночи дразнил затравленного и испуганного Гирша.
А затем стало тихо, так тихо, как бывает, когда проснешься в темной спальне у себя в постели после сумбурного, кошмарного сна. Баркас слегка покачивался; дождь еще не перестал. Две руки нащупали его сзади, обхватили за бока, так что заныли все полученные за последние минуты синяки, и голос капатаса прошептал ему на ухо:
— Ради бога, молчите! Молчите! Пароход остановился.
Декуд прислушался. Глубокое безмолвие. Он заметил, что стоит по колено в воде.
— Мы тонем? — спросил он чуть слышно.
— Не знаю, — также шепотом ответил Ностромо. — Бога ради, ни звука, сеньор.
Гирш, когда Ностромо приказал ему перебраться в носовую часть баркаса, не вернулся в прежнее укрытие. Он упал около мачты и не поднялся — он обессилел; мало того, он не мог шевельнуться от страха. Так он и лежал все время, как мертвец, но это не было сознательной уловкой. Просто ему было мучительно страшно, и он оцепенел. Даже когда он всего лишь пытался себе представить, что его ожидает, его зубы выбивали бешеную дробь. Его настолько обуяла стихия страха, что он ничего не замечал.
И хотя он чуть не задохнулся под парусом, который Ностромо непреднамеренно опустил прямо на него, он не осмеливался даже высунуть наружу голову до того самого мгновения, когда на них налетел пароход. Вот тогда он как пришпоренный выскочил из-под паруса, поскольку новая опасность не только вселила в него способность двигаться, но и наделила поистине поразительной энергией. Когда баркас накренился и его окатило водой, к нему возвратился дар речи. Его крик: «Спасите!» был первым предупреждением для находившихся на пароходе людей, что они столкнулись с каким-то судном. В следующее мгновение ванта лопнула, и пароход понес якорь над полубаком баркаса. Он задел сеньора Гирша, и сеньор Гирш ухватился за него, не имея ни малейшего понятия, что это такое, но тем не менее с маниакальной безрассудной цепкостью обхватил его руками и ногами. Баркас дернулся и изменил положение, пароход же, удаляясь от него, уволок сеньора Гирша, который крепко держался за якорь и продолжал вопить: «Спасите!» Но обнаружили его, только когда пароход отплыл на некоторое расстояние и остановился. Вот тогда наконец услыхали его неумолчный пронзительный визг, напоминавший крики утопающего.
Двое солдат нащупали веревку якоря и подняли сеньора Гирша на борт. Затем его доставили к стоявшему на мостике Сотильо. Тот допросил его и окончательно утвердился в своем первоначальном впечатлении, что пароход случайно потопил какое-то судно, но разыскивать остатки кораблекрушения в такой темноте было бессмысленно. Сотильо не терпелось войти в гавань, и нетерпение его все росло; вообразить себе, что он сам уничтожил именно то, ради чего затеяна вся экспедиция, было непереносимо. Ему так сильно не хотелось верить в историю, рассказанную Гиршем, что он счел ее совершенно неправдоподобной. Сеньора Гирша немного поколотили за то, что он лжет, и заперли в штурманской рубке. Впрочем, поколотили его не сильно. Его рассказ обескуражил офицеров, но они, толпясь вокруг своего командира, продолжали твердить: «Нет, это невозможно! Невозможно!», и исключением являлся лишь старик майор, который торжествующе бубнил:
— А я вам что сказал? Что я вам говорил? Всякое предательство, интриги за милю нюхом чувствую.
Тем временем пароход продолжал плыть в Сулако, то единственное место, где можно было выяснить истинное положение дел. Громкие удары винта становились все слабее и замерли наконец вдали; тогда Ностромо и Декуд, не тратя лишних слов, направили баркас к Изабеллам. Когда прошел последний дождь, подул несильный, но устойчивый ветерок. Опасность еще не миновала, и у них не было времени на разговоры. Баркас протекал как сито. Они ходили по колено в воде. Капатас подвел Декуда к насосу, находившемуся в кормовой части, и Декуд немедленно, без слова, без вопроса, стал откачивать воду, не помышляя ни о чем, кроме одного — серебро не должно затонуть. Ностромо поднял парус и снова бросился к штурвалу. Он чиркнул спичкой, — спички находились в герметически закупоренной металлической коробочке и остались сухими, хотя сам Ностромо вымок с головы до ног, — и заметавшийся на ветру огонек осветил напряженное лицо капатаса, который, склонившись над компасом, внимательно вглядывался в него. Он понял, где они находятся, и надеялся только завести тонущий баркас в мелкую бухточку, там, где высокий скалистый берег Большой Изабеллы разделяется на две равные части заросшей густыми кустами лощиной.
Декуд работал без передышки. Ностромо поворачивал штурвал и все так же пристально, не мигая, всматривался в темноту. Каждый, выполняя свое дело, вел себя так, будто рядом никого нет. Им не приходило в голову разговаривать. Их связывало лишь сознание, что продырявленный баркас медленно, но непрестанно погружается все глубже в воду. И еще мысль: именно сейчас, когда решается, осуществятся ли их желания, они почувствовали, как они чужды друг другу; испуг, отчаяние, охватившие их при столкновении с пароходом, сделали ясным, как различны те последствия, которые для каждого из них повлечет за собой гибель баркаса. Грозящая обоим опасность с удивительной отчетливостью показала и тому, и другому, как несходны их цели, воззрения, характер и общественное положение. Их не связывали общие убеждения, идея; не идейными соратниками они были, а просто вовлеченными в одну и ту же авантюру людьми, которые, преследуя каждый собственную цель, совместно подвергаются смертельной опасности. Поэтому им и не о чем было говорить. Зато опасность, то единственное, что их накрепко связало, подхлестывала их умственные и физические усилия.
В самом деле капатас нашел бухточку почти чудом, ибо ориентирами ему послужили лишь расплывчатый силуэт острова и смутно белевшая в темноте узкая полоска песчаного пляжа. Там, где скалистый берег рассекала лощина и мелкий, хилый ручеек, петляя среди кустарника, пробивал себе путь к морю, Ностромо подвел баркас к острову. И сразу же оба они с молчаливой, несокрушимой энергией стали переносить на берег драгоценный груз, вдвоем тащили каждый кожаный тюк сквозь кусты по руслу ручейка, затем, ступая уже посуху, укладывали его во впадинку, где под корнями огромного дерева немного осела земля. Необъятный гладкий ствол, словно падающая колонна, нависал над тоненькой струйкой воды, которая, шурша камешками, стремилась к морю.
Года два назад Ностромо провел здесь целое воскресенье, исследуя в одиночку остров. Он рассказал об этом Декуду, когда они закончили свои труды и, усталые, ощущая ломоту во всем теле, уселись, прислонившись к дереву спиной и свесив над ручейком ноги, словно двое слепых, которые осознают присутствие друг друга и все, что их окружает, лишь благодаря неуловимому шестому чувству.
— Конечно, это здесь, — повторил Ностромо, — я не забываю мест, которые внимательно осмотрел хоть однажды.
Говорил он медленно, почти лениво, словно в распоряжении у него оставалась вся положенная ему долгая жизнь, а не два часа до рассвета. Что бы он теперь ни затеял, что ни задумал бы, как бы ни решил поступить, над ним всегда будет тяготеть эта тайна, мысль о сокровищах, которые он спрятал кое-как да к тому же еще в таком невероятном укрытии. Он понимал, что не вполне успешно справился с тем почти невыполнимым делом, которое поручили ему благодаря его блестящей репутации, стоившей таких усилий и трудов. В то же время он справился с ним достаточно успешно. Его тщеславие хоть отчасти было удовлетворено. Возбужденность, раздражение пошли на убыль.
— Никогда не знаешь, что может пригодиться, — добавил он, спокойно и неторопливо, как всегда. — Я ухлопал тогда целое воскресенье, исследуя этот клочок земли.
— Занятие, достойное мизантропа, — не без яда проворчал Декуд. — Я подозреваю, капатас, у вас тогда не было денег, чтобы проиграть их в карты или потратить на девиц в тех местах, где вы бываете гораздо чаще.
— Е véro![99]— отозвался капатас, настолько потрясенный проницательностью Декуда, что неожиданно для самого себя заговорил на родном языке. — Не было! Поэтому-то мне и не хотелось видеть этих попрошаек, привыкших заглядывать ко мне в кошелек. Все ждут щедрости от капатаса каргадоров, люди богаче меня ожидают ее, и не только простой люд, но, случается, и кабальеро. Я не азартный игрок, а за карты сажусь просто, чтобы чем-то заняться; что касается девиц, которые рассказывают с похвальбой, как открывают ночью на мой стук двери, я бы, наверное, не очень-то на них глядел, если бы мне не было любопытно узнать, о чем толкует народ. Забавные они людишки, мирные жители Сулако, и я получил немало ценных сведений, терпеливо слушая болтовню тех самых женщин, в которых, как все думали, я влюблен. Тереза этого не понимала, бедняжка. В то воскресенье, сеньор, она так разошлась, что я вышел из дома, поклявшись ни разу в жизни больше не переступать их порог, вернее, переступлю только один раз, когда приду забрать свой гамак и сундучок.
— Вы не представляете себе, сеньор, какая разбирает злость, если женщина, которую ты уважаешь, начинает поносить твое доброе имя как раз в тот день, когда у тебя нет даже медной монетки в кармане. Я отвязал лодку и отплыл от причала, не взяв ничего, кроме трех сигар, которые мне помогли скоротать тот день на острове. Правда, вода в этом ручейке, что журчит у вас под ногами, сеньор, прохладная, приятная и вкусная, когда бы ты ни отведал ее — перед тем как закурить или после. — Он задумчиво помолчал, потом добавил: — За несколько дней до того воскресенья я сопровождал через горы от самого Парамо на вершине перевала Энтрада английского сеньора с седыми бакенбардами… да еще вез его в карете. До сих пор ни разу ни одна карета, сеньор, не поднималась и не спускалась в равнину по этой дороге, так что я был первым — я привел на вершину перевала пятьдесят пеонов с веревками, кирками и шестами, и все они, выполняя мои приказания, работали как один человек. Это был тот самый англичанин, который, говорят, оплачивает строительство железной дороги. Он остался мной очень доволен. Но жалованье мне предстояло получить только в конце месяца.
Вдруг Ностромо спрыгнул вниз. Раздался громкий всплеск, а затем он прямо по воде зашагал к морю. Пока он шел по ручью, его закрывали кусты, потом Декуд увидел его под скалой на пляже. Хотя рассвет еще не наступил, посветлело сильно, что случается в Гольфо Пласидо, когда всю первую половину ночи идут частые, бурные ливни.
Баркас, освобожденный от драгоценной ноши, слегка покачивался в бухточке, зарывшись носом в песок. Через белую полоску пляжа черной ниткой протянулась длинная веревка якоря, который Ностромо отнес на берег и зацепил за ствол большого, как дерево, куста у самого входа в лощину.
Декуд оставался на острове — другого выхода не было. Ностромо отдал ему всю еду, которой снабдил баркас предусмотрительный капитан Митчелл, и Декуд сложил свои припасы в маленькую лодку, спрятанную в гуще кустарников, куда они отволокли ее вдвоем сразу же по прибытии на остров. Лодку Ностромо оставил ему. Остров должен был служить Декуду убежищем, а не тюрьмой: завидев проходящее мимо судно, он мог сесть в лодку и подплыть к нему. Почтовые пароходы с севера, направляющиеся в Сулако, проходили очень близко от островов. Но «Минерва», на борту которой отбыл экс-президент, увезла на север вести о мятеже. Вполне возможно, следующий пароход получит указания не заходить в порт, поскольку служащие на «Минерве» офицеры сообщат, что городом временно завладел всякий сброд. Значит, если надеяться лишь на почтовый пароход, Декуд в течение месяца не увидит ни одного судна; но ему волей-неволей приходилось здесь оставаться. Ибо спастись от угрожающей ему казни он мог только на острове. Капатас, конечно, возвращался. Разгруженный баркас протекал уже не так сильно, и он надеялся добраться на нем до пристани.
Он вручил Декуду, стоявшему рядом с баркасом по колено в воде, одну из двух лопат, которые составляют непременную часть оснастки каждого баркаса и употребляются, чтобы загрузить судно балластом. Когда немного рассветет, Декуд раскопает нависающую над тайником глыбу таким образом, чтобы придать ему естественный вид. Он расковыряет землю и отшвырнет подальше камни, что скроет от посторонних глаз не только сам тайник, но и следы их работы: отпечатки подошв на земле, сдвинутые с места камни и даже сломанные кусты.
— Да и кому взбредет в голову искать здесь вас или эти сокровища? — не умолкал Ностромо, который, казалось, искал предлог подольше постоять у тайника. — Сюда скорее всего никто никогда не придет. Ну зачем кому-то забираться на этот богом забытый островок, если можно спокойно разгуливать по большой земле! В этой стране люди не любопытны. Даже рыбаки не станут докучать вашей милости. Да и рыбачат они все вон там, возле Сапиги. Сеньор, если внезапно вам придется преждевременно покинуть этот остров, не плывите в сторону Сапиги. Это пристанище воров и бандитов, там вам сразу перережут горло вот за эту золотую цепочку и часы. И вообще, сеньор, не спешите доверять кому-либо наш секрет; даже офицерам, которые служат на пароходах компании, если вас подберет пароход компании ОПН. Даже честный человек может ненамеренно вас выдать. Вам надо специально подыскать кого-нибудь предусмотрительного и надежного. Главное же, помните, сеньор, что эти сокровища могут спокойно пролежать здесь столетия. Время — наш союзник, сеньор. А серебро не портится, это такой металл, о котором вы можете не тревожиться хоть до скончания веков… Не берет его порча, беспорочный металл, — проговорил он одобрительно, как видно, очень довольный, что нашел нужное слово.
— Так говорят и о некоторых людях, — с загадочным видом отозвался Декуд; капатас деревянным ведром вычерпывал из баркаса воду, мерно наклоняясь и выплескивая ее за борт. Декуд, неисправимый скептик, подумал без злорадства, но с некоторым удовлетворением, что этого человека сделало беспорочным его огромное тщеславие, утонченнейшая форма эгоизма, способная принять обличье любой добродетели.
Вдруг Ностромо, осененный неожиданной мыслью, перестал вычерпывать воду и с шумом уронил ведро.
— Вам не нужно что-нибудь передать? — спросил он, понизив голос. — Меня ведь будут расспрашивать.
— Когда окажетесь в городе, подыщите слова, которые вселили бы в наших друзей надежду. Я полагаюсь на ваш ум и вашу опытность, капатас. Вы меня поняли?
— Sí, señor… В разговоре с дамами.
— Да, да, — торопливо ответил Декуд. — Ваша блистательная репутация придаст огромную весомость каждому вашему слову; поэтому особенно тщательно их подбирайте. Я надеюсь, — продолжал он, невольно ощущая некоторое презрение к себе, что было свойственно его сложной натуре, — я надеюсь успешно завершить свою славную миссию. Вы слышите, капатас? Непременно скажите: «успешно» и «славную», когда будете говорить с сеньоритой. Вашу собственную славную миссию вы выполнили успешно. Вы бесспорно спасли добытое в рудниках серебро. И не только это серебро, а, возможно, все серебро, которое когда-либо извлекут из недр рудников Сан Томе.
Ностромо уловил в его тоне иронию.
— Позвольте мне заметить вам, сеньор дон Мартин, — проговорил он угрюмо. — Мало есть вещей, с которыми я не сумел бы справиться. Спросите об этом иностранных сеньоров. Я — человек из народа, человек, который не всегда способен понять, что вы имеете в виду. Но что касается до этого добра, которое мне здесь приходится оставить, должен вам признаться, что я был бы гораздо спокойней, если бы отвез его сюда без вас.
Возглас возмущения невольно вырвался у Декуда.
— Прикажете возвратиться вместе с вами в Сулако? — запальчиво спросил он.
— Прикажете прикончить вас ножом на месте? — насмешливо парировал Ностромо. — Это ведь то же самое, что отвезти вас в порт. Не надо сердиться, сеньор. Вы связали свою репутацию с политикой, моя — зависит от участи этого серебра. Стоит ли удивляться, что я предпочитаю, чтобы никто, кроме меня, не знал, где оно спрятано? Мне не нужны были сопровождающие, сеньор.
— Этот баркас утонул бы, если бы я вам не помог. — Декуд почти кричал. — А вы отправились бы вместе с ним на дно.
— Да, — сквозь зубы процедил Ностромо. — Но без посторонних.
«Вот человек, — изумленно подумал Декуд, — который скорее согласится умереть, только бы никто не покусился на его возвышенный монументальный эгоизм. На такого можно положиться». Он молча помог капатасу поднять на борт якорь. Движением тяжелого весла Ностромо оттолкнул баркас от берега, и вот Декуд остался на берегу, в полном одиночестве, как бывает порою во сне. У него сжалось сердце от острого желания услышать еще раз человеческий голос. Баркас едва виднелся на черной воде.
— Как вы думаете, что случилось с Гиршем? — крикнул он.
— Свалился за борт и утонул, — зычно и уверенно прогремел голос Ностромо между черными безднами неба и моря. — Не отходите далеко от ущелья, сеньор. Я постараюсь пробраться к вам ночью в ближайшие двое суток.
Декуд услышал тихий свистящий шорох и догадался, что Ностромо поднимает парус. Ветер сразу надул его — раздался такой звук, будто кто-то громко ударил в барабан. Декуд возвратился в лощину. Стоящий у руля Ностромо, время от времени оглядываясь, видел, как исчезает, растворяясь в ночной тьме, силуэт Большой Изабеллы. Наконец, в очередной раз оглянувшись, он ничего не увидел, лишь сплошная тьма обступила его со всех сторон глухой стеной.
В этот миг и он испытал то же чувство одиночества, которое охватило Декуда, когда баркас отчалил от острова. Но если оставшийся на берегу был растерян, подавлен и ему казалось нереальным все окружавшее его, даже песок, по которому он ступал, то капатасу каргадоров сразу же пришлось задуматься, что он будет делать дальше. Ностромо мог одновременно управлять баркасом, то и дело поглядывая в сторону Эрмосы, мимо которой ему предстояло пройти, и прикидывать в уме, что ждет его завтра в Сулако. Завтра, а верней, сегодня, поскольку рассвет недалек, Сотильо выяснит, как исчезли сокровища. Он выяснит, что артель каргадоров вытащила из таможни тюки с серебром, погрузила их на вагонетку и, толкая ее вручную, подвезла к причалу. Он арестует кое-кого и, конечно, еще до полудня узнает, каким образом увезли серебро из Сулако и кто его увез.
Ностромо держал курс прямо в гавань; но едва возникла эта мысль, он резко повернул штурвал и поставил баркас против ветра, после чего он замедлил ход. Если он вернется в гавань на том же судне, на котором увез серебро, это вызовет подозрения, и Сотильо без труда догадается, как обстоят дела. Его тотчас арестуют; а когда посадят в calabozo[100], чего только с ним не сделают, чтобы заставить говорить. Он был уверен в себе и все же задумался и огляделся. Невдалеке светлел плоский, как стол, песчаный берег Эрмосы, и море с шумом набегало на него. Баркас нужно немедленно потопить.
Поставленный таким образом, что ветер перестал надувать его парус, он мог лишь дрейфовать. Воды он набрал уже порядком. Ностромо отошел от штурвала и опустился на корточки. Когда он вытащит заглушку, вода быстро заполнит все судно, к тому же на каждом баркасе есть железный балласт, небольшой, но вполне достаточный для того, чтобы потопить судно, когда вода заполнит трюмы. Когда он снова встал, шуршание волн, набегавших на берег Эрмосы, раздавалось где-то далеко и было еле слышно; а впереди уже можно было различить очертания побережья у входа в гавань. Ну что ж, раз он ввязался в это отчаянное дело, благодаренье господу, что он хороший пловец. Проплыть милю ему ничего не стоит, кроме того, ему известно местечко, где удобно выбраться на берег, прямо под укреплениями старого форта. И он с огромным удовольствием подумал, как отлично отоспится в заброшенном форте, где сможет наконец проспать спокойно хоть весь день после стольких бессонных ночей.
Одним ударом румпеля, который он отломал специально для этой цели, он вышиб заглушку, а парус опускать не стал. Тотчас же хлынула вода, ему залило ноги, и он поспешно вспрыгнул на гакаборт. Он постоял там некоторое время, выжидая, стройный, неподвижный, лишь в рубахе и штанах. Затем почувствовал: баркас пошел ко дну, сделал огромный прыжок и с громким всплеском погрузился в воду.
Вынырнув, он сразу же обернулся. Занималось хмурое облачное утро, и в неясном его свете Ностромо удалось разглядеть верхний угол паруса — темный промокший треугольник слабо трепыхался над гладкой поверхностью воды. Потом он увидел, как парус исчез, словно кто-то утащил его рывком под воду, и поплыл к берегу.
Часть третья
МАЯК
ГЛАВА 1
Как только баркас с серебром отчалил и скрылся в темноте, все европейцы города Сулако разбрелись каждый в свою сторону и порознь ожидали прихода монтеристского режима, который мог нагрянуть либо с моря, либо с гор.
Погрузка серебра была последним делом, которое они осуществили все вместе. Этим делом завершились полные опасности три дня, в продолжение которых все их усилия, согласно сообщениям европейских газет, были направлены на то, чтобы спасти город от пагубных последствий мятежа. Перед тем как уйти с мола, капитан Митчелл пожелал всем доброй ночи и повернулся к городу лицом. Сейчас главной его целью было покинуть деревянный настил пристани, прежде чем прибудет пароход из Эсмеральды.
Инженеры с железной дороги собрали своих рабочих, итальянцев и басков, и увели на товарную станцию, бросив на произвол судьбы таможню, которую так рьяно охраняли с первого дня мятежа. Их люди отважно и беззаветно сражались в течение знаменитых «трех дней». Причиной этой храбрости явилось скорей стремление к самозащите, чем преданность материальным интересам, служению которым посвятил себя Чарлз Гулд. Среди криков, раздававшихся в толпе, «Смерть иностранцам!» был отнюдь не самым тихим. Городу Сулако, право, очень повезло, что между местным населением и рабочими, привезенными из Европы, чуть ли не с первого дня сложились стабильно скверные отношения.
Доктор Монигэм, стоя на пороге кухни старика гарибальдийца, заметил эту процессию, знаменующую собой окончание вмешательства иноземцев во внутренние дела Костагуаны, отступление армии Материального Прогресса с арены костагуанских междоусобиц.
До него донесся запах факелов из рожкового дерева; их несли, освещая перед собой дорогу, люди из бросившего таможню отряда. В отблесках пламени, пробежавших по фасаду дома, резво запрыгали черные буквы, тянувшиеся вдоль всей стены: «ГОСТИНИЦА ОБЪЕДИНЕННАЯ ИТАЛИЯ». Свет факелов ослепил доктора, и он моргнул. Несколько молодых людей, сопровождавших толпу, в которой над темно-бронзовыми лицами поблескивали дула винтовок, дружелюбно ему кивнули. Все знали доктора, и кое-кто из инженеров подумал с любопытством, почему он оказался здесь. Затем отряд рабочих и шагающие сбоку инженеры прошли мимо гостиницы и стали удаляться.
— Уводите из гавани своих людей? — спросил доктор у главного инженера дороги, который, провожая Чарлза Гулда, шел рядом с его лошадью пешком и таким образом добрался до гостиницы. Они остановились прямо напротив открытых дверей, пропустив вперед отряд рабочих.
— Да, и как можно быстрей. Мы не политическая фракция, — многозначительно произнес инженер. — И не намерены давать новому правительству повод для нападок на железную дорогу. Вы одобряете мою позицию, Гулд?
— Полностью. — Бесстрастный голос Чарлза раздался где-то за пределами светлого прямоугольника, который падал из раскрытой двери и освещал дорогу.
Сейчас, когда с одной стороны к городу приближался Сотильо, а с другой — Педро Монтеро, главный инженер стремился лишь избежать столкновения как с тем, так и с другим. Для него Сулако — станция, вокзал, мастерская, множество складов. Железная дорога несомненно может защищать свое имущество от толпы мятежников, но в политическом отношении она нейтральна. Он был смелым человеком и, последовательно соблюдая нейтралитет, согласился обратиться с предложением о перемирии к самозваным главарям «народной партии», депутатам Фуэнтесу и Гамачо. В воздухе еще свистели пули, когда, выполняя эту миссию, он пересек Пласу, размахивая поднятой над головой белой салфеткой из запасов столового белья клуба «Амарилья».
Он гордился этим подвигом, и, решив, что доктор, который весь день перевязывал раненых во внутреннем дворике Каса Гулд, еще не знает об этом событии, вкратце пересказал ему, как обстояли дела. Прежде всего он сообщил обоим депутатам полученные от строителей дороги сведения относительно Педро Монтеро. Младший брат победоносного генерала, предупредил он их, в любое мгновение может появиться в Сулако. Эти новости (как он и полагал) сразу же после того, как сеньор Гамачо громко выкрикнул их из окна, побудили собравшуюся возле дома толпу устремиться в сторону Ринкона по дороге, пересекающей Кампо. Оба депутата горячо пожали ему руку, а затем вскочили на лошадей и понеслись навстречу великому человеку.
— Я был не совсем точен, — признался главный инженер. — И слегка ввел их в заблуждение. Даже если Монтеро-младший будет мчаться во весь опор, он едва ли доберется сюда до рассвета. Но своей цели я достиг. Обеспечил несколько мирных часов для потерпевшей поражение партии. А вот насчет Сотильо я не рассказал — боялся, как бы им не взбрело в голову вновь захватить гавань, чтобы дать ему отпор или приветствовать его, — кто их знает, что они надумают. Серебро Гулда последняя наша надежда. К тому же я не забывал, что нужно обеспечить отступление Декуду. По-моему, железная дорога довольно основательно помогла своим друзьям, не скомпрометировав себя безнадежно. Теперь враждующие партии будут предоставлены самим себе.
— Костагуана для костагуанцев, — сардонически заметил доктор. — Прекрасная страна, и здесь выращен прекрасный урожай — ненависти, мести, грабежа и убийств… выращен сыновьями этой страны.
— Что ж, я один из них, — раздался в ответ спокойный голос Чарлза, — и мне пора снимать свой урожай забот. Моя жена проехала без каких-либо задержек, доктор?
— Да, все было тихо. Миссис Гулд увезла обеих дочерей хозяина гостиницы.
Чарлз Гулд двинулся дальше, а главный инженер вслед за доктором зашел в кухню.
— Воплощенная невозмутимость этот человек, — произнес он уважительно, рухнул на скамью и чуть ли не до порога вытянул стройные ноги в спортивных гольфах. — Мне кажется, он в высшей степени уверен в себе.
— Если это все, в чем он уверен, можно смело сказать: он не уверен ни в чем, — ответил доктор. Он опять уселся на столе. Склонив голову, уткнулся в ладонь подбородком. — Плохо дело, если человек уверен только в себе.
Тусклая полусгоревшая свеча с длинным фитилем бросала свет снизу на его лицо, странное выражение которого — угрюмое и в то же время виноватое — казалось даже противоестественным, хотя отчасти его можно было приписать глубоким морщинам на щеках — следам зарубцевавшихся шрамов. У него был вид человека, погрузившегося в крайне невеселое раздумье. Главный инженер разглядывал его довольно долго, потом все-таки решился возразить:
— Не понимаю, почему вы так настроены. На кого же ему полагаться, как не на себя. Конечно…
Он был неглупый человек, но ему не удалось полностью скрыть, что парадоксы такого рода вызывают его презрение; следует признаться, что европейцы города Сулако недолюбливали доктора Монигэма. Да и как его не осуждать, если на вид он настоящий бродяга и даже в гостях у миссис Гулд выглядит оборванцем. Он без сомнения умен; к тому же прожил более двадцати лет в этой стране, и окружающие невольно прислушиваются к его мрачным пророчествам. В то же время людям хотелось надеяться и не бездействовать, поэтому пессимистические речи доктора слушатели инстинктивно приписывали ущербности его натуры. Было известно, что много лет назад, когда доктор был совсем молод, Гусман Бенто поставил его во главе всей медицинской службы своей армии. Ни один из европейцев, служивших в ту пору в Костагуане, не пользовался такой любовью и доверием свирепого старика диктатора.
Дальнейшая его история уже более туманна. Она затерялась среди многочисленных воспоминаний о заговорах против тирана, как в сухих и безводных землях теряется река и возникает снова — по другую сторону засушливого пояса — взбаламученной и обмелевшей. Доктор ни от кого не скрывал, что долгие годы прожил в местности, отдаленной от побережья и больших городов, и бродил среди необозримых джунглей с какими-то безвестными индейскими племенами, кочевавшими в этих глухих краях, где находятся истоки самых больших рек. Но бродил он без всякой цели: ничего не записывал и не собирал ничего, словом, не вынес ничего полезного для науки из чащи джунглей, которые, казалось, навсегда оставили свой сумрачный отпечаток на его потрепанной особе, ковыляющей по улицам Сулако, куда течение жизни ненароком занесло его и бросило на побережье, как обломок затонувшего судна.
Известно было также, что он жил в глубокой нищете, пока из Европы не прибыли Гулды. Дон Карлос и донья Эмилия принялись опекать сумасшедшего английского доктора, как только поняли, что при всей своей свирепой независимости он вполне способен стать ручным и добиться этого можно добротой. Впрочем, быть может, его приручил только голод. В далеком прошлом он, конечно, был знаком с отцом Чарлза; и сейчас, невзирая на темные пятна в прошлом, сделавшись официальным врачом рудников Сан Томе, он завоевал определенное положение в обществе.
Положение-то он завоевал, но признали доктора не все. Его вызывающая эксцентричность, нескрываемое презрение к человечеству, казалось, свидетельствовали о том, что он бросает вызов обществу, бравируя своей былой виной. Кроме того, как только он вновь занял это определенное положение, поползли темные слухи о том, что много лет назад, когда во времена так называемого Большого Заговора доктор Монигэм впал в немилость и по приказанию Гусмана Бенто был заключен в тюрьму, он выдал заговорщиков и среди них несколько своих близких друзей.
Слухам, собственно, никто не верил; вся история Большого Заговора была безнадежно темна и запутана; жители Костагуаны вообще считают, что и заговора никакого не было, что он существовал лишь в воспаленном воображении тирана; а потому и выдавать было нечего и некого; тем не менее лучшие люди страны были брошены в тюрьму и казнены по обвинению в этом мифическом заговоре. Следствие тянулось много лет и как чума косило представителей высшего сословия. Смертью карались даже те, кто позволил себе выразить сожаление о казненном родственнике.
Из тех, кто знал во всех подробностях историю этого страшного времени, пожалуй, остался в живых лишь один дон Хосе Авельянос. Он сам был жертвой немыслимых жестокостей, которые тогда творились, и стоило в его присутствии заговорить о них, как он тотчас пресекал разговор, иной раз пожав плечом, а иногда нервно махнув рукой, будто отгоняя от себя что-то. Но какова бы ни была причина, доктор Монигэм, официальный служащий концессии Гулда, благоговейно почитаемый шахтерами, обласканный миссис Гулд, охотно прощавшей ему всяческие причуды и странности, в каком-то смысле считался изгоем.
Вот и главный инженер дороги задержался в гостинице вовсе не потому, что испытывал симпатию к доктору. Старик Виола нравился ему гораздо больше. Он заглянул в «Объединенную Италию» потому, что здесь жили многие из его подчиненных. Покровительство миссис Гулд сослужило владельцу гостиницы добрую службу. К тому же главный инженер, руководивший целой армией рабочих, ценил влияние, которым старый гарибальдиец пользовался среди земляков. Республиканец старого закала, он являл пример человека чести, сурового воинского долга, если считать, что мир — это поле битвы, где сражаются для того, чтобы защитить любовь и братство всех живущих на земле, а не для того, чтобы урвать себе побольше.
— Жаль старика! — заметил главный инженер, когда доктор рассказал ему о Терезе. — Он не сумеет справиться с делом без жены. Очень печально.
— Он совсем один там, наверху, — буркнул доктор и кивнул в сторону узкой лестницы, ведущей на второй этаж. — Все жильцы улетучились, а теперь миссис Гулд и девочек увезла. Им и в самом деле было опасно оставаться. Врачебной помощи я, конечно, оказать здесь уже не могу; но миссис Гулд попросила меня присмотреть за стариком, и поскольку у меня нет лошади и до рудников, где мне положено находиться, я все равно не доберусь, то я могу побыть и здесь, мне не трудно. Тем более что в городе обойдутся без меня.
— Ну, а я останусь с вами, доктор, и посмотрю, как будут развиваться события в порту, — заявил главный инженер. — Ведь Сотильо может появиться в любую минуту, и, если солдаты станут досаждать старику, мне хотелось бы его защитить. Сотильо был всегда со мной очень любезен, у Гулдов и в клубе. Не могу себе представить, как он осмелится взглянуть в лицо своим здешним друзьям.
— Для начала он несомненно некоторых из них расстреляет, чтобы избежать неловкости при первой встрече, — сказал доктор. — Приговорить без суда и следствия к смертной казни хотя бы нескольких человек — в этой стране излюбленное средство для военных деятелей, перебежавших на сторону врага. — Он говорил с угрюмой убежденностью, которую едва ли можно было бы поколебать. Главный инженер и не пытался. Он лишь удрученно кивнул головой и сказал:
— Я думаю, что к утру мы вам раздобудем лошадь, доктор. Мои пеоны тут поймали нескольких сбежавших с перепугу лошадей. Если ехать очень быстро, кружным путем — через Лос Атос и дальше вдоль опушки леса, так, чтобы Ринкон остался в стороне, — вы, пожалуй, доберетесь до моста Сан Томе без препятствий. Рудники, по-моему, сейчас самое безопасное место для человека, который чем-нибудь скомпрометирован. Я могу лишь пожалеть, что с железной дорогой дело обстоит совсем не так благополучно.
— Стало быть, я скомпрометирован? — после короткой паузы осведомился доктор.
— Точно так же, как и вся концессия Гулда. Окажись я на его месте, я тоже не смог бы не участвовать в политической жизни страны… если можно назвать жизнью эти конвульсии. Тут главное — удастся ли тебе обеспечить безопасность своего предприятия. Рано или поздно наступает момент, когда сохранить нейтралитет невозможно, и Чарлз Гулд это прекрасно понимает. Надеюсь, он готов к любому испытанию. Такой человек, как Гулд, не смог бы терпеть бесконечно разгул невежественной и наглой деспотии. Ведь его можно сравнить с пленником, который сидит в разбойничьем притоне и ежедневно платит деньги, чтобы приобрести право на жизнь, хотя в кармане у него находится вся сумма, необходимая для полного выкупа; и при этом платит лишь за то, чтобы его не убивали, а о свободе нет и речи. Да, да, именно так.
И вы напрасно пожимаете плечами, — приведенное мной сравнение абсолютно соответствует действительности, особенно если иметь в виду, что захваченный бандитами пленник, словно в сказке, обладает способностью все время добавлять к лежащим у него в кармане деньгам новые, которые не могут захватить бандиты. Вы это знаете не хуже меня, доктор. Он оказался в положении курицы, несущей золотые яйца. Я обсуждаю с ним эту тему еще с тех пор, как здесь побывал сэр Джон.
Узник, находящийся в руках алчных и невежественных разбойников, постоянно должен ожидать, что любой мерзавец и дурак может раскроить ему череп, в приступе шального гнева или понадеявшись сразу отхватить крупный куш. Народная мудрость не зря породила грустную притчу о курице, которую зарезали, хотя она несла золотые яйца. Эта сказка никогда не устареет. Вот почему Чарлз Гулд, действуя как всегда обдуманно и немногословно, поддержал декрет рибьеристов, первый официальный акт, который гарантировал ему свободу не за выкуп. Рибьеризм потерпел крах… в этой стране все разумное обречено на гибель. Но Гулд не потерял головы и постарался сохранить полученное за полгода серебро.
План Декуда противопоставить мятежу новую революцию, возможно, имеет под собой какую-то основу, а возможно, и не имеет ее, может осуществиться, а может не осуществиться. Хотя я неплохо знаю этот бурлящий революциями континент, я не могу относиться к их деятельности серьезно. Декуд прочел нам свой проект воззвания и очень убедительно два часа подряд рассказывал, что он намерен сделать. Он приводил доводы, которые могли бы показаться вполне основательными, если бы нас, представителей старинных и стабильных политических и национальных структур, не ужасала самая мысль о том, что новое государство может возникнуть таким вот образом — прямо из головы иронически настроенного молодого человека, который сразу после этого, торопливо сунув воззвание в карман, бежит, спасая свою жизнь к грубому, глумливому рубаке-полукровке, из тех, которых в здешних краях почему-то именуют генералами. Все это похоже на забавную сказку и, пожалуй, может и в самом деле к чему-то привести, поскольку выдержано в истинном духе этой страны.
— Так, значит, серебро уже в пути? — хмуро спросил доктор.
Инженер извлек из кармана часы.
— Судя по уверениям капитана Митчелла, — а уж он-то, конечно, все досконально знает, — серебро находится в пути уже так долго, что, вероятно, сейчас его отделяют от порта три или четыре мили; а Ностромо, как говорит Митчелл, отличный моряк и даром времени терять не станет.
Доктор хмыкнул так выразительно, что инженер обеспокоенно спросил:
— Вы не одобряете этой затеи, доктор? Но почему? Чарлз Гулд понимает, что игру надо довести до конца, хотя он едва ли формулирует таким образом свою линию поведения даже мысленно, а тем более вслух. Условия этой игры ему, возможно, подсказал отчасти Холройд; но Гулд по натуре сам любитель таких игр, и потому что правила ему по вкусу, он оказался столь счастливым игроком. В Санта Марте его уже назвали королем Сулако. Такая кличка верное свидетельство успеха. В этой шутке, на мой взгляд, есть большая доля правды. Уверяю вас, доктор, я был просто потрясен, когда, приехав в Санта Марту, увидел, как все эти журналисты «народные трибуны», члены конгресса, а также всяческие генералы и судьи пресмыкаются перед субъектом с сонными глазами, адвокатом без клиентов только потому, что он является полномочным послом концессии Гулда. И на сэра Джона, когда он сюда приезжал, это тоже произвело очень сильное впечатление.
— Так, так… новое государство и его первый президент — пухленький денди Декуд, — задумчиво произнес доктор Монигэм, который все так же сидел, подпирая рукой голову, и качал ногами.
— Бог ты мой, а почему бы нет? — с неожиданной серьезностью и доверительностью отозвался инженер. Казалось, даже он подвергся наконец воздействию невидимо витавших в воздухе Костагуаны миазмов, которые вселили в каждого из местных жителей незыблемую веру в pronunciamientos[101]. Внезапно он с апломбом опытного революционера принялся объяснять, что войска, которые стоят в Каите и еще не понесли урона, ибо не участвовали в боях, через несколько дней могут возвратиться в Сулако, вдохновленные воззванием Декуда, если только он сумеет добраться до них. Руководить военными действиями будет Барриос, который от Монтеро, конкурента и смертельного врага, может ждать лишь одного — расстрела. Таким образом, помощь Барриоса обеспечена. Что касается его армии, ей тоже нечего ожидать от новоявленного диктатора, даже жалованья за месяц. Ввиду всех этих обстоятельств, сокровища Сан Томе приобретают огромную важность. Как только армия Барриоса узнает, что серебро не досталось врагу, она тотчас с радостью примется защищать отделившееся от Костагуаны государство.
Доктор поднял голову и пристально взглянул на собеседника.
— Ого! Я вижу, этот Декуд сумеет убедить кого угодно, — проворчал он наконец. — Уж не он ли упросил Чарлза Гулда отправить такое множество серебряных слитков в открытое море, доверив их пресловутому Ностромо?
— Чарлз Гулд, — ответил главный инженер, — сказал о своих побуждениях не больше, нежели он говорит о них всегда. Вы ведь знаете, он неразговорчив. Но побуждения его известны всем, у него лишь одно побуждение — оградить от опасности рудники Сан Томе и дать возможность концессии Гулда, как и прежде, функционировать в духе его соглашения с Холройдом. Холройд тоже необычный человек. Оба они мечтатели и потому так хорошо друг друга понимают, хотя одному тридцать, а другому под шестьдесят. Но быть миллионером, и к тому же миллионером такого типа, как Холройд, это то же самое, что обрести вечную молодость. Юношеская отвага уповает на то, что впереди несметные, бесчисленные годы; миллионер располагает несметным богатством… и это еще лучше. Человек не знает, сколько лет он проживет, а миллионы несомненно могут сделать многое.
Лишь восторженный юноша может мечтать внедрить на этом континенте светлые идеи христианства, и мне хочется понять, почему Холройд в пятьдесят восемь лет ведет себя словно неопытный юнец и даже еще романтичней. Он, конечно, не миссионер, но то, что происходит на Сан Томе, ничем не отличается от деятельности миссионеров. Заверяю вас со всей серьезностью, что он не мог проникнуться таким энтузиазмом во время чисто делового совещания с сэром Джоном по поводу финансового положения Костагуаны. Совещание происходило года два назад, и сэр Джон в письме из Сан-Франциско, которое он написал мне, возвращаясь на родину, выражал недоумение по этому поводу. Невольно подумаешь, доктор, что поступки наши очень мало значат сами по себе. И, право же, приходишь к выводу, что существенно только одно — духовное начало, которое побуждает нас к действию.
— Э, бросьте! — прервал его доктор, который выслушал рассуждения инженера, не меняя позы и качая ногами. — Все это просто самолюбование. Пища для тщеславия, а тщеславие, как нам известно, правит миром. Лучше скажите, что может случиться с сокровищами, плывущими сейчас по воле волн и вверенными попечениям великого капатаса и великого политического деятеля Декуда?
— А почему это тревожит вас, доктор?
— Меня? Да на кой дьявол они мне нужны? Я-то не вкладываю духовного начала в свои желания, мнения и поступки. Они, увы, не грандиозны, и самолюбование в них не умещается. К примеру, я бы, конечно, хотел облегчить последние минуты жизни несчастной, умирающей там, наверху. Но не могу этого сделать. Невозможно. Вам когда-нибудь случалось сталкиваться с невозможным или у вас, Наполеона железных дорог, не существует в словаре такого слова?
— Ей придется очень сильно мучиться? — спросил инженер с состраданием.
Кто-то, медленно и тяжело ступая, прошел по половицам над массивными деревянными балками. Затем из узкого проема лестницы, прорубленной в стене с таким расчетом, чтобы там уместился только один человек, который мог бы преградить путь двадцати, послышалось два голоса, один — прерывистый и слабый, другой — низкий, и в его ласковом рокоте потонули вопросы, заданные женским голосом.
Наши собеседники затихли на время, пока не смолкли голоса наверху, затем доктор передернул плечами и буркнул:
— Да, придется. Но если даже я и поднимусь к ней, то помочь ничем не смогу.
Наступило долгое молчание и внизу и наверху.
— Мне почему-то кажется, — негромко проговорил инженер, — что вы не доверяете капатасу капитана Митчелла.
— Не доверяю! — процедил сквозь зубы доктор. — Я полагаю, что он способен на все, включая преданность на грани безумия. Видите ли, я последний, с кем он разговаривал перед тем, как покинул пристань. Больная захотела с ним повидаться, и я его к ней проводил. С умирающими не полагается спорить. Бедная женщина безропотно ждала кончины и казалась вполне спокойной, но за какие-нибудь десять минут этот мерзавец сказал или сделал что-то такое, от чего она впала в отчаяние. Видите ли, — продолжал, слегка замявшись, доктор, — женщины всегда и в любой ситуации до такой степени непостижимы, что мне порой казалось, будто она… ну, словом, чуть ли не влюблена в него… в капатаса.
Негодяй на свой особый лад обладает несомненным обаянием — чем иначе объяснить, что его боготворит весь город. Нет, я вовсе не сошел с ума. Я неудачно выразился, но я не знаю, как описать ее чувство к капатасу, беспричинную и сильную привязанность из тех, какие возникают иногда у женщины к мужчине и не заключают в себе ничего предосудительного. Она нередко мне его бранила, что отнюдь не исключает справедливости моих догадок. Наоборот, мне кажется, она ругала его так часто потому, что постоянно думала о нем. В ее жизни он играл большую роль. Я ведь хорошо знаком со всем семейством. Каждый раз, когда я приезжал из Сан Томе, миссис Гулд просила меня их проведать. Миссис Гулд любит итальянцев; кажется, она долго жила в Италии, а к старому гарибальдийцу питает особую слабость. Он и в самом деле необычный человек. Суровый мечтатель, до нынешнего дня витающий, как в облаках, в призрачном мире республиканских идей своей юности. Нелепый старикан, экзальтированный, необузданный, — он и капатаса заразил своей дурью.
— Это какой же дурью? — удивился инженер. — Капатас, по-моему, всегда ведет себя очень разумно, он находчив, абсолютно бесстрашен, одним словом, лучшего помощника и желать не приходится. Ему можно поручить все, что угодно. На сэра Джона во время путешествия из Санта Марты через горы он произвел отличное впечатление, как очень толковый и распорядительный малый. А впоследствии, вы, вероятно, слыхали, он оказал нам большую услугу, сообщив начальнику полиции, что в Сулако приехали грабители профессионалы и замышляют устроить железнодорожную катастрофу, чтобы захватить вагон, в котором находится месячное жалованье всех служащих дороги. Он превосходно организовал разгрузочные и погрузочные работы для компании ОПН в порту. Он умеет заставить себя слушаться, хотя он и иностранец. Каргадоры, правда, тоже нездешние — иммигранты, isleños[102].
— Престиж — главная его забота, — брюзгливо проворчал доктор.
— Он столько раз уже доказывал свою надежность, что проверять его нет никакой нужды, — не соглашался инженер. — Когда возник вопрос, кто повезет серебро, капитан Митчелл, разумеется, стал горячо доказывать, что доверить это нельзя никому, кроме капатаса. Ну, конечно, он моряк, и, я думаю, в этом вся причина. Но что касается его честности, признаюсь, и Гулд, и Декуд, да и я сам полагали, что такое поручение можно дать кому угодно. Капатаса смог бы заменить любой рыбак. Ну скажите, бога ради, что будет делать вор с таким множеством серебряных слитков? Если он присвоит их и убежит, то ведь рано или поздно ему придется где-нибудь высадиться со своим грузом, а каким образом он сумеет скрыть от местных жителей целую гору серебра? Тут и думать не о чем. К тому же вместе с капатасом отплыл Декуд. Мы, не задумываясь, доверялись капатасу даже в случаях гораздо более сложных.
— Он на это смотрит несколько иначе, — сказал доктор. — Как раз здесь, на кухне, он заявил при мне, что это самое отчаянное дело в его жизни. Он составил нечто вроде устного завещания, а душеприказчиком назначил старика Виолу; ей-богу, уверяю вас, никакого богатства он не наживает, оттого что так преданно служит всем вам — господам, распоряжающимся в порту, на рудниках и на железной дороге. Думаю, в обмен за свои труды он обретает некое — как вы его назвали? — духовное начало, а иначе на кой ему дьявол проявлять преданность Гулду, Митчеллу, вам и всем прочим.
Он хорошо знает эту страну. Например, он знает, что Гамачо, депутат от Хавиры, был просто бродячим торговцем, который шатался со своим товаром по Кампо, потом набрал всякой всячины у Ансани в кредит, открыл где-то в глуши небольшую лавчонку, после чего добился, чтобы его выбрали в парламент пьяные конюхи и батраки, которые кочуют из усадьбы в усадьбу, и обнищавшие ранчеро, задолжавшие ему. А ведь этот Гамачо, который, возможно, завтра станет одним из высших должностных лиц в стране, тоже чужеземец — он островитянин. Он бы мог сейчас быть каргадором компании ОПН, но на свое счастье, — хозяева наших придорожных гостиниц хоть сейчас готовы в этом присягнуть, — однажды повстречал в лесу бродячего торговца, убил его и стащил узел с товаром, с чего и началась его карьера. А вы думаете, Гамачо в ту пору пользовался такой же любовью народа, как наш капатас? Конечно, нет. Гамачо и в подметки ему не годится. Нет, я решительно считаю, что Ностромо дурак.
Желчные высказывания доктора были неприятны инженеру.
— На эту тему невозможно спорить, — заметил он философски. — У каждого свои таланты. Слышали бы вы, как ораторствовал Гамачо, обращаясь к своим друзьям, которые толпились под окном. Голос у него пронзительный, и он вопил как сумасшедший, потрясая кулаками над головой и рискуя вывалиться из окна на тротуар. Едва он делал паузу, чернь, сгрудившаяся внизу, принималась орать: «Долой олигархов! Viva la libertad!» Фуэнтес не подходил к окну; на него было жалко смотреть. Он ведь брат Хорхе Фуэнтеса, того самого, который несколько лет назад был в течение полугода министром внутренних дел. Совести у него, конечно, нет; но он из хорошей семьи, образован… одно время служил начальником таможни в Каите. Этот кретин Гамачо присосался к нему со своими приспешниками из числа гнуснейших подонков. Фуэнтес так боится этого головореза, что наблюдать за этой парой — истинное удовольствие.
Он встал, подошел к двери и, высунувшись, поглядел в сторону гавани.
— Все спокойно, — сказал он. — А может быть, Сотильо и не собирается сюда?
ГЛАВА 2
Тот же вопрос задавал себе, расхаживая по набережной, капитан Митчелл. Разве не могло случиться так, что сообщение телеграфиста из Эсмеральды — отрывочное и бессвязное — было неправильно понято? Тем не менее добрейший капитан решил не ложиться до рассвета. Он вообразил себе, что оказал огромную услугу Чарлзу Гулду, и каждый раз при мысли о спасенном серебре торжествующе потирал руки. Простодушный капитан гордился своим участием в такой хитроумной затее. Ведь именно благодаря ему она стала осуществимой, ибо никто иной, как он, высказал мысль, что баркас с серебром может встретиться в открытом море с направляющимся на север пароходом. Кроме того, это было в интересах компании, которая лишилась бы выгодного фрахта, если бы серебро осталось в порту и было конфисковано. Человек властный по складу характера, а также благодаря многолетней привычке командовать, капитан Митчелл не был демократом. Он зашел даже так далеко, что открыто выражал свое презрение к парламентаризму. «Его милость дон Винсенте, — повторял он не раз, — которого я и мой подручный Ностромо имели честь и удовольствие, сэр, спасти от кровавой расправы, слишком уж считался со своим конгрессом. Это было ошибкой, сэр, несомненной ошибкой». Старый моряк наивно полагал, что за последние три дня израсходован весь запас бурных событий, которым располагала Костагуана. Впоследствии он признавался, что дальнейшее превзошло все, что он мог себе вообразить. Во-первых, город (поскольку солдаты Сотильо захватили телеграфный пункт и приостановили движение поездов) оказался, словно в осаде, и был на целых две недели отрезан от мира.
— Трудно поверить, сэр, однако все было именно так. На целых две недели, представьте себе, сэр.
Повествованию о невероятных происшествиях, случившихся за эти две недели и глубоко взволновавших его, придавала особую, комическую выразительность напыщенная манера рассказчика. Вначале он всегда доверительно сообщал, что «находился в самой гуще событий с первого до последнего дня». Затем описывал отплытие баркаса и свое, вполне естественное в тот миг, волнение по поводу того, как бы его подручный, которому было поручено увезти из порта серебро, не совершил какой-либо ошибки. Ведь кроме потери драгоценного металла подвергалась также опасности жизнь сеньора Мартина Декуда, симпатичного, богатого и образованного молодого джентльмена, которому ни в коем случае нельзя было оказаться в руках у своих политических врагов. Капитан Митчелл не скрывал при этом, что во время своего ночного бдения на пристани он в какой-то степени тревожился и за будущность всей страны.
— Чувство, сэр, — восклицал он, — вполне естественное в человеке, благодарном за многочисленные проявления любезности со стороны лучших семейств Костагуаны — коммерсантов и других состоятельных людей, которые, едва лишь мы успели спасти их от ярости толпы, снова попали в опасное положение, ибо, насколько я могу судить, их имущество и жизнь вскоре должны были оказаться в распоряжении местной военщины, как известно, проявляющей прискорбную жестокость в пору междоусобных войн. Не забывайте также Гулдов, сэр, к которым, и к жене и к мужу в равной степени, я не мог не испытывать самой горячей признательности за их гостеприимство и доброту. Кроме того, меня тревожила судьба господ из клуба «Амарилья», сделавших меня его почетным членом и неизменно обходившихся со мной учтиво и почтительно, в какой бы роли я ни выступал — представителя консульства либо управляющего пароходной компанией. Немало думал я, должен признаться, и об участи мисс Антонии Авельянос, прекраснейшей и достойнейшей из всех молодых леди, с которыми мне выпадало счастье говорить. К тому же я не мог не размышлять о том, как предстоящая смена правительственных чиновников отразится на интересах нашей компании.
Одним словом, сэр, как вы легко можете догадаться, меня смертельно встревожили и сильно утомили волнующие события, в которых и мне довелось сыграть свою скромную роль. Всего в пяти минутах ходьбы находилась контора нашей компании, где расположена и моя квартира, в которой меня ждали ужин и гамак (сообразуясь с особенностями местного климата, я всегда провожу ночь в гамаке); но почему-то, сэр, хотя я несомненно никому ничем не мог помочь, я был не в состоянии покинуть пристань и бродил по ней, с трудом передвигая ноги от усталости.
Ночь была непроглядно темной — я в жизни не видел таких ночей; и я уже начинал надеяться, что судно из Эсмеральды не сможет в таком мраке пересечь залив и появится лишь при свете дня. Москиты кусались зверски. Нас осаждали здесь москиты до недавних пор, пока муниципалитет не предпринял решительные меры; а те, что обитали в гавани, сэр, отличались особой свирепостью. Они облаком роились вокруг моей головы, и, если бы не их укусы, я, наверное, уснул бы на ходу и упал. Я курил одну сигару за другой уже не потому, что мне хотелось курить, а главным образом из опасения быть съеденным заживо.
И вот, сэр, когда я, вероятно, в двадцатый раз приблизился к освещенному краю пирса, чтобы взглянуть на свои часы, и с удивлением обнаружил, что они показывают всего без десяти минут двенадцать, я услыхал шум пароходного винта — звук, который ухо моряка распознает в такую тихую ночь безошибочно. Он был очень слабым, поскольку судно приближалось осторожно и дьявольски медленно, во-первых, из-за темноты, во-вторых, из-за стремления не обнаружить раньше времени свое присутствие, предосторожность совершенно излишняя, поскольку, как я искренне убежден, на всем огромном протяжении пирса (а он занимает около четырехсот футов в длину) не было ни одной живой души, кроме меня. С тех пор как начался мятеж, из порта испарились все служители, включая ночных сторожей. Я замер, только бросил сигару и погасил ее ногой, чем доставил, думаю, большое удовольствие москитам, если судить по состоянию моего лица на следующее утро. Однако это лишь пустячное неудобство по сравнению с теми зверствами, жертвой которых я стал, оказавшись в руках Сотильо. Нечто абсолютно невообразимое, сэр; поступки, подходящие скорей маньяку, нежели человеку, находящемуся в здравом уме, пусть даже полностью утратившему представление о благопристойности и чести. Но Сотильо пришел в ярость, когда сорвались его грабительские планы.
В этом капитан Митчелл был прав. Сотильо в самом деле разъярился. Капитан Митчелл, впрочем, был арестован не сразу; чувство живейшего любопытства побудило его остаться у причала, чтобы увидеть, а верней, услышать с самого начала до конца, как будет производиться высадка войск. Спрятавшись за вагонеткой, с которой перегрузили на баркас серебро, откатив ее затем к противоположному концу пирса, капитан Митчелл увидел, что сперва сошел на берег небольшой отряд и, разбившись на группы, стал в разных направлениях растекаться по равнине. Тем временем с парохода высадились войска и построились в колонну, голова которой настолько приблизилась к укрытию капитана Митчелла, что всего в нескольких ярдах от себя он мог различить шеренги, почти полностью перегородившие пирс. Затем приглушенное шарканье, звяканье и голоса утихли, колонна в течение часа стояла неподвижно и безмолвно, дожидаясь возвращения разведчиков. На равнине царила глубокая тишина, только басовито лаяли собаки на товарной станции, а в ответ им пронзительно тявкали дворняжки с городских окраин. Резко очерченным пятном чернел во мгле стоявший перед колонной патруль.
Спустя некоторое время к набережной стали поодиночке подходить разведчики, и патрульные их окликали. Те бросали на ходу несколько слов в ответ и, торопливо миновав дозор, растворялись в густой и неподвижной человеческой массе, чтобы поскорее доложить командованию, что обнаружила их группа. Капитана Митчелла осенила мысль, что его позиция может оказаться крайне неприятной и даже опасной, как вдруг у пирса раздалась громкая команда, затрубил горн, и тотчас же колонна зашевелилась, послышалось бряцание оружия, а по рядам пробежал ропот голосов. «Да уберите эту вагонетку!» — крикнул кто-то, и, как только прозвучал этот приказ, затопали босые ноги, и капитан Митчелл торопливо отступил шага на два; вагонетка, на которую нажало сразу множество рук, откатилась прочь по рельсам, и не успел он опомниться, как солдаты окружили его, крепко ухватив за шиворот и за руки.
— Здесь прячется какой-то человек, — крикнул один из солдат, — мы поймали его, лейтенант!
— Держите его и стойте на месте, пока с вами не поравняется арьергард, — раздался голос лейтенанта.
Вся колонна бегом промчалась мимо, и дробный топот ног по деревянному настилу затих на берегу. Митчелла держали крепко, игнорируя его заявление, что он британский подданный и требует, чтобы его немедленно отвели к командиру. Он покричал немного, затем с достоинством умолк. С глухим рокотом проехали две полевые пушки — их волокли вручную. Затем, когда мимо капитана Митчелла промаршировал небольшой эскорт, сопровождавший нескольких офицеров, пленника потащили за ними следом. Не исключено, что по пути от пирса к таможне солдаты обращались с Митчеллом довольно непочтительно — иными словами, имели место и подзатыльники, и тычки, и чувствительные прикосновения приклада к пояснице. Их понятия о скорости не совпадали с представлениями капитана о соблюдении своего достоинства. Он растерялся, разволновался, побагровел. Ему казалось, что наступил конец света.
Солдаты окружили со всех сторон длинное здание таможни, грудами по ротно складывали оружие и, готовясь к ночлегу, расстилали на земле свои пончо со скатками, положенными в изголовье. Помахивая фонарями, капралы расставляли вдоль стен часовых у каждой двери и у каждого окна. Сотильо собирался защищать таможню так, словно там и в самом деле хранились сокровища. Его желание моментально разбогатеть, совершив дерзкий и блистательный ход, заглушило голос рассудка. Он не верил, что может потерпеть поражение, — даже намек на такую возможность приводил его в ярость. Любое обстоятельство, свидетельствующее о том, что возможность эта все же существует, представлялось ему неправдоподобным. Утверждение Гирша, столь фатальное для его надежд, он отмел самым решительным образом. Тут, правда, следует признать, что Гирш говорил так бессвязно, в таком лихорадочном возбуждении, что рассказанная им история и в самом деле выглядела фантастично. Сам черт ногу сломит, как обычно говорят о повествованиях такого рода.
Как только беднягу выудили из воды, Сотильо и его офицеры, дрожа от нетерпения, допросили его прямо на мостике, не дав собраться даже с теми скудными обрывками мыслей, какие ему удалось не растерять. Его следовало бы успокоить и ободрить, а на него набросились, напялили наручники, толкали, кричали. Он извивался, корчился, пытался стать на колени, затем начал отчаянно рваться, будто хотел прыгнуть за борт, и это поведение, а также вопли, перепуганный вид и обезумевшие от страха глаза поначалу вызвали удивление, а затем и недоверие — ведь люди часто подозревают в притворстве тех, кто охвачен очень сильным чувством. Кроме того, он так щедро пересыпал испанскую речь немецкими словами, что большая часть его объяснений осталась непонятой. Он старался их умилостивить, именуя hochwohlgeborene Herren[103], и уже одно это сильно их насторожило.
Ему строго приказали перестать дурачиться, но он по-прежнему умолял о пощаде и уверял в своей лояльности и невиновности, упорно продолжая изъясняться по-немецки, ибо сам не понимал, на каком языке говорит.
В нем, конечно, сразу опознали жителя Эсмеральды, что отнюдь не прояснило дела. Поскольку он все время забывал фамилию Декуда и путал его еще с несколькими людьми, с которыми встречался в гостиной Гулдов, возникло впечатление, будто все они совместно отбыли на баркасе; на какое-то мгновение Сотильо решил, что утопил всех выдающихся рибьеристов Сулако. Но это было неправдоподобно и заставляло усомниться во всем остальном. Гирш сошел с ума или делает вид, что сошел, прикидывается, будто умирает от страха, специально чтобы сбить их с толку. Сотильо, ошалевший при мысли, будто огромное богатство плывет к нему прямо в руки, был не в состоянии поверить, что его надежды не осуществятся. Этот еврей, конечно, в самом деле страшно перепуган, но тем не менее он знает, где спрятано серебро, и со свойственной его соплеменникам хитростью сочинил свою басню, чтобы заморочить голову Сотильо и пустить его по ложному следу.
Сотильо занял огромное помещение на верхнем этаже таможни. Потолка там, правда, не было, поэтому, подняв взгляд, вы видели только толстые черные балки и густую мглу под сводом крыши. Тяжелые ставни были распахнуты. На длинном столе стояла большая чернильница, валялись выпачканные чернилами гусиные перья и красовалось два больших ящика с песком. Пол был усыпан бланками из грубой серой бумаги. Комнату эту, вероятно, занимал кто-нибудь из таможенного начальства, так как во главе стола виднелось кожаное кресло, а рядом с ним несколько стульев с высокими спинками. К одной из балок был подвешен гамак — несомненно на предмет послеобеденной сиесты. Две-три свечи в высоких железных подсвечниках красноватым светом тускло освещали стол. Между подсвечниками лежали шляпа полковника, его сабля и револьвер, а на стульях, облокотившись о стол и уныло свесив головы, сидели два самых доверенных офицера господина полковника. Сам полковник развалился в кресле, и огромный негр с сержантскими нашивками на рваном рукаве, опустившись на колени, стаскивал с него сапоги. На серовато-бледном лице Сотильо резко выделялись черные усы. Запавшие глаза смотрели мрачно. Он был измучен тревогами прошедшей ночи, обескуражен разочарованием, постигшим его, но когда стоявший возле входа часовой заглянул в комнату и доложил, что пленный прибыл, он сразу ожил.
— Ввести немедленно! — свирепо крикнул он.
Дверь распахнулась, и в комнату втолкнули капитана Митчелла, без шляпы, в распахнутом жилете и галстуке, съехавшем на бок.
Сотильо узнал его сразу. Он и не мечтал о такой добыче; стоявший перед ним человек мог бы, если пожелал, рассказать все, что хотелось узнать Сотильо; и полковник сразу же прикинул, как заставить его говорить. Сотильо не боялся вызвать гнев какой-нибудь заокеанской державы, обидев ее подданного. Все армии Европы не смогли бы оградить капитана Митчелла от оскорблений и даже побоев, но спасла его внезапно мелькнувшая в голове Сотильо мысль, что Митчелл — англичанин, и потому, если он станет обращаться с ним дурно, тот заупрямится, и тогда от него уже не добиться толку. В связи с чем полковник тут же постарался придать своему лицу приязненное выражение.
— Боже мой! Достопочтенный сеньор Митчелл! — воскликнул он в притворном ужасе. — Сейчас же освободить кабальеро, — приказал он, и эти грозно произнесенные слова возымели на солдат такое действие, что они прямо-таки отпрыгнули от пленника. Капитан Митчелл, внезапно лишившись этой насильственной поддержки, покачнулся и чуть не упал. Сотильо дружески подхватил его под руку, усадил на стул и, властно махнув рукой, приказал: — Все вон!
Когда их оставили наедине, он постоял немного в нерешительности, глядя себе под ноги, и молча ждал, пока капитан Митчелл вновь обретет дар речи.
Вот он прямо у него в руках, человек, принимавший участие в перевозке серебра.
Сотильо, по природе своей малый вспыльчивый, испытывал острейшее желание его избить; уж таков был его нрав — в старые времена, когда ему случалось просить в долг денег у Ансани, у него тоже чесались руки от желания вцепиться в глотку слишком осмотрительному торгашу.
Что до капитана Митчелла, то от внезапности, неожиданности и полной непредсказуемости того, что с ним случилось, все мысли перемешались в его голове. К тому же он чувствовал себя совершенно разбитым.
— Пока меня вели сюда от гавани, меня три раза ударили так сильно, что я упал, — хрипло сказал он наконец. — Кое-кому придется за это ответить.
Он и в самом деле несколько раз падал, и солдаты волоком тащили его, пока он вновь не обретал способность твердо ступать по земле. Сейчас, когда он наконец отдышался, он был вне себя от гнева. Он вскочил, багровый, со взъерошенными седыми волосами, и глаза его сверкнули мстительным огнем, когда он яростно потряс полой своей изорванной жилетки перед опешившим Сотильо.
— Вот, полюбуйтесь! Ваши ворюги в мундирах стащили у меня часы.
Старый моряк был страшен. Он оттолкнул Сотильо от стола, на котором лежали револьвер и сабля.
— Я требую, чтобы передо мной извинились и возместили убытки, — громовым голосом крикнул капитан вне себя от бешенства. — Я требую этого от вас! Да, от вас!
На мгновенье полковник окаменел; затем, когда капитан Митчелл резким движением потянулся к столу, словно собираясь схватить револьвер, Сотильо с испуганным криком бросился к порогу и выскочил, захлопнув за собою дверь. Это было так неожиданно, что капитан Митчелл вдруг почувствовал, как его гнев остыл. Сотильо вопил по ту сторону двери, и по деревянным ступеням лестницы слышался топот босых ног.
— Отобрать у него оружие! Связать его! — орал полковник.
Капитан Митчелл мельком бросил взгляд на окна, каждое из которых заграждали три толстых вертикальных железных прута и которые находились футах в двадцати над землей, о чем он прекрасно знал; вслед за тем дверь распахнулась, и на него набросились солдаты.
В мгновенье ока его прикрутили ремнем к стулу с высокой спинкой, обвязав все тело так, что только голова была свободна. И лишь тогда рискнул войти Сотильо, до этого стоявший, прислонившись к косяку, и дрожавший так, что всякий мог это заметить. Солдаты подняли с полу винтовки, которые бросили, накинувшись на пленника, и вышли из комнаты один за другим. Офицеры остались, опираясь на сабли и встревоженно поглядывая на Митчелла.
— Часы! Часы! — яростно повторял полковник и, как тигр, метался по комнате. — Где часы этого человека?
И в самом деле, когда капитана Митчелла обыскали на первом этаже таможни, чтобы изъять у него оружие, прежде чем допустить к Сотильо, у него отобрали цепочку и часы; но после требования, высказанного полковником в такой решительной форме, конфискованное имущество довольно скоро нашлось — его принес капрал, бережно держа в сложенных ковшиком ладонях. Сотильо выхватил из его рук часы и ткнул их прямо в лицо капитану Митчеллу, зажав цепочку в кулаке.
— Эй ты, надменный англичанин! Ты осмелился назвать ворюгами наших солдат! Вот они, твои часы!
Он потрясал кулаком, словно хотел ударить пленника в нос. Капитан Митчелл, беспомощный, как спеленатый младенец, встревоженно поглядывал на свой золотой хронометр, стоивший шестьдесят гиней и подаренный ему когда-то страховой компанией за спасение судна, которое чуть не погибло от пожара. Сотильо, в свою очередь, тоже уразумел, что перед ним необычайно дорогая вещь. Он вдруг умолк, шагнул к столу и стал внимательно рассматривать часы, поднеся их к свету. Таких красивых он никогда еще не видел. Офицеры встали у него за спиной и вытягивали шеи, чтобы получше разглядеть часы.
Часы настолько увлекли полковника, что он на время забыл о пленнике. Есть нечто детское в алчности темпераментных и простодушных южан, что делает их крайне непохожими на жителей северных стран, склонных к туманным идеалам и готовых под воздействием любого пустяка возмечтать не более не менее как о покорении Вселенной. Сотильо нравились украшения, драгоценности, золотые побрякушки. Он обернулся к офицерам и властным мановением руки велел им отойти. Положил часы на стол, затем небрежно прикрыл их шляпой.
— Ах, так! — заговорил он, подходя вплотную к стулу. — Ты позволил себе назвать ворюгами моих доблестных солдат, солдат из гарнизона Эсмеральды. Как ты осмелился! Какое бесстыдство! Это вы, чужеземцы, явились к нам, чтобы разграбить нашу страну. Вашей жадности нет пределов. Ваша наглость безгранична.
Он оглянулся на офицеров, те одобрительно загудели. Старик майор подтвердил:
— Sí, mi coronel… [104]Все они предатели.
— Я уж ничего не говорю, — продолжал Сотильо, устремив на неподвижного и беспомощного Митчелла гневный, но в то же время беспокойный взгляд. — Я ничего не говорю о том, что вы коварно пытались завладеть моим револьвером в то время, как я разговаривал с вами с предупредительностью, которой вы не заслужили. Вы должны были бы поплатиться за это жизнью. У вас одна надежда: я, может быть, вас пожалею.
Он посмотрел, какое впечатление произвели его слова, но не обнаружил признаков испуга на лице капитана Митчелла. Седые волосы капитана были в пыли, да и весь он перепачкался пылью. Он сидел с таким видом, словно ничего не слышал, только дернул бровью, чтобы отбросить соломинку, которая застряла у него в волосах и свисала на лоб.
Сотильо выставил вперед ногу и подбоченился.
— Это вы ворюга, Митчелл, — произнес он с пафосом, — вы, а не мои солдаты! — Его указательный палец с длинным, миндалевидным ногтем был направлен на арестованного. — Где серебро с рудников Сан Томе? Я спрашиваю вас, Митчелл, где серебро, которое хранилось здесь, в этой таможне? Отвечайте! Вы украли его. Вы один из участников кражи. Оно похищено у нашего правительства. Ага… Вы, иностранцы, думаете, я еще ничего не знаю, но я проведал о ваших плутнях. Серебра-то больше нет! Разве не так? Вы увезли его на одной из ваших lanchas[105], несчастный! Как вы осмелились?
Вот теперь он произвел впечатление. «Каким образом Сотильо мог узнать об этом?» — подумал Митчелл. Его голова, единственное, чем он мог шевельнуть, внезапно дернулась, выдавая его изумление.
— Ага-а! Трясешься! — выкрикнул Сотильо. — Это заговор. Государственное преступление. Да знаете ли вы, что, пока вы не выплатите долг государству, это серебро принадлежит республике? Так где же оно? Куда ты его упрятал, подлый ворюга?
Капитан Митчелл, услыхав этот вопрос, воспрянул духом. Хотя он и не мог постичь, каким образом Сотильо узнал о баркасе, стало ясно, что тот хотя бы не захватил его. В этом не было никаких сомнений. Сперва капитан Митчелл, оскорбленный столь унизительным обращением, хотел молчать во что бы то ни стало, но сейчас, когда мелькнула надежда спасти серебро, он решил переменить тактику. Он задумался. В Сотильо ощущалась неуверенность.
«Этот человек, — подумал Митчелл про себя, — несомненно колеблется». Капитан Митчелл, невзирая на напыщенность манер, при столкновениях с реальной жизнью обнаруживал решительность и твердость духа. Сейчас, оправившись от первого потрясения, он вновь в какой-то мере обрел спокойствие и хладнокровие — глубочайшее презрение, которое он испытывал к Сотильо, немало тому способствовало, — и он с уверенностью произнес:
— Ну уж сейчас-то оно спрятано надежно.
К тому времени овладел собой и Сотильо.
— Muy bien[106], Митчелл, — проговорил он холодным и угрожающим тоном. — Но можете ли вы предъявить государству документ, удостоверяющий ваше право на разработку недр, а также разрешение таможни на вывоз серебра? Можете вы это сделать? Нет. Значит, вы вывезли серебро незаконно, и, если оно не будет доставлено сюда в течение пяти дней, виновные понесут наказание.
Он распорядился, чтобы пленника отвязали от стула и заперли в одной из расположенных внизу каморок. Затем принялся расхаживать по комнате, угрюмо и молчаливо, и заговорил лишь тогда, когда капитан Митчелл, которого держали за руки четверо солдат, — по двое с каждой стороны — вскочил и яростно топнул ногой.
— Вам нравится сидеть привязанным веревкой к стулу, Митчелл? — язвительно осведомился он.
— Это неслыханное, возмутительное насилие! — громовым голосом воскликнул капитан. — И чего бы вы ни добивались, вы не получите ничего, это я вам обещаю!
Высокий полковник с мертвенно-бледным лицом и черными, как смоль, вьющимися волосами и усами пригнулся, чтобы заглянуть в глаза низенькому коренастому арестанту с багровым лицом и взъерошенными волосами.
— Ну что ж, посмотрим. Когда я привяжу вас на целый день, да к тому же под палящим солнцем, вы еще лучше узнаете, что такое насилие. — Он с надменным видом выпрямился и жестом приказал увести капитана Митчелла.
— А когда мне возвратят часы? — крикнул Митчелл, упираясь и вырываясь из рук солдат.
Сотильо возмущенно посмотрел на офицеров.
— Нет, кабальеро, вы только послушайте этого picaro[107],— презрительно воскликнул он, и офицеры тотчас же насмешливо захохотали. — Он требует свои часы! — И Сотильо порывисто подбежал к арестованному, сжигаемый желанием пустить в ход кулаки и избить англичанина как можно больней. — Часы! Вы пленный, захваченный в период военных действий, Митчелл! Военных действий! У вас нет никаких прав и нет имущества! Caramba! Вы весь полностью, до последнего вздоха принадлежите мне. Запомните это.
— Вздор! — отрезал капитан Митчелл, стараясь казаться спокойным.
Внизу, в большом зале на первом этаже, где пол был земляной, а в углу высился громадный муравейник, построенный белыми муравьями, солдаты сложили небольшой костер из обломков столов и стульев и разожгли его неподалеку от сводчатого входа, из которого доносился приглушенный шум волн, набегавших на пристань. Когда капитан Митчелл спускался по лестнице, ему навстречу бегом промчался офицер, торопившийся сообщить Сотильо, что захвачено еще несколько пленных. Костер потрескивал, огромный темноватый зал мало-помалу наполнялся дымом, и, всматриваясь, как в туман, капитан Митчелл увидел над сомкнувшимися вокруг них плотным кольцом низкорослыми солдатами с блестящими штыками головы трех высоких пленных — доктора, главного инженера дороги и седую львиную гриву старого Виолы, который стоял, отворотясь от остальных, скрестив руки и склонив голову. Изумлению Митчелла не было пределов. Он вскрикнул; у доктора и инженера тоже вырвалось изумленное восклицание. Но конвоиры, пересекая зал, похожий на громадную пещеру, торопливо тащили его за собой. У бедняги Митчелла закружилась голова — такое обилие мыслей и предположений роилось в ней, так мучительно он старался придумать, что им сказать, как предупредить.
— Он в самом деле вас арестовал? — выкрикнул инженер, и в отблеске костра, внезапно пробежавшем по его лицу, ослепительно сверкнул монокль.
Офицер, стоявший на площадке второго этажа, раздраженно и нетерпеливо распорядился:
— Ведите всех сюда… всех троих.
Сквозь гомон голосов и лязганье оружия невнятно прозвучал голос Митчелла:
— Бога ради! Этот субъект украл мои часы.
Инженеру, которого торопливо тащили к ступенькам, удалось на мгновенье замедлить шаг и спросить:
— Что? Что вы сказали?
— Мой хронометр! — яростно гаркнул Митчелл и в тот же миг сквозь низенькую дверцу стремительно влетел головою вперед в комнату, служившую камерой, где царила кромешная тьма и было так тесно, что он зацепился за стену. Дверь сразу же захлопнулась. Капитан Митчелл знал, что это за комната. Его поместили в кладовую для хранения ценностей, откуда всего несколько часов назад вынесли серебряные слитки. Комната была узкая, как коридор, и в конце ее виднелась квадратная дверца, забранная толстой решеткой. Митчелл, спотыкаясь, прошел несколько шагов, затем сел прямо на земляной пол и прислонился спиной к стене. Даже слабый луч света не проникал в камеру и не препятствовал его размышлениям.
Он напряженно думал, стараясь сосредоточиться на главном. Мысли его не были мрачными. Старый моряк, при всех своих слабостях и причудах, был органически неспособен долго думать об опасности, угрожающей лично ему. Причиной тому была не столько душевная твердость сколь недостаток воображения особого рода, присовокупляющий ко всем свойственным человеку восприятиям слепой страх перед физическими страданиями и смертью; это предвкушение телесных мук, которых люди иного склада не ожидают ежеминутно, не оставляет страдальца никогда — он постоянно пребывает в тревожном ожидании. Избыток воображения такого рода, разбушевавшись не в меру, как нам известно, причинил невыносимые страдания сеньору Гиршу. Капитану Митчеллу, однако, не было дано предугадывать события; он совершенно не умел, схватив на лету какой-нибудь оттенок слова, поступка, жеста, проникнуть мыслью в глубинную суть явлений. В невинном упоении самим собой он не снисходил до того, чтобы замечать других.
Например, капитан Митчелл не мог поверить, что Сотильо его действительно боится — ему просто-напросто не приходило в голову, как это можно кого-то застрелить, разве только этот кто-то приставил бы ему нож к горлу. «Каждому ведь ясно, что я не убийца, — степенно рассуждал старый моряк. — Чем же тогда объяснить эти оскорбительные и нелепые обвинения?» — спрашивал он себя. Впрочем, больше всего его заботил один вопрос, на который он никак не мог найти ответа: каким образом этот фрукт узнал, что серебро отправлено на баркасе? Он захватил его? Нет, несомненно нет. Он не мог его захватить, это ясно! К этому выводу — ложному, как мы знаем, — капитан Митчелл пришел во время своего многочасового бдения на пристани. Наблюдая за бурным морем, он решил, что в эту ночь в заливе ветер дул сильнее, чем обычно; мы же знаем, что все было как раз наоборот.
— Как этот паршивец все узнал? — крикнул он, едва только дверь его камеры с оглушительным лязганьем и грохотом распахнулась (она сразу же захлопнулась вновь, едва он успел поднять голову), из чего Митчелл заключил, что у него появился товарищ по несчастью. Доктор Монигэм, который сыпал вперемежку английскими и испанскими ругательствами, тут же умолк.
— Это вы, Митчелл? — спросил он брюзгливо. — Я ударился головой об эту распроклятую стену с такой силой, какой вполне хватило бы, чтобы свалить быка. Где вы?
Митчелл, который успел уже привыкнуть к темноте, видел, как доктор беспомощно протягивает руки.
— Тут я сижу, на полу. Не споткнитесь о мои ноги. — Голос капитана Митчелла прозвучал с огромным достоинством. Доктор послушался благого совета и не стал блуждать в темноте, а опустился рядом с капитаном на пол. Узники, почти соприкасаясь головами, принялись рассказывать друг другу о своих злоключениях.
— Да, именно так все и случилось, — приглушенным голосом говорил доктор сгоравшему от любопытства Митчеллу, — нас схватили в гостинице старого Виолы. По-моему, один из их пикетов, во главе которого стоял офицер, доехал до самых городских ворот. Им был дан приказ не входить в город, но брать и уводить с собой всех, кто встретится на равнине. Мы разговаривали, сидя в кухне, дверь была раскрыта, и солдаты увидели свет. Наверное, они сперва подкрадывались к нам. Инженер улегся на скамье в нише у камина, а я поднялся наверх поглядеть в окно. Долго-долго ничего не было слышно. Старый Виола, как только увидел, что я поднимаюсь к нему, знаком велел мне молчать. Я тихонько вошел в комнату. Поразительно — жена его мирно спала. Уснула, невзирая на все, что творится: «Сеньор доктор, — шепотом сказал мне Виола, — мне кажется, ей стало полегче». — «Да, — с немалым удивлением ответил я, — ваша жена необыкновенная женщина, Джорджо».
И тут раздался выстрел, и мы оба вздрогнули и съежились, словно ударил гром. К этому времени патруль, очевидно, вплотную приблизился к дому, и один из солдат прокрался к самому порогу. Заглянул в дверь, увидел, что на кухне пусто, и вошел, держа в руках винтовку. Инженер потом мне сказал, что именно в это время он на мгновенье закрыл глаза. Когда он их открыл, он увидел, что посредине комнаты стоит человек и вглядывается в темные углы. От неожиданности инженер, не размышляя ни секунды, выскочил из ниши и очутился перед камином. Солдат, для которого это оказалось ничуть не меньшей неожиданностью, вскинул винтовку и выстрелил, но от волнения промазал и преуспел лишь в том, что оглушил нашего инженера и слегка его обжег. Но послушайте дальше! Едва раздался выстрел, больная проснулась и села на постели с громким криком: «Джан Батиста, дети! Спаси детей!» До сих пор я слышу этот страшный вопль. Он был полон глубочайшего отчаяния. Я окаменел, ошеломленный, но в это время муж Терезы кинулся к ее кровати, протягивая руки. И она схватила его за руки! Глаза ее сверкали безумным огнем; старик бережно уложил ее на подушки, затем в растерянности оглянулся на меня. Она была мертва! Все это совершилось быстрее, чем за пять минут, и я тут же стремглав бросился вниз узнать, что там случилось. Мы с инженером попробовали уговорить их офицера, но он был непреклонен; тогда я вызвался подняться с двумя солдатами наверх и привести старика Виолу. Он сидел в ногах кровати, смотрел на жену и, казалось, совсем не слышал, что я ему говорю; но когда я прикрыл лицо покойницы простыней, он встал, тихий, задумчивый, и спустился вместе с нами.
Солдаты повели нас по дороге — дверь так и осталась открытой, горела свеча. Инженер двинулся в путь, не сказав ни слова, я же раза два оглянулся на мерцавший позади огонек. Мы прошли уже порядком, как вдруг старый гарибальдиец, который шел рядом со мной, сказал: «Немало народу я предал земле на полях битвы этого континента. Попы что-то толкуют о святой земле! Вздор! Всю нашу землю сотворил господь и вся она святая; но еще святее море, не ведающее ничего о королях, попах и тиранах. Доктор! Я бы ее в море схоронил. Там не будет никакого фиглярства — ни свечей, ни ладана, ни святой воды, и попы молитв не бормочут. Дух свободы витает над гладью морской…» Удивительный старик… И говорил он так негромко, словно размышляя про себя.
— Да, да, — нетерпеливо перебил капитан Митчелл. — Бедняга. Но скажите бога ради, каким образом подлец Сотильо узнал о серебре? Ведь не мог же он захватить кого-нибудь из наших каргадоров, которые везли вагонетку? Уму непостижимо! Все они надежные, проверенные люди, работают у нас несколько лет, а за погрузку серебра я им заплатил особо и посоветовал не менее суток не показываться никому на глаза. Я видел, как они вместе с итальянцами шли к товарной станции. Главный инженер сказал, что они могут оставаться там, сколько угодно, и их будут кормить.
— Ну-с, — ответствовал на это доктор, — должен вам сообщить, что вы можете навсегда забыть о вашем лучшем баркасе, а заодно и о капатасе каргадоров.
Капитан Митчелл так разволновался, что вскочил. Но не успел он и слова вымолвить, как доктор изложил ему историю, рассказанную Гиршем.
Ужасная весть, словно гром небесный, ошеломила Митчелла. «Потонул, — шептал он в ужасе, — потонул!» Далее он слушал молча, а вернее, делал вид, что слушал, ибо новость так его потрясла, что он не мог как следует вникать в то, что рассказывал доктор.
Доктор же рассказывал, как на допросе делал вид, будто слыхом ни о чем не слыхивал, так что в конце концов Сотильо приказал ввести в комнату Гирша и велел ему повторить всю историю, чего добился лишь с большим трудом, ибо Гирш поминутно прерывал свое повествование душераздирающими ламентациями. Наконец Гирша, еле живого, увели и заперли на втором этаже, чтобы был все время под рукой. После этого доктор, продолжая изображать человека, никоим образом не посвященного в тайны рудников Сан Томе, заявил, что история эта не кажется ему правдоподобной. Разумеется, он не может в точности знать, что предприняли живущие в Сулако европейцы, поскольку все его время было поглощено уходом за ранеными и к тому же он навещал дона Хосе Авельяноса. Доктору удалось так убедительно сыграть глубочайшее равнодушие, что Сотильо, казалось, полностью ему поверил. До определенного момента допрос шел в согласии с установленной формой: один из офицеров, сидя за столом, записывал вопросы и ответы, остальные расхаживали по комнате, слушали очень внимательно, дымили длинными сигарами и не спускали с доктора глаз. И вот тут-то Сотильо велел всем выйти.
ГЛАВА 3
Едва они остались наедине, полковник сразу изменил свою строго официальную манеру. Он встал и приблизился к доктору. Глаза его сверкали алчностью и надеждой. Заговорил он вкрадчиво, доверительно:
— Серебро, наверное, и в самом деле погрузили на баркас, но в море его не отправили, я не могу в это поверить.
Доктор важно кивал головой, неторопливо, с удовольствием покуривал сигару, которую в знак дружеских чувств предложил ему Сотильо, время от времени осторожно вставлял тщательно продуманное слово. О европейской колонии в Сулако он говорил холодно и суховато, и поверивший ему Сотильо сперва только высказывал предположения, затем же прямо намекнул, что всю эту затею с отправкой серебра Чарлз Гулд изобрел лишь для отвода глаз, поскольку сам хочет завладеть всеми сокровищами. На это доктор даже бровью не повел и негромко заметил:
— На такую штуку он вполне способен.
— Вы сказали так о Чарлзе! — воскликнул Митчелл возмущенно, негодующе, не веря собственным ушам. Нечто похожее на брезгливость и даже подозрительность звучали в его голосе, ибо он, как и все европейцы в Сулако, считал, что доктор несколько сомнительная личность.
— Что вас побудило брякнуть подобную чушь этому охотнику за чужими часами? — спросил капитан сердито. — Чего ради вам вздумалось так беспардонно лгать? Этот чертов карманник вполне способен вам поверить.
Он сердито фыркнул. Доктор помолчал.
— Да, именно так я ему и сказал, — произнес он тоном, не оставляющим сомнений в том, что пауза была сделана сознательно, а не невольно. Капитан подумал, что никогда еще не видел такой бесстыдной наглости.
— Ну и ну! — пробормотал он, но вслух ничего не прибавил. На смену негодованию пришло удивление, а следом — печаль. Все его надежды рухнули: серебро потеряно, погиб Ностромо, а это тяжкий удар, поскольку Митчелл был искренне привязан к своему капатасу, — мы легко привязываемся к тем, кто нам служит, ибо в чувстве этом смешиваются и симпатия, и полуосознанная благодарность. А при мысли, что утонул и Декуд, его сердце сжалось от боли. Бедная девушка, какое горе ее постигло!
Капитан Митчелл не принадлежал к брюзгливым старым холостякам, напротив, он с удовольствием смотрел, как молодые люди ухаживают за молодыми женщинами. Что же тут дурного, так и следует поступать. Именно так, а не иначе. Моряки другое дело; морякам, — утверждал он, — лучше не жениться, но из моральных побуждений, ибо, объяснял капитан Митчелл, женщины, даже самые замечательные из них, не способны жить на борту судна, а оставляя жену на берегу, вы, во-первых, поступаете несправедливо, а уж огорчает ли ее отсутствие мужа или же, наоборот, совсем не огорчает, ни в том, ни в другом случае ничего хорошего нет.
Он и сам не мог бы сказать, что его больше всего удручило — громадный денежный ущерб, который потерпел Чарлз Гулд, смерть Ностромо — тяжелая потеря для самого капитана Митчелла, или же мысль о безутешном горе, которое постигнет красивую и привлекательную девушку.
— Да, так-то вот, — заговорил после паузы доктор, — он в самом деле мне поверил. Чуть на шею не бросился. Sí, sí, все понятно, Гулд, мол, напишет в Сан-Франциско компаньону, богатому американо, что серебро потеряно. И превосходно. Колоссальное богатство, его можно разделить между многими.
— Да он форменный сумасшедший! — воскликнул Митчелл.
Доктор ответил, что Сотильо действительно не в своем уме и что безумие его неподдельно и потому его можно полностью сбить с толку. Сам он, доктор, лишь слегка его подтолкнул, направив на ложный путь.
— Я как бы невзначай, — рассказывал он дальше, — упомянул, что сокровища обычно зарывают в землю, а не отправляют в открытое море. Тут мой Сотильо хлопнул себя по лбу. «Por Dios, да, — говорит он, — наверняка они зарыли его где-нибудь здесь, в гавани, и отправили в море пустой баркас!»
— Силы небесные! — буркнул Митчелл. — Вот уж не думал, что можно быть таким ослом… — Он помолчал и с печалью добавил: — Впрочем, как это может помочь? Я назвал бы вашу выдумку удачной, если бы баркас сейчас спокойно плыл по заливу. Тогда этот идиот, поверив вашим басням, не стал бы посылать на его поиски свое судно. Я смертельно этого боялся.
Капитан Митчелл глубоко вздохнул.
— Я солгал ему с определенной целью, — сказал доктор.
— В самом деле? — отозвался Митчелл. — Что ж, я рад, ибо в противном случае я бы подумал, что вы его дурачили для развлечения. Впрочем, возможно, именно в этом и заключается ваша определенная цель. Должен сказать, что лично я не считаю возможным снисходить до шуточек такого рода. Мне они не по вкусу. О, нет. Я не вижу ничего смешного в том, чтобы чернить репутацию своих друзей, даже если бы это помогло мне обмануть самого гнусного негодяя на свете.
Если бы капитан Митчелл не был так угнетен печальной вестью, его отвращение к доктору приняло бы более откровенные формы; но сейчас ему и в самом деле было безразлично, что сказал и что сделал этот человек, к которому он никогда не ощущал симпатии.
— Интересно, — проворчал он, — почему они нас заперли вместе с вами и вообще, чего ради Сотильо вздумалось вас запирать, коль скоро вы с ним так подружились?
— И в самом деле, почему бы это? — мрачно сказал доктор.
У капитана Митчелла было так тяжко на душе, что он предпочел бы сейчас полное одиночество самому приятному собеседнику. В то же время любой собеседник был бы предпочтительнее для него, чем доктор, к которому он всегда относился с неодобрением, считая его чем-то вроде нищего или бродяги, который, будучи по своему общественному положению ниже порядочных людей, в силу этой особенности отличается от них тем, что осведомлен гораздо лучше. Поэтому он все же задал доктору вопрос:
— А что этот мерзавец сделал с двумя остальными?
— Главного инженера дороги он, конечно, отпустил, — сказал доктор. — С железнодорожной компанией он ссориться не станет. Во всяком случае, сейчас. Я думаю, капитан Митчелл, вы не вполне отчетливо представляете себе положение Сотильо…
— Не вижу никакой необходимости ломать над этим голову, — огрызнулся Митчелл.
— Конечно, — согласился доктор, по-прежнему невозмутимо и угрюмо. — Необходимости в этом не вижу и я. Как бы старательно вы не ломали голову, пользы никому не будет.
— Верно, — кратко и уныло подтвердил капитан Митчелл. — Какую уж там можно принести пользу, если тебя заперли в этой чертовой дыре?
— Что до старого Виолы, — продолжал доктор, будто не слыша произнесенных капитаном слов, — Сотильо освободил его по той же причине, по какой намерен вскорости освободить и вас.
— А? Что? — воскликнул Митчелл, таращась, как сова, в темноте. — Что у меня общего со старым Виолой? Уж скорее он отпустил его на волю потому, что у старика нечего красть, — ни часов, ни цепочки. Но попомните мое слово, доктор Монигэм, — продолжал капитан с нарастающим гневом. — Этот вор еще узнает, что избавиться от меня гораздо трудней, чем он думает. Спуску ему я давать не намерен. Во-первых, я потребую вернуть часы, ну, а дальше… дальше будет видно. Для вас, я полагаю, ничего страшного нет в том, что вас заперли за решетку. Но Джо Митчелл человек совсем другого рода, сэр. Я не из тех, кто безропотно терпит, когда их обижают и грабят. Я занимаю видное положение в обществе, сэр.
И тут капитан Митчелл заметил, что решетка на окне их камеры стала видимой — черные прутья на сероватом четырехугольнике. Почему-то начало нового дня заставило умолкнуть капитана Митчелла; кто знает, может быть, он вдруг подумал, что еще много дней придет, как пришел этот день, но никогда он больше не увидит своего капатаса и не воспользуется его бесценными услугами. Скрестив на груди руки, он прислонился к стене, а доктор, волоча увечную ногу, стал ковылять взад и вперед по длинной камере, словно подкрадывался к кому-то.
Когда он удалялся к противоположной от окна стене, он полностью скрывался в темноте, и оттуда слышалось лишь тихое шарканье. Погруженный в мрачное раздумье, доктор ходил и ходил без передышки. Когда дверь камеры внезапно распахнулась и громко выкрикнули его имя, он не удивился. Круто повернулся и вышел сразу, словно от его поспешности зависело нечто важное, капитан же Митчелл прижался спиной к стене, не зная, идти ли ему вслед за доктором или остаться в знак протеста на месте. «Пусть меня вынесут отсюда на руках», — подумал он, но когда офицер, стоявший у двери, несколько раз подряд окликнул его укоризненным и удивленным тоном, он неторопливо пошел к двери.
Сотильо вел себя сегодня совсем иначе. Он был учтив, но чувствовалось, что он не уверен, требуется ли сейчас учтивость. Он сидел в глубоком кресле за столом и сначала смерил капитана испытующим взглядом, затем небрежно произнес:
— Я пришел к решению не задерживать вас, сеньор Митчелл. Я человек отходчивый. Мне кажется, вас можно отпустить. Пусть, однако, этот случай послужит вам уроком.
Рассвет, народившийся где-то далеко за горами и заполнивший тихо и постепенно ущелья, прокрался в комнату, и красноватые огоньки свечей померкли. Капитан Митчелл с презрительным и безразличным видом обвел глазами комнату и остановил тяжелый, пристальный взгляд на докторе, который сидел на подоконнике, опустив голову с совершенно отрешенным видом, возможно, потому, что ему ни до чего не было дела, а может быть, и потому, что его мучили укоры совести.
Сотильо, утопавший в большом глубоком кресле, произнес:
— Я надеялся услышать от вас ответ, достойный истинного кабальеро.
Он подождал этого ответа, однако Митчелл безмолвствовал скорее оттого, что был не в силах подавить свое негодование, нежели оттого, что намеренно хотел ему досадить, и Сотильо растерянно взглянул на доктора, а тот поднял глаза и кивнул, после чего полковник сказал, сделав над собою некоторое усилие:
— Вот ваши часы, сеньор Митчелл. Теперь вы видите, насколько несправедливы вы были, обвинив в бесчестном поступке моих славных солдат.
Откинувшись на спинку кресла, он простер над столом руку и подтолкнул к Митчеллу часы. Капитан, не церемонясь, быстро подошел к столу, взял часы, поднес их к уху и, успокоившись, положил в карман.
Было видно, что Сотильо с трудом сдерживает себя. Он еще раз покосился на доктора, который смотрел на него немигающим взором.
Но когда Митчелл повернул к дверям, не удостоив его ни кивком, ни взглядом, полковник поспешно сказал ему вслед:
— Ступайте вниз и ожидайте там сеньора доктора, которого я тоже собираюсь отпустить. Я полагаю, от вас, иностранцев, все равно нет никакого толку.
Он издал короткий принужденный смешок, и только тут капитан Митчелл впервые не без интереса взглянул на него.
— Правосудие потом займется вами, — быстро добавил Сотильо, — что касается меня, я позволяю вам жить свободно, на воле и как вам угодно. Вы меня слышите, сеньор Митчелл? Можете возвратиться к своим делам. Я выше того, чтобы уделять вам внимание. Меня интересуют дела более серьезные.
Капитану Митчеллу с большим трудом удалось заставить себя промолчать. Его так и подмывало поставить наглеца на место. Ему не нравилось, что его отпускают на свободу в такой оскорбительной форме; но бессонная ночь, тревоги, волнения, разочарование, постигшее его, когда он узнал, как трагично завершилась их попытка спасти серебро Сан Томе, — все это давило, угнетало его. Одно лишь было в его силах — скрыть беспокойство — скорей по поводу всего происходящего, чем по поводу своей судьбы. Он вдруг отчетливо ощутил, что вокруг него разыгрывается какая-то неведомая ему игра. Выходя, он демонстративно не взглянул на доктора.
— Скотина! — произнес Сотильо, когда за Митчеллом захлопнулась дверь.
Доктор Монигэм соскользнул с подоконника и, сунув руки в карманы длинного серого плаща, сделал несколько шагов.
Сотильо тоже встал и, преградив ему дорогу, насмешливо и испытующе взглянул на него.
— Я вижу, ваши земляки не очень-то вам доверяют, сеньор доктор. Не любят они вас. Интересно, почему?
Доктор поднял голову, посмотрел ему в лицо долгим, ничего не выражающим взглядом и сказал:
— Возможно, потому, что я слишком давно живу в Костагуане.
Под черными усами Сотильо сверкнули белые, как сахар, зубы.
— Так, так, так, но вы-то любите себя? — произнес он вкрадчиво.
— Оставьте их в покое, — ответил доктор, устремив все тот же невыразительный взгляд на смазливую физиономию Сотильо, — и они очень скоро себя выдадут. А я тем временем, возможно, смогу что-нибудь узнать у дона Карлоса.
— Ах, сеньор доктор, — качая головой, сказал Сотильо, — умный вы человек, все понимаете с первого слова. Мы просто созданы, чтобы помогать друг другу.
Он отвернулся. Он больше был не в силах выдержать этот неподвижный, безжизненный взгляд: его неизмеримая, непроницаемая пустота напоминала бездонную пропасть.
Даже люди, совершенно лишенные морального чувства, столкнувшись с подлостью, способны о ней судить, правда, на свой особый лад, но вполне четко. Сотильо думал, что доктор, так сильно непохожий на других европейцев, готов продать всех своих земляков, в том числе и Чарлза Гулда, за соответствующую долю серебра. Он не презирал его за это. В вопросах морали полковник был совершенно невинен. Его моральная ущербность была так глубока, что превращалась в моральную тупость. То, что было выгодно ему, на его взгляд, никак не могло быть достойным порицания. Тем не менее он презирал доктора Монигэма. Он смотрел на него сверху вниз. Он презирал его всей душою потому, что не собирался вознаграждать его за предательство. Он презирал его не за то, что у него нет совести и чести, а за то, что он дурак. Доктору Монигэму, который видел Сотильо насквозь, удалось провести его полностью. Доктору именно того и нужно было, чтобы Сотильо считал его дураком.
После появления полковника в Сулако его планы претерпели некоторые изменения.
Он уже не стремился занять высокий пост в правительстве Монтеро. Ему и раньше приходило в голову, что это небезопасный путь. Узнав из разговора с главным инженером, что, возможно, уже днем ему предстоит встреча с Педро Монтеро, он ощутил, как его мрачные предчувствия еще усилились. Младший брат генерала Монтеро, — Педрито, как его называл народ, — славился своей отчаянностью. С ним не так-то просто было иметь дело. Сотильо, дивясь собственной смелости, подумывал о том, чтобы захватить не только серебро, но и город, а затем вступить в переговоры. Но после того, что он узнал от главного инженера, который, не утаивая ничего, объяснил ему, как обстоят дела, смелость полковника, — достоинство, не очень щедро отпущенное ему природой, — пошла на убыль и сменилась нерешительностью и желанием повременить.
— Так, значит, войско… войско под водительством Педрито уже пересекает горы, — повторял он, не в силах скрыть, в какой ужас привела его эта весть, — если бы я услышал это от кого-то другого, а не от такого уважаемого человека, как вы, я бы просто не поверил. Поразительно!
— Вооруженные силы, — учтиво поправил его инженер.
Цель была достигнута. Она заключалась в том, чтобы на несколько часов очистить Сулако и дать возможность покинуть город людям, которых страх вынуждал бежать. Кое-кто надеялся добраться до Ринкона, благо дорога на Лос Атос была свободна — вооруженная орда, возглавляемая сеньорами Фуэнтесом и Гамачо, двигалась навстречу Педро Монтеро, дабы восторженно приветствовать его. Это был многолюдный, полный опасностей исход, и блуждали слухи, что Эрнандес, обосновавшийся в лесах близ Лос Атоса, дает приют беглецам. Главный инженер отлично знал, что примкнуть к беженцам готово множество его добрых знакомых.
Действия, предпринятые падре Корбеланом в защиту благочестивейшего из разбойников, не остались бесплодными. Политический лидер Сулако уступил в последний миг настойчивым мольбам священника, подписал приказ о присвоении Эрнандесу генеральского чина и официально призвал его навести в городе порядок. Дело в том, что глава Западной провинции, считая положение безвыходным, не задумываясь, подписывал все, что угодно. Приказ о назначении Эрнандеса был последним документом, который он подписал, прежде чем покинул ратушу и нашел приют в конторе компании ОПН. Но если бы он даже думал, что его поступок повлечет за собой какие-либо последствия, он все равно уже не мог бы ничего изменить. Бунт, которого он ожидал и опасался, разразился менее чем через час после того, как падре Корбелан его покинул. И более того, сам падре, назначивший Ностромо встречу в полуразрушенном доминиканском монастыре, где он жил в одной из уцелевших келий, так туда и не попал. Прямо из ратуши он направился в дом Авельяносов, сообщить новость зятю, и, хотя пробыл у него никак не более получаса, уже не смог вернуться в свою убогую келью. Ностромо, с беспокойством прислушиваясь к возрастающему шуму на улицах, сперва безуспешно его ожидал, а затем пробрался в редакцию «Нашего будущего», где и просидел всю ночь, о чем мы знаем из письма Декуда к сестре. Таким образом капатас вместо того чтобы мчаться верхом с приказом о назначении Эрнандеса генералом, оставшись в городе, спас жизнь президента-диктатора, помог подавить бунт и, наконец, увез в открытое море серебро с рудников Сан Томе.
Но до Эрнандеса добрался отец Корбелан, и в кармане у него лежал приказ о назначении разбойника генералом, — драгоценный для истории документ, — последнее изъявление воли рибьеристской партии, девизом которой были: мир, честь, прогресс. Возможно, ни священник, ни разбойник не усматривали в этом иронии судьбы. Падре Корбелану, вероятно, удалось прислать в город своих людей, ибо рано утром на второй день восстания пронесся слух, что на дороге, ведущей в Лос Атос, Эрнандес поджидает тех, кто ищет у него защиты. В городе появился странного вида всадник — малый, судя по всему, отчаянный, хотя и в преклонных годах, и неторопливо проехал по улицам, разглядывая дома, словно ни разу в жизни таких больших не видел. Перед собором он спешился и преклонил колена посредине Пласы, придерживая рукой повод, а шляпу положил перед собой прямо на мостовую, отвесил земной поклон, перекрестился, затем стал бить себя в грудь. После этого снова вскочил на коня, обвел бесстрашным, но дружелюбным взглядом нескольких зевак, собравшихся поглазеть на это публичное отправление ритуала, и спросил у них, где Каса Авельянос. В ответ поднялось с десяток рук, и все указательные пальцы были направлены в сторону улицы Конституции.
Всадник сразу же двинулся туда, бросив беглый, не лишенный любопытства взгляд на окна верхнего этажа стоящего на углу клуба «Амарилья». На пустынной улице Конституции время от времени раздавался его звучный голос: «Где тут Каса Авельянос?», покуда наконец не прозвучал испуганный ответ привратника, и всадник скрылся в воротах. Он привез письмо, которое падре Корбелан написал карандашом возле костра в стане Эрнандеса, адресуя его дону Хосе, о прискорбном состоянии здоровья которого священник еще не знал.
Письмо прочла Антония и, посоветовавшись с Чарлзом Гулдом, переслала его господам; которые вели стрельбу из клуба «Амарилья». Сама она решилась присоединиться к дядюшке; пусть защитником ее отца в его последние дни — а, возможно, даже часы — станет разбойник, восставший против тиранического самовластья всех партий без различия, против морального убожества и темноты их родины. Сумрак лесов Лос Атоса предпочтительнее; полная лишений жизнь в разбойничьем стане гораздо менее унизительна. Дядюшка принял правильное решение — бороться следует упорно, до конца. Вера в любимого человека побуждала ее принять всем сердцем мужественное решение отца Корбелана.
В своем послании настоятель собора ручался головой за преданность Эрнандеса. Он указывал и на его могущество, ведь уже много лет власти ничего не могут с ним поделать. В письме впервые была упомянута гласно и приведена в качестве довода идея Декуда создать независимый Западный штат (как всем известно, ныне процветающий). На Эрнандеса, бывшего разбойника и последнего генерала, назначенного правительством Рибьеры, возлагалась задача удерживать в своих руках земли между лесами, Лос Атоса и побережьем до тех пор, пока дон Мартин Декуд, пламенный патриот и благородное сердце, не привезет генерала Барриоса, который вновь завоюет Сулако.
«Само небо этого желает. Провидение на нашей стороне», — писал отец Корбелан; и спор, который загорелся в клубе «Амарилья» по прочтении этого письма, был очень жарким, но и скоротечным. Казалось, что все рухнуло, и вдруг блеснул луч надежды, и кое-кто с бездумным детским простодушием за нее уцепился. Других обрадовала возможность немедленно спасти жен и детей. В глазах большинства эта идея представилась последней соломинкой, за которую хватается утопающий. Один лишь падре Корбелан неожиданно предложил им путь к спасению от Педрито Монтеро и его головорезов, вступивших в сговор с сеньорами Фуэнтесом и Гамачо, возглавлявшими толпу вооруженной черни.
Всю вторую половину дня в обширных комнатах клуба «Амарилья» бушевала оживленная дискуссия. Даже те члены клуба, что стояли возле окон, вооруженные винтовками и карабинами, и наблюдали, не появится ли вновь из-за угла толпа мятежников, по временам оборачивались на миг, чтобы выкрикнуть свое мнение или какой-нибудь довод. Когда наступили сумерки, дон Хусте Лопес, пригласив с собою тех кабальеро, которые склонялись к его мнению, удалился в коридор, где на маленьком столике при свете двух свечей принялся сочинять обращение, а вернее, торжественную декларацию, которую должна была вручить Педро Монтеро депутация членов Генеральной Ассамблеи, из числа тех, кто останется в городе. Дон Хусте полагал, что, задобрив Педрито, он сумеет убедить его сохранить хотя бы букву парламентских установлений. Сидя перед чистым листом бумаги, держа в руке гусиное перо, со всех сторон окруженный толпой взволнованных советчиков, он поворачивался то вправо, то влево, настойчиво восклицая:
— Кабальеро, хоть миг тишины! Один лишь миг! Мы должны со всей возможной отчетливостью объяснить, что уступаем добровольно перед лицом совершившихся фактов.
Казалось, он испытывает какое-то печальное удовлетворение, произнося эту фразу. Голоса, звучавшие вокруг него, делались все более взволнованными, хриплыми. Внезапно наступала пауза, и возбужденную мимику лиц сменяла неподвижность полного отчаяния.
А тем временем начинался великий исход. Пласу, покачиваясь, пересекали кареты, где сидели дамы, дети, а мужчины, не уместившись в экипаже, шагали рядом или ехали верхом; двигались группы всадников на лошадях и мулах; бедняки шли пешком, взрослые волокли узлы, несли детей, вели под руки стариков, тянули за собой ребятишек постарше. Когда Чарлз Гулд, попрощавшись в гостинице с доктором и инженером, входил в городские ворота, все те, кто надумал бежать, уже бежали, а остальные забаррикадировались в своих домах. Улица была темна, и только возле дома Авельяносов мелькали в свете фонарей какие-то люди; сеньор администрадо́р вгляделся и узнал коляску жены. Никем не замеченный, он подъехал ближе и молча наблюдал, как его слуги выносят из дверей дона Хосе, чье неподвижное лицо с закрытыми глазами напоминало лицо мертвеца. Миссис Гулд и Антония шли по обе стороны импровизированных носилок, которые сразу втащили в карету. Женщины обнялись; посланец падре Корбелана со взъерошенной полуседой бородой и загорелым скуластым лицом, сидя, как влитой, в седле, смотрел на них неподвижным взором. Затем Антония, не проронившая ни слезинки, вошла в карету, села возле носилок, торопливо перекрестилась и опустила густую вуаль. Слуги и несколько соседей, пришедших помочь, отступили в сторону и обнажили головы. На козлах Игнасио, которому предстояло править лошадьми всю ночь (и, возможно, быть зарезанным до наступления рассвета), угрюмо обернулся и взглянул назад.
— Поезжайте осторожно, — дрожащим голосом напутствовала его миссис Гулд.
— Sí, осторожно, sí, niña, — буркнул он и пожевал губами, отчего затряслись его мясистые, коричневые, словно дубленые, щеки, карета медленно двинулась и исчезла в темноте.
— Я провожу их до реки, — сказал жене Чарлз Гулд.
Она кивнула, и он медленно поехал вслед за экипажем.
В окнах клуба «Амарилья» свет уже не горел. Погасла последняя искорка сопротивления. На перекрестке Гулд оглянулся и увидел, что его жена, стоявшая в момент прощания на краю тротуара, повернулась и идет к дому. Один из их соседей, местный помещик и коммерсант, шел рядом с ней и что-то говорил, сильно жестикулируя. Миссис Гулд вошла в дом, и тут же фонари погасли, вся длинная пустая улица погрузилась в темноту.
И на огромной Пласе ни в одном окне не было света. Лишь высоко-высоко, как звезда, мерцал огонек в одной из башен собора; мерцала бледным светом и статуя всадника на фоне черных деревьев Аламеды, словно призрак монархии, явившийся на место мятежа. Изредка навстречу попадались бродяги и пропускали их, прижимаясь к стене. Но вот кончились последние дома окраин, экипаж бесшумно покатился по мягкой подстилке пыли, стало еще темней, и повеяло свежим запахом листвы окаймлявших проселочную дорогу деревьев. Посланец Эрнандеса подъехал к Чарлзу.
— Кабальеро, — с любопытством спросил он, — не вы ли тот самый, кого называют королем Сулако, хозяин рудников? Я не ошибся?
— Не ошиблись, — ответил Чарлз, — я хозяин рудников.
Гонец Эрнандеса заговорил не сразу.
— У меня есть брат, он служит у вас в Сан Томе караульным. Он говорит, вы справедливый человек. Говорит, вы ни разу не допустили какой-либо несправедливости с людьми, которые работают у вас там, в горах. Брат говорит, что ни один правительственный чиновник, ни один притеснитель народа с Кампо не появился там у вас, по вашу сторону ручья. А ваши собственные служащие не обижают рабочих. Наверняка боятся, что вы их строго накажете. Вы справедливый человек и сильный, — сказал он напоследок.
Он говорил отрывисто и резко, без всякой лести, но было видно, что разговор этот он затеял неспроста. Он рассказал Чарлзу, что у него было ранчо в низине, далеко на юге, что он был когда-то соседом Эрнандеса и крестил его старшего сына; он был одним из тех, кто примкнул к Эрнандесу, когда тот оказал сопротивление во время рекрутского набора, с чего и начались их злоключения. Никто иной, как он, когда его compadre[108] увели, похоронил его жену и ребятишек, расстрелянных солдатами.
— Sí, сеньор, — говорил он неторопливо и хрипло, — я и еще двое или трое, которым посчастливилось не попасть в руки солдат, похоронили их в общей могиле рядом с пепелищем, под деревом, тень от которого раньше падала на крышу сожженного ранчо.
И именно к нему пришел Эрнандес после того, как дезертировал три года спустя. Он так и явился тогда прямо в мундире, с сержантскими нашивками на рукаве; и на груди и на руках его была кровь полковника. С ним шли три солдата, из тех, что были посланы ловить ослушников, а сделались борцами за свободу. И он поведал Чарлзу Гулду, как он и несколько его друзей, лежа за грудой камней в засаде, увидели этих солдат и уже готовились спустить курки, когда вдруг он узнал своего compadre и выбежал из укрытия с радостным криком, ибо знал: Эрнандес к ним пришел не для того, чтобы кого-нибудь обидеть. Трое явившихся с Эрнандесом солдат вместе с теми, кто находился в засаде, образовали ядро знаменитой разбойничьей шайки, а он, рассказчик, долгие годы был правой рукой атамана. Он не без гордости упомянул, что и его голова была оценена; а все же в ней уже засеребрилась седина. И вот он наконец дождался часа, когда его compadre стал генералом.
— И сейчас мы уже не разбойники, а солдаты, — усмехнулся он. — Но, кабальеро, взгляните на этих людей, которые сделали нас солдатами, а его генералом! Да вы только взгляните на них!
Раздался крик Игнасио.
Свет фонарей их экипажа, пробегая по высоким кактусам, которые окаймляли с обеих сторон дорогу, врезавшуюся в мягкую землю Кампо так же глубоко, как английские проселки, внезапно выхватил из темноты испуганные лица стоявших на обочине людей. Те съежились; на мгновенье их глаза расширились и засверкали; потом лица исчезли, фонари осветили полуобнаженные корни огромного дерева, снова кактусы, еще несколько лиц, настороженно глядевших на карету. Три женщины — у одной из них ребенок на руках — и двое мужчин в штатском — один, вооруженный саблей, другой — пистолетом — стояли, сгрудившись возле осла, на спине которого лежали два больших увязанных в одеяла узла. А немного погодя Игнасио снова крикнул, обгоняя допотопную карету, длинный деревянный ящик на двух высоких колесах, с распахнутой дверцей позади. Дамы, ехавшие в этой карете, вероятно, узнали белых мулов и громко закричали:
— Это вы, донья Эмилия?
У поворота дороги пылал огонь, окаймленный, словно рамкой, высокими деревьями, ветви которых переплелись между собою наверху. Здесь, возле дороги и брода через небольшой ручей, стояло убогое ранчо со сплетенными из камыша стенами и крышей из сухой травы; сейчас оно случайно загорелось; бушевавшее со свирепым ревом пламя освещало скопище лошадей, мулов и толпу растерянных людей, в которой раздавались испуганные крики. Когда Игнасио подъехал ближе, к карете бросилось несколько дам и стали умолять Антонию взять их с собой. В ответ она лишь молча указала на отца.
— Здесь я должен вас покинуть, — объявил Чарлз Гулд, повысив голос, чтобы перекричать треск пламени и шум.
Языки огня вздымались до самого неба, и его палящий жар оттеснил толпу к самой карете миссис Гулд. Дама средних лет, одетая в черное шелковое платье, хотя голову ее покрывала мантилья из грубой ткани, а в руке она держала толстую ветку, опираясь на нее, как на трость, подошла к их экипажу, еле держась на ногах от усталости. Две юные девушки, перепуганные и безмолвные, держали ее под руки, робко прижимаясь к ней.
— Misericordia![109] Нам надавали тумаков в этой толпе! — У нее хватило мужества улыбнуться. — Мы идем из города пешком. Все наши слуги сбежали вчера к демократам. Мы хотим искать защиты у падре Корбелана, вашего дядюшки, Антония. Он святой. Он вдохнул небесный пламень в душу свирепого разбойника. Это чудо, истинное чудо!
Она кричала все громче, ее захватил поток людей, отхлынувших внезапно, так как в толпу чуть было не врезались какие-то повозки, мчавшиеся от ручья под свист кнута и крик кучеров. Над дорогой носились черные облака дыма, в которых сверкали мириады огненных искр; бамбуковые стены горели с треском, напоминающим ружейную пальбу. А потом внезапно яркая завеса пламени опала, и лишь красноватый отблеск мерцал над землей; в нем суетливо метались какие-то тени; и так же внезапно, как пламя, замер гомон голосов; возникали чьи-то головы, руки, брань, проклятья и уплывали в темноту.
— Я вас должен здесь покинуть, — повторил Чарлз Гулд, обращаясь к Антонии. Она повернула к нему голову и подняла вуаль. Гонец и compadre Эрнандеса пришпорил лошадь и подъехал к ним вплотную.
— Не хочет ли хозяин рудников что-нибудь передать Эрнандесу, хозяину Кампо?
Чарлза передернуло — разбойник имел основания сравнивать его со своим атаманом. Он, Чарлз Гулд, хозяйничает на рудниках, Эрнандес хозяйничает на Кампо, и оба они полагают, что выполняют свою миссию, и оба рискуют головой. Они равны в этом бесправном государстве. В государстве, которое так густо оплела сеть преступлений и коррупции, что в нем невозможно делать что-то, не вступая в унизительные для честного человека контакты. Ему стало горько, тяжко, он не смог ответить сразу.
— Вы справедливый человек, — еще раз повторил гонец Эрнандеса. — Взгляните на этих людей, которые сделали моего compadre генералом, а нас — солдатами. Взгляните, как удирают, сломя голову, даже лишней рубахи с собой не прихватив, все эти наши олигархи. Есть одна вещь, мой compadre совсем о ней не думает, но думают другие, те, кто идет за нами, вот я и хочу с вами поговорить. Послушайте меня, сеньор. Вот уже много месяцев Кампо — наша. Нам не приходится никого и ни о чем просить; но солдатам нужно платить жалованье, чтобы они могли жить честно, когда кончится война. Говорят, ваша душа так чиста, что одно ваше слово способно исцелять от болезней, словно молитва праведника. Так скажите же мне что-нибудь, чтобы развеять сомнения моих сотоварищей.
— Вы слышали, что он говорит? — по-английски спросил Гулд Антонию.
— Простите нас, мы так несчастны! — торопливо отозвалась она. — Это вы, ваша душа неоценимое сокровище, которое может всех нас спасти; не ваши деньги, а вы сами, Карлос. Умоляю вас, дайте слово этому человеку, что вы поддержите любое соглашение, которое мой дядя заключит с их атаманом. Одно лишь слово. Ему не нужно больше.
Пожарище представляло собой сейчас огромную груду пепла, над которой веял красноватый отблеск, и лицо Антонии, озаряемое им, казалось, пылало от возбуждения. После нескольких секунд раздумья Чарлз сказал, что согласен. Он был как человек, вступивший на узкую тропу над пропастью, когда один лишь путь возможен — вперед. Он ощутил это со всею полнотой сейчас, когда глядел на задыхающегося дона Хосе на носилках, побежденного после длившейся всю его жизнь борьбы с темными силами, среди которых зрели неслыханные преступления и неслыханные иллюзии. Гонец Эрнандеса коротко заметил, что совершенно удовлетворен его ответом. Антония, прямая, стройная, сидела у носилок и опустила на лицо вуаль, героическим усилием воли подавив желание спросить об участи Декуда. И лишь один Игнасио хмуро на них покосился.
— Хорошенько поглядите напоследок на мулов, mi amo[110],— проворчал он. — Больше вы их никогда не увидите.
ГЛАВА 4
Чарлз возвращался в город. На посветлевшем небе чернели острыми зубцами вершины Сьерры. Потом копыта его лошади зацокали по мостовой, нет-нет да спугивая какого-нибудь бродягу, который торопливо шмыгал за угол. Лаяли собаки за оградами садов; и, казалось, бледный свет раннего утра принес с собой прохладу горных снегов на искореженные мостовые и на дома с опущенными ставнями, со сломанными карнизами и осыпавшейся штукатуркой между пилястров. Рассвет мало-помалу изгонял темноту из-под аркад Пласы, но что-то не было видно крестьян, раскладывающих на низких скамьях под необъятными тентами свои товары: груды фруктов, связки украшенных цветами овощей; не было этим утром веселой суеты, не толпились под сводами ранчеро с женами, детьми, ослами. На всей огромной площади стояли только в нескольких местах, сбившись кучками, поборники справедливости и все смотрели в одну сторону из-под нахлобученных на брови шляп: не будет ли каких вестей из Ринкона. Когда мимо проехал Чарлз, те, кто находился в самой многолюдной группе, повернулись все, как один, вслед ему и угрожающе закричали:
— Viva la libertad!
А Чарлз поехал дальше и свернул в арку своего дома. В посыпанном соломой внутреннем дворике фельдшер, уроженец этих мест и один из учеников доктора Монигэма, сидел на земле, прислонившись к фонтану спиной, не спеша перебирал струны гитары, а стоявшие перед ним две девушки из простонародья слегка притопывали ногами, помахивали руками и напевали мелодию популярного танца. В течение тех двух дней, что длился мятеж, друзья и родственники увезли большинство раненых, но несколько человек еще полулежали на земле и в такт музыке покачивали забинтованными головами. Чарлз спешился. Из пекарни вышел заспанный работник и взял за повод коня; фельдшер попытался торопливо спрятать гитару; девицы не смутились и, улыбаясь, отошли к стене; а Чарлз, пересекая дворик, бросил взгляд в темный угол, где лежал смертельно раненный каргадор и рядом с ним стояла на коленях женщина; она торопливо шептала молитвы, пытаясь в то же время сунуть в рот умирающему дольку апельсина.
С какой жестокой очевидностью тщетность человеческих усилий обнаруживала себя в легкомыслии и страданиях этого неисправимого народа; с какой жестокой очевидностью обнаружила она себя, когда они пошли на смерть, стремясь добиться своего, и ничего не добились. Чарлз в отличие от Декуда был неспособен с легкостью исполнять роль в трагическом фарсе. Трагизм ситуации он ощущал, но ничего похожего на фарс не обнаруживал. Ему было не до смеха, он мучительно страдал, сознавая, что совершена непоправимая ошибка. Его воинствующий практицизм и воинствующий идеализм не позволяли ему видеть смешное в страшном, что мог себе позволить Мартин Декуд, материалист и любитель пофантазировать.
Чарлзу, как и большинству людей, сделки с собственной совестью казались особенно неприглядными, если его вынуждали к ним, угрожая силой. Молчаливость служила ему защитой, — нельзя воздействовать на мнение человека, который ничего не говорит; но концессия Гулда исподволь подточила его идеалы. «И как я мог не понимать, — думал он, — что рибьеризм никогда ничего не добьется». Да, рудники подточили его идеализм, потому что он устал постоянно давать взятки и плести интриги только для того, чтобы ему позволили спокойно работать. А между тем ему не нравилось, когда его грабят, как это не нравилось в свое время его отцу. Его это очень сердило. Он убедил себя, что поддерживает планы дона Хосе не только из высоких соображений, но и потому, что это выгодно. И он ввязался в эту бессмысленную потасовку точно так же, как его несчастный дядюшка, чья шпага висела на стене его кабинета, вступил в борьбу, защищая элементарные права человека. Только оружием его было богатство, более действенное и хитроумное оружие, нежели честный стальной клинок с простой медной рукояткой.
Оружие гораздо более опасное не только для того, против кого оно направлено, но и для того, кто им владеет; оружие, отточенное алчностью и нищетой; оружие, вокруг которого, словно густые разветвления ядовитых корней, постоянно прорастают козни и мольбы корыстолюбцев; оружие, на котором само дело, защищаемое им, оставило густой налет ржавчины; оружие, которое постоянно норовит ударить мимо цели. А делать нечего — оно в его руках, и надо им сражаться. Но он дал себе слово, что это оружие скорее разобьют на мелкие кусочки, нежели вырвут у него.
Если на то пошло, он ощущал, несмотря на свое английское происхождение и воспитание, что он искатель приключений, авантюрист, потомок тех авантюристов, которых вербовали когда-то в иноземный легион, тех людей, что искали счастья в междоусобных войнах, тех, кто затевал здесь государственные перевороты, кто верил в перевороты. Прямой и честный по натуре, он все же что-то впитал в себя от гибкой морали авантюристов, которые, оценивая этическую сторону дела, всегда принимают в расчет и грозящий им риск. Он был готов, если понадобится, взорвать всю гору Сан Томе и изъять ее тем самым из республики. В этой решимости выражалось его упорство, она являлась следствием того, что жена уже не оставалась больше единственной властительницей его дум, в этой решимости отразились и пылкое воображение, и слабость его отца; было также в ней и нечто от пирата, предпочитающего швырнуть горящую спичку в пороховой погреб, только бы не сдаться на милость победителя.
Внизу, во внутреннем дворе, раненый каргадор испустил последнее дыхание. Женщина вскрикнула, и все раненые, лежавшие на земле, разом приподнялись, так пронзителен и страшен был ее голос. Лениво встал и фельдшер с гитарой и внимательно посмотрел на женщину. Обе девушки — они сидели теперь по обе стороны от раненого, своего родственника, поджав ноги и держа в зубах длинные сигары, — многозначительно переглянулись.
Чарлз посмотрел вниз и увидел, что во внутренний двор входят трое, в черных фраках, белых рубашках и цилиндрах. Один из них, намного выше ростом своих спутников, выступал удивительно важно и шел несколько впереди. Это дон Хусте Лопес в сопровождении двух своих друзей, членов Генеральной Ассамблеи, явился в столь ранний час с визитом к управляющему рудниками Сан Томе. Гости тоже увидели хозяина, оживленно замахали ему руками и принялись торжественно подниматься по лестнице.
Дон Хусте сбрил свою обгоревшую бороду, благодаря чему изменился до неузнаваемости и утратил девять десятых былой импозантности. Чарлз Гулд, погруженный в свои невеселые мысли, все же не мог не заметить, как подчеркнула эта перемена неосновательность натуры дона Хусте. У его друзей был измученный, усталый вид. Один поминутно облизывал пересохшие губы; глаза другого отрешенно блуждали по плиткам пола; а меж тем дон Хусте, выступив слегка вперед, цветисто и напыщенно приветствовал сеньора администрадо́ра рудников Сан Томе. Он был твердо убежден, что форму непременно нужно соблюдать. Нового губернатора всегда посещают депутации от cabildo, то есть муниципального совета, от consulado, совета коммерсантов, посему надлежит, чтобы и Генеральная Ассамблея прислала свою депутацию, хотя бы чтобы просто подтвердить нетленность парламентских институтов. Дон Хусте предлагал, чтобы дон Карлос Гулд, один из самых выдающихся граждан республики, тоже примкнул к депутации. Ведь у него такое положение — его имя знают в самых отдаленных уголках страны. Официальные церемонии не пустая формальность, если их соблюдают в такие времена, когда у каждого сердце обливается кровью. Поступая, как принято, мы, быть может, сумеем сохранить видимость парламентской системы, что сейчас чрезвычайно важно. Взгляд дона Хусте светился торжествующим огнем; дон Хусте верил в парламентские институты, и его проникнутый убежденностью голос растворялся в тишине огромного дома, словно басовитое жужжание надоедливого насекомого.
Чарлз, облокотившись на балюстраду, внимательно его слушал. Он отрицательно покачал головой — молящий взгляд президента Генеральной Ассамблеи его почти растрогал. Но в его намерения не входило, чтобы рудники Сан Томе участвовали в соблюдении официальных церемоний.
— Мой вам совет, сеньоры, разойтись по домам и ожидать там решения своей участи. Нет никакой необходимости формально отдавать себя в руки Монтеро. Покориться неизбежности, говорит дон Хусте, ну что же, покориться, конечно, можно, но если эта неизбежность именуется Педрито Монтеро, есть ли смысл так уж настойчиво подчеркивать свою покорность? В политической жизни этой страны полностью отсутствует чувство меры, и в этом главная ее беда. Сперва неограниченно царит беззаконие и никто не ропщет, а затем вдруг наступает взрыв и льются реки крови. Нет, сеньоры, таким образом нельзя обеспечить стране долгого и устойчивого процветания.
Чарлз замолчал — к нему были обращены печальные, ошеломленные лица, пытливые, встревоженные взгляды. Жалость к этим людям, возлагавшим все надежды на слова, в то время как страна предана на поток и разорение, побудила и его к пустой болтовне (так он привык именовать пространные речи). Дон Хусте пробормотал:
— Вы покидаете нас, дон Карлос… И все же, парламентские институты…
Он был так огорчен, что не смог договорить. На миг прикрыл рукой глаза. Чарлз, как огня боявшийся пустой болтовни, не произнес в ответ ни слова. Он лишь молча поклонился гостям. Молчаливость служила ему укрытием. Он отлично понимал, чем вызван визит: гости хотели заручиться поддержкой могущественной концессии Гулда. Они хотели заключить соглашение с победителем, осененные ее крылышком. Другие общественные организации — cabildo, consulado — вскоре, вероятно, тоже попытаются обеспечить себе поддержку их концессии, единственной надежной, крупной силы, которая существовала в стране.
Появился доктор, как всегда шагая порывисто и неровно; ему сказали, что хозяин дома ушел в свой кабинет и не велел ни в коем случае себя беспокоить. Но доктор Монигэм и не спешил немедленно с ним встретиться. Он начал с осмотра раненых. Потирая пальцами подбородок, внимательно оглядел одного за другим; они пытливо всматривались ему в глаза, но встречали неподвижный, ничего не выражавший взгляд. Все его пациенты шли на поправку; он задержался только у тела мертвого каргадора, причем смотрел не на того, кто уже перестал страдать, а на женщину, которая стояла на коленях, молча вглядываясь в застывшее лицо с заострившимся носом и полузакрытыми глазами. Женщина подняла голову и монотонным голосом произнесла:
— Совсем недавно он стал каргадором — всего несколько недель назад. Мы столько раз просили его милость капатаса, но он долго его не брал.
— Я не в ответе за поступки великого капатаса, — буркнул доктор и отошел.
Затем доктор поднялся на верхний этаж, но, подойдя к дверям кабинета и уже взявшись было за дверную ручку, вдруг заколебался; затем резко повернулся, пожав своими кривыми плечами, и торопливо двинулся по галерее, где и разыскал камеристку миссис Гулд.
Леонарда сообщила ему, что сеньора еще не вставала. Сеньора поручила ей позаботиться о девочках, которых она увезла от этого итальянского posadero[111]. Она, Леонарда, уложила их прямо в своей комнате. Беленькая все плакала, потом уснула, а черненькая — та, что постарше, — до сих пор не сомкнула глаз. Сидит на кровати, до самого подбородка завернувшись в простыню, и таращится в одну точку, словно ведьмушка какая. Леонарде не нравилось, что детей взяли в дом. Свое неодобрение она выразила тем, что индифферентным тоном осведомилась, жива ли еще их мать. Что касается сеньоры, она, вероятно, спит. Леонарда не раз подходила к дверям ее комнаты после того, как они проводили донью Антонию и ее умирающего отца, — из комнаты сеньоры не слышно ни звука.
Доктор, погрузившийся в печальные раздумья, внезапно встрепенулся и велел ей немедленно вызвать хозяйку. Он сказал, что будет ждать ее в большой гостиной, и проковылял туда. От возбуждения он расхаживал взад и вперед, хотя ужасно устал. В этой пустой, просторной комнате, где его истомившаяся душа вновь обрела поддержку и радость, где с молчаливой признательностью изгнанника он ловил бросаемые украдкой в его сторону сочувственные взгляды, он бродил сейчас как неприкаянный среди стульев, столов, бродил без устали, а потом туда вошла наконец быстрыми шагами миссис Гулд, завернувшись в пеньюар.
— Вы ведь знаете, я все время считал, что серебро не следует отправлять отсюда, — сразу начал доктор, после чего рассказал ей обо всем, что случилось минувшей ночью с ним, а также с капитаном Митчеллом, с главным инженером дороги и со старым Виолой в штаб-квартире Сотильо. В глазах доктора, который на свой особый лад воспринимал разразившийся в стране политический кризис, вся эта операция, затеянная для того, чтобы увезти из города серебро, представлялась безрассудной, зловещей. Все равно как если бы генерал накануне решающей битвы вдруг отправил бы бог весть куда самые отборные войска, сославшись на какую-либо маловразумительную причину. Сокровище можно было спрятать на берегу и воспользоваться им, если концессии Гулда будет грозить какая-нибудь опасность. Поступить так, как Чарлз, можно было лишь в том случае, если бы процветание и благоденствие рудников возникло на основе скрупулезно честных и целесообразных деяний. Но ведь ничего подобного не было. Та линия поведения, которой сеньор администрадо́р придерживался прежде, была единственно возможной.
Концессии Гулда все эти годы приходилось платить взятки, в противном случае она перестала бы существовать. Гнусное и унизительное положение. Вполне понятно, что Чарлзу в конце концов все это так надоело, что он свернул с проторенной дорожки и стал поддерживать обреченные на провал усилия реформистов. Доктор не верил, что в Костагуане можно чего-то добиться реформой. А сейчас все вернулось на круги своя с той лишь разницей, что после попытки управляющего избавиться от опостылевшей ему зависимости рудники не только разжигают алчность власть имущих, но и возбуждают их негодование. Потерпевший неудачу будет наказан. А самое досадное, конечно, то, что Чарлз проявил, как считал доктор, слабость в самый решительный момент, когда единственной надеждой на спасение было вернуться к старым методам, не мудрствуя лукаво. Он увлекся безумной затеей Декуда и совершил роковую ошибку.
— Декуд! Декуд! — восклицал доктор, размахивая руками. Он ковылял по комнате и сердито фыркал.
Много лет тому назад обе лодыжки доктора Монигэма были весьма основательно изувечены в ходе расследования, проведенного в замке Санта Марты комиссией, состоявшей из одних военных. Гусман Бенто созвал их глубокой ночью, грозно нахмурившись, сверкая глазами, и приказал им голосом, дрожавшим от бешенства, немедля приступить к расследованию. Старый тиран, опаленный одним из присущих ему приступов подозрительности, то заклинал их хранить ему верность, то обрушивал на них проклятия и страшные угрозы. Все камеры и казематы замка были забиты арестантами. Комиссии было приказано раскрыть подлый заговор против Гражданина Спасителя Государства.
Тиран был страшен в гневе, и комиссия свирепствовала на допросах. Гражданин Спаситель Государства не любил долго ждать. Раскрыть заговор было необходимо. В замке не смолкал кандальный звон, щелканье бичей, крики и стоны истязуемых; комиссия, состоящая из офицеров высокого ранга, трудилась в поте лица своего неустанно, скрывая свой страх друг от друга, а главное, от секретаря комиссии, отца Берона, армейского капеллана, облеченного в эту пору большим доверием Гражданина Спасителя Государства.
Священник был высокий, с покатыми плечами, неопрятный на вид человек; его плоскую, давно не стриженную голову украшала заросшая тонзура; субъект с землистым оттенком лица, рыжий, жирный, в испещренном сальными пятнами лейтенантском мундире, с вышитым белыми нитками крестиком на левой стороне груди. У него был мясистый нос и отвисшая нижняя губа. Доктор Монигэм помнил его до сих пор. Он его помнил, невзирая на то, что всей душою силился его забыть. Гусман Бенто специально распорядился ввести в состав комиссии отца Берона, надеясь, что незаурядное рвение капеллана поможет членам комиссии в их трудах. Как не тщился доктор Монигэм, ему до сих пор не удавалось забыть отца Берона, его лицо, его безжалостный монотонный голос, повторявший один и тот же вопрос: «Ну, призна́ешься ты, наконец?»
Он не вздрагивал от этих воспоминаний, но они сделали его таким, каков он был в глазах всех респектабельных людей, человеком, не соблюдающим общепринятых приличий, то ли образованный бродяга, то ли опустившийся врач. Но ведь не каждый из респектабельных людей обладал достаточной душевной тонкостью, чтобы вообразить себе, с какой сердечной мукой и с какой отчетливостью помнил доктор Монигэм, врач рудников Сан Томе, отца Берона, армейского капеллана, состоявшего когда-то секретарем комиссии по расследованию заговора. Вот уж сколько лет прошло, а доктор Монигэм и сейчас в своей квартире при рудничной больнице в ущелье Сан Томе все так же ясно помнил отца Берона.
Он вспоминал священника по ночам, видел иногда его во сне. В такие ночи доктор зажигал свечу и ждал рассвета, расхаживая по своим комнаткам, крепко обхватив себя руками и уставившись неподвижным взглядом на босые ноги. Ему мерещился отец Берон во главе длинного черного стола, а дальше головы, плечи, эполеты членов комиссии, они пощипывают перья и слушают, брезгливо и презрительно, заверения очередного узника, призывающего небеса в свидетели своей невиновности, пока наконец, выйдя из себя, капеллан не воскликнет: «Что толку слушать этот жалкий вздор! С вашего позволения я удалюсь с ним на время». И тогда двое солдат выводят арестованного из комнаты, а следом за ними идет отец Берон. Это случалось много раз, на протяжении многих дней, случалось со многими заключенными. По возвращении узник был готов чистосердечно во всем признаться, как сообщал отец Берон, и его взгляд при этом становился тупым и сытым, как у обжоры после обильной трапезы.
Для удовлетворения инквизиторских наклонностей священника имелся достаточно полный ассортимент необходимых средств. На протяжении всей мировой истории человек неизменно был хорошо осведомлен о том, как причинить душевные и физические страдания себе подобным. Люди обучались этому по мере того, как их страсти делались все сложнее, а изобретательность все изощреннее. Впрочем, можно смело утверждать, что первобытный человек не ломал себе голову над изобретением пыток. Он был ленив и чист сердцем. Когда ему случалось раздробить соседу каменным топором череп, он делал это, не питая к нему зла, а просто потому, что это было ему нужно.
Но время шло, и оказалось, что даже очень глупый человек способен придумать нечто подлое и лживое и заклеймить клеветой невиновного. Бечевка и шомпол; несколько мушкетов и кусок ремня; и даже простой молоток из твердого дерева, если бить с размаху по пальцам и суставам, может явиться орудием самой изощренной пытки. Доктор был на редкость упрямым арестантом, и естественным последствием его «дурного нрава» (как выражался отец Берон) явилось то, что для того, чтобы сделать его послушным, пришлось применить самые жестокие меры, и применить их все полностью. Отсюда хромота, кривые плечи и шрамы на щеках. Но зато и в своих винах, — когда он их наконец признал, — он признался полностью. Случалось, в бессонные ночи на рудниках Сан Томе он вдруг переставал метаться по комнатам и останавливался, скрипнув зубами от гнева и стыда, потрясенный тем, как буйно разыгралось его воображение под воздействием физической боли, когда эта боль достигла такой силы, что самоуважение, истина, честь и даже жизнь потеряли всякое значение.
И он не мог забыть отца Берона и этот бесконечно повторявшийся вопрос: «Ну, призна́ешься ты, наконец?» — смысл этих слов был так мучительно ясен, хотя разум его мутился от боли. Не мог забыть. Но страшнее было другое. Если бы доктор Монигэм даже сейчас случайно встретил бы на улице отца Берона, его объял бы в точности такой же ужас, как много лет тому назад. Эта опасность ему уже не угрожала. Отец Берон скончался; но доктор Монигэм ведь знал о себе это и никому не мог взглянуть в глаза.
Можно сказать, что доктор Монигэм попал в рабство к призраку. Разве мог он вернуться в Европу, помня об отце Вероне? Делая признание комиссии, доктор Монигэм не помышлял избавиться таким образом от смерти. Он хотел умереть. Сидя в своей камере полураздетый на сырой земле, совершенно неподвижно, долгими часами, так, что пауки, его приятели, успевали оплести его всклокоченные волосы паутиной, он успокаивал свою изболевшуюся душу вполне, казалось бы, разумным доводом: ведь он сознался в таком множестве преступлений, что его должны приговорить к смертной казни… его мучители зашли так далеко, что не оставят его в живых.
Но удивительной оказалась жестокость судьбы — шел месяц за месяцем, а доктор Монигэм гнил заживо в своей темной, как могила, камере. Без сомнения, его тюремщики надеялись, что он умрет своею смертью и избавит их от необходимости его казнить; однако доктор Монигэм обладал железным здоровьем. Умер Гусман Бенто, и не от кинжала заговорщика, а от апоплексического удара, и доктора Монигэма поспешили освободить.
Оковы сбили при свете свечи, и у доктора, просидевшего много месяцев в глубокой темноте, так заболели глаза, что он прикрыл их руками. Ему помогли встать. Сердце бешено колотилось в его груди — доктор боялся свободы. Он сделал несколько шагов, привыкшие к кандалам ноги двигались так легко, что у него закружилась голова, и он упал. Ему дали две палки и вывели из коридора. Стояли сумерки; в офицерских казармах близ замка уже зажигали свечи; но темнеющее вечернее небо показалось ему ослепительным. На худых, костлявых плечах доктора висело обтрепавшееся пончо; изодранные брюки прикрывали его ноги только до колен; грязные, спутанные седые космы, не стриженные полтора года, обрамляли исхудавшее, с острыми скулами лицо. Когда он выходил из замка, караульный, движимый каким-то безотчетным порывом, внезапно подскочил к нему со сдавленным смешком и нахлобучил ему на голову старую продавленную соломенную шляпу. Доктор Монигэм чуть не упал от неожиданности, затем продолжил свой путь. Он сперва выбрасывал вперед одну палку, затем подтягивал к ней искалеченную ногу, затем другую палку; вторую ногу он волок с еще большим трудом — казалось, она слишком тяжела, а между тем обе его ноги были на вид не толще, чем палки, которые он стискивал в руках. Его согбенное тело колотила не прекращающаяся ни на минуту дрожь, сотрясавшая тощие руки и ноги, костлявую голову, рваное сомбреро, широкие поля которого лежали у доктора на плечах.
В таком виде и в таком одеянии доктор Монигэм обрел свободу. И это обстоятельство так прочно привязало его к Костагуане и способствовало, так сказать, его натурализации, как не смог бы способствовать ей никакой успех и никакие почести. Он перестал быть европейцем; доктор Монигэм сотворил себе из своего бесчестья кумир. Такой образ действий представлялся ему единственно возможным для джентльмена и офицера. До отъезда в Костагуану доктор Монигэм был хирургом в одном из пехотных полков Ее Величества.
Размышляя, как ему теперь жить, он не принимал в расчет смягчающих обстоятельств. Этот образ действий вовсе не был глуп; он был прост. Поведение человека, убежденного, что каждая его вина требует самого сурового искупления, всегда отличается простотой. Доктор Монигэм считал, что заслуживает суровой кары; считать иначе он не мог, — вполне естественное чувство вины, стократно усугубленное свойственными джентльмену и офицеру представлениями о чести, побуждало его думать и чувствовать именно так. Не говоря уже о том, что и благородная натура доктора требовала полного, всеобъемлющего и постоянного искупления.
Преданность и верность были среди главных ее черт. Всю свою преданность и верность доктор предоставил в распоряжение миссис Гулд. Он считал ее достойной их. В глубине души у него шевелилась тревожная неприязнь к рудникам Сан Томе, поскольку с каждым днем они все больше нарушали душевное спокойствие миссис Гулд. Как мог Чарлз привезти ее сюда! Это преступление! Доктор наблюдал за ходом событий с угрюмой отчужденной сдержанностью, вполне естественной, — он полагал, — для человека, пережившего все, что он пережил. Преданность миссис Гулд, однако, влекла за собой заботы о безопасности ее мужа. Доктор не верил в Чарлза, вот почему он приложил все усилия, чтобы оказаться в городе в критический момент. Он считал, что управляющий рудниками неизлечимо заражен безумием костагуанских революций. И поэтому он с такой горечью и раздражением восклицал: «Декуд, Декуд!» — ковыляя по гостиной Каса Гулд.
Миссис Гулд, стоя с разгоревшимися щеками и сверкающими глазами, глядела прямо перед собой, потрясенная внезапностью свалившегося на них страшного несчастья. Она опиралась на низенький столик, и рука ее дрожала, вся от кисти до плеча. Свет солнца, которое поздно заглядывает в Сулако, появляясь высоко в небе уже во всей полноте своей силы из-за сверкающей снежной вершины Игуэроты, развеял нежный, бархатистый, жемчужно-серый полумрак, окутывавший город в утренние часы, разбив его на густые черные тени и ослепительные яркие блики. Потоки солнечного света заливали гостиную, врываясь в нее сквозь три высоких окна; и по контрасту особенно темным казался дом Авельяносов, стоявший еще в тени.
— Что случилось с Декудом? — спросил с порога мужской голос.
Это был Чарлз. Они не слышали, как он вошел. Он бросил беглый взгляд на жену и в упор посмотрел на доктора.
— У вас какие-то новости, доктор?
Доктор торопливо выложил все, что знал. Потом замолк, и управляющий рудниками Сан Томе долго глядел на него, не произнося ни слова. Миссис Гулд опустилась в низкое кресло и положила руки на колени. Все трое не шевелились, в комнате царила тишина. Затем Чарлз сказал:
— Вы, вероятно, хотите позавтракать, доктор.
Он отступил, пропуская жену. Она схватила его за руку, крепко ее пожала и поднесла платочек к глазам. Увидев мужа, она сразу вспомнила об Антонии и, думая о бедной девушке, не удержалась от слез. Наскоро умывшись, миссис Гулд вошла в столовую и услыхала, как муж, сидя за столом, говорит доктору:
— Нет, нет, мне кажется, сомнениям нет места.
Доктор не стал возражать:
— Да, говоря по чести, я не думаю, что бедняга Гирш мог солгать. Боюсь, все это истинная правда.
Она села во главе стола, растерянно посматривая то на доктора, то на мужа. Но и тот и другой избегали взгляда миссис Гулд и даже ни разу не повернули к ней головы. Доктор сделал вид, будто проголодался; схватив нож и вилку, принялся подкрепляться с преувеличенным аппетитом, словно плохой актер. Чарлз не стал притворяться: широко расставив локти, он крутил кончики огненно-рыжих усов, таких длинных, что его руки не прикасались к лицу.
— Да, я тоже так не думаю, — пробормотал он и обхватил рукою спинку стула. Лицо Чарлза было спокойно, но, судя по его выражению, в душе происходила острая борьба. Он понял: наступил переломный момент и все его поступки, и совершенные сознательно, и продиктованные инстинктом, теперь не обойдутся без последствий.
Впредь он не сможет прибегать к таким средствам, как молчаливая непроницаемость и сдержанность, неоднократно помогавшие ему оберегать свое достоинство, — наименее унизительные из всех видов лицемерия, к которым вынуждала его эта пародия на гражданские институты, оскорблявшая его разум, прямодушие и чувство справедливости. Этим он был похож на отца. Он не умел искать спасения в иронии. Нелепости, которыми так изобилует наш мир, его не забавляли. Наоборот, уязвляли, ибо главной его чертой была серьезность. Но теперь, после трагической гибели Декуда, он уже не сможет сохранить неуязвимую позицию стороннего наблюдателя. Теперь ему придется действовать открыто, если только он не захочет выйти из игры, что невозможно. Служение материальным интересам принуждает его отказаться от этой позиции, и, может быть, даже с опасностью для жизни. К тому же он понимал, что идея Декуда отколоть от государства Западную провинцию не пошла ко дну вместе с серебряными слитками.
Единственное, что оставалось без перемен, это его отношение к Холройду. Глава серебряного и стального треста принимал участие в костагуанском бизнесе с жаром и даже со страстью. Костагуана стала ему необходима. Разработка рудников Сан Томе доставляла романтичной стороне его натуры удовлетворение, которое другие черпают в театре, живописи или скачках. Великий человек избрал для себя именно эту форму сумасбродства, оправданную высокими моральными соображениями, настолько высокими, что они льстили его тщеславию: даже его причуды служат прогрессу человечества.
Чарлз, разделявший эту страсть, был уверен, что компаньон всегда его понимает и ни за что не осудит. Он был уверен: ничто не вызовет испуга или удивления у этого незаурядного человека с возвышенной и романтичной душой. И Чарлз представлял себе, как пишет в Сан-Франциско:
«…Люди, стоявшие во главе движения, погибли или вынуждены были бежать; законной власти в настоящее время в провинции не существует; партия „бланко“ в Сулако признала себя побежденной самым позорным образом, но совершенно в духе этой страны. Впрочем, по-прежнему остается возможность отозвать сюда Барриоса, армия которого — свежие силы, еще не участвовавшие в боях, — находится в Каите. Я вынужден открыто присоединиться к идее отделения Западной провинции, поскольку это единственный способ обеспечить безопасность огромных материальных ценностей, от которых зависит процветание и мир в Сулако…» Именно так. Ему казалось, что слова эти огненными буквами начертаны на стене, на которой он остановил свой рассеянный взгляд.
Миссис Гулд с испугом смотрела на мужа. Его непривычная рассеянность холодной тенью покрыла дом, как набежавшая на солнце грозовая туча. Такой рассеянности, по наблюдениям миссис Гулд, ее муж бывал подвержен, когда все его душевные силы были напряжены до предела под воздействием какой-нибудь навязчивой идеи. Человек, преследуемый навязчивой идеей, безумен. Он опасен, даже если идея эта справедлива; ведь такой человек способен погубить без всякой жалости и тех, кого любит. Глаза Эмилии, с тревогой всматривающиеся в лицо мужа, наполнились слезами, и она опять представила себе всю бездну отчаяния бедной Антонии.
«Что стало бы со мной, если бы Чарли утонул, когда он был моим женихом?» — спросила она себя, холодея. Ее сердце заледенело, а щеки пылали, словно опаленные пламенем погребального костра, пожиравшего все ее земные привязанности. Из глаз хлынули слезы.
— Антония убьет себя! — воскликнула она.
Этот внезапный крик, прозвучав в безмолвной комнате, остался почему-то почти не замечен. Лишь доктор, который, прижавшись щекою к плечу, крошил кусочек хлеба, поднял голову, и его лохматые брови слегка нахмурились. Доктор Монигэм совершенно искренне считал Декуда на редкость неподходящим объектом для любви какой бы то ни было женщины. Затем он снова опустил голову, скривил губы, и сердце его залила волна нежности и восхищения.
«Она тревожится об этой девушке, — подумал он, — она тревожится о детях Виолы; она тревожится обо мне; о раненых, о шахтерах; она всегда тревожится о тех, кто беден и сломлен горем! Но что с ней будет, если Чарлз погибнет в этой адской свалке, в которую его втянули треклятые Авельяносы? Ведь о ней, по-моему, не тревожится никто».
Чарлз продолжал смотреть на стену, обдумывая продолжение письма.
«Я напишу Холройду, что рудники достаточно богаты, чтобы послужить экономической основой создания нового государства. Это будет ему лестно. Он пойдет на риск».
Но захочет ли помогать им Барриос? По всей вероятности, да. Однако с Барриосом невозможно связаться. Ведь отправить в Каиту судно теперь уже не удастся, так как Сотильо завладел гаванью; и к тому же в его распоряжении пароход.
А сейчас, когда во всей провинции подняли голову демократы и вся равнина Кампо охвачена мятежом, где ему разыскать человека, который сумел бы отвезти его послание в Каиту, ведь туда скакать верхом дней десять, не меньше; где найдет он человека, решительного и храброго, которого не смогут ни арестовать, ни убить, а если даже арестуют, он, как положено посланцу, самоотверженно съест письмо? Капатас каргадоров такой человек, но капатаса здешних каргадоров больше нет в живых.
И Чарлз, оторвав наконец взгляд от стены, негромко произнес:
— Поразительное создание этот Гирш! Уцепился за якорь и остался в живых. А я и не знал, что он до сих пор в Сулако. Я думал, он уехал в Эсмеральду через горы еще неделю тому назад. Он тут однажды приходил ко мне потолковать о торговле кожами и кой о чем еще. Я ему твердо сказал, что помочь не сумею.
— Он побоялся двинуться в обратный путь, когда узнал, что в наших краях появился Эрнандес, — пояснил доктор.
— И это единственный человек, который мог бы нам рассказать, что случилось на баркасе, — с удивлением проговорил Чарлз.
Миссис Гулд взволнованно произнесла:
— Антония не должна знать об этом! Ничего не говорите ей. Скажем потом.
— Едва ли она сможет что-нибудь узнать, — заметил доктор. — Кто ей расскажет? Ведь наши горожане боятся Эрнандеса хуже черта. — Он взглянул на Чарлза. — Это, право же, очень некстати, потому что, если бы нам захотелось сообщить о чем-либо нашим изгнанникам, мы не найдем гонца. Еще в ту пору, когда Эрнандес рыскал со своей шайкой в нескольких сотнях миль от Сулако, местных жителей бросало в дрожь от одних лишь рассказов о том, как он живьем поджаривает пленных.
— М-да, — пробормотал Чарлз, — капатас нашего Митчелла был единственным человеком в городе, который беседовал с Эрнандесом наедине. Падре Корбелан послал его к разбойнику. С этого все и началось. Как жаль, что он…
Гул большого колокола в храме заглушил его последние слова. Сперва грянули друг за другом три отдельных удара — каждый прогремел, как взрыв, и мелодичный, низкий звон долго замирал потом в тиши. А затем затрезвонили разом все городские колокола, в каждой церкви, монастыре, часовне, даже те, которые молчали уже много лет. Миссис Гулд побледнела — безудержно хлынувший на город неистовый хор металлических голосов как бы предрекал смертоносные битвы. Прислуживавший за столом Басилио обомлел от страха и прижался к буфету, выбивая зубами дрожь. В этом грохоте нельзя было услышать даже собственного голоса.
— Да закрой же окна наконец! — раздраженно крикнул Чарлз.
Остальные слуги, решив, что прозвучал сигнал, после которого в городе начнут резать всех поголовно, устремились на второй этаж, натыкаясь друг на друга на ступеньках, мужчины, женщины — неведомые никому и в обычные дни невидимые обитатели нижнего этажа Каса Гулд. Женщины с громким воплем: «Misericordia!» — вбегали в столовую, падали на колени у стены и судорожно принимались креститься. В дверях появились испуганные лица слуг — конюхи, садовники, всевозможные подручные, питавшиеся от щедрот этого хлебосольного дома, и взгляду Чарлза в полном составе предстала вся его челядь, вплоть до привратника, полупарализованного старика с падающими на плечи седыми кудрями.
Это наследие досталось Чарлзу, чтившему семейные традиции, как фамильная реликвия — старик еще помнил Генри Гулда, англичанина и костагуанца во втором поколении, который одно время был главой провинции Сулако; долгие годы состоял при нем лакеем и на войне, и в мирное время; ему позволили служить хозяину в тюрьме; он шел за взводом солдат в то роковое утро, когда его господина вели на расстрел; и, спрятавшись за кипарисом, потихоньку выглянул из-за ствола и увидел, как дон Энрико взмахнул руками и рухнул в пыль. Лохматая седая голова старика привратника, маячившая в задних рядах челяди, упорно притягивала к себе взгляд Чарлза. Но еще с большим изумлением он заметил, что в толпе служанок приплелись две сморщенные старые карги, о существовании которых он не подозревал и вообще ни разу их не видел в стенах своего дома. Вероятно, это были матери, может быть, даже бабки кого-то из слуг. Было также несколько детей, более или менее обнаженных, они плакали и цеплялись за ноги родителей. Сколько раз он проходил по внутреннему дворику и даже не догадывался, что в доме живет хоть один ребенок. Даже Леонарда, «камериста», пробилась сквозь толпу, ведя за руки девочек Виолы, и смазливое, капризное личико избалованной господами служанки искажал испуг. На столе и в буфете дребезжала посуда, и казалось, дом качается, подхваченный волной оглушительного колокольного звона.
ГЛАВА 5
К утру все башни города заполнила толпа местных жителей, жаждавших приветствовать Педрито, который переночевал в Ринконе и подходил сейчас к городским воротам. Первой ворвалась толпа вооруженных людей всех оттенков кожи, видов, типов и степеней оборванности, именовавшая себя Национальной Гвардией Сулако и возглавляемая сеньором Гамачо. На мостовую хлынула, словно вывалившись из мусорного ведра, окутанная тучей пыли и сопровождаемая яростным барабанным боем мешанина соломенных шляп, пончо, ружей, посреди которой трепыхался необъятный желто-зеленый флаг. Зрители отпрянули к стенам домов с громкими воплями: «Viva!» Вслед за чернью показалась кавалерия, это была «армия» Педрито Монтеро. В сопровождении Гамачо и Фуэнтеса он продвигался во главе своих льянеро[112], каковые с беспримерным мужеством совершили великий подвиг — перевалили во время снежной бури через хребет Игуэроты.
Кавалеристы ехали по четыре в ряд на лошадях, конфискованных на Кампо, а одеты были в разномастное тряпье из придорожных лавок, которые они ограбили во время марша по северной части провинции, совершенного ими весьма торопливо, ибо Педро Монтеро спешил поскорее захватить Сулако. На голых шеях всадников были небрежно повязаны ослепительно чистые носовые платки, а правый рукав у каждого отрезан выше локтя, чтобы удобнее было бросать лассо. Смуглые, худые юноши и изможденные старики ехали бок о бок, измученные тяготами походной жизни; вокруг тульи шляпы у каждого из них было уложено нарезанное длинными полосами сырое мясо, к босым пяткам прикреплены огромные шпоры. Те, кто потеряли пики во время перехода через горы, заменили их стрекалами, какие употребляют пастухи на Кампо: тонкий ствол пальмы длиною футов десять с железным наконечником и множеством дребезжащих колец. Кроме того, всадники были вооружены ножами и револьверами.
Почерневшие от солнца лица солдат выражали дикарское бесстрашие; воспаленные глаза то окидывали высокомерным взглядом толпу, то обращались вверх и, нагло подмигивая, указывали на какую-нибудь женскую головку. Когда солдаты выехали на Пласу и их взорам предстала ослепительно белая, освещенная ярким солнцем конная статуя короля, которая высилась над морем голов, огромная и неподвижная, приветственно простирая над толпою руку, изумленный ропот пробежал по их рядам. «Кто этот святой в большущей шляпе?» — спрашивали они друг друга.
Таковы были кавалеристы, во главе коих Педро Монтеро столь удачно споспешествовал победоносной карьере своего брата, генерала. Влияние, которое этот человек, сам выросший в портовых городах, так быстро приобрел среди обитателей равнин, льянеро, мы можем приписать только тому, что он являлся истинным гением предательства — свойство, расцениваемое этими полудикарями как вершина добродетели и мудрости.
Из мифологии всех существующих и когда-либо существовавших народов явствует: двоедушие и коварство наряду с физической силой представляются людям, стоящим на низкой ступени развития, достоинствами более высокими, чем даже храбрость. Победа над соперником — для них великий подвиг. Храбрость — полагали наши предки — свойство, которым в той или иной степени наделены все. Но любое проявление интеллекта они воспринимали с почтительным благоговением. Военные хитрости, если они приносят успех, внушали им уважение; те, кто сумели перебить бездну народу, напав на неприятеля врасплох, не вызывали иных чувств, кроме восторга, уважения и восхищения. И, возможно, дело не в том, что первобытные люди были более вероломны по натуре, чем их потомки, просто они прямее шли к цели и более прямодушно признавали успех единственным мерилом моральных ценностей.
С тех пор мы изменились. Проявления интеллекта теперь мало кого удивляют и вызывают гораздо меньше почтения. Но невежественные и дикие жители равнины, волею судеб приняв участие в гражданской войне, с большой охотой подчинялись вождю, которому столь неизменно удавалось одолеть неприятеля. Педро Монтеро был наделен талантом усыплять бдительность противника. И поскольку люди весьма медленно усваивают уроки жизни и всегда готовы поверить обещаниям, сулящим осуществление их тайных надежд, Педро Монтеро нередко добивался успеха.
Он был то ли лакеем, то ли мелким чиновником костагуанского посольства в Париже, когда, узнав, что его братец покинул пределы своей безвестной пограничной командасии[113], поспешил вернуться на родину. Воспользовавшись уменьем внушать доверие, он обвел вокруг пальца видных столичных рибьеристов, и раскусить его полностью не удалось даже такому проницательному человеку, как агент рудников Сан Томе. Брат сразу оказался под его влиянием. Наружностью оба Монтеро были очень схожи, оба лысые, с порослью мелких кудряшек над ушами — свидетельство наличия негритянской крови. Только Педро был помельче, чем его брат генерал, да и вообще выглядел более утонченным, ибо мог, как шимпанзе, имитировать чисто внешние проявления светской обходительности и с легкостью попугая усваивал иностранные языки. Оба брата получили какие-то начатки образования благодаря щедротам знаменитого европейского путешественника, у которого их отец служил телохранителем, когда тот изучал и обследовал центральные районы страны.
Генералу Монтеро это помогло выбиться из нижних чинов. Педрито, младшенький, неисправимый лентяй и неряха, бесцельно кочевал из одного прибрежного порта в другой и в каждом наведывался в конторы по найму прислуги, а затем, поступив в услужение к приезжему иностранцу, зарабатывал себе на пропитание этим необременительным, но малопочтенным трудом. Из умения читать он не извлек ничего, кроме самых нелепых фантазий. Побуждения, которыми он руководствовался в своих поступках, всегда бывали настолько дики и абсурдны, что нормальные люди о них даже не догадывались.
Так агент концессии Гулда при первой же встрече с Педрито счел его человеком здравомыслящим и надеялся при его помощи обуздать неуемное тщеславие генерала. И ему не пришло тогда в голову, что Педрито Монтеро, лакей или писец, квартирующий в мансардах различных парижских гостиниц, где размещало свой дипломатический корпус посольство Костагуаны, жадно поглощал легкие исторические романы, такие, например, как сочинения Эмбера де Сент-Амана о Второй Империи. А между тем под воздействием этих романов в воображении Педрито сложился образ блистательного, пышного двора, при котором он, Педрито, подобно герцогу де Морни, будет предаваться всяческим наслаждениям и в то же время заправлять политикой, всеми мыслимыми способами осуществляя свою безграничную власть. Кто мог бы это предположить? И все же именно в этом таилась одна из многочисленных причин монтеристского мятежа. Возможно, это будет выглядеть менее фантастично, если по здравом размышлении прибавить, что главные его причины коренились в политической незрелости народа, в праздности высших классов и отсталости низших.
Возвышение старшего брата, полагал Педрито, и перед ним открывает путь к осуществлению самых необузданных его мечтаний. Именно это обстоятельство и привело к тому, что правительство не сумело подавить путч монтеристов. Самого генерала, возможно, и удалось бы подкупить, задобрить милостями, удалить с какой-нибудь дипломатической миссией в Европу. Но Монтеро-старшего с первого до последнего дня подстрекал его брат. Педрито намеревался стать самым влиятельным государственным деятелем Южной Америки. Верховной власти он не жаждал. По правде говоря, он опасался связанных с ней трудов и риска. Педрито Монтеро прежде всего хотел обзавестись солидным состоянием.
Вдохновляемый этой мечтою, он уже в день победоносной битвы выудил у брата разрешение пересечь с войсками горы и овладеть Сулако. Перед Сулако открывалось большое будущее, процветание, промышленный прогресс; провинция Сулако, единственная во всей республике, привлекала к себе внимание европейского капитала. Педрито Монтеро, по примеру герцога де Морни, жаждал быть осыпанным плодами этого прогресса. А точнее говоря, уже сейчас, когда брат его сделался хозяином Костагуаны, он в качестве президента ли, диктатора, а может быть, и императора — в самом деле, почему бы ему не стать императором? — потребует своей доли во всех предприятиях: железных дорогах, рудниках, сахарных плантациях, бумагопрядильнях, земельных компаниях, то есть буквально во всем, в виде награды за его бесценную помощь. Боязнь опоздать и послужила истинной причиной знаменитого похода через горы с двумя сотнями льянеро, и нетерпение помешало ему вначале увидеть ясно, сколько опасностей таит в себе эта затея.
Ему казалось, что после стольких побед любой Монтеро, стоит лишь ему появиться, становится хозяином положения. Эта иллюзия побудила его к торопливости, — как он начал понимать теперь, — излишней. Еще во время похода он пожалел, что захватил с собой так мало льянеро. Жители Сулако встретили его с восторгом, и это успокоило его. Они кричали: «Viva Montero! Viva Pedrito!» Желая еще больше подогреть их энтузиазм, а также из врожденной склонности к лицедейству, он уронил на шею лошади поводья и жестом, полным нежного дружелюбия, подхватил под руки сеньоров Фуэнтеса и Гамачо. В этой позе он торжественно проехал через Пласу к дверям ратуши, а поводья нес, шествуя рядом с лошадью, какой-то местный оборванец. Приветственные клики были так громогласны, что заглушили звон соборных колоколов, и казалось даже, что от них дрожат сумрачные стены ратуши.
Педро Монтеро, брат знаменитого генерала, спешился, окруженный со всех сторон восторженными, горластыми и потными ротозеями, которых свирепо отталкивали от него национальные гвардейцы в дырявых мундирах. Он поднялся на несколько ступенек, и его взору предстала глазеющая на него огромная толпа, а также испещренные пулями стены домов, расположенных по другую сторону Пласы. Сквозь легкую дымку пронизанного солнцем марева он разглядел громадные черные буквы, между которыми зияли выбитые стекла окон; «НАШЕ БУДУЩЕЕ» было начертано на стене, и Педрито с наслаждением подумал, что близится час мести, ведь он не сомневался: теперь Декуд от него не уйдет. С левой стороны от него верзила Гамачо тщетно пытался обтереть потное волосатое лицо и улыбался глуповатой блаженной улыбкой, выставляя напоказ большие желтые клыки. Справа сухонький и невысокий сеньор Фуэнтес, поджав губы, глядел на толпу. Толпа же замерла, разинув рот, не в переносном, а в буквальном смысле слова, нетерпеливо ожидая, что великий партизан, прославленный Педрито, тут же станет осыпать ее какими-нибудь осязаемыми благами. Он же начал произносить речь.
Он начал ее с того, что громко выкрикнул: «Граждане!» — и это слово услыхали даже люди, которые стояли в центре площади. Что касается продолжения этой речи, оно пленило слушателей не столько тем, что произносил оратор, сколько тем, что он делал — становился на цыпочки, сжимал кулаки и потрясал ими над головой, закатывал глаза, презрительно от кого-то отмахивался, указывал на кого-то пальцем, кого-то заключал в объятия; вот он дружески похлопал Гамачо по плечу, а далее последовал почтительный жест в сторону фигурки в черном сюртуке — сеньора Фуэнтеса, адвоката и политика, истинного друга народа. Стоящие рядом с оратором время от времени выкрикивали: «Viva!» — и эти крики, подхваченные передними рядами, пробегали по площади, словно пламя по сухой траве. А в промежутках над заполненной толпою Пласой нависала тяжелая тишина, и было видно только, как оратор открывает и захлопывает рот, а отдельные фразы: «Счастье народа», «Сыны родины», «Весь мир, el mundo entiero» долетали даже до ступенек собора — звенящий, еле слышный шум, напоминающий писк москита.
Оратор принялся ударять себя в грудь и чуть ли не подпрыгивал на месте. Речь подходила к концу, и он вкладывал в нее еще больший пыл. Затем две невысокие фигурки скрылись, и на ступеньках ратуши остался только гигант Гамачо, который выступил вперед, снял шляпу и помахал ею над головой. После чего он горделивым жестом вновь нахлобучил шляпу и гаркнул: «Ciudadanos!»[114] Глухой рокот приветствий ответил сеньору Гамачо, экс-разносчику с Кампо, командующему Национальной Гвардией.
А тем временем Педрито Монтеро на верхнем этаже ратуши торопливо обходил комнаты, находившиеся в самом плачевном состоянии, и выкрикивал:
— Все переломано! Какие идиоты!
Молчаливый сеньор Фуэнтес, который шел за ним следом, угрюмо проворчал:
— Это работа гвардейцев Гамачо, — и, склонив голову к левому плечу, сжал губы так плотно, что в уголках рта образовались впадинки. Он был назначен политическим лидером города, и ему не терпелось приступить к исполнению своих обязанностей.
Оба эти сеньора неожиданно оказались tête-à-tête в длинной темноватой приемной, где на стенах висели огромные разбитые зеркала, где драпировки были изодраны, а от занавеса над трибуной в дальнем конце комнаты остались лишь клочки; с площади сквозь запертые ставни доносился многоголосый рокот и вопли Гамачо.
— С-скотина! — процедил сквозь зубы его превосходительство дон Педро. — Надо как можно скорей отправить его отсюда вместе с гвардейцами на усмирение Эрнандеса.
Новоиспеченный «шеф politico» лишь склонил голову набок и затянулся сигаретой, выражая таким образом согласие именно этим способом избавить город от Гамачо и его бандитов.
Педрито Монтеро с омерзением смотрел на пол, где не осталось ковров, на позолоченные рамы, из которых, как грязные тряпки, свисали изорванные и изрубленные саблями картины.
— Мы не варвары, — сказал он.
Вот что произнес его превосходительство, знаменитый Педрито, партизан, прославленный своим умением устраивать засады и по его собственной просьбе посланный старшим братом в Сулако для установления демократических принципов. Накануне вечером, беседуя со своими сподвижниками по партизанской войне, прибывшими встретить его в Ринконе, он открыл свои намерения сеньору Фуэнтесу:
— Мы устроим всенародное голосование по принципу «да» или «нет» и вверим судьбу нашей любимой родины моему брату, герою, непобедимому генералу. Плебисцит. Вам понятно?
Сеньор Фуэнтес втянул смуглые щеки, слегка склонил голову к левому плечу и выпустил из сжатых губ голубоватый дымок. Ему все было понятно.
Учиненный в ратуше разгром рассердил его превосходительство. В комнатах ничего не осталось — ни стола, ни стула, ни дивана, ни этажерки, ни даже консолей. Его превосходительство трясся от гнева, но вынужден был сдерживаться, поскольку его могущественный брат был сейчас весьма далеко. Но тем не менее как же ему отдохнуть? Он полагал, что его ожидает роскошь и комфорт после целого года бивачной жизни, закончившегося к тому же изнурительным и опасным походом на Сулако, столицу провинции, значительностью и богатством превосходящей все остальные провинции, взятые вместе. С Гамачо он еще успеет расквитаться.
Тем временем сеньор Гамачо продолжал завывать, услаждая слух столпившихся на раскаленной площади бездельников, словно демон мелкого ранга, забравшийся в жаркую печь. Он поминутно вытирал рукой лицо: сюртук он давно сбросил, рукава рубахи закатал выше локтей, но оставил на голове большую треуголку с белым плюмажем. Простодушного Гамачо чрезвычайно радовал этот знак отличия, положенный ему как командующему Национальной Гвардией. Одобрительный и грозный ропот заполнял каждую паузу его речи.
По его мнению, следовало немедленно объявить войну Франции, Англии, Германии и Соединенным Штатам, поскольку все они, имея целью ограбить местных бедняков, насаждают в их стране рудники, железные дороги, колонизацию, — удобный повод, чтобы впоследствии, при помощи этих вандалов и паралитиков — аристократов, превратить народ Костагуаны в обездоленных, замученных тяжким трудом рабов. Темные личности, шныряющие в толпе, завопили при этих словах во всю глотку. Генерал Монтеро, продолжал Гамачо, — единственный, кто способен выполнить задачу, которую поставила перед ними страна. Толпа согласилась и с этим.
Утренняя прохлада сменялась жарой; толпа начала рассыпаться, в ней образовались водовороты и течения. Часть слушателей потянулась в тень, которая падала от домов и могучих тополей Аламеды. Оставшиеся на площади сдвинули на лоб сомбреро, чтобы заслониться от палящего солнца; и вот тут-то появились всадники; с громкими криками они расчленили на части толпу и погнали в боковые улицы, где кабачки гостеприимно распахнули свои двери и манили истомившихся национальных гвардейцев прохладным полумраком и нежным перезвоном гитар. Гвардия мечтала о сиесте, а красноречие ее вождя, Гамачо, иссякло. К концу дня, когда спала жара и национальные гвардейцы попытались вновь собраться для обсуждения государственных дел, кавалерийские отряды Монтеро, расположившиеся лагерем на Аламеде, без всякого предупреждения налетели на них с пиками наперевес и очистили площадь. Национальная Гвардия Сулако была удивлена этой процедурой. Но не возмущена. У костагуанцев никогда не вызывают возражений причуды вооруженных сил. Их приемлют как должное. И на сей раз толпа пришла к выводу, что это несомненно какая-то административная мера. Но для чего эта мера применена, они не сумели разобрать без посторонней помощи, а их вождь и оратор, командующий Гвардией Гамачо, был пьян и спал в лоне семьи. Его босые ступни торчали, как у трупа. Красноречивые уста разомкнулись — оратор почивал, разинув рот. Его младшая дочь одной рукой почесывала себе голову, а в другой держала зеленую ветку и обмахивала его облупившееся от солнца лицо.
ГЛАВА 6
Солнце клонилось к закату, и тени домов передвинулись с запада на восток. Тени сместились на всем протяжении Кампо, их отбрасывали белые стены гасиенд на зеленых холмах, и притулившиеся в ложбинках у ручьев крытые травою домишки ранчеро, и темные купы деревьев среди светлого моря травы, и отвесные скалы Кордильер, огромные и неподвижные, выступающие из лесистых предгорий как пустынный берег страны великанов. Освещенные лучами закатного солнца снега Игуэроты розовели нежным румянцем, а зубчатые вершины вдали оставались черными, как обгорелые головешки. Волнистую поросль лесов припорошила золотая пыль; а отделенный от города двумя зелеными отрогами каменистый провал Сан Томе был окрашен в теплые желто-коричневые тона с ржавыми прожилками, кое-где среди камней пробилась зелень — в расщелинах курчавился кустарник, и гигантские папоротники окаймляли отвесный склон горы. Если смотреть с равнины, надшахтные постройки и хижины шахтеров казались темными и маленькими — словно птичьи гнезда теснились они на уступах скалы. Гора напоминала крепость, где живут циклопы. По ее склону зигзагами сбегали будто нацарапанные на камне тропки. Двум часовым, что расхаживали с карабинами в руках в тени около мостика через ручей, дон Пепе, только что начавший спускаться с верхнего уступа, казался издали никак не больше крупного жука.
И в самом деле это выглядело так, будто он снует, как жук, взад и вперед по склону, в действительности же дон Пепе упорно двигался вниз и наконец исчез за крышами толпившихся на дне ущелья складов, кузниц и мастерских. Часовые продолжали расхаживать перед мостиком, на котором терпеливо дожидался задержанный ими всадник с большим белым конвертом в руке. Затем на улице поселка появился решительными шагами направляющийся к ним дон Пепе, в темных широких штанах, заправленных в сапоги, в белой полотняной куртке, с револьвером у пояса и саблей на боку. В это смутное время сеньор гобернадор всегда был начеку — как говорит пословица: «разутым не застать».
Один из часовых слегка кивнул, а верховой — гонец из города — спешился и, держа лошадь в поводу, сошел с мостика.
Дон Пепе взял у него письмо и похлопал себя по карманам, нащупывая очки. Обретя наконец этот оптический прибор в массивной серебряной оправе, он нацепил его на нос, тщательно заправил за уши дужки и вскрыл конверт, держа его на расстоянии примерно фута от глаз. На извлеченном из конверта листке было всего три строчки. Он долго их разглядывал. Усы его шевелились, морщинки в уголках глаз стали глубже. Потом с невозмутимым видом он кивнул: «Bueno!»[115] — и добавил: «Ответа не будет».
Затем спокойно и доброжелательно, как всегда, он заговорил с гонцом, который был весьма словоохотлив и полон радостного возбуждения. Он, оказывается, видел издали расположившуюся лагерем на берегу по обе стороны от таможни пехоту Сотильо. Солдаты не разрушили ни одного дома. Иностранцы с железной дороги не выходят из депо. Солдаты Сотильо не стреляют больше в бедняков. Он стал ругать иностранцев; потом рассказал о том, как вошел в город Монтеро и о чем нынче толкует народ. Все бедные теперь разбогатеют. И это очень хорошо. На этом сведения его иссякли, и, умильно улыбаясь, он намекнул, что голоден и хочет пить. Старик майор отправил его к алькальду Первого поселка. Когда всадник двинулся туда, дон Пепе неторопливо зашагал к небольшой деревянной часовне и, приблизившись к дому священника, заглянул через живую изгородь в крошечный садик, где увидел падре Романа в белом гамаке, подвешенном между двумя апельсиновыми деревьями.
Сложенный из бревен домишко священника приютился в тени огромного развесистого тамаринда. Молоденькая индианка с длинными волосами, большими глазами и маленькими руками и ногами вынесла из дома деревянный стул, а с веранды за ней наблюдала тощая сердитая старуха.
Дон Пепе сел на стул и закурил сигару; священник же втянул из горсти огромную понюшку табаку. На его осунувшемся и усталом, кирпично смуглом лице, словно два черных бриллианта, поблескивали живые, добрые глаза.
Благодушно, даже посмеиваясь, дон Пепе сообщил отцу Роману, что Педрито Монтеро через посредство сеньора Фуэнтеса прислал ему запрос о том, на каких условиях согласен он передать рудники в ведение комиссии, которая создана на законном основании из патриотически мыслящих граждан и вскоре прибудет в сопровождении вооруженного отряда. Священник возвел очи к небесам. «Впрочем, — продолжал дон Пепе, — парень, который привез письмо, говорит, что Гулд жив и его пока не трогают».
Священник выразил в нескольких кратких словах благодарность, услышав, что сеньор администрадо́р в безопасности.
Миновал час молитвы, о чем оповестил серебристый звон колоколов в часовне. Солнце близилось к горизонту, и на поселок наползала тень густого леса, который, словно ширма, отделял хижины шахтеров от расстилавшейся к западу от Сан Томе равнины. А с восточной стороны ущелья между стенами базальта и гранита круто поднимался освещенный от подножья до вершины лесистый склон, полностью заслонявший от обитателей поселка скалистые горные цепи. В безбрежной синеве недвижно стояли три маленьких розовых облачка. Между двумя рядами плетеных мазанок кучками сбился народ. Перед хижиной алькальда десятники ночной смены, уже собравшие своих людей, на корточках кружком сидели на земле и, наклоняя головы в кожаных шапочках, блестя обнаженными, смуглыми, как бронза, спинами, передавали друг другу тыквенную бутылку мате[116].
Верховой из Сулако привязал лошадь к столбу у двери и рассказывал городские новости, провожая взглядом закопченную черную бутыль, которая переходила из рук в руки. Сам суровый алькальд в белой набедренной повязке, распахнув на груди пестрое ситцевое одеяние с длинными рукавами, напоминающее купальный халат, и сдвинув на затылок кустарной выделки бобровую шапку, стоял тут же, сжимая в могучей руке палку с серебряным набалдашником. Эти знаки его достоинства были дарованы ему администрацией рудников Сан Томе, олицетворяющих собою почет, преуспеяние, мир. Он был одним из первых переселенцев, явившихся в долину; его сыновья и зятья работали в шахте, и всем им казалось, что драгоценная руда, с грохотом катившаяся по желобам, послана свыше, дабы вознаградить их труд благоденствием, справедливостью и чувством надежности.
Алькальд слушал городские новости как нечто любопытное, но не имеющее к нему касательства. У него для этого были основания. За несколько лет в сознании этих запуганных полудиких индейцев возникло убеждение, что они находятся под покровительством могущественной корпорации. Они гордились рудниками и были привязаны к ним. Здесь зародилось в этих людях ощущение уверенности, и здесь оно окрепло. Будучи невежественными и ничем существенно не отличаясь от остальной части человечества, как известно, склонной наделять сверхъестественной силой творения собственных рук, эти полудикари считали, что рудники Сан Томе всемогущи и способны защитить их от любых напастей. Алькальду даже в голову не приходило, что рудники могут утратить свою силу. Пусть себе горожане и жители Кампо занимаются политикой. Желтое, круглое, с широкими ноздрями, невозмутимое лицо алькальда напоминало полную луну. Возбужденный рассказ горожанина не вызывал в нем ни удивления, ни опасений — не вызывал, пожалуй, вообще никаких чувств.
Отец Роман сидел и уныло покачивался в гамаке, держась за его края и слегка отталкиваясь от земли ногами. Такой же невежественный, как его прихожане, но не обладавший их непоколебимой уверенностью, он уже расспросил старика майора, что, по его мнению, может произойти.
Дон Пепе, который восседал на стуле, прямой, как палка, степенно опираясь о рукоятку сабли, поставленной между колен, отвечал, что этого не знает. Рудники способны защищаться от любых военных сил, посланных, чтобы завладеть ими. Но, с другой стороны, надо помнить, что расположены они в безводной местности, и, если их отрежут от Кампо, откуда регулярно поступает продовольствие, население трех поселков начнет голодать и будет вынуждено покориться. Дон Пепе с безмятежным видом изложил все эти соображения отцу Роману, который, будучи старым воякой, мог оценить рассуждения военного человека.
Разговаривали они просто и прямо. Отца Романа печалило, что его паства рассеется по белу свету или окажется под пятой угнетателя. Он не питал по поводу их судьбы никаких иллюзий, и скептицизм его не являлся плодом раздумий, а был результатом многолетнего опыта, который говорил ему, что в жизни государства всегда властвует жестокая сила. Последствия деятельности любых общественных институтов отчетливо представлялись ему в виде череды всевозможных прискорбных событий, постигающих отдельную личность и рожденных ненавистью, мстительностью, невежеством и алчностью, словно само провидение обрекло на эти горести людей. Прозорливость отца Романа порождена была его природным умом; а душа его, сохранившая всю свою нежность среди грабежей, резни и насилия, содрогалась в ожидании грядущих бедствий тем сильней, чем ближе были ему жертвы этих бедствий. Он относился к индейцам, живущим в рудничных поселках, как к малым детям. Он женил их, крестил, исповедовал, отпускал грехи, хоронил с душевной полнотою и достоинством уже более пяти лет: он верил в святость отправляемых им обрядов и чувствовал себя ответственным за этих людей.
Сердцу пастыря они были особенно дороги. А искренний интерес к их делам, проявляемый миссис Гулд, побуждал священника относиться к ним еще внимательнее. Он оживленно обсуждал с ней, чем помочь бесчисленным Мариям и Бригидам из трех поселков, и, заражаясь ее горячностью, ощущал, как возрастает и его человеколюбие. Отец Роман был настолько чужд фанатизма, что это могло даже показаться предосудительным. Английская сеньора несомненно еретичка; в то же время она чудесная и замечательная, просто ангел. Разгуливая с требником под мышкой в тени тамаринда и внезапно ощутив, что на него в очередной раз нахлынули эти противоречивые чувства, он обычно останавливался, шумно втягивал в себя огромную понюшку табаку и глубокомысленно покачивал головой. Мысль о том, что может вскоре приключиться с этой достойнейшей сеньорой, его ужаснула. Он высказал свои опасения вслух, и тут даже дон Пепе на мгновение утратил безмятежность и взволнованно наклонился вперед:
— Вот что я скажу вам, падре. Уже хотя бы потому, что эти жулики из Сулако пытаются выяснить, за какую цену продается моя честь, можно заключить, что сеньор дон Карлос и все, кто живет в Каса Гулд, живы и находятся в безопасности. За мою честь можно тоже не опасаться, о чем вам может сообщить любой, кого ни спросите, будь то мужчина, женщина или ребенок. Этого не знают только так называемые либералы, которые застали нас сейчас врасплох и захватили город. Bueno. Пусть их посидят и подождут. Пока ждут, хотя бы вреда не сделают.
К нему снова вернулось спокойствие. Оно вернулось к нему с легкостью, поскольку не подвергалась опасности его честь, честь старого офицера, сражавшегося под знаменами Паэса. Он обещал Чарлзу Гулду, что, если к Сан Томе приблизятся войска, он будет оборонять ущелье до тех пор, пока не успеет основательно разрушить шахту, все помещения и мастерские, повсюду заложив огромные заряды динамита; засыплет обломками главную штольню, сломает все мостки, приведет в негодность плотину, на которой установлен двигатель, одним словом, разнесет вдребезги знаменитую концессию Гулда так, что весь мир ужаснется. Чарлз Гулд решился на этот отчаянный шаг потому, что рудники им завладели всецело, точно так же, как когда-то его отцом. Впрочем, дону Пепе его решимость представлялась вполне естественной. И он серьезно принялся за дело. Все было подготовлено самым тщательным образом. А теперь дон Пепе мирно сложил руки на рукоятке сабли и кивал священнику головой. Взволнованный падре Роман горстями подносил к лицу табак; весь обсыпанный табачными крошками, он выпрыгнул из гамака и расхаживал взад и вперед, что-то приговаривая.
Дон Пепе поглаживал свои седые усы, заостренные кончики которых свисали много ниже подбородка, и рассуждал с достоинством человека, гордящегося своим добрым именем.
— Итак, падре, я не знаю, что случится. Но я знаю, что, пока я здесь, дон Карлос может вести переговоры с этой макакой Педрито, грозить ему разрушить шахту и твердо быть уверенным: к его угрозам отнесутся серьезно. Ведь меня все знают.
Он стал покусывать сигару — несколько нервозно — и продолжал:
— Но все это только разговоры… годные для políticos[117]. А я военный человек. Мало ли что может произойти. Зато я знаю, что нужно сделать: поднять все рудники и повести людей походом на город — с ружьями, с топорами, с ножами, привязанными к палкам… por Dios. Вот что нужно сделать. Но…
Его сложенные на рукоятке сабли руки дрогнули. Зажатая в зубах сигара задвигалась быстрей.
— Кто их поведет, если не я? К сожалению… да, к сожалению, заметьте, я дал дону Карлосу слово, что рудники ни в коем случае не попадут в руки к этому жулью. А на войне — и вам это известно, падре, — исход битвы никогда нельзя предугадать, и кого мне здесь вместо себя оставить на тот случай, если мы потерпим поражение? Я все подготовил, рудники можно взрывать. Но для этого понадобится человек благородный и честный, разумный, осмотрительный, мужественный — только такой сумеет довести все до конца. Человек, которому я смело мог бы доверять, как доверяю самому себе. Например, такой же, как и я, старый офицер, служивший у Паэса. Или… м-м… ну, скажем, мог бы подойти капеллан, служивший у Паэса.
Он встал, высокий, сухощавый, с большими офицерскими усами на худом лице, и взгляд его запавших глаз, казалось, вонзался в священника, который замер с перевернутой пустой табакеркой в руке и в ответ лишь безмолвно взирал на дона Пепе.
ГЛАВА 7
Примерно в это время в ратуше Сулако Чарлз Гулд, которого вызвал Педрито Монтеро, уверял последнего, что ни в коем случае не передаст рудники правительству, поскольку оно в свое время отняло их у него посредством грабежа. Возродить заново концессию Гулда было практически невозможно. Отец его этого не хотел. А сын не собирается ее отдавать. Во всяком случае, живым он ее не отдаст. Если же он будет мертв, где та сила, которая способна оживить такое предприятие во всем могуществе, восстановить из пепла и руин? Такой силы в стране нет. И найдется ли у них искусный и умелый управитель и владелец капиталов за границей, который захотел бы вдохнуть жизнь в этот неблагодарный труд? Чарлз Гулд говорил бесстрастным тоном, уже много лет помогавшим ему скрывать презрение и гнев. Он мучился. Он был сам себе отвратителен. Вести такие разговоры мог только романтический герой. Его суровый практицизм вступил в разлад с почти мистическим отношением к долгу.
Концессия Гулда — символ абстрактной справедливости. Но благодаря всемирной славе рудников его угроза приобрела весомость, вполне достаточную для того, чтобы ее смог оценить даже недоразвитый интеллект Педро Монтеро, взращенный главным образом на легковесных исторических анекдотах. Концессия Гулда играет серьезную роль в бюджете государства и, что еще важней, в личных бюджетах многих чиновников. Концессия Гулда традиционна. О ней все знают. О ней все говорят. Она надежна. Все министры внутренних дел получают жалованье из доходов рудников Сан Томе. Это естественно. А Педрито собирался стать министром внутренних дел и президентом Государственного совета в правительстве своего брата. В эпоху Второй Французской Империи дюк де Морни занимал эти высокие посты с немалой выгодой для себя.
Его превосходительству Педрито были доставлены стол, стул и деревянная кровать, и он, немного отдохнув, — а это было абсолютно необходимо после торжественного прибытия в Сулако, отнявшего у него так много сил, — приступил к управлению провинцией, то есть начал распределять должности, отдавать приказы и подписывать воззвания. Оставшись с глазу на глаз с Чарлзом Гулдом в приемной, его превосходительство со свойственным ему искусством сумел скрыть свое раздражение и страх. Поначалу он высокомерно заговорил о конфискации, однако полное отсутствие ожидаемых эмоций на лице сеньора администрадо́ра неблагоприятным образом сказалось на самообладании его превосходительства.
Чарлз только повторял: «Правительство, если ему угодно, разумеется, может добиться уничтожения рудников; однако без моей помощи ничего другого оно добиться не сможет». Заявление, способное внушить тревогу и уязвить в самое сердце политического деятеля, более всего мечтающего о трофеях. А кроме того, Чарлз сказал, что разрушение рудников Сан Томе повлечет за собою гибель других предприятий, изъятие европейского капитала и, вероятно, прекращение выплат, получаемых страной по займу. Этот изверг — камень, а не человек! — сообщил все эти новости (вполне доступные пониманию его превосходительства) так хладнокровно, что того бросило в дрожь.
Чтение великого множества исторических романов, пустых и легковесных, которые Педрито поглощал в мансардах парижских гостиниц, лежа на неприбранной кровати и в ущерб своим прямым обязанностям — лакейским либо каким-то еще, оставило свой след в его сознании. Если бы ратуша сохранила свое былое великолепие и на окнах и дверях висели бы роскошные портьеры, а вдоль стен стояла позолоченная мебель; если бы он сидел сейчас на возвышении, а его ноги попирали бы красный пушистый ковер, ощущение собственного величия и удачливости, возможно, сделало бы его опасным. Но в этом разграбленном здании, где посреди огромного зала стояло его убогое ложе, им овладело чувство неуверенности и неустойчивости, которое помешало разыграться его воображению. Это чувство, а также твердость Чарлза, который так ни разу и не произнес слова «превосходительство», унизили Педрито в собственных глазах. Он принял тон просвещенного светского человека и стал заклинать Чарлза ни в коем случае не беспокоиться. Ведь он беседует сейчас, — напомнил ему Педрито, — с родным братом хозяина этой страны, человека, которому доверено ее преобразование. С братом хозяина этой страны, — повторил он, — с его единомышленником. Монтеро-старший, великий герой, мудрый и любящий родину, не допускает даже мысли о каких-либо разрушениях.
— Я умоляю вас, дон Карлос, не поддаваться вашим антидемократическим предрассудкам, — восклицал он патетически.
Педро Монтеро с первого взгляда производил сильное впечатление огромным лбом, переходящим в лысину, окаймленную тусклыми угольно-черными кудряшками, изящными очертаниями рта и неожиданным для собеседника хорошо поставленным голосом. Но его глаза, очень блестящие и словно только что нарисованные по обе стороны крючковатого носа, были круглыми, как у птицы, и таращил их Педрито растерянно, тоже по-птичьи. Правда, сейчас он их сощурил, задрал квадратный подбородок кверху, а разговаривал сквозь сжатые зубы и немного в нос, точь-в-точь так, как, по его мнению, полагалось большому барину.
И вот тут-то он неожиданно заявил, что высшим проявлением демократии является автократия: государственная власть, основанная на прямом, всенародном голосовании. Автократия консервативна. Она сильна. Она признает законные нужды демократии, требующей титулов, орденов и знаков отличия. Люди заслуженные будут щедро награждены. Автократия — это мир. Она прогрессивна. Она обеспечит благосостояние страны. Педрито Монтеро несло и несло. Вспомните, что сделала для Франции Вторая Империя.
Люди такого склада, как дон Карлос, были осыпаны почестями при этом режиме. Вторая Империя пала, но это случилось потому, что глава ее не обладал военными талантами, в отличие от генерала Монтеро, чей стратегический гений вознес его на вершину славы. Педрито вздернул руку вверх, показывая, где пребывают слава и вершина. «Мы будем разговаривать еще не раз. Мы с вами полностью поймем друг друга, дон Карлос!» Республиканцы сделали свое дело. Будущее за государственной демократией. Педрито многозначительно понизил голос. Человек, которого сограждане наделили почетным прозвищем «король Сулако», непременно будет в полной мере оценен государственной демократией как великий руководитель промышленности, как персона, к слову которой все прислушиваются, и кличку, данную народом, вскоре заменит более солидный титул. «А, дон Карлос? Что вы скажете на это? Граф Сулако… э?.. или маркиз?»
Он замолчал. По Пласе, где уже веяло прохладой, разъезжал кавалерийский патруль, совершая круг за кругом и не отклоняясь в улицы, оглашаемые криками и звоном гитар, которые доносились из раскрытых дверей кабачков. Был отдан приказ не мешать народу развлекаться. Над крышами домов, над вертикальными линиями соборных башен белела снежная глава Игуэроты на темном фоне вечереющего неба. После паузы Педрито Монтеро сунул руку за борт пиджака и с достоинством склонил голову. Аудиенция окончилась.
Чарлз, выйдя из приемной, потирал ладонью лоб, словно стараясь разогнать остатки тяжелого сна, чудовищная нелепость которого гнетет сильней, чем ощущение физической опасности. По коридорам и лестницам старинного дворца слонялись солдаты Монтеро, смотрели нагло, курили и никому не уступали дороги; по всей ратуше разносился звон сабель и шпор. В главном коридоре в молчаливом ожидании стояли три группы одетых в строгие черные костюмы штатских, имеющих торжественный, беспомощный и немного растерянный вид, причем каждая группа держалась в стороне от двух других, будто стремилась исполнить свой гражданский долг так, чтобы этого никто на свете не заметил. Это были депутации, дожидавшиеся аудиенции.
В толпе депутатов Генеральной Ассамблеи, члены которой переговаривались между собой более возбужденно и беспокойно, чем прочие, приковывало к себе внимание лицо дона Хусте Лопеса, белое и мягкое, щекастое, с набрякшими веками и непроницаемо мрачное, как грозовая туча. Президент Генеральной Ассамблеи, мужественно явившийся сюда спасать последние крохи парламентских институтов (на английский образец), отвел взгляд от управляющего рудниками Сан Томе, таким образом с молчаливым достоинством выразив, что укоряет его за недостаток доверия к спасительному воздействию этих институтов.
Упрек не нарушил душевного спокойствия Чарлза; но ему было больно видеть, как остальные без всякого упрека устремили взгляды на его лицо, словно стремясь прочесть на нем свою судьбу. В свое время они разглагольствовали, кричали, произносили цветистые монологи в большой гостиной Каса Гулд. Он ничем не выразил сочувствия этим людям, так низко павшим, так много суетившимся и таким беспомощным сейчас. Его мучило сознание, что и он творил зло вместе с ними. Он шел по площади, его никто не останавливал. Клуб «Амарилья» был полон развеселых оборванцев. Их нечесаные головы высовывались из каждого окна, а из комнат доносились пьяные выкрики, топот ног и пение струн. Внизу вся улица была усыпана разбитыми бутылками. Когда Чарлз добрался до дому, он обнаружил, что доктор еще не ушел.
Доктор Монигэм отошел от окна, откуда он смотрел на улицу сквозь щелку в шторах.
— А! Вернулись наконец, — сказал он с облегчением. — Я тут всячески убеждал миссис Гулд, что вы в полной безопасности, но отнюдь не был уверен, что этот малый выпустит вас.
— Я тоже, — признался Чарлз, кладя на стол шляпу.
— Вам пришлось бы тогда принять решительные меры.
Чарлз не стал возражать. Ему и в самом деле ничего другого не оставалось бы, и своим молчанием он это подтвердил. Он не привык высказывать свои намерения более открыто.
— Надеюсь, вы ничего не говорили Монтеро о том, что собираетесь делать? — тревожно спросил доктор.
— Я попытался растолковать ему, что существование рудников и моя личная безопасность тесно связаны между собой, — ответил Чарлз, не глядя на доктора, а устремив внимательный взгляд на висящую на стене акварель.
— Он вам поверил? — поинтересовался доктор.
— Бог его знает, — отозвался Чарлз. — Если бы не жена, я не сказал бы и этого. Он достаточно осведомлен. Он знает, что представляет собой дон Пепе. Фуэнтес не мог ему не рассказать. Они знают, что старый майор, не задумываясь, взорвет рудники без всяких сожалений и укоров совести. Если бы они этого не знали, меня не выпустили бы сейчас из ратуши. Дон Пепе вдребезги разнесет рудники, во-первых, потому, что он мне предан, а во-вторых, он их ненавидит… этих «либералов», как они себя называют. Либералы! В этой стране самые обычные слова приобретают кошмарный смысл. Свобода, демократия, патриотизм, правительство… в каждом из них отзвук безумия и убийства. Верно, доктор?.. Никто, кроме меня, не сумеет удержать дона Пепе. Если они со мной… расправятся, его никто не остановит.
— Вероятно, они попытаются его обработать, — задумчиво предположил доктор.
— Весьма возможно. — Чарлз говорил очень тихо, словно рассуждая сам с собой, и по-прежнему рассматривал эскиз с изображением ущелья Сан Томе. — Да, я думаю, попытаются. — Он наконец оторвал взгляд от картины и посмотрел на доктора. — Это даст мне лишнее время, — добавил он.
— Вот именно, — подхватил доктор Монигэм, стараясь подавить свое волнение. — В особенности, если дон Пепе проявит дипломатичность. Скажем, подал бы им хотя бы некоторую надежду на успех. Что вы скажете? Иначе он не выиграет много времени. Нельзя ли, например, дать ему инструкции…
Чарлз, пристально глядя на доктора, покачал головой, но доктор даже с некоторой горячностью продолжал его убеждать:
— Да, да, хорошо бы ему приказать не отказываться наотрез, а вступить с ними в переговоры. Недурная мысль. Вы тем временем как следует обдумаете свой план. Я, разумеется, не спрашиваю, в чем он заключается. Я не хочу этого знать. И не стану вас слушать, даже если бы вы вздумали рассказать мне о нем. Я не заслуживаю доверия.
— Какая чушь! — сердито буркнул Чарлз.
Повышенная чувствительность доктора к этому давно миновавшему эпизоду его жизни вызывала неодобрение Чарлза. Нельзя же помнить о нем столько лет. В этом есть что-то патологическое. Он опять покачал головой. Ему было бы неприятно давать такого рода поручения прямодушному дону Пепе. А кроме того, этого не позволяли обстоятельства. Инструкции надо через кого-то переслать. Либо в устном, либо в письменном виде. А их могут перехватить. Нет никакой уверенности, что посланный им человек доберется до рудников. Да и послать некого. У Чарлза чуть было не сорвалось с языка, что с некоторой надеждой на успех поручить это можно было только покойному капатасу каргадоров. С некоторой надеждой на успех и с некоторым доверием. Но он этого не сказал. Он сказал, что поступать так неблагоразумно. Если эти субъекты заподозрят, что дона Пепе можно подкупить, личная безопасность управляющего рудниками, а также личная безопасность его друзей окажутся под угрозой. Монтеристам тогда незачем будет себя сдерживать. Неподкупность дона Пепе их сейчас обуздывает, что весьма существенно. Доктор уныло опустил голову и вынужден был согласиться, что его собеседник в общем-то прав.
Чарлз рассуждал логично, он не мог этого отрицать. Дон Пепе служит им защитой именно благодаря тому, что у него незапятнанная репутация. «А сам я, — с горечью подумал доктор, — могу им послужить защитой, используя свою репутацию». И он сказал Чарлзу, что знает, как помешать Сотильо соединиться с Монтеро, во всяком случае в ближайшее время.
— Если бы серебро было здесь, — сказал доктор, — или хотя бы просто стало известно, что оно находится на рудниках, вы могли бы подкупить Сотильо, и он тотчас позабыл бы свой недавно приобретенный монтеризм. Он уплыл бы тогда на своем пароходе или, может быть, даже присоединился к вам.
— Вот уж чего не нужно, — решительно отказался Чарлз. — Как прикажете поступать с этим фруктом в дальнейшем? Серебра здесь нет, и я этому рад. Оно могло бы оказаться очень сильным искушением. Эти разбойники пошли бы на что угодно, если бы такое богатство маячило у них перед глазами, и кончилось бы все это прескверно. Мне ведь тоже пришлось бы его защищать. Я рад, что мы увезли серебро… даже если оно погибло. Иначе мы вступили бы в опасную игру.
— Он, возможно, прав, — говорил доктор миссис Гулд, которую часом позже встретил в галерее. — Дело сделано, а призрак сокровища вполне может сыграть такую же роль, как само серебро. Позвольте послужить вам в полной мере моей скверной репутации. Я затею с Сотильо игру в предательство и отведу его от вас.
Она с горячностью протянула к нему руки.
— Доктор Монигэм, вы подвергаете себя страшной опасности, — прошептала она, глядя на него со слезами, потом быстро оглянулась на дверь, ведущую в комнату мужа. Она сжала обе его руки, и доктор словно к полу прирос — лишь смотрел на нее, судорожно пытаясь улыбнуться.
— О, я знаю, вы оградите от клеветы добрую память обо мне, — проговорил он наконец и, ковыляя, опрометью бросился вниз по ступенькам, через внутренний дворик и прочь из дома. Он и на улице, держа под мышкой чемоданчик с инструментами, продолжал шагать столь же быстро. Все знали, что он loco[118]. Никто его не остановил. Он дошел до ворот, которые вели в сторону моря, увидел выжженную солнцем землю, чахлые кустики, пыль, сушь, а вдали — уродливую громаду таможни и еще два-три здания — так выглядел в те времена порт города Сулако. Где-то далеко вдали зеленели пальмовые рощи. Острые вершины Кордильер утратили свои отчетливые очертания и постепенно сливались с темнеющим небом. Доктор шел очень быстро. Внезапно на него упала густая тень. Солнце село. Снега Игуэроты еще мерцали некоторое время в темноте. Доктор стремительно шагал к таможне и был похож на прыгающую среди темных кустов высокую птицу со сломанным крылом.
В чистых водах гавани, как в зеркале, отражались золото и пурпур. Длинный клин Асуэры, отвесный, как стена, с поросшими травою руинами старого форта, скрывал от глаз остальную часть залива; но дальше, за пределами Гольфо Пласидо краски заката были еще великолепнее, так, что дух захватывало. Над заливом уже скапливались облака, их пронизывали красные отблески, и изогнутые черные и серые складки тумана были похожи на испачканный кровью, развевающийся плащ. На горизонте четко вырисовывались Изабеллы, словно три повисших в воздухе пурпурно-черных пятна. На берег набегали небольшие волны и, казалось, разбрасывали по песку красные искры. А там, где море сливалось с небом, высокие, большие волны сверкали, будто красное стекло, и чудилось: в огромной чаше океана вода перемешалась с огнем.
Но пламень, бушевавший в небе и на море, в конце концов погас. Исчезли и красные искры в воде, и кровавые пятна на черной мантии, окутавшей залив; внезапный порыв ветра прошелестел в кустах на обвалившихся земляных укреплениях форта и замер. Ностромо, проспавший прямо на земле четырнадцать часов подряд, пробудился, встал и выпрямился во весь рост. Он стоял по колено в высокой траве, которая волнами разбегалась во все стороны, и вид у него был такой, словно он только что родился на свет. Красивый, сильный, гибкий, он запрокинул голову, раскинул руки, неторопливо потянулся и зевнул, обнажив белоснежные зубы, в этот миг пробуждения так глубоко чуждый всякому притворству и злу, как дикий зверь, великолепный в своей естественности. Затем брови его нахмурились, устремленный в пространство взгляд стал сосредоточен — в нем проглянул человек.
ГЛАВА 8
Доплыв до берега, Ностромо взобрался на центральную площадку старого форта и там среди обломков стен и гнилых остатков изгородей и крыш лег в траву прямо в мокрой одежде и проспал весь день. Он мирно спал в своем укромном логове, буйно заросшем высокой травой, вклинившимся между овалом гавани и полукругом залива, спал, когда на него падала тень горного хребта, спал, когда его заливало ослепительным белым светом солнца. Лежал как мертвый. Гриф, казавшийся черной точкой в синеве, описывал круги с осторожностью, пугающей в такой огромной птице. Тень от его перламутрово-белого тела, светлых с черными концами крыльев пронеслась по траве так же бесшумно, как бесшумно он сел на кучку мусора в трех ярдах от человека, лежавшего неподвижно, как труп. Птица вытянула голую шею, повернула лысую голову, омерзительная в своем великолепном пестром наряде, и с жадным любопытством принялась смотреть на заманчиво неподвижное тело. Потом, упрятав голову в мягкие перья, стала ждать. Первое, что, проснувшись, увидел Ностромо, была птица, терпеливо выжидавшая, когда на его коже появятся признаки разложения. Когда он поднялся, птица отпрыгнула вбок, потом еще, еще, косыми длинными скачками. Подождала, угрюмо, неохотно, пока он не встал, затем бесшумно поплыла по воздуху, зловеще свесив когтистые лапы.
Она давно уже исчезла, когда Ностромо, подняв вверх глаза, буркнул: «Я еще не умер».
Капатас сулакских каргадоров жил, окруженный славой и известностью до тех пор, пока не принял на себя управление груженным серебряными слитками баркасом.
До отплытия из порта он оставался самим собой, и последний поступок, совершенный им в Сулако, находился в полном соответствии с тщеславием его натуры. Он отдал свой последний доллар старухе, которую встретил под аркой городских ворот, где она причитала, утомленная бесплодными поисками сына. И хотя при этом никто не присутствовал, тем не менее поступок был совершенно в его духе — великолепный жест, рассчитанный на публику. Совсем иначе он чувствовал себя сейчас, проснувшись в одиночестве среди развалин форта и встретив настороженный взгляд хищной птицы. Его первое ощущение было смутным, но он почувствовал именно это — все не так, как должно быть. Казалось, жизни наступил конец. И в то же время нужно было продолжать жить дальше, и как он ни пытался отогнать от себя эту мысль, она начала его мучить, едва лишь он пришел в сознание: ему казалось, что все прошедшие годы прожиты глупо и бессмысленно и похожи на приятный сон, которому, как и положено, пришел конец.
Он взобрался на полуразрушенный крепостной вал и, раздвинув ветки кустов, стал разглядывать гавань. Он увидел водную гладь, окрашенную последним отблеском заката, два стоящие на якоре судна и пришвартовавшийся к причалу пароход, на котором приехал Сотильо. За длинным светлым зданием таможни тянулся город, он напоминал густой темный лесок среди равнины — ворота на опушке, окруженные деревьями башни, застекленные балконы, купола, и все это окутано тьмою, словно уже наступила ночь. И при мысли о том, что он больше не сможет верхом проехать по улицам этого города, где его будут узнавать и старый и малый, как он ездил, бывало, каждый вечер сыграть в монте в таверне мексиканца Доминго; что не сидеть ему больше на почетном месте, слушая певцов и глядя на танцоров, город показался ему призрачным.
Долго-долго смотрел он туда, затем выпустил из рук ветки и, перейдя на другую сторону форта, окинул взглядом гладь залива. Красная ленточка заката становилась все уже, на ней чернели Изабеллы, и капатас подумал о Декуде, который бродит сейчас в одиночестве по острову и охраняет серебро. «Он один-единственный тревожится о том, схватят ли меня монтеристы, — с горечью подумал капатас. — Да и он ведь вспоминает обо мне главным образом лишь оттого, что боится за себя. Остальные просто ничего не знают и ни о чем не беспокоятся. Верно говорил ему когда-то Джорджо Виола. Короли, министры, аристократы и вообще все богачи угнетают народ и держат его в бедности; держат, как собак: хотят, чтобы народ за них дрался и для них охотился».
Темная пелена ночи окутала горизонт, поглотила залив, островки и возлюбленного Антонии, оберегающего сокровище на Большой Изабелле. Капатас повернулся спиной к горизонту, и к Изабеллам, и ко всему остальному, существующему, но невидимому, и уткнулся лицом в кулаки. Впервые в жизни он почувствовал себя нищим. Проиграться в монте в пух и прах в низкой и прокуренной таверне Доминго, где по вечерам вели картежную игру, пели и плясали каргадоры; вывернуть на глазах у восхищенных зрителей карманы и в порыве блистательного великодушия отдать все до гроша первой встречной девице, до которой ему нет дела, — во всем этом не ощущалось унизительного привкуса подлинной нищеты. Он был славен, знаменит, а значит, и богат. И лишь сейчас, когда его уже не будут радостными кликами приветствовать на улицах и курить ему в тавернах фимиам, этот матрос почувствовал, что он и в самом деле нищий.
У него пересохло во рту от тяжелого сна, тревожных мыслей. Еще ни разу в жизни у него не бывало так сухо во рту. Пожалуй, можно сказать, что Ностромо, так сильно жаждавший почестей и славы, с аппетитом вонзил зубы в вожделенный плод и ощутил вкус пепла и пыли. Не поднимая головы, он смачно сплюнул и выругался — такую злобу вызывало в нем бессердечие богачей.
И коль скоро он потерпел крах в Сулако (а он проснулся с ощущением, что дело обстоит именно так), у него возникло желание навсегда покинуть эту страну. И словно новый сон начинал ему сниться: ласковое море, крутые берега, темные сосны на холмах, ярко-синее небо и белые домики у горизонта. Он видел набережные больших портов, фелуки, которые, раскинув, словно крылышки, треугольные паруса, бесшумно скользят к берегу между двух длинных молов, а те, словно руки, прижимают гавань и стоящие на якоре суда к пышному лону холма, где среди зелени белеют там и сям дворцы. Он вспоминал все это с нежностью, хотя в отрочестве именно на такой фелуке не раз бывал нещадно бит безбородым генуэзцем с короткой шеей, у которого всегда был настороженный и недоверчивый вид и который (как убежден был Ностромо) в свое время обокрал его, присвоив себе жалкое наследство сироты. Но милостями судьбы все дурное в нашем прошлом вспоминается нам туманно. И сейчас, когда он потерпел неудачу и сидел, одинокий, на берегу, ему казалось, что вернуться к прошлому не так уж страшно. Впрочем, что это он? Вернуться? С босыми ногами и непокрытой головой? Когда все его имущество состоит из клетчатой рубашки и пары бумажных брюк?
Знаменитый капатас, опершись о колени локтями и уткнувшись подбородком в ладони, горько засмеялся и с омерзением сплюнул. Люди, впечатлительные и одержимые всепоглощающей страстью, встретив непреодолимую преграду на своем пути, склонны предаваться отчаянию, и им кажется в таких случаях, что рухнул мир, что наступает смерть. Он был прост. Он, как дитя, мог оказаться во власти любой надежды, предрассудка, желания.
Хорошо зная Костагуану, он отлично понимал, в каком тяжелом положении оказался. Все было перед ним как на ладони. Он словно протрезвел после длительного опьянения. Он всегда был верным человеком, человеком чести и теперь должен из-за этого страдать. Это он уговорил каргадоров принять сторону «бланко»; он встречался с доном Хосе; при его помощи падре Корбелан вел переговоры с Эрнандесом; было известно, что дон Мартин Декуд часто болтает с ним по-приятельски в свободное от редакционных занятий время. Все это прежде ему льстило. А что он думал о политике? Да ничего. И кончилось все это — Ностромо здесь, Ностромо там… где Ностромо? Ностромо сумеет сделать и это, и то: весь день работать и весь день скакать — кончилось все тем, что он известен, как рибьерист, и сейчас, когда в городе хозяйничает партия Монтеро, тот же Гамачо может отомстить ему, как пожелает. Европейцы сдались, кабальеро сдались. Дон Мартин, правда, объяснял, что это только временно — он приведет к ним на помощь Барриоса. Где все это нынче, если дон Мартин (чья ироническая манера вести беседу всегда вызывала у капатаса смутное ощущение неловкости) прячется на Большой Изабелле? Все сдались. Даже дон Карлос. Чем иначе можно объяснить его приказ так поспешно увезти из порта серебро? У капатаса каргадоров, который все увидел теперь в новом свете, от ярости мутился разум, и весь мир представлялся ему лишенным мужества и чести. Его предали!
За спиной его лежало окутанное мглою море, безмолвное и неподвижное; впереди — острые пики Кордильер окружали смутно белевшую в темноте вершину Игуэроты… Ностромо снова рассмеялся, потом вскочил и замер. Нужно уходить. Но куда?
— Нет, все так и есть. Они и в самом деле держат нас на сворке и науськивают, будто мы собаки, чья обязанность охранять их и охотиться для них. Старик был прав, — сказал он с яростью и обидой. Он вспомнил, как старый Джорджо, вынув трубку изо рта, произносил эти слова в своей харчевне, битком набитой паровозными машинистами и механиками из железнодорожных мастерских. Он вспомнил его отчетливо, и это помогло ему сосредоточиться. Он должен попытаться разыскать старика. Бог знает, что могло с ним случиться! Он сделал несколько шагов, потом опять остановился и покачал головой. Слева и справа, впереди и сзади таинственно шуршали в темноте кусты.
— И Тереза была права, — добавил он вполголоса с внезапным ужасом.
«Что с ней — умерла она, обиженная и разгневанная, или еще жива», — подумал он со смешанным чувством раскаяния и надежды. И словно в ответ, перед лицом его с тихим шорохом пронеслась похожая на темный шар сова, чей жуткий крик: «Яа-акобо! Яа-акобо!.. всему конец, всему конец…» по народному преданью предвещает всяческие бедствия и смерть. И Ностромо, угнетенный, раздавленный тем, что в его мире все обрушилось, вздрогнул от испуга, вспомнив об этом зловещем поверье. Значит, Тереза в самом деле умерла. Только это и может означать крик совы. Да, все сходится, все верно, он и должен был сразу же по возвращении услышать этот крик. Он отказался привести священника к умирающей, и этим оскорбил какие-то невидимые силы, а сейчас он слышит голос этих сил. Тереза умерла. Удивительна способность человека связывать с собой все, что происходит в мире. Тереза была умная и здравомыслящая женщина. А несчастный старый Джорджо так растерян, так одинок и, вероятно, так нуждается сейчас в его совете. Он, наверное, на какое-то время даже разума лишился после смерти жены.
Что до капитана Митчелла, то Ностромо, как любой человек, облеченный доверием своего начальства, полагал, что образование, возможно, позволяет капитану подписывать в конторе бумаги и отдавать приказы, но пользы от него никакой, и вообще он, пожалуй, дурак. Он был вынужден чуть ли не ежедневно обводить вокруг пальца напыщенного и раздражительного старого моряка, и это сильно прискучило ему в последнее время. Поначалу это давало ему хотя бы внутреннее удовлетворение. Но необходимость постоянно преодолевать пустяковые, совсем ненужные препятствия утомительна для сильной личности, уверенной в себе. К кипучей деятельности патрона Ностромо относился с недоверием. Митчелл ровным счетом ничего не смыслит в делах. И едва ли, узнав, что случилось, он сумеет сохранить это в тайне. Он скорей уж примется изобретать какие-нибудь фантастические планы. А Ностромо опасался взвалить на себя нелегкую заботу — постоянно обуздывать неразумного и суетливого старика. Он неосмотрителен. Он все разболтает, все выдаст, всех предаст. А сокровище необходимо оградить от предательства.
Предательство! Это слово застряло в его мозгу. Он с жадностью ухватился за столь простое и ясное объяснение тех ошеломляющих перемен, которые произошли в его судьбе, и поразительного легкомыслия людей, которые с такой бездумностью лишили его возможности жить, как прежде. Человек, которого предали, уничтожен. Синьора Тереза (да примет господь ее душу!) была совершенно права. О нем никто не думал. Он уничтожен! Он вспомнил, как она, сгорбившись, сидела на постели, ее распущенные черные волосы, обращенное к нему страдальческое лицо; и произнесенные ею гневные слова обличения представлялись ему сейчас величественными, вдохновенными и осененными тенью приближающейся смерти. Ведь не зря же зловещая птица так жалобно крикнула, пролетая у него над головой. Она мертва… Прими, господи, ее душу!
Настроенный вольнодумно и антиклерикально, как большинство его современников, он произносил эти благочестивые слова машинально, но с глубокой искренностью. Народ не склонен к скептицизму; эта черта простого человека — причина того, что народ так легко поддается уловкам мошенников либо делается жертвой беспощадного энтузиазма политических вождей, вдохновленных мечтами о своей великой миссии. Тереза умерла. Но согласится ли бог принять ее душу? Она умерла без исповеди и отпущения грехов, потому что он не соизволил уделить ей лишнюю минуту. Он, как и прежде, презирал священников; но ведь нельзя же знать наверняка, правда ли то, что они утверждают. В таких понятиях, как «сила», «наказание», «прощение», нет фальши — они просты и внушают доверие. Могущественный капатас каргадоров, лишившись некоторых простых ценностей, немаловажных для него, — восхищения женщин, преклонения мужчин, восторженного ропота, сопровождавшего каждый его шаг и поступок, с готовностью взвалил себе на плечи бремя раскаянья и вины.
Продрогший, в тонкой рубахе и штанах, он с удовольствием прошелся босиком по теплому песку. Он направлялся к порту. Окаймлявшая эту безлюдную часть гавани светлая полоска пляжа огибала узкой, длинной дугой полуостров и залив. Ностромо словно призрак стремительно скользил между сумрачными пальмовыми рощами, которые темнели слева от него, и простиравшейся по правую сторону неподвижной, как смерть, полосою воды. В окружающем его безлюдии и тишине он шагал с упрямой решимостью, шагал все быстрей, казалось, позабыв о том, что ему может что-то угрожать. В действительности же он знал, что в этой части залива ему не грозит никакая опасность. Единственным обитателем здешних краев был одинокий апатичный индеец, временами приезжавший в город продать корзину кокосовых орехов, которые он подбирал под растущими на берегу пальмами. Жилищем ему служил убогий шалаш, где он жил один, без жены, а на берегу лежало перевернутое вверх дном каноэ, и рядом с ним денно и нощно дымился костер, в который он подбрасывал хворост. Его жилье нетрудно было обойти стороной.
Ностромо впервые замедлил шаги, услышав лай собак на «ранчо» этого индейца. О собаках он совсем забыл. Он резко свернул в сторону, вошел в пальмовую рощу, и ему показалось, будто он попал в огромный зал, наполненный стоящими в беспорядке колоннами, густая листва которых таинственно шелестела у него над головой. Он пересек рощу, вошел в ущелье и взобрался на обрывистую кручу, где не росли ни деревья, ни кусты.
Отсюда он увидел всю равнину между городом и гаванью, озаренную неярким светом звезд. Где-то вверху, в горах, лесная птица издавала странный звук, похожий на барабанный бой. А внизу, на побережье, за кокосовыми пальмами продолжали лаять собаки. Он не мог понять, что их так встревожило, и, вглядевшись, с удивлением обнаружил какие-то непонятные передвижения — казалось, равнина распалась на огромные прямоугольники, и они перемещаются и шевелятся. Эти движущиеся прямоугольники то возникали, то исчезали, но двигались они все время в одном направлении — от гавани; и в том, как они двигались, были последовательность, цель и определенный порядок. Внезапно его осенило. Да это пехотные части совершают под покровом ночи переход к подножью гор. Однако он так мало знал, что даже, поняв это, не стал раздумывать и теряться в догадках.
А равнина снова стала неподвижной. Он спустился с обрыва и оказался на пустынном побережье между городом и гаванью. В темноте казалось, что расстилавшаяся перед ним земля бесконечна, и от этого он еще острей ощутил свое одиночество. Он пошел медленнее. Его никто не ждет; никто о нем не думает; ни один человек не дожидается и не желает его прихода. «Предали! Предали!» — бормотал он про себя. Он никому не нужен. Даже если бы он утонул сегодня ночью, никто не огорчился бы… «Пожалуй, кроме детей», — подумал он. Но девочек взяла к себе английская синьора, и они тоже перестали о нем вспоминать.
И он подумал, что, может быть, ему не следует идти прямо в Каса Виола. Что ему там делать? Что его ожидает? Все в его жизни рухнуло, все до конца. Он готов даже признать справедливость желчных попреков Терезы. Он провинился перед ней, ему ведь было просто лень сходить для нее за священником. Неужели эти горькие укоры совести — последнее проклятие умирающей?
Тем временем, повинуясь своего рода инстинкту, он свернул влево и приближался сейчас к пристани и к порту. Перед ним внезапно вырос фасад таможни, большой и длинный, напоминающий стену фабрики. Никто его не окликнул, а подойдя поближе, он увидел два освещенных окна. Это было уже совсем неожиданно.
В огромном покинутом людьми доме светятся всего два окна, словно там бодрствует в одиночестве некий таинственный страж. Вокруг пустынно, и это безлюдье буквально давит на тебя. Запахло дымом, он поднял вверх глаза и различил на фоне звездного неба реденькую пелену дыма. Ностромо осторожно подходил к таможне, напряженно вслушиваясь в тишину, и его оглушил пронзительный треск цикад. Мало-помалу, шаг за шагом он оказался в здании, в большом и мрачном зале, полном едкого дыма.
От костра, который развели у лестницы, осталась только груда пепла. Сделанные из очень твердого дерева ступеньки не сгорели — тлело лишь несколько нижних. Пробиваясь сквозь завесу дыма, на лестничную площадку второго этажа падал свет из открытой двери. Это и была та комната, освещенные окна которой он заметил, подходя к таможне. Ностромо поднялся вверх по лестнице и вдруг остановился: на стене комнаты он увидел чью-то тень. Это была тень невидимого ему человека, который стоял, опустив голову и сгорбив плечи. Капатас, вспомнив, что он не вооружен, отступил в сторону и замер в темном углу, не спуская глаз с двери.
Огромная, разрушенная, но недостроенная таможня (над ней уже возвели крышу, но еще не сделали потолка) была наполнена дымом, струившимся по всему зданию, клубившимся в многочисленных высоких комнатах и похожих на амбары коридорах. Ветер раскачивал ставни, и одна из них с резким стуком ударилась о стену, будто кто-то, рассердившись, толкнул ее. По площадке лестницы прошелестел залетевший откуда-то кусок бумаги. А загадочный обитатель комнаты так и не появился в дверном проеме. Капатас дважды выходил из своего угла и вытягивал шею в надежде увидеть, чем занят этот человек. Но каждый раз он видел только тень склоненной головы и широких плеч. Человек, по всей вероятности, ничего не делал и не двигался с места — возможно, раздумывал о чем-то, а может быть, читал. Из комнаты не доносилось ни звука.
Капатас снова спрятался в углу. Интересно, кто там — какой-нибудь монтерист? Но показаться страшно. Он может объявиться здесь, на берегу, лишь через много дней, в противном случае, считал он, сокровище окажется в опасности. Тайна принадлежит ему, и просто невозможно, чтобы еще кто-нибудь в Сулако ее разгадал. Вот пройдет хотя бы две недели, тогда другое дело. Кто тогда сумеет доказать, что он не добрался на своем баркасе до какого-нибудь порта за пределами республики и не вернулся оттуда сухопутным путем? Тайна мучила его, ему казалось, что вся его жизнь теперь должна быть с нею связана. Он даже на мгновенье оробел, стоя перед этой загадочной дверью. Да пропади он пропадом тот человек! На кой дьявол ему нужно с ним встречаться? Увидит ли он знакомое или незнакомое лицо, все равно ни малейшего проку. Так зачем же он стоит здесь, как дурак, и понапрасну тратит время?
Через пять минут после того как он вошел в таможню, Ностромо начал отступление. Он вполне успешно спустился на первый этаж, оглянулся на освещенную лестничную площадку и неслышно побежал к входным дверям. Но в тот миг, когда он до них добрался, думая только о том, чтобы его не заметил тот человек наверху, кто-то, чьих торопливых шагов он не услышал, вошел в таможню и носом к носу столкнулся с ним. Оба вскрикнули от неожиданности, оба шарахнулись прочь и остановились так, что не могли разглядеть друг друга. Ностромо молчал. Спросил тот, второй, испуганно и изумленно:
— Кто вы?
Ностромо еще раньше показалось, что он узнал доктора Монигэма. Теперь в этом не было никаких сомнений. Он на мгновение заколебался. Может быть, убежать, не говоря ни слова? Нет, бесполезно. Почему-то ему не хотелось называть имя, под которым он был всем известен, и он еще немного помолчал. Потом тихо ответил:
— Каргадор.
Ностромо подошел к доктору. Тот, потрясенный встречей, вскрикнул от неожиданности. Капатас сердито его предупредил, что шуметь не следует. Таможня, хоть и кажется заброшенной, все же не совсем пуста. Вон в той комнате наверху светятся два окна, там кто-то есть.
Из всех свойственных человеку эмоций мы легче всего избавляемся от изумления. Столько страхов, столько порывов порождает оно, что в естественном стремлении сохранить покой души мы невольно ограждаем себя от всего чудесного. Поэтому нет ничего противоестественного в том, что доктор самым обыденным тоном спросил этого человека, которого еще две минуты назад считал погибшим:
— Там кто-то есть? Вы его видели?
— Нет, не видел.
— Так почему же вы думаете, что там кто-то есть?
— Я убегал от его тени, когда мы с вами столкнулись.
— От его тени?
— Да. В освещенной комнате я увидел тень, — небрежно произнес Ностромо.
Он скрестил на груди руки, прислонился к стене, опустив голову, покусывая губы и не поднимая на доктора глаз. «Сейчас, — подумал он, — он примется расспрашивать меня о сокровище».
Однако мысли доктора были поглощены событием не столь чудесным, как появление Ностромо, но еще более непонятным. Почему Сотильо удалился со всем своим войском так внезапно и так секретно? Что бы это могло значить? Все это в высшей степени загадочно и непонятно, и ясно лишь одно: доктора вдруг осенило, что человек на втором этаже — офицер, которого оставил Сотильо, чтобы связаться с ним.
— Я думаю, он ждет меня, — сказал доктор.
— Может быть.
— Пойду взгляну. Не уходите, капатас.
— Куда мне уходить? — пробормотал Ностромо.
Доктора уже не было. Ностромо стоял в той же позе и задумчиво смотрел на темную воду у пристани; оглушительно трещали цикады. Мысли беспорядочно роились в голове, он не знал, что делать, и не хотел об этом думать.
— Капатас, капатас, — громко окликнул его сверху доктор.
Он погиб… предательство… Хмурое безразличие сменилось острым чувством страха перед надвигающейся опасностью. Тем не менее капатас отошел от стены и, подняв голову, увидел доктора Монигэма, который выглядывал из освещенного окна.
— Поднимитесь-ка сюда и посмотрите, что натворил Сотильо. Можете не опасаться этого человека наверху.
Ностромо желчно рассмеялся. Можете не опасаться! Когда и кого опасался капатас сулакских каргадоров? Он рассердился: как доктор мог подумать такое? Еще сильней его сердило, что он безоружен, что он прячется, что ему угрожает опасность, и все из-за треклятого сокровища, которое эти люди ему навязали и которое в общем-то не так уж им необходимо. Эта мысль не давала ему покоя. Доктор тоже из числа этих людей… О сокровище он, конечно, и не спросит. Он ввязался в такое отчаянное дело, а этот доктор даже одного вопроса не задаст.
С такими мыслями Ностромо снова прошел через зал, где дым уже порядком поредел, поднялся по лестнице, ступени которой уже не обжигали подошвы, и подошел все к той же загадочной двери. На пороге комнаты появился доктор и взволнованно воскликнул:
— Идите сюда!
Ностромо подошел к дверям и вздрогнул. За все это время человек не сдвинулся с места. Тень падала точно так же, как тогда, когда он в первый раз заглянул в эту комнату. Он собрался с духом и вошел, чувствуя, что тайна сейчас будет раскрыта.
Все оказалось очень просто. За ничтожную долю секунды при свете двух оплывших мерцающих свечей он разглядел сквозь едкий синий дым фигуру человека, чью искаженную и увеличенную тень он все время видел на стене. С быстротою молнии он уловил напряженность и противоестественность позы: выступающие вперед плечи, опущенная голова. Затем он увидел связанные руки. И в тот же миг заметил, что руки этого несчастного спутаны веревкой, перекинутой через балку на потолке, а конец ее прикреплен к вделанной в стену скобке. И не было уже необходимости всматриваться в одеревеневшие ноги с висящими над полом босыми ступнями, чтобы понять: его вздернули на дыбу, и он лишился чувств. «Перерезать веревку, немедленно перерезать веревку!» — молнией сверкнуло у него в голове. Он хотел выхватить нож. Ножа не оказалось… у него не было даже ножа! Он стоял потрясенный, а усевшийся на край стола доктор задумчиво созерцал представившуюся его глазам ужасную картину, после чего довольно хладнокровно произнес:
— Замучен пыткой и добит выстрелом в грудь… уже окоченел.
Это меняло дело — можно было не спешить. Одна из свечей погасла.
— Кто это сделал? — спросил капатас.
— Сотильо, кто же еще? То, что он его пытал, — понятно. Но почему застрелил? — Доктор пристально взглянул на Ностромо, и тот пожал плечами. — И обратите внимание, его застрелили неожиданно, повинуясь внезапному импульсу. Это очевидно. Хотел бы я понять, что тут произошло.
Ностромо подошел к покойнику и вытянул шею, внимательно всматриваясь в его лицо.
— Мне кажется, я его уже где-то видел, — пробормотал он. — Кто это?
Доктор снова взглянул на Ностромо:
— Как знать, может быть, мне еще придется ему позавидовать. Вы так не думаете, капатас?
Но Ностромо его даже не слышал. Схватив единственную горящую свечу, он поднес ее к лицу убитого. Доктор вяло опустился на стул; он не глядел на капатаса. Потом тяжелый железный подсвечник стукнулся о половицу, словно кто-то внезапным ударом вышиб его из руки Ностромо.
Доктор поднял голову, изумленно вскрикнув. В наступившей темноте он уже не видел капатаса, а лишь слышал, что тот неверными шагами подошел к столу, дыша тяжело и прерывисто. Как только в комнате погас свет, темные квадраты за оконными рамами ожили — в них засверкали звезды.
— Ну еще бы, еще бы, — пробормотал доктор. — Ясно, что это его огорошило.
Сердце бешено колотилось в груди Ностромо. Голова шла кругом. Гирш! Это был Гирш! Он ухватился за край стола.
— Но он ведь прятался на нашем баркасе, — чуть не закричал Ностромо. И упавшим голосом добавил: — Прятался на баркасе, а потом… потом…
— Потом Сотильо с ним расправился, — закончил доктор. — Теперь вы можете бояться его не больше, чем меня. Но хотелось бы мне знать, как он сумел добиться, чтобы какая-то добрая душа его пристрелила.
— Стало быть, Сотильо знает… — начал Ностромо уже более спокойным голосом.
— Он знает все! — отрезал доктор.
Капатас ударил кулаком по столу.
— Все? Что вы такое говорите? Все… Сотильо знает все? Нет, это невозможно! Знает все?
— Конечно. Почему это невозможно? Вчера ночью Гирша допрашивали при мне, в этой самой комнате. Он назвал вас, назвал Декуда и рассказал о серебре… Баркас разрезало на две части. Он умирал от страха перед Сотильо, но память у него не отшибло — разве мало он рассказал? Пожалуй, менее всего он знал о самом себе. Когда его нашли, он, как клещ, вцепился в якорь. Вероятно, ухватился за него в тот миг, когда баркас пошел ко дну.
— Пошел ко дну? — задумчиво переспросил Ностромо. — Сотильо думает так? Bueno.
Доктор не очень ясно представлял себе, как еще можно думать. Да, Сотильо думает, что баркас пошел ко дну, а капатас портовых каргадоров и Мартин Декуд и заодно с ними, возможно, еще один-два человека из политических иммигрантов — утонули.
— А я скажу вам, сеньор доктор, — перебил его Ностромо, — что Сотильо знает не все.
— О чем вы?
— Ну, к примеру, он не знает, что я остался жив.
— Этого не знали и мы.
— Но вас это нисколько не тревожило… ни одного из кабальеро, стоявших там, на пристани… Велели человеку, такому же, как вы, живому человеку провернуть очень миленькое дельце, которое не могло окончиться благополучно, и сразу же перестали думать о нем.
— Вы, кажется, забыли, капатас, что меня не было на пристани. И это ваше дельце миленьким я не считал. Так что незачем говорить со мной столь саркастическим тоном. Вы поймите, друг мой, нам сейчас не до того, чтобы тревожиться о мертвых. Смерть подстерегает каждого из нас. Вы уехали, и делу конец.
— Вот именно конец! — воскликнул Ностромо. — А зачем мне это нужно, можете вы сказать?
— Ну, это уж никого, кроме вас, не касается, — грубовато ответил доктор. — Кто-кто, а я тут ни при чем.
Они умолкли; в темноте растаял шелест голосов. Оба сидели на краю стола, касаясь друг друга плечами и невольно устремляя взгляд в глубь комнаты, где чернели во мгле страшные контуры подвешенного на дыбе тела, — ссутулившиеся плечи, склоненная вперед голова, — и им казалось, будто покойник прислушивается к их разговору.
— Muy bien[119],— пробормотал в конце концов Ностромо. — Пусть будет так. Тереза в самом деле права. Все это никого, кроме меня, не касается.
— Тереза умерла, — рассеянно заметил доктор, погруженный в размышления о том, каким образом могло осуществиться неожиданное воскрешение Ностромо. — Умерла, бедняжка, умерла.
— Без исповеди? — тревожно спросил капатас.
— Странный вопрос! Конечно, без исповеди; кто бы ей привел вчера священника?
— Да примет господь её душу! — с угрюмой безнадежностью сказал Ностромо, и доктор Монигэм, удивленный мрачным пафосом этой фразы, не успел даже слова промолвить в ответ, как он добавил:
— Sí, сеньор доктор. Верно вы сказали, дело касается только меня. Кстати, отчаянное было дело.
— Тут на всем побережье не найдется ни одного человека, который смог бы, как вы, добраться вплавь до порта после гибели баркаса, — с восхищением проговорил доктор.
И снова наступила тишина. Оба думали, и мысли их текли по разным руслам, как различна была сущность и натура этих людей. Доктор, самоотверженно вступивший на опасный путь, куда его толкнула преданность Гулдам, был несказанно рад случайности, возвратившей в родные края этого человека, способного, как никто иной на свете, оградить от гибели рудники. Доктор всей душой был предан рудникам, принявшим в глазах этого одинокого пятидесятилетнего человека облик маленькой женщины в муслиновом платье с длинным треном, с очаровательной головкой, украшенной тяжелой волной густых светлых волос, женщины, чья душевная деликатность и прелесть, делающие ее похожей и на драгоценность, и на цветок, обнаруживали себя всегда, в любом поступке, движении, слове.
Когда над рудниками нависла опасность, иллюзия полностью завладела им. Доктор ощутил, что у него есть долг, святая обязанность! Не вдохновляемый, в отличие от большинства людей, надеждами и ожиданием наград, он посвятил этой обязанности все свои действия и мысли и стал опасным для себя и для других, ибо был готов на все, считая себя единственным оплотом, способным оградить эту женщину от нависшей над ней страшной угрозы.
Это сознание действовало на него как дурман, — глубоко безразличный к судьбе Декуда, доктор мог со всей отчетливостью оценить, какие преимущества заключает в себе его идея об отделении провинции от государства. Прекрасная идея, а Барриос идеальное орудие, чтобы ее осуществить. Его душа, иссохшая от позора и бесчестья, стала безжалостной сейчас, когда ее напоила нежность. Возвращение Ностромо — перст судьбы. Он не думал о капатасе с сочувствием, как о своем ближнем, которому чудом удалось избавиться от смерти. Для него капатас был единственным подходящим гонцом в Каиту. Лучшего не сыскать! Мизантропическое недоверие к роду человеческому (усугубленное печальным опытом) не помогло ему стать выше свойственных обычным людям слабостей. Репутация Ностромо оказывала на доктора такое же гипнотическое воздействие, как на других.
Ностромо верный человек — это провозгласил капитан Митчелл, это повторяли все, это подтверждала молва, и доктор Монигэм в этом никогда не сомневался. Менее всего он был настроен усомниться в этом сейчас, когда он сам так остро нуждался в верности и преданности Ностромо. Доктору Монигэму были свойственны общечеловеческие заблуждения: он, как и все, считал Ностромо неподкупным просто потому, что это утверждение еще ни разу не было опровергнуто. Неподкупность — неотъемлемая принадлежность этого человека, точно так же, как усы и белые зубы. Его невозможно представить себе иным. Самое главное — согласится ли он взять на себя такое опасное поручение. Доктор был достаточно наблюдателен и с первого же взгляда заметил, что Ностромо сильно раздосадован. Он, конечно, расстроен тем, что погибло серебро.
«Говорить с ним нужно с полной откровенностью», — подумал доктор, чутьем уловив главное свойство характера человека, которого ему предстояло убедить.
Что касается Ностромо, он молчал потому, что был полон нерешимости, недоверия и гнева. Тем не менее он заговорил первым.
— Доплыть до порта — пустяки, — сказал он. — Но то, что было раньше… и то, что случится потом…
Он не высказал свою мысль до конца — умолк, словно наткнулся на неодолимое препятствие. А доктор с коварством Макиавелли продолжал свое. Он сочувственно сказал:
— Мне очень жаль, капатас. Но ведь никому не придет в голову обвинять вас в неудаче. Очень жаль, очень досадно. Прежде всего: серебро не следовало увозить с рудников. Но это предложил Декуд, которому… впрочем, он мертв. О нем не стоит говорить.
— Это так, — согласился Ностромо, — о мертвецах не стоит говорить. Но я-то еще жив.
— К счастью, живы и здоровы. Уцелеть в таких условиях мог лишь человек, обладающий вашим бесстрашием.
Доктор Монигэм не кривил душой. Он совершенно искренне восхищался храбростью этого человека, чья жизнь не представляла особой ценности в его глазах, поскольку доктор презирал все человечество после того сугубо частного случая, когда он сам не проявил должного мужества. Во время пребывания в камере доктор Монигэм так часто сталкивался в одиночку со всякого рода физическими опасностями, что на собственном опыте узнал, чего следует особенно бояться: давящего, парализующего ощущения своей слабости — именно оно и губит человека, встретившегося без свидетелей, наедине, с бездушной и безжалостной силой. С необычайной ясностью он представил себе, сколько мужества потребовалось капатасу, который, проведя много часов в тревоге, в адском напряжении, был внезапно низвергнут в темную бездну воды, где нет ни неба, ни земли, и, оказавшись в этом положении, не только не впал в отчаяние, но и сумел спастись. Он, конечно, превосходный пловец, все это знают, но доктор полагал, что главную роль сыграла бестрепетная сила духа. Это радовало доктора — предвещало успех опасной миссии, которую он собирался возложить на капатаса, чудом вернувшегося из небытия и вновь готового к очередным услугам. Он благодушно произнес:
— Тьма, наверное, была ужасной.
— Одна из самых темных ночей в заливе, — коротко подтвердил капатас.
Его растрогало участие, которое ему послышалось в словах доктора, и он коротко, с деланной небрежностью рассказал о гибели баркаса. Ему хотелось, чтобы доктор что-нибудь узнал об этом. Он ждал, что тот будет расспрашивать его и дальше, и промолчит ли он или ответит, но интерес, проявленный к нему, поможет ему снова обрести себя — то есть единственное, что он утратил после той страшной ночи. Но доктор, все внимание которого поглощали события другого рода, не стал его расспрашивать — в своей одержимости одной идеей он был бессердечен. У него вырвались ужасные слова:
— Как жаль, что вы не закричали.
Эта хладнокровно произнесенная фраза ошеломила капатаса своей жестокостью. С таким же успехом доктор мог бы сказать: «Как жаль, что вы не оказались трупом. Как жаль, что вам не перерезали горло». Он не понимал, что доктор думает не о нем, а лишь о серебре, да и трудно было бы понять, о чем тот думает, по этой лаконичной фразе. От гнева и от изумления он потерял дар речи, кровь ударила ему в голову, в ушах стоял бешеный гул, и он, собственно, уже и не слышал, что говорит доктор, а тем временем тот продолжал:
— Я уверен, что Сотильо, захватив серебро, тотчас повернул бы назад, чтобы найти убежище в каком-нибудь тихом порту за границей. Это был бы ужасный ущерб, но для нашей экономики еще более убыточно, что серебро затонуло. Выгодней всего, конечно, было бы спрятать его в каком-нибудь безопасном месте, а часть сокровища употребить на то, чтобы подкупить Сотильо. Но я не уверен, что дон Карлос когда-нибудь решился бы на это. Он не приспособлен к костагуанским обычаям, капатас, и тут уже ничего не поделаешь.
Стоило доктору упомянуть дона Карлоса, и буря гнева снова поднялась в груди капатаса, но ему удалось овладеть собой. Он превратился как бы в другого человека — говорил задумчиво, негромким ровным голосом:
— И что, дон Карлос был бы доволен, если бы я отдал Сотильо серебро?
— Полагаю, что не только он, — ответил доктор мрачно. — Со мной ведь никогда не советуются. Все это затеял Декуд. Думаю, сейчас у них глаза уже открылись. Что до меня, то, если бы какой-нибудь волшебник выбросил на берег это серебро, я бы тотчас отдал его Сотильо. И все одобрили бы мой поступок, насколько я могу судить.
— Волшебник выбросил на берег… — вполголоса повторил Ностромо, затем добавил громко: — Тут не то что волшебник, сеньор, тут и святой не поможет.
— Охотно верю, капатас, — сухо согласился доктор. — Сотильо, — продолжал доктор Монигэм, — еще не развернулся, он еще им себя покажет.
Ностромо слушал его, как во сне, и думал: от меня сейчас не больше толку, чем от этого трупа, который, смутно вырисовываясь во мгле, висит на балке и как будто тоже прислушивается — заброшенный, забытый, ужасный символ человека, не нужного никому.
— Взбрело им на ум и, нисколько со мной не считаясь, отправили меня в море с этим серебром, — вдруг перебил он Монигэма. — Что же они мной совсем не дорожат, por Dios? Видно, им даже голову не хочется утруждать, вашим джентльменам, hombres finos, пока под рукой есть простой человек, всегда готовый рискнуть своей душой и телом? Или, может, у простых людей нет души, как у собаки?
— С вами ведь поехал Декуд, а все делалось по его плану, — напомнил доктор.
— Sí. И богач из Сан-Франциско — он ведь тоже как-то связан с серебром… Уж не знаю как. Нет, я не хочу ничего больше слышать! Похоже, богатым все разрешено.
— Я вас понимаю, капатас, — начал доктор.
— Капатас, что капатас? — Голос Ностромо звучал ровно, но в нем чувствовался гнев. — С капатасом покончили, угробили капатаса. Нет его больше. Поняли вы? Не видать вам больше капатаса.
— Ну, это уже ребячество, — с укором сказал доктор, и Ностромо внезапно утих.
— Я и в самом деле вел себя как ребенок, — пробормотал он.
Взгляд его снова наткнулся на темный силуэт мертвеца, застывший в жуткой неподвижности, словно он замер, прислушиваясь, и Ностромо тихим голосом проговорил:
— Почему Сотильо вздернул этого несчастного на дыбу? Можете вы объяснить мне? Ведь беднягу хуже всякой пытки мучил страх. Почему его убили — это понятно. Он так корчился, что жутко было смотреть. Но пытали-то его зачем? Он ведь им все рассказал и добавить не мог ни слова.
— Верно; рассказал он все, что знал. Любой разумный человек не усомнился бы в этом. Но видите ли, в чем дело, капатас, Сотильо не поверил его словам. Вернее, поверил, но не всему.
— Чему же он мог не поверить? Я не понимаю.
— Зато я прекрасно понимаю — я за ним наблюдал. Он не верит, что сокровище погибло.
— Что? — встревоженно воскликнул капатас.
— Почему вы так испугались?
— Надо ли понять вас так, сеньор, — продолжал Ностромо, осторожно и тщательно подбирая слова, — что Сотильо считает, будто сокровище каким-то образом удалось спасти?
— Нет, конечно! Как это могло быть? — с горячностью воскликнул доктор. Ностромо усмехнулся в темноте. — Спасти его не могли. Но Сотильо считает, что, когда баркас тонул, на нем не было серебра. Он убедил себя, что здесь устроили спектакль с целью обмануть Гамачо и его национальных гвардейцев, Педрито, сеньора Фуэнтеса, нашего нового политического лидера, а также самого Сотильо. Только он, — сказал полковник, — не так глуп.
— Очень даже глуп. В этой мерзкой стране из всех полковников он самый тупоумный, — проворчал Ностромо.
— Он рассуждает ничуть не хуже, чем многие из здравомыслящих людей, — возразил доктор. — Он убедил себя, что сокровище не погибло, потому что страстно хочет им завладеть. Кроме того, он боится, что его офицеры взбунтуются и переметнутся к Педрито; в равной степени он опасается довериться Педрито и выступить против него. Вы поняли, капатас? Покуда у его офицеров есть надежда, что Сотильо каким-то образом сумеет заполучить это огромное богатство, они его не покинут. Я взял на себя труд поддерживать эту надежду.
— Поддерживать! — настороженно повторил капатас. — Это очень интересно. И долго вы собираетесь водить их за нос?
— Сколько смогу.
— Как вас понять?
— На этот вопрос я отвечу вам точно. До тех пор, пока я жив, — решительно произнес доктор. Затем он вкратце описал историю своего ареста и обстоятельства, при которых был освобожден. — Я возвращался к этому тупице и мерзавцу, когда мы встретились, — закончил он.
Ностромо слушал его очень внимательно.
— Стало быть, вы выбрали быструю смерть, — процедил он сквозь зубы.
— Может быть, и так, великий капатас, — с раздражением ответил доктор. — Вы здесь не единственный, кто способен смотреть смерти прямо в глаза.
— Оно конечно, — проворчал Ностромо, несколько повысив голос. — Кто знает, может быть, здесь сейчас не двое дураков, а даже больше.
— Я ввязался в это дело, и я отвечаю за него, — холодно сказал доктор.
— Точно так же, как я ввязался в дурацкую историю с серебром, — огрызнулся Ностромо. — Все ясно. Bueno. У меня были свои причины, у вас — свои. Но вы были последним человеком, с которым я разговаривал перед отъездом, и мне показалось, что вы считаете меня дураком.
Насмешливое отношение доктора к блистательной славе Ностромо чрезвычайно раздражало моряка. В похвалах Декуда тоже звучала ироническая нотка, смущавшая его; но ему льстили приятельские отношения с таким человеком, как дон Мартин, а этот доктор Монигэм просто никто. Ностромо помнил его нищим отщепенцем, который, крадучись, бродил по улицам Сулако и не имел ни друзей, ни знакомых, пока дон Карлос Гулд не взял его к себе на рудники.
— Вы, конечно, очень умный, — задумчиво продолжал он, с тревожным чувством вглядываясь в темную мглу комнаты, где был замучен Гирш. — Но теперь и я поумнел. Одну вещь я усвоил твердо: вы — опасный человек.
Доктор Монигэм, опешив, лишь испуганно спросил:
— О чем это вы?
— Если бы он мог заговорить, он сказал бы, что я прав, — продолжал Ностромо, и тень его головы качнулась на звездном квадрате окна.
— Я вас не понимаю, — слабым голосом сказал доктор Монигэм.
— Не понимаете? Да ну? Если бы вы не подтвердили идиотские бредни Сотильо, ему незачем было бы так спешить вздергивать на дыбу этого беднягу Гирша.
Доктор вздрогнул. Но преданность, поглотившая его целиком, поглотила и все его чувства, и его сердце стало словно камень и не знало ни укоров совести, ни жалости. Все же, чтобы окончательно успокоить себя, он счел нужным громко и презрительно отринуть это обвинение.
— Чушь! Не забывайте, я имел дело с Сотильо. О Гирше я и не подумал, признаюсь. Но если бы подумал, это не принесло бы ему пользы. Ведь ясно: он был обречен с того злосчастного момента, когда вцепился в этот якорь. Обречен, вы слышите меня! Да я и сам обречен… по всей вероятности.
Так ответил доктор на упрек Ностромо, достаточно веский для того, чтобы разбередить его совесть. Доктор не был бессердечен. Но миссия, которую он на себя взял, была так значительна, так важна, так серьезна, что затмевала все простые житейские соображения. Он стал фанатиком. Ему совсем не нравилось то, что он собирался сделать. Ему противно было обманывать, дурачить даже самых скверных людей. Все в нем возмущалось против этого — воспитание, традиции, инстинкт. Роль предателя, несовместимая с его натурой, была ему невыносима. И все-таки он согласился принести себя в жертву, пойти на это унижение.
С горечью он убеждал себя: «Кроме меня, для этой грязной работы никто не годится». И верил этому. Он был прост. И в простоте своей не считал себя героем, отважно жертвующим жизнью; он знал одно: что подвергается большой опасности, и эта мысль поддерживала и утешала его. Все было жестоко в мире, в котором он существовал, и участь Гирша не являлась исключением. Он практически смотрел на этот эпизод. Что мог он значить? Не заподозрил ли чего-нибудь Сотильо? Доктор никак не мог понять, зачем понадобилось убивать беднягу Гирша?
— Так-то так. Но почему его все-таки застрелили? — пробормотал он.
Ностромо молчал.
ГЛАВА 9
Раздираемый сомнениями и надеждой, смертельно испуганный трезвоном колоколов в честь появления в городе Педрито Монтеро, Сотильо все утро боролся с тревожными мыслями: неравная борьба, ибо мысли его были хаотичны, что естественно для человека, находящегося во власти бурных страстей. Разочарование, алчность, гнев и страх бушевали в груди полковника с большей силой, чем трезвонили в городе колокола. Все его планы рушились. Ему не достались ни Сулако, ни серебро. Ему не удалось блеснуть талантом полководца, занять город и закрепиться в нем; ему не удалось также, захватив громадную добычу, успешно скрыться в океанских просторах. Педрито Монтеро, и как недруг, и как друг, внушал ему глубокий ужас. Звон колоколов бесил его.
Вообразив себе, что на него немедленно нападут, он приказал своим войскам занять оборону на побережье. Сам он расхаживал по комнате и иногда останавливался, кусая кончики пальцев на правой руке и угрюмо глядя себе под ноги; потом мрачно оглядывал всех вокруг и снова начинал метаться. На столе лежали его шляпа, хлыст, револьвер и сабля. Его офицеры, сгрудившись у окна, из которого открывался вид на городские ворота, оживленно спорили из-за полевого бинокля, который год назад Сотильо приобрел в кредит у Ансани. Бинокль переходил из рук в руки, и того, кто временно им завладевал, остальные осыпали вопросами.
— Да не видно же, ничего не видно! — отвечал он раздраженно.
Из окна и в самом деле ничего не было видно. И когда возвратился патруль, посланный прочесать кустарник возле Каса Виола, все замерло на полосе сухой земли между городом и портом. Немного позже из ворот выехал какой-то верховой и безбоязненно поскакал к таможне. То был посланец сеньора Фуэнтеса. Поскольку он прибыл один, его впустили. Он спешился возле главного входа, с веселой наглостью приветствовал стоявших там безмолвных зрителей и потребовал немедленно отвести его к muy valiente[120]полковнику.
Сеньор Фуэнтес, приступив к обязанностям политического лидера, решил во что бы то ни стало захватить рудники и порт. Для переговоров с Сотильо был избран некий нотариус, в начале мятежа томившийся в тюрьме, куда он был посажен за подделку документов. Освобожденный мятежниками вместе с другими «жертвами тирании бланко», он поспешил предложить свои услуги новому правительству.
Он был намерен, выполняя свою миссию, не щадить ни красноречия, ни пыла и попробовать уговорить Сотильо, чтобы тот оставил на месте войска, а сам поехал в город и начал переговоры с Педро Монтеро. Полковник ни о чем подобном не помышлял. Стоило ему подумать, что он может по доброй воле отдать себя в руки знаменитого Педрито, и он сразу чувствовал себя больным. Ехать в город невозможно, это безумие. С другой стороны, такое же безумие — стать на путь открытой вражды. Ведь тогда он не сможет всерьез заняться розысками этого сокровища, этих залежей серебра, присутствие которых он чувствовал где-то неподалеку, запах которых ощущал.
Но где они? Где? Господи боже, где? Как он мог выпустить отсюда доктора? Какое-то наваждение нашло на него! Хотя нет, все правильно. Только так он и мог поступить, — размышлял он, как в бреду, а тем временем посланец Фуэнтеса вел приятную беседу с офицерами у главного входа в ожидании, когда его позовут. Мерзавец доктор не может сбежать — в его интересах вернуться и принести достоверные сведения. Но если что-нибудь его задержит? Скажем, Педрито отдаст приказ, запрещающий кому бы то ни было покидать город. Доктор наверняка наткнется на патруль!
Полковник остановился и сжал ладонями виски, словно у него внезапно закружилась голова. Малодушие подсказало ему уловку, небезызвестную и европейским государственным мужам в тех случаях, когда они стремятся оттянуть неприятные для них переговоры. Прямо в сапогах со шпорами он забрался в гамак с поспешностью, недостойной героя и полководца. Он сильно изменился за последние дни. Красивое лицо пожелтело от непосильных забот. Изящно очерченный нос с дерзко раздувающимися ноздрями заострился, и ноздри не только не раздувались теперь, а даже как-то съежились. Бархатные миндалевидные глаза, умевшие смотреть так томно и нежно, погасли и покраснели от бессонных ночей. Монотонным, страдальческим голосом он обратился к изумленному посланцу сеньора Фуэнтеса.
Трогателен и жалок был этот еле слышный голос, доносившийся из-под груды пончо, полностью скрывавших элегантную фигуру полковника, так что приезжий видел только помертвевшую физиономию и черные усы, незавитые и неподкрученные, уныло свисавшие вниз, — символ телесных недугов и душевного бессилия. Лихорадка, злая лихорадка свалила доблестного полководца. Болезнь казалась особенно натуральной из-за того, что глаза страдальца время от времени начинали сверкать мрачным блеском, причиной чего являлись легкие спазмы в желудке, а зубы от страха выбивали дробь. Больного бил озноб. Полковник объяснил, что он не в состоянии ни думать, ни говорить, ни слушать. С таким видом, словно он совершает сверхчеловеческое усилие, полковник, задыхаясь, произнес, что сейчас он не в силах дать его превосходительству надлежащий ответ или выполнить какой-нибудь из его приказов. Зато завтра! Завтра! О, завтра! Пусть его превосходительство дон Педро не тревожится. Прибывший из Эсмеральды отважный полк удержит порт, удержит… тут под пытливым взглядом посланца болящий смежил веки и будто в полузабытьи откинул голову, так что собеседнику пришлось наклониться над гамаком, дабы расслышать его прерывистую речь.
А Сотильо тем временем выражал надежду, что его превосходительство, будучи человеком гуманным, позволит доктору, английскому доктору, выйти из города с саквояжиком, где лежат иноземные лекарства, предназначенные для полковника Сотильо. С горячностью просил он его милость кабальеро оказать ему любезность и, проезжая мимо Каса Гулд, заглянуть туда и известить английского врача, который, может быть, окажется в доме, что его помощь немедленно требуется полковнику Сотильо, находящемуся в таможне и страдающему от приступа лихорадки. Немедленно. Самым настоятельным образом. Его ждут с нетерпением. Тысяча благодарностей. Он устало закрыл глаза и уже больше их не открывал, лежа совершенно неподвижно, глухой, немой, бесчувственный, угнетенный, измученный, истощенный, раздавленный тяжким недугом.
Но как только посетитель затворил за собой дверь, полковник быстро выпрыгнул из гамака, волоча целый ворох пончо, которые зацепились за его шпоры и клубком обвили ноги, так что бедняга чуть не ударился головой об пол и обрел равновесие, лишь доскакав до середины комнаты. После этого, спрятавшись за полуоткрытыми жалюзи, он стал слушать, что происходит внизу.
Посланец Фуэнтеса уже сидел верхом и, повернувшись к мрачным офицерам, оберегавшим парадную дверь, торжественным жестом снял шляпу.
— Кабальеро, — произнес он очень громко, — да будет мне позволено рекомендовать вам окружить вашего полковника всяческой заботой. Для меня было огромной честью и огромным удовольствием познакомиться с вами, мужественными солдатами, с беспримерным терпением исполняющими свой воинский долг в этой пустынной местности, где так много солнца и соленой воды и совсем отсутствуют иные напитки, в то время как город, изобилующий женским очарованием и вином, с радостью готов заключить вас в объятия. Кабальеро, имею честь вас приветствовать. В Сулако сегодня танцы, танцы до упаду. Всего хорошего.
Но ему тут же пришлось натянуть поводья и, прислушиваясь, наклонить голову набок, ибо вперед выступил старик майор, очень высокий и тощий, в прямом и узком френче, доходящем ему до лодыжек, что придавало старому воину сходство со свернутым полковым знаменем, засунутым в футляр.
Умудренный житейским опытом, почтенный офицер начал с общего замечания о том, что «мир полон предателей», после чего рассыпался в неумеренных похвалах Сотильо. Он щедро приписал ему все достоинства, существующие в подлунном мире, и завершил их перечень абсурдной фразой, которой почему-то любят выражать свое одобрение жители Западной провинции, и в особенности Эсмеральды и ее окрестностей. «Главное же, — резко повысив голос, закончил он, — наш полковник — это человек, у которого зубов, что у акулы… hombre de muchos dientes. Sí, señor[121]. Что до нас, — добавил он напыщенно и важно, — ваша милость видит сейчас перед собой цвет офицерства республики, людей непревзойденных умом и доблестью, у hombres de muchos dientes»[122].
— Как? У каждого из этих офицеров? — с издевательской усмешечкой спросил непутевый посланец сеньора Фуэнтеса.
— Todos. Sí, señor[123],— серьезно и убежденно подтвердил майор. — Люди, у которых зубов что у акулы.
Тут посол Фуэнтеса дернул за уздечку и повернулся лицом к главному входу в таможню, мало чем отличающемуся от входа в самый обыкновенный амбар. Он поднялся на стременах и простер вперед руку. Это был веселый негодяй, испытывающий к жителям западного побережья презрение, вполне естественное в уроженце центральных провинций. Особенно его смешили олухи из Эсмеральды. Скроив торжественную мину, он произнес панегирик в честь Педро Монтеро. Сперва он плавно взмахнул рукой, словно представил его собравшимся возле таможни офицерам. И когда на всех лицах появилось застывшее выражение и все уставились ему в рот, он принялся перечислять добродетели Монтеро: «Благороден, отважен, любезен, мудр, — и он восторженным жестом сорвал с себя шляпу, — государственный деятель, непобедимый предводитель партизан. — Тут он понизил голос и глухим рокочущим басом добавил: — И к тому же дантист».
С этими словами он их покинул; его твердая посадка, широко расставленные ноги с вывернутыми ступнями, прямая спина, лихо заломленное назад сомбреро, неподвижные крутые плечи — все внушало ужас, ибо воплощало собой безмерную, разнузданную наглость.
Сотильо, спрятавшийся наверху за жалюзи, долго не мог пошевелиться. Этот малый вел себя вызывающе. А чем ему ответили офицеры? Ничем, абсолютно ничем. Сотильо вздрогнул. Нет, не этого он ожидал после того, как высадится на побережье. Он видел себя победителем, которому курится фимиам, идолом солдат, властелином, чьи права не вызывают сомнений. Он представлял себе, как не спеша решает, что же предпочесть: богатство или власть. И ничего похожего! Увы! Растерянный, встревоженный, повергнутый в прах, он то закипает яростью, то леденеет от ужаса и так испуган, так беспомощен, словно его со всех сторон обступило бездонное море. Этот мошенник доктор давно уж должен прийти и сообщить, что он узнал о серебре. Давным-давно, конечно. Ведь самому ему эти сведения не нужны. Бесполезны. Будь он проклят! Как сквозь землю провалился. Может быть, его уже арестовали и заперли в одну камеру с доном Карлосом. Он расхохотался как безумный. Ха-ха-ха! Сведения получит Педрито Монтеро. Ха-ха-ха!.. а заодно и серебро. Ха-ха!
Он вдруг перестал смеяться и замер. Кстати, ведь и у него есть пленник. Пленник, который знает всю правду, не может ее не знать. Нужно только заставить его говорить. И Сотильо, который все это время помнил о Гирше, а вернее, не совсем о нем забыл, не без удивления почувствовал, что ему будет неприятно прибегать к решительным мерам.
Неприятно и страшно… все тот же зыбкий страх, из-за которого ему казалось, что его со всех сторон обступило море. Неприятно было вспоминать выпученные глаза торговца кожами, дергающееся лицо, громкий плач и крики. Это было не сострадание и даже не чувствительность нервной натуры. Неприятно ему стало потому, что, хотя он нисколько не верил истории Гирша — ей нельзя было поверить, кто поверил бы такой ерунде? — он тем не менее с тоскливым чувством вспоминал, что в бессвязном рассказе несчастного звучала надрывная искренность. И когда он вспоминал это, ему становилось не по себе. Он заподозрил, что Гирш сошел с ума от страха. А иметь дело с безумцем безнадежно. Э, притворство это все. Обычное притворство. Ничего, он заставит его говорить.
Упорно и старательно он разжигал в себе жестокость. Его красивые глаза сузились и начали слегка косить; он хлопнул в ладоши; бесшумно появился босоногий денщик — капрал с палкой в руке и штыком у пояса.
Полковник отдал приказание, и тотчас несколько солдат втолкнули в комнату беднягу Гирша. Несчастный поднял взгляд и увидал перед собой Сотильо. Темнее тучи сидел он в кресле, расставив ноги, уперев руки в бока, нахлобучив на голову шляпу, властный, важный, неумолимый, надменный, величественный, страшный.
После высадки на берег Гиршу связали за спиной руки и втолкнули в тесную каморку. Потом о нем, вероятно, забыли, и он много часов неподвижно лежал на полу, холодея от отчаяния и ужаса. А затем его бесцеремонно вытащили вон и поволокли по коридору, подгоняя пинками и ударами кулака. Он потерял способность действовать и рассуждать. Покорно выслушал он угрозы и предостережения Сотильо, потом ответил на его вопросы то, что отвечал уже не раз, уткнувшись подбородком в грудь, слегка покачиваясь, опуская взгляд. Когда капрал заставил его поднять голову, кольнув штыком в подбородок, Сотильо увидел его глаза — взгляд был бессмысленным, как у человека, находящегося в трансе, а по грязному белокожему лицу, покрытому синяками и ссадинами, текли крупные, как горошины, капли пота.
Сотильо молча глядел на него.
— Перестанешь ты когда-нибудь упрямиться, мошенник? — проговорил он.
Тем временем веревку, одним концом которой были обвязаны запястья Гирша, перебросили через потолочную балку, и трое солдат стояли в ожидании, держа другой конец. Гирш ничего не отвечал. Толстая нижняя губа отвисла, как у слабоумного. Сотильо махнул рукой. Солдаты дернули веревку, ноги Гирша оторвались от пола, и отчаянный, безумный вопль заполнил собой все — и комнату, и длинный коридор, и всю таможню, выплеснулся за ее пределы, так что каждый находившийся на берегу солдат испуганно покосился на окна; что до офицеров в большом зале — некоторые из них начали переговариваться нарочито громко и оживленно; другие, стиснув зубы, хмуро уставились в пол.
Сотильо вышел в сопровождении солдат. При его появлении часовой на лестничной площадке взял на караул. А в комнате, пустой и полутемной, где высоко на стене легкой рябью колыхался свет солнца, отраженный водной гладью залива и проникший сквозь щель в жалюзи, визжал Гирш, пронзительно и надсадно. Глаза его были выпучены, брови удивленно подняты, рот разинут — полная зубов черная пасть, неправдоподобно большая… смешная.
Крик волнами растекался по раскаленному воздуху — до вечера было еще далеко — и достигал даже конторы ОПН. Капитан Митчелл, временами выходивший на балкон выяснить, что, собственно говоря, происходит, тоже услышал голос Гирша, доносившийся слабо, но четко, и этот жуткий, приглушенный расстоянием звук долго звенел в его ушах уже после того, как побледневший капитан скрылся за дверью. В течение дня капитан Митчелл несколько раз выходил на балкон и каждый раз поспешно удалялся.
Сотильо, хмурый, раздраженный, быстрыми шагами расхаживал по коридору, советовался с офицерами, отдавал противоречащие один другому приказы, а пронзительные вопли Гирша не смолкая неслись и проникали в каждый уголок огромной пустынной таможни. Временами наступала тишина, и тогда делалось особенно страшно. Несколько раз он входил в комнату пыток, где на столе лежали его сабля, хлыст, револьвер и бинокль, и с притворным спокойствием спрашивал: «Скажешь ты наконец правду? Нет? Ну что ж, я могу подождать». Но он лгал, он не мог ждать слишком долго. В этом и была беда. Каждый раз, когда он входил в пыточную или, хлопнув дверью, выходил оттуда, часовой брал на караул, преданно глядя в лицо полковника, и каждый раз встречал в ответ растерянный взгляд, полный черной злобы и не выражавший ровно ничего, а бывший просто отражением души… души, в которой гнездились неуверенность, ярость и злобная алчность.
Солнце уже село, когда он зашел туда в последний раз. Солдат внес две зажженные свечи, поставил их на стол и выскользнул, бесшумно затворив за собой дверь.
— Да говори же наконец, жидовское отродье! Где серебро? Где серебро, ты скажешь или нет? Куда вы его спрятали, чертовы иностранцы? Воры, жулики! Сознайся, не то…
Туго натянутая веревка слегка дрогнула, но тело сеньора Гирша, предприимчивого торговца из Эсмеральды, свисало с балки неподвижно, как гиря, а его ужасное лицо безмолвно маячило перед лицом полковника. Ночной воздух, охлажденный снегами Сьерры, мало-помалу проникал в душную комнату, внося с собою восхитительную свежесть.
— Говори, мерзавец… вор… picaro… не то…
Сотильо схватил хлыст и поднял руку. Одного лишь слова, одного-единственного слова было бы достаточно, чтобы он стал раболепно ползать по полу на коленях, ловя сонный, неподвижный взгляд и всматриваясь в грязное лицо с плотно сжатым искривленным ртом, обрамленное всклокоченными волосами. Полковник скрипнул зубами и стегнул несчастного хлыстом. Веревка чуть заметно качнулась, как цепь остановившегося маятника, который кто-то подтолкнул рукой. Но колебательное движение сообщилось лишь веревке. Тело же сеньора Гирша, известного на побережье торговца кожами, не качнулось, а судорожно дернулось вверх, словно рыба на крючке у рыболова. Голова сеньора Гирша запрокинулась назад, подбородок задрожал. С минуту в притихшей полутемной комнате, освещенной только пламенем двух свечей, было отчетливо слышно, как выбивают дробь его зубы. Сотильо ждал ответа, не опуская руки, и тут внезапно на лице сеньора Гирша мелькнула усмешка, вывернутые плечи с натугой подались вперед, и он плюнул в лицо Сотильо.
Хлыст выпал из руки, полковник, вскрикнув, отскочил, словно на него плеснули ядом. Он схватил револьвер и дважды выстрелил. Гнев тотчас же погас, его сменило полное оцепенение. Полковник был похож на слабоумного — он стоял с отвисшей челюстью, тупым и неподвижным взглядом. Боже милостивый, что он натворил? Как мог он это сделать? Подлый страх прокрался в его душу: он выстрелил, не думая, и навсегда замкнул уста, из которых многое желал исторгнуть. Что ему говорить теперь? Чем объяснить свой поступок? Бежать, без оглядки бежать куда-нибудь, куда угодно; он так перетрусил, что в голове его даже мелькнула нелепая паническая мысль — спрятаться под стол. Но было уже поздно; в комнату, бряцая шпорами, вбежали офицеры, громко и взволнованно переговариваясь. Впрочем, поскольку они не убили его сразу же, наглец обрел уверенность и успокоился. Он вытер рукавом лицо. Потом медленно обвел собравшихся свирепым взглядом, и все замолкли, встречая этот хмурый и недобрый взгляд; а недвижное тело усопшего сеньора Гирша, коммерсанта, покачалось чуть заметно, повернулось лицом к стене и замерло. Среди офицеров прошел испуганный ропот. Чей-то голос громко произнес:
— Вот человек, который уже никогда не заговорит.
Еще кто-то, из задних рядов, где толпились самые робкие, выкрикнул:
— Почему вы его убили, mi coronel?
— Потому что он во всем признался, — с наглостью отчаяния ответил Сотильо. Он понимал: он загнан в угол. Но не смутился, и ему помогло свойственное ему наглое бесстыдство… и репутация — ведь офицеры знали своего полковника. Никто из них не сомневался, что он способен совершить такой поступок. Им хотелось верить, что Сотильо в самом деле выведал у Гирша, где спрятано серебро. Ничто не делает человека таким легковерным, как алчность, ничто не заставляет его терять разум в такой степени и падать столь низко. Ах вот как, он во всем признался, этот чертов еврей, этот плут. Прекрасно! И теперь он больше никому не нужен. Капитан, мужчина с крупной головой, маленькими глазками и неподвижными мясистыми щеками, вдруг расхохотался гулким басом. Старик майор, долговязый и оборванный, как пугало, описал круг и оглядел со всех сторон тело сеньора Гирша, безмятежно бормоча себе под нос, что теперь-то наконец уж можно успокоиться — этот негодяй не будет больше их дурачить. Остальные таращились на покойника, переминаясь с ноги на ногу и перешептываясь.
Сотильо пристегнул к поясу саблю и резким властным тоном приказал незамедлительно начинать отступление. Устрашающий и зловещий в своем надвинутом на лоб сомбреро, он первым вышел из дверей и, пребывая в полнейшем смятении чувств, забыл дать распоряжения на случай, если доктор Монигэм возвратится в таможню. Офицеры, сгрудившись толпой, вышли следом, человека два из них украдкой оглянулись на усопшего сеньора Гирша, коммерсанта из Эсмеральды, который так и остался на дыбе, освещенный двумя свечами. Громадная тень, которую его голова и плечи отбрасывали на стену опустевшей комнаты, казалось, шевелилась как живая.
На берегу солдаты в полной тишине строились и отбывали по ротно без барабанов и горнов. Старое пугало майор командовал арьергардом; но солдаты, которым он велел остаться, сжечь таможню «и заодно спалить распроклятого предателя еврея», слишком торопились и не сумели развести такой огонь, чтобы загорелись ступени.
И сеньор Гирш остался пока единственным хозяином недостроенного угрюмого и пустынного здания таможни, где гулко хлопали двери и щелкали замки, где с таинственным шорохом носились по полу клочки изорванной бумаги, и при каждом порыве ветра, пробегавшего под высокой крышей, слышался трепетный вздох. Пламя двух свечей, озарявших бездыханное тело, бросало мерцающий отсвет, видный издали на берегу и на воде, словно кто-то посылал сигналы сквозь ночную тьму. Покойник дождался Ностромо и напугал его, дождался Монигэма и его озадачил.
— Почему же его застрелили? — повторил доктор уже громче. Ностромо желчно рассмеялся.
— Застрелили, и делу конец. Обычная вещь, сеньор доктор. И что вы так волнуетесь, понять не могу. Я думаю, скоро нас всех тут перестреляют, не Сотильо, так Педрито или Фуэнтес, или Гамачо. И на дыбу могут вздернуть, а может, и похуже того… quién sabe? Вы ведь сами вбили в голову Сотильо, что где-то запрятано серебро.
— Там нечего было вбивать, — возразил доктор, — я только…
— Верно сказано. Вы только гвоздиком приколотили, так что теперь даже сам дьявол…
— Я сделал именно то, что собирался, — перебил его доктор.
— Именно то, что собирались. Bueno. А я что говорю? Вы человек опасный.
Они переговаривались вполголоса, но разговор перешел в ссору и внезапно оборвался. Усопший сеньор Гирш — вертикальная тень на фоне звездного окна, — казалось, внимательно прислушивался к их словам, бесстрастно храня молчание.
Впрочем, доктор Монигэм не собирался ссориться с Ностромо. Сейчас, когда решалась судьба Сулако и его обитателей, он наконец-то понял, что человек этот воистину незаменим, что даже восторженный капитан Митчелл, гордый своей находкой, не представляет себе, насколько он незаменим; и что как бы ни изощрялся Декуд по поводу «своего прославленного друга, неподражаемого капатаса каргадоров», истинное положение дел превосходит самый бурный взлет его иронической фантазии. Он и в самом деле неподражаем. Не один на тысячу. Единственный. Было что-то в этом генуэзском моряке, что делало его вершителем многих судеб, и исход многих великих начинаний зависел от него, и капиталы Чарлза Гулда, и участь обворожительной женщины. Эта последняя мысль так подействовала на доктора, что ему пришлось откашляться прежде, чем он смог заговорить.
И уже совершенно другим тоном он заметил капатасу, что, собственно говоря, ему ведь ничего не грозит. Все считают его погибшим. Это большое преимущество. Нужно только скрыться в Каса Виола, где старик гарибальдиец, как известно, сейчас совсем один… не считая его умершей жены. Все слуги разбежались. Никому и в голову не придет искать его там, да и вообще искать его нигде не будут.
— Именно так бы все и вышло, — холодно сказал Ностромо, — если бы я не встретился с вами.
Доктор ответил не сразу.
— Вы хотите сказать, что, по вашему мнению, я могу вас выдать? — спросил он, запинаясь. — Но зачем? Зачем мне это делать?
— Почем я знаю? Мало ли зачем? Допустим, для того, чтобы выгадать день. Сотильо будет целый день держать меня на дыбе, а может быть, придумает что-нибудь еще, прежде чем всадить мне пулю в сердце, как тому бедняге наверху. Вполне достаточная причина.
Доктор судорожно глотнул. У него пересохло в горле. Не потому, что он был возмущен. Доктор с трогательной наивностью верил, что он утратил право возмущаться кем-нибудь… или чем-нибудь. Он просто испугался. Неужели этот малый случайно узнал его историю? Если так, все его планы рушатся. Незаменимый человек не станет ему подчиняться, и причина этого — несмываемое пятно, из-за которого считается, что доктор создан для грязной работы. Ему стало так скверно, будто он заболел. Он бы отдал что угодно, чтобы проверить правильность своей догадки, но благоразумней было молчать. Постоянное сознание своей униженности довело его преданность до фанатизма, ожесточило его душу и наполнило ее горечью и печалью.
— И в самом деле достаточная причина, — язвительно откликнулся он. — В таком случае, чтобы спастись, вы должны убить меня прямо на месте. Я буду защищаться. Но вам, конечно, известно, что оружия с собой я не ношу.
— Черт бы вас побрал! — вспылил капатас. — Все вы, важные да образованные, одним миром мазаны. Всех вас надо бояться. Вы предаете бедняков, которые вам служат, как собаки.
— Но ведь вы не знаете… — осторожно начал доктор.
— Знаю я вас всех! — крикнул Ностромо и сделал угрожающий жест, в глазах доктора не более опасный и не более реальный, чем неподвижность сеньора Гирша. — Вам нет дела до простого человека. Те, кто служит вам, для вас не люди. Да взгляните вы хоть на меня! Сто лет вы меня знаете, и вдруг — я оказываюсь под забором, как бездомный пес, и даже косточки мне никто не кинет. — Тут он почувствовал, что слишком разгорячился, и понизил голос. — Конечно, — иронически добавил он, — я не думаю, к примеру, что вы побежите доносить на меня Сотильо. Не в том дело. Дело в том, что я никто! Вот так вдруг… — Он с горечью махнул рукой. — Никто для каждого из вас, — повторил он.
Доктор с облегчением вздохнул.
— Послушайте, капатас, — сказал он, почти с нежностью протягивая к его плечу руку. — Я хочу вам объяснить одну простую вещь. Вы нужны, и поэтому в безопасности. Никакая сила в мире не может принудить меня вас выдать, потому что вы мне нужны.
Ностромо прикусил губу. Уж этих-то речей он слышал предостаточно. И прекрасно понимает их смысл. Будет с него! Однако теперь ему следует вести себя осмотрительно. Кроме того, подумал он, ссориться с доктором опасно. Доктор, хоть и признан был искуснейшим целителем, считался в народе дурным человеком. Это мнение возникло и утвердилось из-за странной наружности доктора, насмешливой и грубой манеры говорить — доказательств видимых, ощутимых и неопровержимых. А Ностромо был человек из народа. Он сдержался и лишь недоверчиво хмыкнул.
— Говоря начистоту, — продолжал доктор, — вы единственная наша надежда. В вашей власти спасти город и… всех, кто там живет, от гибельной алчности этих людей…
— Нет, сеньор, — угрюмо сказал Ностромо. — Не в моей это власти вернуть вам сокровище, чтобы вы могли отдать его Сотильо или Педрито, или Гамачо. Я и сам не знаю, где оно.
— Невозможного никто не ожидает, — последовал ответ.
— Никто… вы сами это сказали: никто, — угрожающе пробормотал Ностромо.
Но доктор Монигэм, загоревшись надеждой, не обратил внимания на загадочность слов и угрожающую интонацию. Усопший сеньор Гирш, которого они, привыкнув к темноте, теперь более отчетливо видели, казалось, придвинулся к ним. Доктор понизил голос, словно опасаясь, как бы покойник не подслушал их.
Посвящая Ностромо в свой план, он почтил «незаменимого человека» полным доверием. Поручение было весьма опасным и поэтому, конечно, лестным, к чему Ностромо давно уж привык. Капатас был раздосадован, растерян, и просьба доктора лишь подлила масла в огонь. Ну, как же не понять, что доктор стремится спасти рудники Сан Томе. Ведь он без них ничто. Он для себя старается. Точно так же, как старались для себя, переманивая на свою сторону каргадоров, сеньор Декуд, все бланко, европейцы. Декуд… Что с ним сталось, хотел бы он знать…
Долгое молчание Ностромо встревожило доктора. Он разволновался и без всякой нужды напомнил капатасу, что хотя сейчас тот в безопасности, но невозможно же скрываться вечно. Капатасу предстояло сделать выбор: либо, преодолевая все преграды и опасности, отправиться гонцом к Барриосу, либо покинуть Сулако тайком, бесславно и без денег.
— Ни один из ваших друзей сейчас не в состоянии вознаградить вас или защитить. Даже сам дон Карлос.
— Мне не нужно ни вашей защиты, ни ваших наград. Мне бы одного только хотелось: чтобы я мог положиться на ваше мужество и здравый смысл. Ведь когда я с триумфом, как вы говорите, вернусь сюда вместе с Барриосом, мы можем вас не застать. У каждого, у всех приставлен к горлу нож.
Тут надолго замолк доктор, с ужасом представляя себе всевозможные опасности, поджидающие тех, кто остается в городе.
— Ну что ж, мы полагаемся на ваше мужество и ваш здравый смысл. Кстати, нож приставлен и к вашему горлу.
— Верно! А кого мне за это благодарить? Что мне ваша политика и ваши рудники, ваше серебро и ваши конституции, ваш дон Карлос такой-то и дон Хосе такой-то…
— Я не знаю, — с яростью ответил доктор. — И не спрашивайте меня. Опасность грозит невинным людям, один мизинец которых стоит больше, чем мы с вами и все рибьеристы вместе. Понятия не имею, кого вам благодарить. Вам бы спросить себя об этом до того, как вы позволили Декуду втянуть вас в эту историю. Вы мужчина, вам полагается думать. Но коль скоро вы не соизволили подумать, постарайтесь действовать сейчас, как полагается мужчине. Неужели вы воображаете, будто Декуда очень беспокоило, что может с вами случиться?
— Не больше, чем вас, — буркнул Ностромо.
— Неправда. То, что с вами может случиться, тревожит меня так же мало, как то, что может случиться со мной.
— Потому, что вы такой преданный рибьерист? — недоверчиво спросил Ностромо.
— Да, потому, что я преданный рибьерист, — хмуро подтвердил доктор.
И снова Ностромо, уставившись на труп сеньора Гирша, надолго замолк, размышляя, что доктор Монигэм не только человек опасный, но к тому же очень непростой. Довериться такому человеку невозможно.
— Вы говорите от имени дона Карлоса? — спросил он наконец.
— Да, — ответил доктор громко и без колебаний. — Теперь он должен согласиться. Должен, — добавил он так тихо, что Ностромо его не расслышал.
— Что вы сказали, сеньор?
Доктор вздрогнул.
— Я сказал, что вы должны быть верным себе, капатас. Потерпеть сейчас поражение непростительно и глупо.
— Верным себе, — повторил Ностромо. — А может быть, я окажусь верным себе, если пошлю вас с вашими предложениями к черту?
— Очень возможно. Как угодно, — неприязненно ответил доктор, напускной грубостью стараясь скрыть, что у него упало сердце и дрогнул голос. — Я знаю только одно: вам нужно убираться отсюда, да поживее. В любой момент Сотильо может кого-нибудь прислать за мной.
Он слез со стола и прислушался. Ностромо тоже встал.
— Ну, положим, я поеду в Каиту; что тем временем будете делать вы?
— Пойду к Сотильо, как только вы отправитесь отсюда… тем способом, который я предложил.
— Отличный способ… если только согласится этот ваш главный инженер. Напомните ему, сеньор, что это я приглядывал за старым англичанином, которому принадлежит железная дорога, что именно я спас от смерти его служащих, когда сюда нагрянули бандиты с юга и чуть было не сбросили с путей какой-то поезд. Рискуя жизнью, я проник в их планы — притворился, будто собираюсь им помочь, в точности, как вы сейчас с Сотильо.
— Да, конечно. Впрочем, я могу ему привести и более веские аргументы, — поспешно сказал доктор. — Предоставьте это мне.
— Конечно, вам! Еще бы! Ведь я — ничто.
— Да будет вам! Вы — всё и превосходно это знаете.
Они направились к дверям. Сеньор Гирш не шевельнулся, — так всегда ведет себя человек, на которого не обращают внимания.
— Об этом не тревожьтесь. Я знаю, что надо сказать инженеру, — негромко продолжал доктор. — С Сотильо будет потрудней.
И доктор Монигэм внезапно остановился, словно испугавшись этих трудностей. Он решился пожертвовать жизнью. Считал цель достойной этой жертвы. Но у него не было стремления расстаться с жизнью как можно скорей. Взяв на себя роль предателя, он рано или поздно должен будет указать место, где спрятано сокровище. Тогда игре придет конец, и конец придет ему самому, ибо, обманувшись в своих надеждах, полковник непременно с ним расправится. Вполне естественно, что доктору хотелось оттянуть этот момент; а для этого надо назвать такое место, где вполне могло быть спрятано сокровище, но где его трудно будет найти.
Он поделился своими заботами с Ностромо и напоследок добавил:
— Знаете что, капатас? Я думаю, когда наступит время и мне уже нельзя будет молчать, я назову Большую Изабеллу. Ничего лучшего я не мог придумать. Что с вами?
Ностромо тихо вскрикнул. Доктор удивленно помолчал, потом услышал хриплый запинающийся голос: «Какая глупость!» — и удивленно посмотрел на моряка.
— Глупость? Почему?
— Ох! Да неужели вы не понимаете, — метнув на доктора уничтожающий взгляд, сказал Ностромо и высокомерно начал объяснять: — Три человека за полчаса выяснят, что на острове никто ничего не закапывал. Вы что же думаете, сеньор доктор, что такой огромный клад можно зарыть, не оставив следов? Выиграете вы полдня, никак не больше, а потом Сотильо перережет вам горло. Изабеллы! Это же надо придумать! Никакой изобретательности! А!., все вы на одну колодку, умные и образованные. Единственное, на что вы годитесь, втравить простого человека в такие дела, какие грозят ему смертью, а зачем втравить — вы иногда сами не знаете. Получится — вся выгода вам. Не получится — плевать. Что такое простой человек — собака. О, Madre de Dios![124] Да я… — и Ностромо потряс кулаком.
Он шипел, он клокотал от ярости, и изумленный доктор поначалу просто онемел.
— Сдается мне, — угрюмо произнес он наконец, — что простые люди — тоже не такие уж дураки. И коль скоро вы умны, то посоветуйте. Какое место мне назвать?
Ностромо успокоился так же быстро, как вспыхнул.
— Да, для этого у меня хватит ума, — ответил он негромко, чуть ли не равнодушно. — Вам надо назвать укрытие достаточно большое, чтобы они рылись там несколько дней… да к тому же такое, где можно спрятать эти слитки и не оставить на поверхности следов.
— И расположенное неподалеку, — добавил доктор.
— Именно так, сеньор. Скажите ему, что серебро затонуло.
— У вашей выдумки большое преимущество — она состоит в том, чтобы сказать Сотильо правду, — презрительно заметил доктор. — Он не поверит ей.
— А вы скажите ему, что оно затонуло там, где есть надежда выудить его, тогда он вам охотно поверит. Скажите, что серебро нарочно потопили так, чтобы когда-нибудь его смогли поднять со дна водолазы. Скажите ему, что вы узнали, будто дон Карлос приказал мне осторожно опустить тюки со слитками в воду, поставив баркас где-то на линии, соединяющей конец пирса со входом в гавань. Там не очень глубоко. Водолазов у Сотильо нет, зато есть пароход, шлюпки, цепи, канаты, матросы… какие-никакие, а есть. Пусть он пошарит там, поищет серебро. Пусть его олухи почистят драгой дно вдоль и поперек, взад и вперед, а он пусть пялится на них, пока глаза не лопнут.
— И в самом деле восхитительная идея, — одобрил доктор.
— Sí. Скажите ему так и можете не сомневаться: он вам поверит. Он будет мучиться, беситься, и все же он поверит вам. У него мысли будут заняты лишь этим. Он не отступится до тех пор, пока его не выгонят из города… он даже, может быть, забудет вас убить. Он ни есть, ни спать не будет. Он…
— Превосходно! Превосходно! — повторял возбужденным шепотом доктор. — Капатас, я начинаю верить, что вы гений в своем роде.
Ностромо умолк; потом опять заговорил, но уже не возбужденно и не убеждая доктора, а угрюмо рассуждая с собой и как будто позабыв о собеседнике.
— Сокровище это что-то такое, о чем, как ни стараешься, нельзя забыть. Ты и молиться будешь и богохульствовать, да все равно не выбросишь этой мысли из головы, ты проклянешь тот день, когда о нем услышал, и не заметишь, как придет твой смертный час, но так и будешь верить до конца, что еще чуть-чуть, и сокровище достанется тебе. Глаза закроешь, а оно перед тобой. Ты до самой смерти о нем не забудешь и даже после… Доктор, слышали вы о несчастных этих гринго с Асуэры, которые никак не могут умереть? Ха-ха! Такие же, как я, матросы. От сокровища нет спасенья, если ты хотя бы раз о нем подумал.
— Вы настоящий дьявол, капатас. Все это очень убедительно.
Ностромо сжал ему плечо.
— Это измучает его сильнее, чем жажда на море или голод в городе, полном людей. Знаете, что его ждет? Муки, более страшные, чем те, которым он подверг этого лишенного изобретательности беднягу. Вот уж у кого ее не было! Никакой! Ну, совершенно никакой! Другое дело я! Без всяких пыток я бы им такую историю рассказал!
С ужасным хохотом он обернулся и с порога взглянул на труп сеньора Гирша — темное продолговатое пятно в полупрозрачной мгле между двумя колоннами высоких окон, полных звезд.
— Эй ты, невольник страха! — крикнул он. — За тебя отомщу я, Ностромо. Прочь с дороги, доктор! Отойдите… не то, клянусь страдающей душою женщины, что умерла без исповеди, я вас задушу вот этими руками.
Он устремился вниз по лестнице в полный дыма черный зал. Доктор Монигэм удивленно крякнул и ринулся за ним следом. Добежав до обгорелых нижних ступенек, он споткнулся и ударился головою о пол с такой силой, что из него дух бы вышибло, если бы этот дух был менее стоек и не закален служением великим идеалам любви и преданности. В одно мгновение доктор вскочил, хотя его так тряхнуло, что у него возникло странное чувство, будто кто-то в темноте запустил ему в голову земным шаром. Впрочем, этого было недостаточно, чтобы остановить доктора Монигэма, объятого экстазом самопожертвования, рациональной экзальтацией, направленной на то, чтобы не упускать даже случайных преимуществ. Он бежал сломя голову, он ковылял с невероятной скоростью и, стараясь сохранить равновесие, размахивал руками, словно мельница крыльями. Он потерял шляпу, полы расстегнутого пиджака трепыхались сзади. Он ни в коем случае не должен упустить самой судьбою посланного ему незаменимого человека. Но он бежал еще долго и был далеко от таможни, когда смог наконец, запыхавшись, протянуть руку и схватить Ностромо за плечо.
— Остановитесь! Вы с ума сошли?
Ностромо к тому времени уже шел медленно, понурив голову: усталость разом навалилась на него и сломила его, изнурила.
— А вам-то что? Ах, я забыл, я вам зачем-то нужен. Как всегда. Siempre Nostromo![125]
— С чего это вам вздумалось грозить, что вы меня задушите?
— С чего вздумалось? Да потому, что царь всех дьяволов выудил вас из этого города болтунов и трусов именно этой ночью и подсунул мне.
Под звездным небом на темном просторе равнины возникло черное, приземистое здание гостиницы «Объединенная Италия». Ностромо остановился.
— Священники называют его искусителем, так ведь? — спросил он сквозь стиснутые зубы.
— Вы, любезнейший, порете чушь. Дьявол никакого отношения к этому не имеет. Равно как и город, который вы можете называть как вам вздумается. Но дон Карлос Гулд не болтун и не трус. Вы признаете это? — Он подождал ответа. — А?
— Могу я повидать дона Карлоса?
— Силы небесные! Конечно, нет! Зачем? Для чего? — взволнованно воскликнул доктор. — Говорю вам, вы сошли с ума. Я ни в коем случае вам не позволю войти в город.
— Но мне нужно.
— Нет! — яростно отрезал доктор, чуть не обезумев от страха при мысли, что этот человек из-за какой-то дурацкой причуды может лишить их той пользы, которую он способен принести. — Говорю же, вам нельзя туда ходить. Я бы скорей…
Он замолчал, не зная, что еще сказать, обессиленный, измученный после долгого бега, и уцепился за рукав Ностромо, просто чтобы удержаться на ногах.
— Везде предательство! — пробормотал Ностромо; и доктор, который услыхал его слова, хотя и не понял их смысла, принялся его убеждать.
— Именно это с вами и случится. Кто-нибудь непременно вас предаст.
Внезапно он, похолодев от ужаса, подумал, что Ностромо знаком абсолютно всем, и нет такого человека, который не узнал бы его при встрече. Дом сеньора администрадо́ра, конечно, осажден шпионами. Даже слугам нельзя доверять.
— Поразмыслите над этим, капатас, — произнес он внушительно. — Чему вы смеетесь?
— Я смеюсь потому, что подумал: вот, к примеру, пусть даже кому-нибудь не понравится, что я явился в город — вы меня поняли, сеньор доктор? — и этот человек выдаст меня Педрито, я ведь и с ним сумею подружиться. Истинная правда. Вы согласны со мной?
— Ваши возможности безграничны, капатас, — уныло согласился доктор. — Признаю. Но в городе только и говорят что о вас, а несколько каргадоров, которые не успели спрятаться на товарной станции вместе со служащими железной дороги, сегодня весь день кричали «Viva Montero!» на Пласе.
— Бедные мои каргадоры, — тихо пробормотал Ностромо. — Их предали. Всех предали!
— Полагаю, в свое время на пристани вы довольно щедро угощали палкой ваших бедных каргадоров, — сухо сказал доктор — он уже успел прийти в себя. — Вы слишком самонадеянны. Педрито в бешенстве оттого, что вы спасли жизнь сеньора Рибьеры и лишили его удовольствия расстрелять Декуда. По городу уже ходят слухи, что сокровище похищено. Это тоже мало радует Педрито; и хочу добавить: если бы серебро находилось у вас в руках и вы предложили бы его как выкуп, это все равно бы вас не спасло.
Ностромо резко повернулся к доктору, схватил его за плечи и рывком притянул к себе.
— Maladetta![126] Вы следите за каждым моим словом. Вы поклялись меня погубить. Вы были последним, кто посмотрел на меня, перед тем как я отправился в море. А Сидони, машинист, говорит, что у вас дурной глаз.
— Кому же знать, как не ему. В прошлом году он сломал ногу, а я его вылечил, — ответил доктор, но спокойствие давалось ему нелегко. Очень уж крепко давили ему на плечи эти руки, умевшие, как утверждала молва, гнуть подковы и рвать канаты. — Что до вас, я предлагаю вам самый надежный способ спасти вашу жизнь — да отпустите же! — и в полном блеске восстановить свою славу. Вы похваляетесь, что из-за этого пресловутого серебра капатас сулакских каргадоров прогремит на всю Америку. Я предоставлю вам более блестящую возможность… уберите руки, hombre![127]
Ностромо неожиданно отдернул руки, и доктор испугался, как бы незаменимый человек опять не убежал. Но тот шел медленно. Доктор терпеливо ковылял с ним рядом до тех пор, пока уже у самой Каса Виола моряк не остановился.
Притихшая, негостеприимно темная, Каса Виола была неузнаваема; Ностромо почудилось, будто дом, который он привык считать родным, стал таинственно враждебным и безжалостно его от себя отторгает.
— Здесь вы будете в безопасности, — сказал доктор. — Входите, капатас.
— Как я могу сюда войти? — тихо проговорил Ностромо, казалось, обращаясь к самому себе. — Того, что сказала она, не изменишь и того, что сделал я, уже не повернешь вспять.
— Право же, вы можете быть спокойны. Виола там совершенно один. Я заглядывал сюда по пути из города. Пока вы в этом доме, вам ничто не грозит, а потом вы его покинете и совершите подвиг, после которого о вас заговорит все побережье. Я сейчас условлюсь с главным инженером дороги, как вас переправить, и еще до утра принесу вам ответ.
И доктор, игнорируя молчание Ностромо, а возможно, опасаясь вникать в его смысл, похлопал его по плечу и направился в сторону железной дороги, бодро прихрамывая, даже подскакивая слегка на ходу, и вскоре растворился в темноте. Остановившись между двумя столбами, к которым постояльцы привязывали лошадей, Ностромо замер в неподвижности, будто и его, как столб, врыли в землю. Через полчаса он поднял голову, услышав лай собак на товарной станции, лай внезапный, возбужденный, и в то же время этот шум раздавался так приглушенно, словно шел из-под земли. Хромой доктор с дурным глазом быстро туда добрался.
Ностромо шаг за шагом начал приближаться к гостинице «Объединенная Италия», такой безлюдной, такой темной, какой он не видел ее никогда. В стене, белевшей среди мглы, зиял черный проем двери — дверь была распахнута, как и сутки назад, когда он выходил отсюда, еще не думая, что ему надо что-то прятать и скрывать. В нерешительности остановился он перед порогом… Кем он стал теперь? Жертва предательства, беглец. Горе, нищета, голодная смерть! Где он слышал эти слова? Умирающая в гневе предрекла ему эту судьбу. Быстро же сбылось ее пророчество! Даже уличные воришки будут смеяться над ним, сказала она. Ну, еще бы им не смеяться, если они узнают, что знаменитым капатасом теперь помыкает сумасшедший доктор, еще несколько лет назад покупавший вместе с ними на Пласе миску похлебки на медные деньги.
Тут он подумал: не надо ли разыскать капитана Митчелла. Он бросил взгляд в сторону пристани и увидел, что в конторе ОПН мерцает свет. Но сейчас его пугали светящиеся окна. Два светящихся окна заманили его в пустую таможню, где в него вцепился этот доктор. Нет уж! К освещенным окнам он этой ночью больше не подойдет. Капитан Митчелл там. Что ему можно рассказать? Доктор выудит у него все, как у малого ребенка.
Он ступил на порог и негромко окликнул: «Джорджо!» Никто не отозвался. Он вошел в дом. «Эй, старик! Ты тут?» Со всех сторон его окутала непроницаемая тьма, и ему почудилось на миг, будто кухня так же огромна, как Гольфо Пласидо, а пол уходит из-под ног, словно палуба тонущего баркаса. «Эй, старик!» — повторил он с запинкой, слегка покачиваясь. Он вытянул руку, чтобы сохранить равновесие, и коснулся стола. Он сделал шаг к столу, пошарил там и нащупал коробок спичек. Ему показалось, что он услышал тихий вздох. Сначала он прислушался, затаив дыхание; потом дрожащими руками чиркнул спичкой.
Спичка вспыхнула и ярко запылала, а он поднял ее вверх и, прищурившись, вгляделся в темноту. Огонек осветил львиную седую гриву Джорджо, который сидел, наклонившись вперед, скрестив ноги, опираясь щекой на руку, зажав в зубах пустую трубку и неподвижно глядя перед собой; а вокруг все темно — черный камин за спиной, густые тени, нависшие над головою старика, обступившие его со всех сторон. Он долго не шевелился, потом поднял голову, и в то же мгновение спичка догорела, и тени его поглотили — казалось, крыша и стены опустевшего дома беззвучно опустились на седую голову старика.
Он пошевелился в темноте и невозмутимо произнес:
— Наверное, почудилось.
— Нет, — сказал Ностромо тихо. — Не почудилось, старик.
Низкий грудной голос Виолы гулко прозвучал в пустой комнате:
— Это ты говоришь со мной, Джан Батиста?
— Я, старик. Потише. Не так громко.
Джорджо Виолу после того как его отпустил Сотильо, проводил почти до самых дверей гостиницы главный инженер, и старик снова оказался в доме, из которого его увели чуть ли не в тот самый миг, когда скончалась его жена. Все было тихо. Под потолком горела лампа. Забывшись, он едва не окликнул жену, но тут же вспомнил, что теперь она никогда уже не отзовется, и грудь его пронзила острая боль, он громко застонал и рухнул в кресло.
Так он молча просидел всю ночь. За окном начало сереть, потом проглянул тусклый бесцветный рассвет и проступила зубчатая стена Сьерры — плоская, как будто вырезанная из бумаги.
Восторженная и суровая душа Джорджо Виолы, моряка, защитника угнетенных, недруга королей и, милостями миссис Гулд, хозяина местной портовой гостиницы, блуждала в пустыне отчаяния среди обломков навек утраченного прошлого. Недолгим было его ухаживание: всего одна короткая неделя во время сбора оливок в промежутке между двумя походами. Мрачная глубокая страсть владела им в эти дни, с ней могло сравниться лишь объявшее его сейчас жгучее чувство утраты. Лишь теперь он понял, как необходимо ему было слышать этот навеки умолкнувший голос.
О ее голосе он тосковал больше всего. Поглощенный то делами, то раздумьем, он редко в последние годы смотрел на жену. Он вспомнил о дочерях, но эта мысль принесла не утешение, а тревогу. Он тосковал о голосе жены. Потом он вспомнил старшего ребенка, сына, который умер совсем маленьким на корабле… Да… будь в семье мужчина, он нашел бы в нем опору. А тут, о горе! Даже Джан Батисты, которого Тереза с таким жаром прочила Линде в женихи перед тем, как погрузилась в свой последний сон, Джан Батисты, которого она перед смертью заклинала быть защитником ее детей… даже его нет в живых!
И старик, нагнувшись, опираясь головою на ладонь, неподвижно просидел весь день в глубоком одиночестве. Он не слышал отчаянного трезвона колоколов. Колокола умолкли, наступила тишина, только капли из глиняного фильтра в углу кухни звонко падали в большой кувшин.
Незадолго до захода солнца он встал и начал медленно подниматься по узкой лестнице, ведущей вверх. Его широкие плечи, прикасаясь к стенам, издавали тихий шорох, словно мышь скреблась в норе. Он долго сидел наверху; дом был нем, как могила. Затем с таким же еле слышным шорохом спустился вниз. В кухне ему пришлось хвататься за столы и стулья, прежде чем он добрался до места. Он взял трубку с высокой каминной доски, но табак искать не стал, просто сунул в рот пустую трубку и, сдвинув ее в угол рта, сидел все так же неподвижно, глядя в одну точку. Солнце, осветившее вступление Педрито в город, последние часы сеньора Гирша, первую одинокую вахту Декуда на Большой Изабелле, проследовало над гостиницей «Объединенная Италия», двигаясь на запад. Умолкли капли, звонко падавшие из фильтра, погасла лампа под потолком, на Джорджо Виолу и его мертвую жену спустилась ночь, безмолвная и темная, и, казалось, безмолвию и темноте не будет конца, пока воскресший из мертвых капатас не обратил их в бегство, чиркнув спичкой.
— Sí, viejo[128]. Это я. Погоди.
Заперев дверь на засов и тщательно затворив ставни, Ностромо разыскал на полу свечку.
Старик тем временем встал и, прислушиваясь в темноте к звукам, следил взглядом за Ностромо. Засветив огонь, Ностромо увидел, что старый Виола крепко стоит на ногах, словно одно лишь присутствие человека, верного, храброго, неподкупного, в точности такого же, каким мог бы стать его сын, влило в него новые силы.
Джорджо вытянул руку, сжимая вересковую трубку, чашечка которой слегка обгорела по краям, и зажмурился от света, насупив кустистые брови.
— Ты вернулся, — проговорил он, стараясь держаться с достоинством. — Что ж, прекрасно! Я…
Его голос дрогнул, и он замолчал. Ностромо кивнул; он стоял, прислонившись к столу и скрестив на груди руки.
— А ты думал, я утонул? Нет! Самая выносливая из собак, которые служат этим аристократам, этим богачам, этим благородным господам, не способным ни на что, кроме предательства и болтовни, еще не сдохла.
Старый гарибальдиец стоял не шевелясь и словно впитывал в себя звук знакомого голоса. Он слегка кивнул, как будто выражая одобрение; но Ностромо ясно видел, что старик ни слова не понял. Никто его не поймет; никому нельзя чистосердечно рассказать о судьбе Декуда, о своем спасении, о сокровище. Этот доктор враг простых людей… искуситель…
Старик вздрогнул — он старался подавить волнение, охватившее его при виде этого человека, который был в его доме своим, который заменил ему сына.
— Она верила, что ты вернешься, — произнес он торжественно.
Ностромо поднял голову:
— Она была умная женщина. Разве я мог не вернуться… — И мысленно закончил: «Если она мне предрекла горе, нищету и голодную смерть?»
Произнесенное в гневе предсказание Терезы, оскорбленный крик души, которой отказали в надежде обрести покой на небесах, заронило в душу Ностромо суеверные страхи, от которых часто не свободны даже самые отважные и удачливые из людей. Он ощущал себя во власти могущественных и недобрых сил. Какое страшное проклятие! И произнесла его она, единственная женщина, которую он звал матерью, — ведь он так рано осиротел, что родной своей матери не помнит. Слова, сказанные ею, обрекают на провал любое его начинание. И обстоятельства подтверждают это. Сама смерть избегает его теперь… Он с досадой сказал:
— Пойдем, старик! Дашь мне чего-нибудь поесть. Я голоден. Sangre de Dios![129] Так голоден, что просто кружится голова.
Уткнувшись подбородком в открытую грудь, скрестив руки, босой, нахмуренный, он смотрел, как старый Виола ищет для него еду, и был впрямь похож на человека, на которого пало проклятие, — сломленный, угрюмый, бессильный.
Старый Виола, не говоря ни слова, высыпал на стол сухие хлебные корки и половину луковицы.
Ностромо с жадностью принялся поглощать это нищенское угощение, а старый гарибальдиец отошел в угол и, присев там на корточки, налил в глиняную кружку красного вина из оплетенного прутьями большого кувшина. Привычным жестом, словно прислуживая посетителям, он сунул трубку в зубы, чтобы высвободить руки.
Ностромо залпом выпил вино. Загорелые щеки его слегка раскраснелись. Виола остановился перед ним и, кивнув большой седой головой в сторону лестницы, вынул изо рта пустую трубку и печально произнес:
— После того как здесь внизу раздался выстрел и убил ее… да, да, убил, так, словно кто-то целился в нее, и пуля попала ей в сердце, она позвала тебя и попросила, чтобы ты спас наших детей. Тебя позвала, Джан Батиста.
Ностромо поднял голову.
— В самом деле? Спасти детей? Их увезла английская сеньора, ваша благодетельница. Да, да! Твоя благодетельница, старик, представитель простого народа…
— Я стар, — тихо ответил Джорджо Виола. — Когда-то одной англичанке разрешили принести постель для раненого Гарибальди, лежащего в темнице. Для величайшего из людей. Он был тоже представителем народа — простой матрос. Отчего бы не позволить другой англичанке дать мне приют и кров над головой? Я стар. Я могу позволить ей это. Жизнь тянется слишком уж долго.
— Она сама может вскоре лишиться крова над головой, если я… Так что ты говоришь? Я должен ей помочь. Я должен не жалеть усилий и спасти всех «бланко» с нею заодно?
— Ты должен так сделать, — твердо сказал старик. — Ты должен сделать то, что сделал бы мой сын…
— Твой сын!.. Прекрасный, старина, у тебя сын. Значит, должен… А вдруг это просто ловушка… я ведь проклят, она прокляла меня, старик… Позвала, говоришь, и просила спасти? А потом?
— Больше она не сказала ни слова. — Героический соратник Гарибальди, представив себе мертвенный покой и тишину, царящие там, наверху, где на кровати лежит окутанное саваном тело, нахмурился, отвернулся и прижал ко лбу руки. — Она умерла; я не успел даже к ней подойти, — жалобно сказал он.
А капатас глядел в темный дверной проем, ведущий из кухни на лестницу, и перед его глазами проплывала Большая Изабелла, похожая на корабль, терпящий бедствие и груженный несметным богатством и безысходным одиночеством невольного отшельника. Он ничего не в силах сделать. Единственное, что он может, это держать язык за зубами, поскольку никому нельзя доверять. И сокровище будет потеряно, если только Декуду… Течение его мыслей внезапно пресеклось: он ни малейшего понятия не имеет, что может сделать Декуд.
Старик Виола стоял не шевелясь. Капатас, сидевший также неподвижно, опустил длинные ресницы, благодаря которым в верхней части его свирепого, усатого лица светилось что-то нежное, девически наивное. Они долго молчали.
— Да успокоит господь ее душу, — мрачно проговорил капатас.
ГЛАВА 10
Утро наступившего дня было тихим, и лишь с севера, со стороны Лос Атоса, доносился слабый отзвук перестрелки. Капитан Митчелл, стоя на своем балконе, прислушивался к нему с тревогой. Фраза — «В моем щекотливом положении, сэр, единственного представителя консульства, я имел все основания тревожиться по любому поводу, буквально по любому» — неизменно фигурировала в принявшем стереотипные формы повествовании об «исторических событиях», которым он впоследствии в течение нескольких лет потчевал всех знатных иностранцев, посещавших Сулако. Далее упоминалась необходимость соблюдать достоинство и в то же время нейтралитет, что было крайне трудно в его положении, «когда находишься в самой гуще событий, когда бушуют политические страсти, и, с одной стороны, бесчинствует этот пират Сотильо, а с другой — несколько более упорядоченная на вид, но по существу ничуть не менее жестокая и даже зверская тирания его превосходительства дона Педро Монтеро». Капитан Митчелл вовсе не любил преувеличивать опасность. Тем не менее он уверял, что это был знаменательный день. В тот день, незадолго до вечера, он встретил «этого беднягу, моего подручного — Ностромо. Простой матрос, которого я открыл и, смею сказать, самолично создал, сэр. Вы ведь слышали, как он ездил в Каиту. Историческое событие, сэр!».
Капитану Митчеллу, которого компания признавала одним из самых своих старинных и преданных слуг, было позволено завершить эту службу, занимая почетный и необременительный пост главы огромного, непомерно разросшегося учреждения. Учреждение все разрасталось, оно включало в себя толпы клерков, городскую контору и старую контору в гавани, оно подразделялось на отделы: пассажирский, перевозочный, грузовой и так далее, и именно это давало капитану Митчеллу возможность в полном безделье провести остаток своих дней в столице Западной республики, возрожденном Сулако.
Любимый горожанами за добродушие и церемонность манер, помпезный и наивный, он и сам ощущал себя человеком, далеко не лишенным значения в городе. Он вставал рано, чтобы побывать на рынке, пока гигантская тень Игуэроты еще не покинула радующие глаз экзотическими красками прилавки с цветами и фруктами; с умеренным любопытством следил за городскими сплетнями; раскланивался с дамами на Аламеде; был членом всех клубов и постоянным гостем Каса Гулд, одним словом, вел приятный образ жизни светского человека, всеми уважаемого старого холостяка. Но в дни прибытия почтовых пароходов он приезжал в контору порта в ранний час, а у пристани его ждала личная гичка с одетыми в бело-синюю форму лихими гребцами, готовыми отчалить в тот же миг, когда между волнами покажется нос парохода.
Знатных иностранцев, которых он встречал, капитан Митчелл вел затем в контору и просил там посидеть минуту-две, пока он подпишет бумаги. Потом и сам усаживался за свой стол и продолжал тоном гостеприимного хозяина:
— Времени не так уж много, если вам угодно все увидеть в один день. Мы поедем прямо к ленчу в клубе «Амарилья» — правда, я принадлежу еще и к «Англо-американскому» клубу — горные инженеры и бизнесмены, знаете ли, — а также к клубу «Мирлифлорес», — это новый клуб — английский, французский, итальянский, словом, всякий, — состоит он главным образом из очень милых молодых людей, которые рады хоть чем-нибудь выразить свое почтение к старейшему представителю компании, сэр. Но мы позавтракаем в «Амарилье». Мне кажется, вам будет интересно. Вы ощутите подлинный дух этой страны. Сливки общества, самые знатные семьи, сэр. Президент Западной республики тоже член этого клуба. Во внутреннем дворике симпатичный старый епископ с отбитым носом. Выдающееся произведение скульптуры, на мой взгляд, сэр. Кавальере Паррочетти — вы ведь знаете, Паррочетти знаменитый итальянский скульптор — работал здесь в течение двух лет, — был самого высокого мнения о нашем старом епископе. Ну вот! Теперь я к вашим услугам, сэр.
Гордый своей осведомленностью, проникнутый сознанием исторической важности людей, событий, зданий, он осыпал своего слушателя напыщенными отрывистыми фразами, время от времени подчеркивая их смысл легким мановением короткой и толстой руки, дабы ничто не ускользнуло от внимания его знатного пленника.
— Как вы заметили, повсюду строятся дома. Перед тем как совершилось Отделение, здесь была просто выжженная солнцем трава, густо осыпанная пылью, а к пристани вела проселочная дорога. Сейчас все переменилось. Вот ворота, ведущие в гавань. Живописно, не так ли? Раньше город кончался здесь. Вот мы въезжаем на улицу Конституции. Обратите внимание на старинные испанские особняки. Сколько достоинства! М-м? Я думаю, они в точности так же выглядели во времена вице-королей, только мостовая была другой. Сейчас брусчатка. Здесь расположен Сулакский Национальный банк, справа и слева от ворот — караульные будки. По ту сторону — Каса Авельянос, все без исключения окна нижнего этажа закрыты шторами. Там живет поразительная женщина — мисс Авельянос, — прекрасная Антония. Какая личность, сэр! Историческая личность!
Напротив — Каса Гулд. Как благородно выглядит парадная дверь. Да, да, те самые Гулды, основатели общества, первоначально известного, как концессия Гулда, о котором знает теперь весь мир. Я держатель семнадцати тысячедолларовых акций «Рудников Сан Томе, консолидейтид». Скромные сбережения, сделанные в течение всей жизни, сэр, и их вполне достаточно, чтобы я смог прожить в довольстве остаток своих дней, когда уйду в отставку и вернусь на родину. Надежное помещение капитала, как вы можете судить. Дон Карлос — мой близкий друг. Семнадцать акций, кроме всего прочего, неплохое наследство. У меня есть племянница — замужем за священником, — весьма достойный человек — небольшой приход в Суссексе — бесчисленное множество детей.
Сам я не был женат. Самоотречение — печальный удел моряка. Стоя с несколькими молодыми инженерами здесь, под аркой этого парадного подъезда, и готовясь защищать дом, где все мы нашли так много гостеприимства и доброты, я видел первую и последнюю атаку кавалеристов Педрито на армию Барриоса, только что захватившую ворота, ведущие в порт. Исход сражения был предрешен новыми винтовками, привезенными беднягой Декудом. Смертоносный огонь. В одно мгновенье улицу загромоздили трупы людей и лошадей. Второй атаки не было.
И таким образом капитан Митчелл целый день потчевал рассказами свою жертву:
— Пласа. По-моему, она великолепна. В два раза больше Трафальгарской площади.
Заняв позицию в самом центре Пласы, залитой солнечным светом, он указывал на отдельные здания:
— Ратуша, ныне дворец президента, кабильдо, где заседает нижняя палата. Заметили вы новые дома на той стороне площади? Компания Ансани, большой универсальный магазин, наподобие этих кооперативных коммерческих предприятий у нас в Англии. Старик Ансани был убит национальными гвардейцами, когда защищал свой сейф. Именно за это преступление по приговору возглавляемого генералом Барриосом военно-полевого суда был повешен депутат Гамачо, кровожадный, злобный зверь. Племянники старика превратили «Торговлю Ансани» в фирму, созданную на кооперативных началах.
Вся эта сторона площади сгорела дотла; раньше здесь была аркада. Убийственный огонь — при свете выстрелов я видел конец битвы, видел, как бегут льянеро, как бросают оружие национальные гвардейцы, а шахтеры рудников Сан Томе — все поголовно индейцы из горных районов — пронеслись потоком под звуки цимбал и труб, с развевающимися зелеными флагами, толпа разъяренных, обезумевших людей в белых пончо и зеленых шляпах — пешком, на мулах, на ослах. Такое зрелище можно увидеть только раз в жизни, сэр. Шахтеры, сэр, промчались через город, их вел дон Пепе верхом на вороном коне, а замыкали шествие их жены, они ехали на burros[130], и при этом били в бубны, сэр, и подбадривали мужей громкими воплями. Помню, у одной из этих женщин на плече сидел зеленый попугай, неподвижный, словно каменная статуэтка. Они только что перед этим спасли своего сеньора администрадо́ра: дело в том, что Барриос, хотя и отдал приказ немедленно начинать наступление, не смог бы успеть вовремя. Педрито Монтеро уже вывел дона Карлоса на расстрел — как много лет тому назад вывели его дядюшку, — и если бы он был убит, как сказал впоследствии Барриос, «за Сулако не стоило бы сражаться». Сулако без концессии Гулда — ничто, а в горах были заложены тонны динамита, установлены детонаторы, и старый священник отец Роман был готов взорвать рудники при первом же известии о победе Монтеро. Дон Карлос принял решение не оставлять их врагам, и его волю исполняли надежные люди.
Так говорил капитан Митчелл, стоя посреди площади и держа над головой белый зонтик на зеленой подкладке; но, войдя в прохладный сумрачный собор, где пахло ладаном и в полутьме виднелись коленопреклоненные фигуры женщин, одетых в черное или в белое, с лицами, прикрытыми вуалью, он начинал говорить тихо, и голос его звучал торжественно и внушительно.
— Здесь, — говорил он, указывая на нишу в стене, — установлен бюст дона Хосе Авельяноса. «Патриот и государственный деятель, — гласит надпись, — посол в Англии, Испании и так далее, и так далее, скончался на заре Новой Эры в лесах Лос Атоса, измученный длившейся всю его жизнь борьбой за Справедливость и Права Человека». Вполне похож, сходство передано неплохо. Работа Паррочетти по старым фотографиям и карандашному наброску, сделанному миссис Гулд. Я был хорошо знаком с этим выдающимся испано-американцем старой школы, истинным идальго, любимым всеми, кто его знал.
Мраморный медальон на стене, изображающий женщину, которая сидит, закрыв лицо вуалью и уронив руки на колени, — напоминание о несчастном молодом джентльмене, отправившемся в море вместе с Ностромо в ту роковую ночь. «Памяти Мартина Декуда, его невеста Антония Авельянос». Просто, благородно, открыто. В этом она вся. Необыкновенная женщина. Те, кто полагал, что она безудержно предастся отчаянию, ошиблись, сэр. Многие осуждали ее за то, что она не постриглась в монахини. Этого ожидали. Однако такие, как донья Антония, в монастырь не идут. Она живет в доме своего дядюшки, епископа Корбелана, в их городском особняке. Падре Корбелан — человек неистовый и неустрашимый, он постоянно воюет с правительством по поводу принадлежащих старой церкви земель и монастырей. Уверен, что о нем наслышаны в Ватикане. Теперь войдем в клуб «Амарилья», он прямо против нас, и там позавтракаем.
Едва выйдя из собора и едва ступив на самую верхнюю из ведущих в него ступеней, капитан Митчелл снова обретал помпезность, голос звучал громко и торжественно, рука совершала все те же кругообразные движения.
— «НАШЕ БУДУЩЕЕ» — вон напротив, на втором этаже, над витринами зеркального стекла; самая большая в городе ежедневная газета. Консервативного или, вернее, я бы сказал, парламентского направления. У нас тут есть парламентская партия, лидер ее — фактический глава государства, дон Хусте Лопес, в высшей степени, я полагаю, прозорливый человек. Могучий интеллект. Демократическая партия опирается главным образом, как ни печально мне это признать, на этих итальянских социалистов, сэр, с их тайными обществами, camorras[131], и тому подобное. Итальянцев тут множество, они осели на землях, принадлежащих железнодорожной компании, — бывшие моряки, механики и так далее: поселения тянутся вдоль всей магистральной линии. На Кампо есть целые итальянские деревни. И туземцев они втягивают в свои дела… Американский бар? Имеется. А вон там еще один. В том первом собираются южане, а этот больше посещают янки… Вот мы и в клубе «Амарилья». Когда будем подниматься на второй этаж, обратите внимание на епископа справа от лестницы.
Ленч начинался и неторопливо подходил к концу, маленький столик в открытой галерее ломился от яств, капитан Митчелл кивал, кланялся, поднимался, чтобы минуту-другую потолковать с чиновниками в черном, коммерсантами в сюртуках, офицерами в мундирах, пожилыми кабальеро с Кампо — сухощавыми, нервными, с землистым цветом лица или дородными, безмятежными, смуглыми, а также с высокопоставленными европейцами и американцами из Соединенных Штатов, чьи лица казались особенно белыми среди превалирующих здесь темных физиономий и блестящих черных глаз.
Откинувшись на спинку стула, Митчелл оглядывал довольным взглядом все вокруг и ставил на столик коробку толстых сигар.
— С кофе приятно выкурить сигару, сэр. Местный табак. Черный кофе, который подают в «Амарилье», изумителен, такого нигде в мире нет. Зерна нам присылает владелец знаменитой кофейной плантации в предгорьях, ежегодно дарит три мешка товарищам по оружию в память о сражении с национальными гвардейцами Гамачо, которое происходило прямо тут, под окнами, и в котором кофейный плантатор участвовал вместе с нашими кабальеро. Он был в это время в Сулако и отстреливался до конца, сэр, до печального конца. Дар доставляют на трех мулах — не по железной дороге, как обычный, заурядный товар, — прямо в patio, груз сопровождают верховые пеоны во главе с управляющим, он поднимается сюда в сапогах со шпорами и торжественно вручает его комитету клуба со словами: «В память павших третьего мая». Мы так и называем его: кофе «Tres de Mayo». Отведайте его.
И капитан Митчелл, лицо которого принимало в точности такое выражение, будто он готовится прослушать церковную проповедь, подносил чашечку к губам.
— Взгляните на этого человека в черном, он только что вошел, — произносил он, торопливо пригнувшись к собеседнику. — Знаменитый Эрнандес, военный министр. Специальный корреспондент «Таймс», написавший эту потрясающую серию писем, где он называет Западную республику сокровищницей мира, посвятил целую статью Эрнандесу и созданной им группе боевых отрядов — «Карабинеры Кампо».
Гость, с любопытством устремив взгляд в ту сторону, куда указывал капитан Митчелл, видел степенно шагающего по галерее мужчину в длинном черном фраке; с опущенными ресницами; продолговатым, невозмутимым лицом; лбом, прочерченным продольной морщинкой; седыми волосами, редкими на макушке, тщательно расчесанными и подвитыми на концах, закрывающими шею и падающими на плечи. Так вот как он выглядит, знаменитый разбойник, о котором не без интереса узнала Европа. На нем сомбреро с высокой тульей и плоскими широкими полями; на правом запястье деревянные четки. Капитан Митчелл тем временем продолжал:
— Этот человек спас наших беженцев от гнева Педрито. Как кавалерийский генерал, он отличился во время штурма Тоноро, где он действовал совместно с Барриосом и где погиб сеньор Фуэнтес и остатки монтеристов. Он друг и смиренный слуга епископа Корбелана. Ежедневно слушает три мессы. Могу поклясться, что каждый раз, когда он направляется к себе домой, он по дороге непременно заходит в собор помолиться.
С ожесточенным выражением лица капитан делал несколько затяжек, затем велеречиво продолжал:
— Испанская нация, сэр, изобилует яркими личностями, причем в разных сословиях… Я предлагаю вам пройти в биллиардную, — там сейчас прохладно и мы сможем поболтать без помех. До пяти в биллиардной всегда малолюдно. Я расскажу вам совершенно поразительные эпизоды времен последней революции и Отделения Западной республики. А когда спадет жара, мы прогуляемся по Аламеде.
Программа выполнялась неуклонно, как закон природы: прогулка по Аламеде, неспешная поступь, полная достоинства речь.
— Весь большой свет Сулако присутствует здесь. — Капитан Митчелл церемонно раскланивался направо и налево; потом внезапно с оживлением: — Донья Эмилия, карета миссис Гулд! Взгляните. Непременно белые мулы. Самая добрая, самая милая из женщин. Высокое положение в обществе, сэр. Очень высокое. Первая леди Сулако — жене президента далеко до нее. И вполне достойна этого. — Он снял шляпу, потом с подчеркнутой небрежностью добавил, что мужчина в черном, который сидит с ней рядом, — белый крахмальный воротничок, сердитое лицо, испещренное шрамами, — доктор Монигэм, инспектор государственных больниц, главный врач «Рудников Сан Томе, консолидейтид». Друг дома. Днюет и ночует там. Да и не удивительно. Его создали Гулды. Чрезвычайно умный человек и так далее, но я лично его не люблю. Его никто не любит. Помню, как он ковылял по улицам в клетчатой рубашке и в сандалиях, какие носят туземцы, а под мышкой нес арбуз — все свое дневное пропитание. Сейчас важная персона, сэр, и такой же противный, как прежде. Впрочем… Несомненно в свое время он недурно сыграл свою роль. Спас всех нас от гнусного вампира Сотильо, и полагаю, более щепетильный человек, конечно, бы не смог…
Он взмахнул рукой.
— Статую всадника на пьедестале, стоявшую тут прежде, удалили. Это был анахронизм, — не совсем вразумительно пояснил капитан Митчелл. — Поговаривают, на ее месте надо бы водрузить мраморную четырехугольную колонну в честь Отделения Республики, с ангелами мира по углам и с бронзовой статуей Правосудия наверху сплошь позолоченной, с весами в руках. Кавальере Паррочетти попросили сделать проект, вы можете его увидеть в рамочке и под стеклом в Муниципальной Зале. Вдоль цоколя со всех сторон должны быть выгравированы имена. И тут я вот что вам скажу! Начинать надо с Ностромо. Он сделал для Отделения Республики больше всех, а получил, — добавил Митчелл, — гораздо меньше многих… когда настала пора получать. — Он тяжело опустился на каменную скамью, стоящую под деревом, и похлопал рукой по сиденью, приглашая собеседника последовать его примеру. — Он отвез генералу Барриосу письма из Сулако, в которых его призывали немедля покинуть Каиту и вернуться сюда морем, чтобы нас спасти. К счастью, суда еще стояли в гавани.
Я даже не догадывался, сэр, что мой капатас не погиб. Понятия об этом не имел. Доктор Монигэм наткнулся на него в таможне, откуда всего за час или два до того отбыл мерзавец Сотильо. Мне ничего не рассказали; не намекнули ни единым словом, будто я недостоин доверия. Монигэм все устроил сам. Пошел на товарную станцию, добился, чтобы его принял главный инженер, и тот ради Гулдов и всего остального разрешил доставить Ностромо на паровозе до конечного пункта железной дороги — к тому времени проложили уже сто восемьдесят миль. Иначе прорваться он не мог. На конечной станции ему дали лошадь, оружие, кое-какую одежду, и он пустился уже в одиночку в свой знаменитый рейд — четыреста миль за шесть дней по объятой мятежом стране, и последний подвиг, наконец, — прорыв через линию обороны монтеристов на подступах к Каите. Если этот рейд описать, сэр, получился бы увлекательнейший роман. Он вез в своем кармане жизнь каждого из нас. Верность, преданность, мужество, ум — этих достоинств было недостаточно. Разумеется, он был неподкупен и бесстрашен. Но к тому же требовался человек, который умеет добиться успеха. А Ностромо был именно таким, сэр.
Пятого мая, практически находясь в плену в портовой конторе моей компании, я неожиданно услышал свисток паровоза на станции, то есть примерно в четверти мили от здания конторы, сэр. Я не поверил собственным ушам. Одним прыжком я оказался на балконе и увидел, как из ворот товарной станции со страшным воем вылетел окутанный белым облаком пара локомотив и внезапно остановился перед самой гостиницей Виолы. Я заметил, сэр, как из гостиницы «Объединенная Италия» выскочил человек — я не смог его разглядеть, — вскарабкался в паровозную будку, после чего локомотив буквально отпрыгнул от гостиницы и исчез в мгновение ока. Словно свечу задули, сэр!
Первоклассный машинист стоял там на площадке, смею вас заверить, сэр. В Ринконе их немилосердно обстреляли национальные гвардейцы, потом еще в одном селении. Колея, по счастью, осталась цела. За четыре часа они достигли конечного пункта дороги. Ностромо отправился в путь… Все остальное известно. Вам стоит только поглядеть вокруг.
Здесь, на Аламеде, есть люди, которые ездят в каретах и даже просто живы лишь благодаря тому, что много лет назад я нанял в грузчики матроса итальянца, сбежавшего со своего корабля, и поставил его старшим, потому что мне понравилось его лицо. Это факт. А с фактом не поспоришь, сэр. Семнадцатого мая, ровно через двенадцать дней после того, как я с недоумением увидел человека, выбежавшего из гостиницы и взобравшегося на паровоз, в гавань вошли транспортные суда с солдатами Барриоса, и Сокровищница Мира, как называет Сулако в своей книге этот человек из «Таймс», была спасена для цивилизации… для большого будущего, сэр. На западе Педрито теребил Эрнандес, к городу подступали шахтеры Сан Томе, а тут еще десант! Он не мог устоять. Без конца слал Сотильо депеши, где просил хоть на неделю присоединиться к нему. Если бы Сотильо исполнил его просьбу, последовала бы такая страшная резня, что в живых не осталось бы ни одного человека. Но вот тут-то на сцену вступил доктор Монигэм. Ослепленный одной идеей, Сотильо с утра до вечера торчал на палубе, наблюдая за работой водолазов, искавших серебро, которое, как он был уверен, утопили неподалеку от пристани. Рассказывают, что последние три дня, взбешенный неуспехом, он метался по палубе как безумный, осыпал проклятиями подплывавшие к пароходу лодки, приказывал им продолжать поиски, потом внезапно начинал топать ногами и орал: «А все же оно там! Я его вижу! Я его чувствую!»
Он как раз собирался повесить доктора Монигэма (которого держал при себе до окончания поисковых работ), когда первое из транспортных судов Барриоса — кстати, пароход нашей компании — на всех парах вошло в порт и, приблизившись, открыло ружейный огонь без малейших предупреждений, даже без оклика. Этот неожиданный маневр совершенно ошеломил приспешников Сотильо. Они настолько растерялись, что не догадались даже спуститься в трюм. Солдаты падали, как кегли.
Каким-то чудом в Монигэма, который стоял на палубе с накинутой на шею веревкой, не попала ни одна пуля, хотя они могли изрешетить его, как сито. Он потом рассказывал мне, что уже считал себя погибшим и кричал во все горло: «Выкиньте белый флаг! Да выкиньте же белый флаг!» Внезапно стоявший рядом старик майор из гарнизона Эсмеральды выхватил из ножен саблю и с криком: «Умри, вероломный злодей!» пронзил Сотильо и тут же сам упал, сраженный пулей.
Капитан Митчелл сделал паузу.
— Подобных эпизодов так много, сэр, что я могу рассказывать о них часами. Но нам пора отправляться в Ринкон. Просто невозможно побывать в Сулако и не увидеть огней Сан Томе — вся гора сверкает, как залитый светом дворец, воздвигнутый на темной равнине. Волшебное зрелище… Но позвольте рассказать вам небольшой анекдот, сэр; просто для наглядности, своего рода иллюстрация. Спустя две недели, а может быть, три, когда Барриос, получивший звание генералиссимуса, преследовал Педрито, бежавшего на юг, когда Временная Хунта, возглавляемая доном Хусте Лопесом, провозгласила новую конституцию, а дон Карлос Гулд паковал чемоданы, собираясь в Сан-Франциско и Вашингтон (Соединенные Штаты, сэр, были первой из великих держав, признавших Западную республику), — спустя две недели, говорю я, когда мы уже начали чувствовать, что наши головы, если можно так выразиться, несколько укрепились на плечах, один известный человек, крупный судовладелец, зашел ко мне по делу и сразу же сказал:
— А что, капитан Митчелл, этот малый (он имел в виду Ностромо) все еще капатас ваших каргадоров или уже нет?
— А в чем дело? — спрашиваю я.
— Да в том, что если он у вас все еще служит, то это одно дело; я отправляю и получаю множество грузов, и возят их ваши суда; только вот в чем беда: я на днях заметил, что он слоняется без всякого дела по пристани, а сегодня он вдруг останавливает меня и как ни в чем не бывало просит сигару. А я, как вы знаете, курю сигары довольно высокого сорта, и купить их не так-то легко.
— Мне кажется, все это пустяки, и не следует придавать им значения, — говорю я очень мягко.
— Да, конечно. Но мне это чертовски надоело. Этот малый вечно попрошайничает.
Сэр, я отвел в сторону глаза, потом спросил:
— Не были ли вы одним из узников, заключенных в cabildo?
— Вы прекрасно знаете, что был, и меня даже держали в наручниках, — отвечает он.
— И наложили штраф в пятнадцать тысяч долларов?
Он покраснел, сэр, — я ведь намекал на то, что, когда пришли его арестовать, он потерял сознание от страха, а потом так пресмыкался перед Фуэнтесом, что даже policiacos[132], которые приволокли его туда за волосы, не могли сдержать улыбки.
— Да, — ответил он, несколько присмирев, — а что?
— О, ровным счетом ничего, — говорю я. — Вы могли тогда немного обеднеть, даже если бы остались в живых… Так чем могу помочь?
Он сделал вид, будто не понял, почему я об этом вспомнил. Вот так-то, сэр.
Тут капитан Митчелл не без некоторого усилия поднимался со скамьи, и во время поездки в Ринкон гостю приходилось выслушать лишь одно-единственное замечание из уст своего неумолимого чичероне, который, устремив пристальный взгляд на огни Сан Томе, казалось, повисшие в вечерней тьме между землей и небом, изрекал:
— Великая это сила, сэр. Она может быть и доброй и недоброй. Великая сила.
Далее следовал превосходный обед в «Мирлифлорес», после которого у путешественника создавалось впечатление, что в Сулако много симпатичных и способных молодых людей, получающих слишком большое жалованье и потому утративших благоразумие, и среди них — несколько человек, главным образом англосаксов, понаторевших в искусстве изводить так любезно принимавшего его старика.
С шумом и звоном промчавшись в двуколке, влекомой тощим, быстроногим мулом, которого без устали нахлестывал возница, — несомненный уроженец Неаполя, — они вновь оказывались на пристани, и круг почти завершался в тот миг, когда экипаж (капитан Митчелл именовал его кабриолетом) подкатывал к дверям конторы ОПН, еще открытой в этот поздний час из-за прибывшего в порт парохода. Почти… но не совсем.
— Десять часов. Ваше судно будет готово к отплытию в половине двенадцатого, а может быть, и немного поздней. Зайдемте, выкурим еще по сигаре и выпьем бренди с содовой.
И в личном кабинете управляющего именитый пассажир «Цереры», «Юноны» или «Паллады», оглушенный неожиданно обрушившимся на него потоком зрелищ, звуков, фактов, имен, сложно переплетенных между собой событий, кротко слушал, как усталое дитя слушает на ночь волшебную сказку; странный голос, напыщенный и почему-то знакомый, как будто доносился из другого мира и рассказывал, как «в этой самой гавани» происходила международная морская демонстрация, положившая конец костагуано-сулакской войне. Как крейсер североамериканских штатов «Поухаттан» первым приветствовал флаг новой республики — лавровый венок на белом фоне, а в центре венка — желтая лилия. Слушал о том, как генерал Монтеро объявил себя императором Костагуаны и как примерно через месяц его застрелил (во время торжественной церемонии вручения орденов и крестов) молодой артиллерийский офицер, брат его любовницы.
— Низкий негодяй Педрито, сэр, бежал, — говорил голос. И продолжал. — Капитан одного из наших пароходов рассказывал мне впоследствии, что в одном из южных портов опознал его: Педрито носит теперь мягкие красные домашние туфли, бархатную феску с золоченой кисточкой и содержит публичный дом.
«Негодяй Педрито! Кто это, черт побери, такой?» — недоумевал высокий гость, пребывая в странном состоянии то ли бодрствования, то ли сна, сидя со старательно выпученными глазами и любезной улыбочкой, блуждающей на губах, из которых торчала восемнадцатая, а может быть, и двадцатая сигара, выкуренная за этот памятный день.
— Он возник передо мной, словно призрак, в этой самой комнате, сэр. — Капитан Митчелл рассказывал о Ностромо с неподдельной теплотой и гордостью, в которой сквозила печаль. — Можете себе представить, сэр, как я был поражен. Он вернулся морем; конечно, вместе с Барриосом. И знаете, что он мне рассказал прежде всего, как только я был в состоянии его выслушать, — шлюпка с того баркаса все еще плавает в заливе, и он видел ее! Его совершенно потрясла эта находка. И в самом деле поразительно, если вспомнить, что прошло семнадцать дней с тех пор, как он потопил серебро. Мне сразу бросилось в глаза, что он очень переменился. Все время пристально смотрел на стену, сэр, будто там бегает паук или еще какое насекомое. Так на него повлияла эта злосчастная история с серебром. Первое, о чем он меня спросил, — знает ли донья Антония о смерти Декуда. Его голос дрожал. Я ответил ему, что ведь донья Антония еще не возвратилась в город. Бедная девушка! И едва я приготовился засыпать его градом вопросов, как внезапно: «Простите, сеньор», — и он тотчас испарился. Я три дня его не видел. Я был, знаете ли, ужасно занят. Кажется, он то появлялся в городе, то исчезал и две ночи ночевал в бараках для железнодорожных рабочих. Он казался совершенно безразличным ко всему. Я встретил его на пристани и спросил:
— Когда возьмешься снова за дела, Ностромо? У каргадоров скоро будет работы невпроворот.
— Сеньор, — проговорил он нерешительно, пытливо глядя на меня, — вы очень удивитесь, если я вам скажу, что сильно устал и не смогу пока работать? Да и как мне сейчас браться за работу? Разве я могу смотреть в глаза моим каргадорам после того, как потопил баркас?
Я стал просить его не думать больше о баркасе, и он улыбнулся. От его улыбки у меня сердце заболело, сэр.
— Ты же не виноват, — сказал я ему. — Это несчастный случай. Судьба, а не ошибка.
— Sí, sí…— сказал он, отворачиваясь.
Я счел за благо больше не настаивать и дать ему время оправиться. Прошли годы, сэр, прежде чем он оправился. Я присутствовал при его встрече с доном Карлосом. Гулд, должен вам сказать, невозмутимый человек. Он привык держать в узде свои чувства за те долгие годы, когда ему приходилось иметь дело с разными мошенниками и негодяями, и над ним и его женой постоянно висела опасность разорения. Это сделалось его второй натурой, сэр. Долго глядели они друг на друга. Своим обычным сдержанным спокойным тоном Дон Карлос спросил, что может сделать для него.
— Мое имя знает весь Сулако, от одной окраины до другой, — так же спокойно ответил Ностромо. — Что еще вы можете для меня сделать?
Вот и весь разговор. Впрочем, некоторое время спустя здесь продавалась отличная шхуна, и мы вдвоем с миссис Гулд решили купить ее и подарить Ностромо. Мы так и сделали, но он выплатил всю ее стоимость в течение трех лет. На побережье, как грибы, росли всевозможные предприятия, сэр, бурный расцвет промышленности и торговли. А этот человек всегда добивался успеха, если не считать истории с серебром. Донья Антония, только что вернувшаяся из лесов Лос Атоса, еще не пришедшая в себя после всех выпавших на ее долю испытаний, тоже встретилась с ним. Она его попросила рассказать ей о Декуде: о чем они говорили, что делали, о чем думали до последнего мгновенья в ту роковую ночь. Миссис Гулд говорит, что он вел себя с большим тактом, был почтителен, сдержан и полон сочувствия. Мисс Авельянос разрыдалась, лишь когда он рассказал ей, что Декуд как-то сказал ему: мой план непременно увенчается грандиозным успехом… Именно это и случилось, сэр. Его план увенчался успехом.
Круг наконец-то подходил к концу. Именитому пассажиру, замирающему от наслаждения при мысли, что он вот-вот опять окажется в своей каюте, даже не приходило в голову задать себе вопрос, что это за штука «план Декуда»? Капитан Митчелл тем временем говорил:
— Очень жаль, что мы уже должны расстаться. Я провел в вашем обществе приятный день — вы слушали с таким живым интересом. Сейчас я провожу вас на пароход. Итак, вы увидели Сокровищницу Мира. Превосходное название.
Тут раздавался голос рулевого, оповещавшего, что гичка ждет, и круг на этом завершался.
Ностромо и в самом деле обнаружил в заливе шлюпку, оставленную им на острове, где он высадил Декуда: волны отнесли ее очень далеко от Большой Изабеллы. Он стоял на мостике флагманского корабля Барриоса, и до Сулако оставался еще час ходу. Барриос, высоко ценивший смелость и как никто способный ее оценить, всей душой полюбил капатаса. Во время перехода из Каиты генерал держал Ностромо при себе и то и дело к нему обращался, что служило признаком его расположения.
Ностромо первым увидел шлюпку — крохотное еле различимое пятно, — только она и силуэты трех островов темнели на мерцающей поверхности моря. Бывают времена, когда существенна любая мелочь и отмахиваться ни от чего нельзя: очень возможно, что эту лодку совсем неспроста занесло так далеко от берега. Это нужно выяснить. Барриос кивнул, флагманский корабль резко изменил курс и подошел к лодке так близко, что все увидели: в скорлупке этой нет людей. Просто маленькая шлюпка, отнесенная от берега течением; внутри лежат весла. Но Ностромо, чьи мысли все эти дни постоянно возвращались к Декуду, давно уже с волнением узнал шлюпку с того баркаса.
Нечего было и думать о том, чтобы остановиться и поднять шлюпку на борт. Время дорого, от каждой секунды зависит жизнь и будущее всего города. Флагман вернулся на свой прежний курс. Вслед за флагманом, растянувшись неровной линией примерно на милю, словно завершая какие-то океанские гонки, в ту же сторону двинулись и другие суда — все черные, с вздымающимися над ними дымами.
— Генерал. — Голос Ностромо прозвучал неожиданно громко, но спокойно. — Мне бы хотелось спасти эту лодочку. Клянусь богом, она мне знакома. Она принадлежит моей компании.
— А ты, клянусь богом, — с зычным хохотом благодушно отозвался Барриос, — принадлежишь мне. Я хочу сделать тебя капитаном кавалерии, как только мне попадется на глаза хоть одна лошадь.
— Генерал, я плаваю гораздо лучше, чем езжу верхом, — ответил Ностромо, проталкиваясь к поручням и не спуская взгляда с лодки. — Позвольте мне… Пустите меня…
— Пустить тебя? До чего же он, однако, самонадеян, этот малый, — добродушно подшучивал генерал, даже не глядя на Ностромо. — Отпустить его! Ха-ха! Он добивается от меня признания, что без него я не сумею взять Сулако. Ха-ха-ха! Ты хочешь добраться до нее вплавь, сынок?
Все, кто стоял на палубе, внезапно вскрикнули, и этот крик заглушил громкий бас генерала. Ностромо прыгнул за борт; его черная голова показалась из воды далеко от парохода. Барриос в ужасе пробормотал: «Cielo![133] Да простит бог мои прегрешения!» Он встревоженно посмотрел вслед Ностромо и увидел, что тот плывет с поразительной легкостью; только после этого он загремел:
— Ну, нет! Мы не будем останавливаться и выуживать из воды этого нахала. Пусть его тонет, этот сумасшедший капатас.
Когда Ностромо решил прыгнуть в море, его уже не могли удержать никакие уговоры. Пустая шлюпка, так таинственно выплывшая ему навстречу, словно в ней сидел на веслах невидимый призрак, околдовала его — она возникла, как некий знак, предупреждение, как ответ, ужасный, непонятный ему ответ на его раздумья о взаимной связи человеческой судьбы и сокровища. Он бы прыгнул в воду, даже если бы знал, что его там ожидает смерть. Вода была гладкая, как в пруду, и по какой-то непонятной причине в Гольфо Пласидо не водились акулы, хотя по другую сторону от Пунта Мала все море возле берега кишело ими.
Капатас обеими руками ухватился за корму. Пока он плыл, его сковало какое-то странное ощущение слабости. Сапоги и куртку он сбросил еще в воде. Он держался за корму, пока не отдышался. Транспортные суда, сейчас сгрудившиеся теснее, плыли курсом прямо на Сулако, и выглядело это так, будто происходят дружеские соревнования, своего рода регата; дым пароходных труб, сливаясь, создавал тонкую зеленовато-желтую пелену тумана, которая повисла у него над головой. Его отвага, его мужество, его подвиг явились причиной, из-за которой отправились в море эти суда, чтобы спасти жизни и имущество «бланко» — работодателей народа; спасти рудники Сан Томе; спасти детей.
Он перелез через корму. Да, это та самая лодка! Сомнений нет; сомнений никаких. Малая шлюпка при грузовой барже номер три, шлюпка, которую он оставил Мартину Декуду, чтобы дать ему возможность что-нибудь предпринять, если с берега никто не явится к нему на выручку. И вот она неожиданно попадается ему на глаза, загадочная и пустая. Что с Декудом? Капатас осмотрел шлюпку. Он пытался найти какую-нибудь царапину, какую-нибудь отметину, какой-нибудь знак. Все, что он обнаружил, — это коричневое пятно на борту рядом с сиденьем. Стараясь его разглядеть, он пригнулся пониже и поскреб пятно ногтем. Затем он сел на корме и просидел так очень долго.
Промокший с головы до пят, с мокрыми, обвисшими волосами и усами, с потухшим взглядом, устремленным на дно шлюпки, капатас каргадоров напоминал утопленника, который выплыл из морских глубин, чтобы полюбоваться, сидя в лодке, закатом. Его терзало беспокойство — и во время поездки, полной опасности и приключений, и во время возвращения: а успеют ли они? — волнение человека, преодолевшего все преграды, человека, который добился успеха; и все эти тревоги были постоянно сосредоточены на мысли об оставленном на острове сокровище и о единственном человеке, знавшем о его существовании. Сейчас волнение покинуло его. До последнего мгновения он ломал голову над тем, как устроить, чтобы поскорее побывать на Большой Изабелле и чтобы никто его при этом не заметил. Он был твердо убежден, что все, связанное с сокровищем, нужно хранить в глубокой тайне, и поэтому не сказал даже Барриосу, что оставил на острове Декуда и весь груз серебра.
Впрочем, в письмах, доставленных им генералу, где рассказывалось о положении в городе, говорилось вскользь, что баркас утонул. Ввиду этого обстоятельства одноглазый охотник на тигров, издали учуявший запах битвы, не стал тратить время, расспрашивая гонца. Мало того, Барриос из бесед с Ностромо вынес впечатление, что и дон Мартин Декуд, и серебряные слитки с рудников Сан Томе погибли одновременно; а Ностромо, коль скоро ему не приходилось отвечать на прямо поставленные вопросы, отмолчался под влиянием какого-то смутного чувства, в котором смешались досада и недоверие. Пусть дон Мартин все расскажет сам, думал он при этом.
И сейчас, когда перед ним открылась возможность добраться до Большой Изабеллы так скоро, как он даже не смел мечтать, его волнение улетучилось, словно душа покинула бездыханное тело на чуждой ей теперь земле. Ностромо равнодушно смотрел на залив. Взгляд его стал пустым и тусклым, веки не шевелились. Затем медленно, не двинув ни рукой, ни ногой, не шелохнувшись, не взмахнув даже ресницами, он вновь обрел одушевленность — застывшие черты приобрели живое выражение, стал осмысленным холодный неподвижный взгляд, и в нем засветилась глубокая задумчивость, словно какая-то одинокая печальная душа встретила на своем пути это покинутое своей душою тело и украдкой забралась в него.
Капатас нахмурился; а вокруг — на море, на островах, на побережье, в облаках на небе и в бликах света на воде — царила такая глубокая тишь, что даже это легкое движение бровей показалось мощным, решительным жестом. Так прошло много времени; капатас сидел не шевелясь. Потом он тряхнул головой и опять застыл, как все вокруг застыло. Внезапно он взялся за весла и резко повернул шлюпку носом к Большой Изабелле. Но прежде чем начать грести, он снова нагнулся над коричневым пятном на борту.
— Знаю я, что это такое, — сказал он, многозначительно кивнув головой. — Это кровь.
Он греб длинными, сильными, ровными взмахами весел. Время от времени оборачивался через плечо на Большую Изабеллу, но его встревоженный взгляд упирался в невысокие рифы острова, не встречая ответа, так, будто перед ним было чье-то непроницаемое лицо. Наконец нос лодки уткнулся в мель. Он рывком втащил ее на берег. И сразу же, повернувшись к закатному небу спиной, торопливо направился в глубь ложбины, поднимая каждым шагом фонтанчик воды в ручейке, ступая так стремительно и резко, что, казалось, он пинает этот неглубокий, чистый, нежно шелестящий ручеек. Он хотел засветло добраться до места, и каждая секунда была дорога.
Комья земли, трава, изломанные кусты прикрывали, нависая сверху, вход в укрытие под согнутым деревом и выглядели очень натурально. Декуд следовал указаниям Ностромо и обнаружил, действуя лопатой, некоторую сметку. Ностромо одобрительно усмехнулся, однако тут же с презрением скривил губы: неподалеку валялась и сама лопата — Декуд отбросил ее, окончив работу, то ли по беспечности, то ли внезапно испугавшись, и все его старания пошли насмарку. Э… все они хороши, эти hombres finos, изобретающие скуки ради новые законы и правительства и невыполнимые задачи для простых людей.
Капатас поднял лопату, и, едва его ладонь коснулась рукоятки, он ощутил внезапное желание взглянуть на кожаные тюки с серебряными слитками. Он копнул несколько раз, и показались края и углы двух-трех тюков, сделанных из дубленой кожи; счистив с них лопатой землю, он обнаружил, что один разрезан ножом.
Он тихо вскрикнул и быстро опустился на колени, зачем-то оглянувшись по сторонам. Он не сразу решился сунуть руку в прорез и ощупать находящиеся в тюке слитки. Ну, вот они. Раз, два, три… Так и есть, четырех не хватает. Кто-то унес. Унес четыре слитка. Но кто? Декуд? Больше некому. И почему? С какой целью? Что за блажь на него напала? Интересно. Отнес в лодку четыре слитка и… кровавое пятно на борту.
Капатас медленно встал.
— Может быть, он просто порезал руку, — пробормотал он. — Но тогда…
Он опустился на рыхлую землю и, обхватив руками колени, сидел с покорным и безнадежным видом, как раб, которого посадили на цепь и велели сторожить сокровище. Лишь один раз он вскинул голову: до него донесся треск ружейного огня, словно кто-то просыпал на барабан сухие горошины. Он немного послушал, потом сказал вслух:
— Он теперь уже никогда не вернется и ничего не объяснит.
И опять опустил голову.
— Нет, это невозможно! — произнес он в отчаянии.
Звук перестрелки замер. Красные отблески пылавшего в городе пожара пробегали по берегу, плясали в облаках, зловещим багрянцем окрасили все три Изабеллы. Ностромо поднял голову, но ничего не увидел.
— Но ведь тогда все остается неизвестным, — отчетливо проговорил он и умолк надолго — несколько часов он просидел, глядя прямо перед собой и не говоря ни слова.
Все осталось неизвестным. Не только для него, но и для остальных. И как легко можно догадаться, едва ли кто-нибудь, кроме Ностромо, очень уж раздумывал над тем, как кончил свою жизнь дон Мартин Декуд. Если бы каким-то образом стало известно, как было дело, непременно возник бы вопрос: почему? Но люди просто считали, что Декуд утонул, когда пошел ко дну баркас, и все им представлялось ясным и понятным: молодой поборник Отделения Республики погиб, сражаясь за свою идею и став жертвой несчастной случайности. А в действительности он погиб от одиночества — противника, с которым сталкиваются лишь немногие на нашей земле и противостоять которому способны лишь самые примитивные из нас. Блистательный бульвардье костагуанского происхождения умер от одиночества и недостатка веры в себя и в других.
По какой-то основательной причине, недоступной человеческому пониманию, обитающие в заливе морские птицы держатся в стороне от Изабеллы. Почему-то их гораздо больше влечет к себе скалистая Асуэра, где каменные склоны и ущелья так и звенят от гомона птиц, и кажется, будто они не могут поделить между собой легендарный клад и вечно ссорятся.
К концу первого дня на Большой Изабелле Декуд, ворочаясь в некоем подобии шалаша, которое он соорудил себе из жесткой травы в тени дерева, сказал:
— За весь сегодняшний день я не видел ни одной птицы.
Он и звука ни одного не услышал за день, не считая этой фразы, которую сам же пробормотал. День полного безмолвия — первый в его жизни. И при этом он ни секунды не спал. Невзирая на бессонные ночи, на дни, прошедшие в боях, горячих обсуждениях, разговорах; невзирая на все ужасы последней ночи — полное опасностей и тяжелого труда путешествие на баркасе, — он ни на мгновение не смежил век. И тем не менее он весь день, от рассвета до заката, не зная сна, пролежал на земле, то на спине, то вниз лицом.
Он потянулся и медленными шагами спустился в лощину — ночь он собирался провести рядом с серебром. Если Ностромо вернется — что может случиться в любую минуту, — он прежде всего заглянет сюда; а наведаться на остров, конечно, всего удобней ночью. С глубоким безразличием он вспомнил, что ничего не ел с тех пор, как остался тут один.
Он всю ночь не смыкал глаз, а когда рассвело, что-то съел с таким же безразличием. Блестящий Декуд-сын, любимец семьи, возлюбленный Антонии и первое перо Сулако, не смог справиться сам с собой один на один. Одиночество из чисто внешнего обстоятельства очень быстро превращается в состояние души, при котором ни ирония, ни скептицизм невозможны. Оно сковывает разум и загоняет мысли в тупик глубокого неверия. После того как он провел три дня, страстно желая увидеть человеческое лицо, Декуд поймал себя на том, что сомневается, действительно ли сохранилась его собственная личность. Ее поглотил мир облаков и воды, сил природы и форм природы. Только активная деятельность поддерживает в нас благотворную иллюзию независимости от системы мироздания, в которой наша роль, увы, невелика. Декуд потерял веру в реальность всех своих прошедших и будущих действий. На пятый день его охватила глубочайшая меланхолия, он погрузился в нее, как в океан. Он решил отторгнуть от себя людишек из Сулако, нереальных и ужасных, осаждавших его, как суетливые, мерзкие призраки. Он видел, как, теряя силы, он барахтается среди них, а Антония, огромная и прекрасная, как статуя богини, высокомерно смотрит на него, презирая за слабость.
Ни одного живого существа, даже парус не мелькнет вдали, куда ни поглядишь, все пусто, пусто; и, спасая себя от одиночества, он еще глубже погрузился в меланхолию. Смутное ощущение, что жить надо было иначе, не повинуясь порывам, от которых остался привкус горечи во рту, явилось первым нравственным чувством, посетившим его с тех пор, как он стал взрослым. И в то же время он не испытывал раскаяния. О чем он должен сожалеть?
Он считал достоинством только разум, возвел страсти в статус долга. С какой легкостью поглотило и его разум, и его страсть это незыблемое одиночество, ожидание без веры. Бессонница лишила его воли — он не проспал и семи часов за семь дней. Его печаль была печалью скептика. Вселенная представлялась ему бесконечным рядом невразумительных образов. Ностромо мертв. Все его начинания потерпели позорный провал. Об Антонии он не осмеливался думать. Ее, конечно, нет в живых. Но если даже она жива, как он посмотрит ей в лицо? Нет, теперь никакие старания не помогут, остается только сложить руки.
На десятый день, после того как он в течение всей ночи даже не задремал ни разу (ему внезапно пришло в голову, что Антония никогда не могла любить такое неосязаемое существо, как он), одиночество представилось ему в виде огромной, необъятной пустоты, а безмолвие — в виде тонкой и крепкой веревки, на которой он висел, связанный по рукам, без удивления, без страха, без каких бы то ни было эмоций. Только к вечеру, когда прохлада принесла ему некоторое облегчение, он стал желать, чтобы веревка лопнула. Он уже слышал, как она лопается с громким треском, похожим на выстрел, — резкий, отчетливый щелчок. И тогда ему придет конец. Он представлял себе это с удовольствием — он страшился бессонных ночей, когда молчание, принявшее облик веревки, к которой он подвешен за руки, никак не могло лопнуть и трепетало, колеблемое бессмысленными фразами (всегда одними и теми же, но совершенно непонятными — об Антонии, Ностромо, Барриосе) и воззваниями, сливавшимися в иронический бессмысленный гул. Днем безмолвие выглядело неподвижной очень туго натянутой веревкой, и его напрасно прожитая жизнь висела на ней, словно гиря.
— Интересно, услышу я, как она лопается, прежде чем упаду, — сказал он.
Прошло два часа с тех пор, как солнце поднялось над горизонтом, когда он встал наконец, изможденный, грязный, с бледным лицом и покрасневшими веками. Ноги и руки двигались медленно, словно налитые свинцом, но все же не дрожали; от этого каждый его жест выглядел решительным, спокойным, полным достоинства. Казалось, он совершает некий обряд. Он спустился в лощину — спрятанное в укрытии серебро, великая сила, когда-нибудь способная прорваться, по-прежнему влекла его к себе; все чары развеялись, но эти остались. Он поднял пояс с револьвером, валявшийся там, и пристегнул его. Здесь, на острове, веревка, тугая, тонкая веревка, на которой он висит, никогда не лопнет. Она лопнет над морем; тогда он сможет упасть туда и утонуть, подумал он. Утонуть! Он смотрел на рыхлую землю, под которой лежало сокровище. Он похож был на сомнамбулу. Медленно опустился на колени и терпеливо, долго, прямо руками копался в земле, пока не добрался до одного из тюков. Тогда он не задумываясь, будто выполнял привычную давно знакомую работу, полоснул по верхней части тюка ножом, вытащил четыре слитка и рассовал их по карманам. Потом снова забросал тюк землей и медленными шагами стал удаляться. Ветки кустарника со свистом смыкались у него за спиной.
Уже на третий день своего одиночества он подтащил к воде шлюпку, так как у него возникла мысль уплыть куда-нибудь от острова, но позже он отказался от этой идеи, отчасти потому, что все еще надеялся на возвращение Ностромо, а отчасти потому, что считал ее безнадежной. Лодка стояла у самой воды, и ее надо было лишь слегка подтолкнуть. Каждый день он ел понемногу, и силы еще не оставили его. Он лениво взялся за весла, и лодка стала удаляться прочь от утесов Большой Изабеллы — согретая солнцем, она казалась живой и купалась в теплых струях света, сверкая радостью и надеждой. Он плыл прямо к заходящему солнцу. Когда наступила темнота, он перестал грести и бросил весла в лодку. Они стукнулись о днище, и этот звук показался ему оглушительно громким. Это было приятно, как будто кто-то позвал его издалека. Он испытал такое облегчение, что подумал даже: «Может быть, мне удастся сегодня поспать». Но он не верил, что ему это удастся. Он ничему больше не верил и продолжал сидеть, не закрывая глаз.
И вот свет солнца, спрятанного горной грядой, забрезжил перед его немигающими глазами. Становилось все светлей, и наконец солнце выплыло во всем своем великолепии над высокими вершинами гор. Море заискрилось и засверкало вокруг лодки, и в этом царстве одиночества, прекрасном и безжалостном, опять возникла тишина, похожая на туго натянутую, тонкую темную веревку.
Глядя на нее, он неторопливо поднялся с сиденья и пересел на борт. Глаза все так же пристально смотрели на веревку, а тем временем рука нащупала на поясе кобуру, расстегнула, вытащила револьвер, направила прямо в грудь дуло, взвела курок, спустила его и судорожным движением отбросила прочь. Взгляд продолжал следить за револьвером, а сам Декуд упал ничком, коснувшись грудью борта, и пальцы судорожно вцепились в сиденье.
— Все кончено, — проговорил он, запинаясь, и кровь хлынула горлом.
Его последней мыслью было: «Хотелось бы мне знать, как умер этот капатас».
Цеплявшиеся за сиденье пальцы ослабели, разжались, и возлюбленный Антонии Авельянос упал за борт, так и не услышав, как лопнула веревка безмолвия в пустынном Гольфо Пласидо, сверкающую гладь которого не взволновало падение тела.
Жертва душевной опустошенности и усталости, которые так часто служат карой для смелого и дерзкого ума, чьи планы потерпели крах, блестящий дон Мартин Декуд, отягощенный четырьмя серебряными слитками, исчез бесследно, поглощенный беспредельным равнодушием мира. Бессонный страж, понуро, неподвижно сидевший днем и ночью на земле, перестал охранять серебро Сан Томе; и духи добра и зла, витающие возле каждого клада, на некоторое время, вероятно, решили, что этот клад забыт людьми. Но прошло несколько дней и с той стороны, где спускалось к горизонту солнце, показался человек; он шел быстрыми шагами, а потом всю ночь просидел в узкой черной ложбине, не двигаясь и не смыкая глаз, почти в той же позе и на том же месте, на котором сидел первый, не знавший сна человек, так тихо отбывший однажды навсегда на маленькой шлюпке во время заката. И духи добра и зла, витавшие подле спрятанных сокровищ, сразу поняли, что у серебра Сан Томе появился преданный вечный раб.
Блистательный капатас каргадоров, жертва пустого и холодного тщеславия, достающегося людям в награду за мужественные поступки, просидел всю ночь уныло и угрюмо, как презираемый всеми изгой, и эта ночь, проведенная без сна, была так же мучительна, как бессонные ночи Декуда, его сотоварища по самому отчаянному делу за всю его отчаянную жизнь. Он все думал, как умер Декуд. И знал, что он причастен к его смерти. Сперва женщина, потом мужчина — из-за этого проклятого сокровища он бросил их, а его помощь была так нужна. Погибшая душа и отнятая жизнь — вот плата за серебро Сан Томе. Он окаменел от ужаса, потом его объяла сатанинская гордость. Во всем мире он один, Джан Батиста Фиданца, капатас судакских каргадоров, неподкупный и верный Ностромо, способен заплатить такую цену.
Сделка совершилась, и он решил, что ничто теперь не сможет ее расторгнуть. Ничто. Декуд умер. Но как? В том, что он мертв, нет ни тени сомнения. Но зачем он взял четыре слитка?.. Для чего? Собирался ли он прийти сюда еще раз… когда-нибудь позже?
Сокровище сохранило свою невидимую власть. Оно тревожило человека, заплатившего за него полную цену. Он ведь знал, что Декуд умер. Весь остров об этом шептал. Умер? Погиб! Ностромо поймал себя на том, что прислушивается к свисту раздвигаемых на ходу веток и к плеску воды под ногами бредущего по ручью человека. Умер! Этот краснобай, жених доньи Антонии.
— Э! — проговорил он, уткнувшись лбом в колени, когда бледно-сизый рассвет просочился сквозь толщу облаков на освобожденный Сулако и серый, как пепел, залив. — Это к ней он полетит. К кому же, как не к ней!
Но четыре слитка… Зачем он их взял — из желания отомстить, навести на него порчу, как эта женщина, которая в гневе предрекла ему муки раскаяния и крах всех надежд и в то же время поручила спасти ее детей? Ну что ж, он спас детей. Он отогнал от них призрак нищеты и голодной смерти. Он сделал это в одиночку… или, может быть, ему помогал сам дьявол. Не все ли равно? Его предали, но он все это сделал, а заодно спас рудники Сан Томе, злобного исполина, чье несметное богатство сумело покорить себе мужество, труд, верность бедняков, войну и мир, город и море и Кампо.
Солнце осветило небо за вершинами Кордильер. Капатас смотрел на рыхлую землю, камни, изломанные ветки кустов, прикрывавшие тайник.
— Я должен богатеть очень медленно, — проговорил он вслух.
ГЛАВА 11
Благоразумие Ностромо оказалось излишним, ибо Сулако богател с невероятной быстротой благодаря сокровищам, скрытым в земле, оберегаемым духами добра и зла и исторгаемым из недр земных мускулистыми руками шахтеров. Город словно переживал свою вторую молодость, начинал новую жизнь, полную надежд, тревог, труда, щедро расточал на все четыре стороны скороспелое богатство. Материальные интересы повлекли за собой перемены, и перемены эти были также материального свойства. Происходили и другие перемены, менее заметные, они оставляли след в умах и в сердцах рабочих. Капитан Митчелл уехал на родину — благодаря рудникам он стал обеспеченным человеком; и доктор Монигэм постарел еще больше, седые волосы его отливали сталью, лицо всегда и везде сохраняло одно и то же выражение; неиссякаемые сокровища преданности и любви таились в недрах его сердца, он ими жил, он черпал их украдкой словно неправедно нажитое богатство.
Генеральный инспектор государственных больниц (надзор над которыми вверен концессии Гулда), муниципальный советник санитарной службы города, главный врач «Рудников Сан Томе, консолидейтид» (территория этого концерна, на которой добывается золото, серебро, медь, кобальт, свинец, простирается на целые мили в подножьях Кордильер) чувствовал себя нищим, умирающим от голода, несчастным во время длительного путешествия Гулдов в Европу и Североамериканские Соединенные Штаты. Близкий, задушевный друг семьи, холостяк, не связанный никакими узами и обязанностями (за исключением служебных), он поселился, по приглашению Гулдов, в их доме и жил там, как родной. Он с большим трудом перенес их продолжавшееся почти год отсутствие, нескончаемые одиннадцать месяцев, в течение которых он, входя в любую комнату и бросив беглый взгляд на стены, потолок или мебель, тотчас вспоминал женщину, которой отдал без остатка всю свою верность. По мере того как приближался день прибытия почтового парохода «Гермес», доктор ковылял по комнате все более оживленно и все язвительнее обрушивался на слуг, что объяснялось не злобой, а просто нервозностью.
С молниеносной быстротой, с восторгом, с яростью он собрал свой скромный саквояж и в упоении проводил его взглядом, когда слуга выносил его из парадных дверей Каса Гулд; а затем, когда приблизился назначенный час, в большой коляске, запряженной белыми мулами, где он сидел один (слегка бочком), держа в левой руке пару новых перчаток и стараясь выглядеть невозмутимым, отчего его худое лицо стало злым, он подъехал к пристани.
Когда он увидел Гулдов на палубе «Гермеса», его сердце бешено заколотилось, и ему удалось лишь небрежно пробормотать две-три приветственные фразы. В город они ехали в коляске, и все трое молчали. И, уже войдя во внутренний двор, доктор более естественным тоном сказал:
— Не стану вам мешать. Можно мне прийти завтра?
— Приходите к ленчу, доктор Монигэм, и как можно раньше, — попросила миссис Гулд. В дорожном платье, в шляпке с вуалью, она остановилась у подножья лестницы, а с верхней площадки мадонна в голубом одеянии с младенцем на руках, казалось, приветствовала ее сочувственным, ласковым взглядом.
— Не надейтесь застать меня дома, — предупредил доктора Чарлз. — Я уеду на рудники рано утром.
После ленча донья Эмилия и сеньор доктор медленно прошли через внутренний двор и оказались в саду. Сад был большой, с тенистыми деревьями и залитыми солнцем лужайками. Его кольцом окружал тройной ряд апельсиновых деревьев, а за ними вздымались высокие стены и краснели черепичные крыши соседних домов. Там и сям работали босые темнокожие садовники в белоснежных рубахах и широких штанах, они ухаживали за цветами, наклонившись над клумбами, мелькали между деревьями, тащили по дорожкам тонкие резиновые шланги, из которых внезапно вырывались изогнутые струйки воды — они переплетались между собой, образуя сверкающий на солнце узор, словно дождь шуршал, падая на листья, бриллиантовыми росинками осыпая траву.
Донья Эмилия, придерживая трен светлого платья, шла рядом с доктором, на котором был длинный черный сюртук и безупречно белая манишка со строгим черным галстуком. Подле купы деревьев, в сплошной тени от их ветвей стояли маленькие столики и плетеные кресла; миссис Гулд села на одно из них.
— Не уходите, — сказала она доктору, который и без того как в землю врос. Упрятав подбородок в высокий воротник, он исподлобья пожирал ее глазами, к счастью, совершенно неспособными выразить обуревавшие его чувства, ибо более всего они напоминали шарики из мрамора с прожилками. Он с волнением и жалостью смотрел на лицо этой женщины, замечал тени прожитых лет под глазами и на висках «не ведающей усталости сеньоры» (как назвал ее когда-то дон Пепе) и чуть не плакал от умиления.
— Побудьте здесь еще. Сегодняшний день — мой, — упрашивала его миссис Гулд. — Официально мы еще не возвратились. К нам никто не придет. Лишь завтра вечером в Каса Гулд откроются парадные двери и загорятся все окна.
Доктор опустился на стул.
— Тертулья?[134]— спросил он с рассеянным видом.
— Просто встретимся со всеми добрыми друзьями, которые захотят к нам прийти.
— Только завтра?
— Да. Чарлз утомился сегодня после целого дня на рудниках, поэтому я… нам лучше провести вдвоем первый вечер после возвращения в дом, который я так люблю. Ведь здесь прошла вся моя жизнь.
— О, да! — внезапно рассердился доктор. — Женщины исчисляют время со дня свадьбы. Мне кажется, вы немного прожили и до нее?
— Да, конечно; но о чем там вспоминать? Не было ведь никаких забот.
Миссис Гулд вздохнула. И поскольку двое друзей, встретившись после долгой разлуки, всегда вспоминают самый тревожный период их жизни, они стали говорить о революции и последовавшем отделении Сулако. Миссис Гулд представлялось странным, что те, кто участвовал в революции, не сохранили о ней памяти и не извлекли уроков.
— И все-таки, — возразил ей доктор, — мы, сыгравшие в революции свою роль, получили каждый свою награду. Дон Пепе, невзирая на преклонный возраст, все еще ездит верхом. Барриос напивается до смерти в развеселой компании в своем поместье за Больсон де Тоноро. А героический отец Роман — воображаю, как наш старенький падре принялся бы методически взрывать рудники, произнося при каждом взрыве благочестивые изречения и в промежутках втягивая в себя целые горсти нюхательного табаку, — наш героический падре Роман говорит: пока он жив, можно не опасаться, что миссионеры Холройда причинят его пастве какой-нибудь вред.
Миссис Гулд слегка вздрогнула при мысли, что совсем немного, и рудники Сан Томе были бы уничтожены.
— Ну, а вы, мой милый друг?
— Я исполнил ту работу, для которой оказался пригоден.
— Вам угрожали самые страшные опасности. Страшней, чем смерть.
— Нет, миссис Гулд! Только смерть… через повешенье. А награжден я сверх всяких заслуг.
Миссис Гулд внимательно на него посмотрела, и доктор опустил глаза.
— Я сделал карьеру, как видите, — сказал генеральный инспектор государственных больниц и слегка приподнял лацканы отлично сшитого черного сюртука. Чувство собственного достоинства, вновь обретенное доктором и сказавшееся внутренне в том, что отец Берон почти полностью исчез из его сновидений, внешне было отмечено тем, что на смену былой небрежности явилось чрезмерное внимание к своей внешности, перешедшее в некий культ. Цвет, фасон одежды, ее ослепительная чистота — все соблюдалось с редкой строгостью и пунктуальностью и придавало доктору торжественный и в то же время праздничный вид; а ковыляющая походка и брюзгливо злобное выражение лица остались неизменными и в сочетании с опрятностью и щегольством производили странное и устрашающее впечатление.
— Да, — продолжал доктор, — каждый из нас награжден… главный инженер дороги, капитан Митчелл…
— Мы с ним виделись, — своим чарующим голосом прервала его миссис Гулд. — Наш милейший капитан специально приехал из своего загородного дома в Лондон, чтобы повидаться с нами. Он держался с большим достоинством, но мне кажется, он с сожалением вспоминает Сулако. Все время плел нечто невнятное об «исторических событиях», и наконец я чуть не разрыдалась.
— Гм, — промычал доктор. — Стареет, я полагаю. Даже Ностромо стареет. Хотя… он не изменился. Кстати, о Ностромо я хотел вам кое-что рассказать…
В доме началось волнение, оттуда доносился возбужденный гул голосов. Внезапно двое садовников, подстригавших розовый куст у калитки, упали на колени и склонили головы — мимо них прошла Антония Авельянос, а рядом шагал ее дядюшка.
Пожалованный кардинальской шапкой после непродолжительного визита в Рим, приглашенный туда коллегией миссионеров, проповедник, обративший в истинную веру целые племена диких индейцев, участник заговора, друг и покровитель разбойника Эрнандеса, вошел большими медленными шагами, накренившись вперед и сцепив за спиной свои сильные руки. Изможденный, с сумрачным лицом фанатика, первый кардинал-архиепископ города Сулако сохранил свой прежний вид — он был похож на капеллана разбойничьей шайки. Полагали, кардинальский пурпур достался ему не случайно — Рим встревожило вторжение в Сулако протестантов, организованное миссионерским фондом Холройда. Антония, чья красота немного поблекла, а фигура несколько расплылась, вошла легкой походкой, безмятежная, как и прежде, издали улыбаясь миссис Гулд. Вместе с дядюшкой она заглянула повидать свою милую Эмилию, без церемоний, всего на несколько минут перед сиестой.
Когда все сели, доктор Монигэм, питавший острую неприязнь к любому человеку, связанному каким-то образом с миссис Гулд, устроился в стороне, делая вид, что погружен в глубокое раздумье. Он поднял голову, когда Антония заговорила громче:
— Как можем мы не протянуть руку помощи тем, кто стонет под игом угнетения, кто еще несколько лет назад назывались нашими согражданами и должны так называться и сейчас? — говорила мисс Авельянос. — Как мы можем оставаться слепыми, глухими, безжалостными к тяжким мукам наших братьев? Мы обязаны найти какой-то выход.
— Присоединить оставшуюся часть Костагуаны к Сулако, — раздраженно огрызнулся доктор. — Тогда и у них будет благосостояние и порядок. Вот единственный выход.
— Я уверена, сеньор доктор, — сказала Антония с той спокойной серьезностью, которую дает только твердая убежденность, — что наш бедный Мартин всегда желал именно этого.
— Да, но кто позволит вам подвергать опасности развитие материальных интересов ради таких пустяков, как сострадание и справедливость, — брюзгливо буркнул доктор. — И, пожалуй, это можно понять.
Кардинал-архиепископ выпрямил свой костлявый стан.
— Мы работали на них; мы создали для иностранцев эти самые материальные интересы, — пророкотал последний из Корбеланов.
— Но вы ничто без них, — выкрикнул доктор. — Они не позволят вам действовать.
— Тогда пусть поостерегутся, ибо народ восстанет и потребует своей доли богатства и власти, — веско и с угрозой произнес любимый прихожанами кардинал-архиепископ.
Наступила пауза, в течение которой его преосвященство, нахмурившись, разглядывал траву, а Антония сидела в кресле, стройная и изящная, безмятежная и убежденная в своей правоте. Затем политику оставили в покое и заговорили о поездке Гулдов в Европу. Кардинал-архиепископ во время пребывания в Риме страдал от невралгических болей в голове. Плохой климат, плохой воздух.
Когда дядя и племянница собрались уходить и слуги снова пали на колени, а старик привратник, дряхлый и полуслепой, служивший еще при Генри Гулде, склонился, чтобы поцеловать руку его преосвященства, доктор Монигэм взглянул им вслед и произнес одно лишь слово:
— Неисправимые!
Миссис Гулд подняла к небу глаза и устало уронила руки на колени, сверкнув золотом и драгоценными камнями.
— Новый заговор. Еще бы! — сказал доктор. — Последний из Авельяносов и последний из Корбеланов только и делают, что вступают в сговор с беглецами из Санта Марты после каждой революции. Кафе Ламброзо в переулке возле Пласы кишмя кишит этими эмигрантами. Они трещат, как попугаи, их слышно через улицу. Совещаются по поводу вторжения в Костагуану. А знаете, где они черпают силы, где собираются набрать необходимое для нашествия войско? В тайных обществах, состоящих из эмигрантов и местных жителей, где Ностромо — мне следовало сказать, капитан Фиданца — большой человек. Как он достиг такого положения? Что помогло ему? Особый дар. Да, у него особый дар. Его любят и почитают в народе сейчас еще больше, чем прежде. Он обладает как бы некой тайной силой; нечто мистическое помогает ему пользоваться таким огромным влиянием. С ним совещается архиепископ… точно так же, как в памятные нам обоим старые времена. От Барриоса уже не будет толку. Но военачальник у них есть — святоша Эрнандес. И они могут поднять всю страну, выдвинув новый девиз: благосостояние народу!
— Неужели никогда не наступит мир? Неужели никогда мы не дождемся отдыха? — прошептала миссис Гулд. — Я думала, что мы…
— Нет! — перебил ее доктор. — Развитие материальных интересов не допускает ни мира, ни отдыха. У них свои законы, своя справедливость; но основаны эти законы на принципе практической целесообразности, и потому бесчеловечны; в них нет той целостности, той незыблемости, той нравственной высоты, которые основываются только на принципах морали. Миссис Гулд, приближается время, когда все то, что отстаивает концессия Гулда, так же безжалостно навалится на плечи народа, как невежество, жестокость и бесправие, царившие здесь несколько лет назад.
— Как вы можете так говорить, доктор Монигэм? — воскликнула она; его слова невыносимой болью отозвались в ее сердце.
— Отчего ж мне не говорить, если это правда? — возразил он упрямо. — Навалится и вызовет в ответ возмущение, кровопролитие, месть, ибо люди стали другими. Вы полагаете, и сейчас шахтеры со всех рудников явятся в город спасать своего управляющего? Вы действительно так думаете?
Миссис Гулд прижала к щекам руки и с тоской прошептала:
— Так неужели же мы ради этого трудились?
Доктор понурил голову. Ему был ясен тайный ход ее мыслей. Неужели ради этого прошла вся ее жизнь, лишенная сердечной теплоты и милых повседневных радостей, необходимых ей как воздух? И доктор, возмущенный слепотою Чарлза, поспешил переменить разговор.
— Да, я хотел вам рассказать о Ностромо. В нем-то как раз есть и незыблемость, и целостность. Ничто не может его сломить. Впрочем, я не о том. С ним творится что-то необъяснимое… или же наоборот, все очень просто объяснить. Вы сами знаете: смотрителем маяка на Большой Изабелле практически является Линда. Гарибальдиец слишком стар. Он чистит лампы, стряпает, но взбираться по лестнице уже не может. За маяком всю ночь смотрит черноглазая Линда, а после спит весь день. Впрочем, нет, не весь. К пяти вечера она уже на ногах — в это время галантный Ностромо, где бы ни стояла его шхуна, садится в лодку и гребет к маяку.
— А они не поженились? — спросила миссис Гулд. — Мне кажется, ее мать желала этого, еще когда Линда была ребенком. А во время войны за Отделение девочки жили у меня примерно год, и эта Линда — необыкновенное создание — так прямо и говорила всем, что собирается стать женой Джан Батисты.
— Нет, не поженились, — сухо ответил доктор. — Я иногда заглядываю к ним.
— Спасибо, милый доктор Монигэм, — сказала миссис Гулд, и ее мелкие ровные зубы блеснули в улыбке, по-молодому нежной и озорной. — Люди не знают, как вы добры. Вы от них это скрываете: наверное, специально назло мне, вот уже много лет назад поверившей в ваше доброе сердце.
Доктор оскалился, как будто собираясь кого-то укусить, и, повернувшись в кресле, угловато поклонился. Любовь пришла к нему поздно, не озарила его жизнь иллюзией, а вспыхнула, как молния, стала великим счастьем и великой бедой, и теперь, глядя на эту женщину, общества которой он был лишен почти целый год, он испытывал священный трепет преклонения, и ему хотелось поцеловать край ее платья. Избыток нежности, естественно, выразился в том, что он заговорил еще более мрачно и брюзгливо.
— Очень уж много благодарности, боюсь, я рухну под ее наплывом и рассыплюсь на обломки. Впрочем, эти люди меня интересуют. Я побывал несколько раз на Большой Изабелле у старого Джорджо.
Он не стал говорить миссис Гулд, что ездил на остров отдохнуть душой среди людей, которые ее тоже любили, — ему приятны были безыскусственное преклонение Джорджо перед «английской синьорой, столь милостивой к нам»; многословная горячая нежность черноглазой Линды к «этому ангелу, нашей донье Эмилии», умиленно поднятые вверх глаза белокурой Гизеллы, вслед за тем бросавшие на него украдкой простодушно лукавый быстрый взгляд, заставлявший доктора мысленно воскликнуть: «Не будь я таким старым и уродливым, я бы подумал, что негодница строит мне глазки. А может быть, и в самом деле строит. Эта девчонка строит глазки всем». Доктор не стал говорить об этом миссис Гулд, благодетельнице семьи Виола, а вернулся к «нашему великому Ностромо».
— Вот что я хотел вам рассказать: наш великий Ностромо в течение нескольких лет не уделял внимания ни старику, ни детям. Он, правда, почти круглый год бывал в отлучке, плавал на своей шхуне вдоль побережья. Сколачивал состояние, так он однажды сказал капитану Митчеллу. И, по-моему, чрезвычайно преуспел в этом. Чего и следовало ожидать. Человек он изобретательный, сметливый, уверенный в себе, удобного случая не упустит и охотно идет на риск.
Помню, как однажды я сидел у Митчелла в конторе, а он вошел туда, невозмутимый, как всегда. У него были какие-то торговые дела в Калифорнийском заливе, сказал он, глядя мимо нас на стену, — он всегда так глядит, — а возвратившись, рад был обнаружить, что на утесе Большой Изабеллы построен маяк. Очень, очень рад, — повторил он. Митчелл пояснил, что маяк построила компания ОПН, ради удобства почтовой службы и по его совету. Капитан Фиданца был так добр, что признал совет великолепным. Помню, как он подкрутил усы, обвел взглядом все карнизы в комнате и только после этого предложил сделать смотрителем маяка старого Джорджо.
— Я об этом знаю. У меня тогда спрашивали, как поступить, — сказала миссис Гулд. — Я сомневалась, хорошо ли увозить двух молодых девушек на уединенный остров, где они будут жить, как в тюрьме.
— Старику гарибальдийцу уединения-то и хотелось. Что до Линды, ей любое место показалось бы восхитительным, коль скоро его предложил Ностромо. Для удовольствия своего Джан Батисты она готова сидеть на каменистом острове и вообще, где угодно. Мне кажется, она всю жизнь была влюблена в этого безупречного капатаса. Кроме того, отец и старшая сестра стремились увезти Гизеллу подальше от порта, где ей оказывал чрезмерное внимание некий Рамирес.
— Вот как! — с оживлением произнесла миссис Гулд. — А кто он?
— Простой парень из Сулако. Его отец был каргадором. Сперва болтался тут на пристани тощий оборванный мальчишка, потом Ностромо взял его под свою опеку и вывел в люди. Когда парень подрос, Ностромо сделал его каргадором на грузовом баркасе, а вскоре вслед за тем назначил старшим на баркасе номер три — том самом, миссис Гулд, на котором увезли серебро. Ностромо выбрал этот баркас потому, что он лучше других слушается руля. Рамирес был одним из пяти каргадоров, которым поручили в ту памятную ночь переправить тюки с серебром из таможни. Так как баркас, на котором он работал, утонул, Ностромо, перестав служить компании, порекомендовал капитану Митчеллу Рамиреса в качестве своего преемника. Он подготовил его по всем правилам, и таким образом мистер Рамирес из голодного мальчишки-сопляка превратился в уважаемого человека и стал капатасом наших каргадоров.
— Благодаря Ностромо, — сказала миссис Гулд с чувством.
— Благодаря Ностромо, — повторил доктор Монигэм. — Клянусь честью, меня просто пугает могущество этого человека. То, что милейший старикан Митчелл согласился взять на службу хорошо обученного человека и избавить себя от хлопот, не удивительно. Но поразительно, что каргадоры нашего порта согласились подчиняться Рамиресу лишь потому, что так захотел Ностромо. Конечно, из Рамиреса не вышло второго Ностромо, как он мечтал, но положение у него весьма недурное. Он до того осмелел, что вздумал ухаживать за Гизеллой Виола, а она — первая красавица в городе. Но тут ему не повезло: старик гарибальдиец ужасно его невзлюбил. Право, не знаю, почему. Может быть, все дело в том, что Рамирес не является образцом совершенства, как его обожаемый Джан Батиста, воплотивший в себе храбрость, преданность и честь «простого народа». Синьор Виола не очень-то высокого мнения о коренных жителях Сулако. Старый спартанец и белолицая Линда с черными, как уголь, глазами и алыми губами устроили за белокурой красоткой самую настоящую слежку. Рамиресу строго-настрого запрещено к ней приближаться. Папаша Виола, как мне говорили, однажды грозился его застрелить.
— Ну, а сама Гизелла? — спросила миссис Гулд.
— Насколько я могу судить, — она большая кокетка, — ответил доктор. — Едва ли она так уж оскорбилась. Внимание мужчин ей приятно. Рамирес не единственный ее поклонник, — да будет мне позволено вам это сообщить. Всех не знаю, но слышал, что был инженер с железной дороги, которого тоже сулили пристрелить. Честь для старого Виолы нешуточное дело. После смерти жены он стал вспыльчив и подозрителен. Так что старик был просто рад увезти младшую дочь из города. Но послушайте, что происходит дальше, миссис Гулд. Рамирес, честный, уязвленный безнадежной страстью пастушок, не смеет появляться на острове. Прекрасно. Он подчиняется запрету, но, разумеется, его взгляд частенько обращается в сторону Большой Изабеллы. Кажется, у него вошло в привычку до поздней ночи сидеть на берегу и глядеть на маяк. И вот во время этих сентиментальных бдений он обнаружил, что Ностромо, то есть капитан Фиданца, чрезвычайно поздно возвращается домой после визитов, которые он наносил семейству Виола. Иногда в полночь.
Доктор сделал паузу и значительно взглянул на миссис Гулд.
— Да… но я не понимаю… — озадаченно произнесла она.
— И вот тут-то и начинаются странности, — продолжал доктор Монигэм. — Виола — король на своем острове, и одно из его правил — не позволять посторонним оставаться там до темноты. Даже капитану Фиданца приходится удаляться после захода солнца, когда Линда отправляется наверх смотреть за маяком. И Ностромо повинуется.
Но что же дальше? Что он делает в заливе от половины шестого до полуночи? Его видели в это время и не раз — он плыл к гавани, неслышно опуская в воду весла. Рамиреса снедает ревность. К старому Виоле он не осмеливается подойти; но, собравшись с духом, он высказал свои обиды Линде, когда воскресным утром она приехала на материк послушать мессу и посетить могилу матери. Произошло это на пристани, где между ними разгорелась ужасная ссора, свидетелем которой мне довелось стать. Было раннее утро. Думаю, он специально ее поджидал. Я оказался там по чистой случайности — врач с немецкой канонерки, стоявшей в порту, вызвал меня для срочной консультации. Линда с неслыханной горячностью обрушила на Рамиреса презрение, ярость и гнев, да и он был вне себя. Удивительное это было зрелище, миссис Гулд: длинный пирс и на дальнем его конце подпоясанный красным шарфом беснующийся каргадор и девушка, вся в черном; тихое воскресное утро, солнце еще не показалось из-за гор, их тень падает на воду; нигде ни души, лишь скользят кое-где лодки между стоящими на якоре пароходами, и гичка с немецкой канонерки приближается к берегу, чтобы забрать меня. Линда прошла мимо меня на расстоянии шага. Я обратил внимание на ее безумный взгляд. Я ее окликнул. Она меня не слышала. И не видела. Зато я рассмотрел ее. Ужасное лицо, полное гнева и горя.
Миссис Гулд резко выпрямилась, широко раскрыв глаза.
— Что все это значит, доктор Монигэм? Неужели вы подозреваете младшую сестру?
— Quién sabe! Кто это может сказать? — ответил доктор и пожал плечами, как прирожденный костагуанец. — Рамирес подошел ко мне. Он шатался… он был похож на сумасшедшего. Он обхватил руками голову. Ему нужно было с кем-нибудь поговорить, он не мог молчать. Разумеется, невзирая на свое невменяемое состояние, он узнал меня. Меня тут знают хорошо. Я так давно живу среди них, что каждый знает доктора, который может вылечить от любой болезни и приносит несчастье, ибо у него дурной глаз. Итак, он подошел ко мне. Он старался говорить спокойно. Объяснить мне, что просто-напросто хочет меня предостеречь против Ностромо. Насколько я смог понять, капитан Фиданца на каком-то тайном сборище сказал, что я ненавижу всех бедняков, весь народ. Весьма возможно. Он почтил меня неувядаемой неприязнью. А одного-единственного слова, произнесенного великим Фиданцей, вполне достаточно, чтобы какой-нибудь дурак всадил мне в спину нож. Комиссия по санитарным делам, которой я руковожу, не пользуется симпатиями местных жителей.
«Берегитесь его, сеньор доктор. Сделайте так, чтобы он умер, сеньор доктор», — прошипел Рамирес прямо мне в лицо. А потом его словно прорвало. «Этот человек, — захлебываясь, лепетал он, — приворожил обеих девушек. Я и так уже лишнего наговорил, — добавил Рамирес. — Теперь нужно бежать, бежать и где-то спрятаться». Он с тоской и нежностью произнес имя Гизеллы и осыпал ее полными злобы словами, которые я не рискую повторить. «Если он вздумает во что бы то ни стало добиться ее любви, есть одно лишь средство: ее нужно увезти с Большой Изабеллы. Увезти ее в лес. Но и это бесполезно…» И он быстро зашагал прочь, размахивая над головой кулаками. Тут я заметил старого негра, который сидел за грудой ящиков и удил рыбу. Он тотчас смотал удочки и испарился. Но, наверное, он кое-что услышал и пересказал, я думаю, другим, поскольку некоторые из приятелей старого гарибальдийца, служащие на железной дороге, по-моему, предупредили его, чтобы он остерегался Рамиреса. Во всяком случае, кто-то предупредил. Но Рамирес исчез из города.
— Бедные девушки… это нельзя так оставить, — с беспокойством произнесла миссис Гулд. — Ностромо в городе?
— Да, он вернулся в воскресенье.
— С ним нужно поговорить… немедленно.
— Кто осмелится с ним говорить? Даже обезумевший от любви Рамирес бросается наутек от одной лишь тени капитана Фиданцы.
— Я поговорю с ним, — заявила миссис Гулд. — Такой человек, как Ностромо, поймет все с первого слова.
Доктор кисло улыбнулся.
— Нужно покончить с этим положением, которое… нет, я не верю, что это дитя…
— Он очень привлекателен, — угрюмо буркнул доктор.
— Я не сомневаюсь, что он положит этому конец. Он должен жениться на Линде и тотчас же все прекратить, — самым решительным тоном произнесла первая леди Сулако.
В сад вошел Басилио, откормленный и разжиревший, с безволосым лицом, на котором уже появились возле глаз морщинки, с напомаженными и прилизанными черными, как смоль, жесткими волосами. Остановившись за купой цветущих кустов, он осторожно поставил на землю маленького мальчика, сидевшего у него на плече, — последнее дитя, родившееся у них с Леонардой. Манерная, кокетливая «камериста» и дворецкий Каса Гулд поженились несколько лет назад.
Сидя на корточках, Басилио с нежностью взирал на своего отпрыска, а тот невозмутимо и серьезно пялил глазенки на отца; затем, с достоинством, не торопясь, дворецкий направился к ним по тропинке.
— Что случилось, Басилио? — спросила миссис Гулд.
— Звонили по телефону из конторы Сан Томе. Хозяин ночует сегодня в горах.
Доктор встал и отвернулся. В тени раскидистых деревьев, самых больших в прелестном саду Каса Гулд, на время воцарилась глубокая тишина.
— Очень хорошо, Басилио, — сказала миссис Гулд. Она молча смотрела, как дворецкий прошел по дорожке, скрылся за цветущими кустами и появился опять с сидящим на плече ребенком. Неспешным шагом он вышел из калитки, осторожно придерживая свою ношу.
Доктор, стоя спиной к миссис Гулд, внимательно рассматривал освещенную солнцем клумбу. Люди считали его озлобленным и высокомерным. Но истинная сущность его заключалась в том, что это был человек, способный испытывать сильные чувства и в то же время ранимый. Он не обладал вежливым безразличием светского человека, тем безразличием, которое так легко порождает терпимость к себе и к другим; тем безразличием, которое ничего общего не имеет с подлинным состраданием и сочувствием. Этим отсутствием безразличия объяснялся саркастический склад его ума и язвительность речи.
В глубокой тишине, свирепо глядя на залитую солнцем роскошную клумбу, доктор мысленно призывал тысячи проклятий на голову Чарлза. А изящная фигурка миссис Гулд застыла в кресле так неподвижно, что казалась произведением искусства — поза схвачена и запечатлена навсегда. Внезапно доктор повернулся и откланялся.
Миссис Гулд откинулась на спинку кресла в сплошной тени окружавших ее кольцом деревьев. Откинулась на спинку кресла, закрыла глаза и положила на подлокотники руки. Свет солнца с трудом пробивался сквозь многослойную массу листвы, и в полутьме ее красивое лицо казалось нежным, юным, как у молоденькой девушки; блестела светлая ткань платья и кружево отделки. И сама она как будто тоже излучала свет и была похожа, маленькая, грациозная, светящаяся, на добрую фею, которая устала наконец выполнять свои служебные обязанности и уже не может с прежней радостью творить добрые дела, поскольку заподозрила, что труды ее бесполезны, а волшебство бессильно.
Если бы кто-нибудь спросил ее, о чем она думает, сидя одна в саду пустого дома — муж на рудниках, парадная дверь заперта и гости не придут, — кривить душой она не стала бы и просто не ответила бы на вопрос. А думала она, что жить значительной и полной жизнью можно лишь тогда, когда ты ни на миг не забываешь ни о прошлом, ни о будущем. Свою повседневную работу мы должны выполнять во славу мертвых и для счастья тех, кто придет вслед за нами. Она подумала так и вздохнула, не двигаясь, не открывая глаз. На мгновенье лицо ее сделалось напряженным — одиночество внезапно стало нестерпимым, как мигрень, и она поборола в себе это чувство; так преодолевают, не поморщившись, физическую боль. А еще ей пришло в голову, что ведь никто на свете не спросит ее заботливо, о чем она задумалась. Никто; возможно, за исключением человека, который только что ушел. Ее не спросит тот, кому она могла бы ответить, не смущаясь своей искренности, спокойно и доверчиво, не спросит тот, кто должен спросить.
Слово «неисправимый», недавно произнесенное доктором, вторглось в печальную тишину ее мыслей. Воистину неисправим в своей преданности рудникам сеньор администрадо́р! Неисправим в своем упорном и тяжком служении материальным интересам, единственному залогу, как он убежден, торжества справедливости и порядка. Бедняга! Она представила себе очень ясно его седеющие виски. Он безупречен, безупречен. О чем еще могла она мечтать? Успех, огромный и стабильный; а любовь — лишь краткий миг упоения, прелестный миг, о котором вспоминают почему-то с грустью, будто не радость это была, а печаль. Какая грустная закономерность; успех повлек за собой моральное вырождение первоначальной идеи.
Ей представилось, как гора Сан Томе нависла над Кампо, над всей страной, несметно богатая, внушающая страх и ненависть; бездушная, каким не был ни один тиран; жестокая и деспотичная, каким не было ни одно самое скверное правительство; она все разрастается и в своем стремлении расти готова множество людей принести в жертву.
Чарлз не видит этого. Не может увидеть. Это не его вина. Он безупречен, безупречен; но ей он не принадлежит и никогда не будет, никогда. Даже на короткий час не будет он принадлежать лишь ей одной в этом старинном испанском доме, который она так любит! Неисправимыми назвал сегодня доктор последнюю из Авельяносов, последнего из Корбеланов; но она ясно видела: рудники Сан Томе захватывают, поглощают, сжигают жизнь последнего из костагуанских Гулдов; покоряют себе силу сына, как покорили в свое время слабость отца.
Какой страшный успех выпал на долю последнего Гулда. Последнего! Она долго надеялась, что, может быть… Но нет. Надежды больше нет. И безмерная тоска одиночества, страха, что одиночество останется, а ей нужно будет продолжать жить, охватили первую леди Сулако. С прозорливостью пророчицы представила она себе, как разлагаются и гибнут идеалы ее юности, идеалы жизни, любви, труда… они гибнут, а она все еще существует в одиночестве, одна в Сокровищнице Мира, совсем одна. Ее лицо с закрытыми глазами было, как у человека, видящего страшный сон — встревоженным, слепым, страдальческим. Невнятным голосом человека, увидевшего такой сон и не имеющего сил освободиться от кошмара, она произнесла:
— Материальные интересы.
ГЛАВА 12
Ностромо богател очень медленно. Он был благоразумен. Даже утратив душевное равновесие, он мог управлять собой. А стать рабом богатства и прекрасно это сознавать — состояние, мало кому знакомое и никак не способствующее покою души. Но была еще одна причина, кроме редкостного самообладания Ностромо: он не мог воспользоваться своим богатством в том виде, в каком оно ему досталось. Даже увезти сокровище с острова по частям было бы трудно — его могли застигнуть и тотчас же разоблачить. Поэтому приходилось тайком наведываться на Большую Изабеллу, вернувшись из очередного плавания, которые служили ему ширмой, помогавшей скрыть истинный источник его доходов.
Он боялся собственных матросов, словно все они были шпионы, приставленные к своему капитану. Возвращаясь в Сулако, боялся надолго оставаться в порту. Разгрузив шхуну, он сразу же отправлялся в новое плавание, опасаясь, что даже однодневная отсрочка может вызвать подозрения. Случалось, что за время пребывания в порту — то есть неделю и даже больше — ему удавалось лишь один раз побывать на острове. Всего один. Не более двух слитков. Он страдал от своих страхов и от своего благоразумия. Унизительно делать что-то тайком. Он ни на миг не забывал о сокровище, и, пожалуй, это было мучительней всего.
Грех, преступление, совершенное человеком, разъедает его жизнь, как злокачественная опухоль, сжигает ее, как лихорадка. Ностромо утратил душевный покой: от присущих ему прежде свойств осталась одна видимость. Он сам чувствовал это и нередко проклинал серебро Сан Томе. Его храбрость, его великолепие, его досуг, его работа остались прежними, но все это было только видимостью. А сокровище было подлинным и держало его мертвой хваткой. Но ему было противно прикасаться к серебру. Иногда, тайком пробравшись ночью на Большую Изабеллу и спрятав у себя в каюте пару слитков, — больше он никогда не привозил, — Ностромо долго и пристально разглядывал свои руки, будто удивляясь, что на коже не осталось пятен от серебра.
Слитки он продавал в отдаленных портах, где нашел надежных покупателей. Из-за того, что ему приходилось так далеко заплывать, его поездки бывали длительными, и он редко навещал семейство Виола. Он знал, что должен жениться на дочери Джорджо. Однажды сам сказал об этом старику. Но гарибальдиец прервал разговор величественным движением руки, в которой держал дымящуюся прокопченную вересковую трубку. Спешить некуда; он не из тех, кто старается поскорее сбыть с рук дочку.
А время шло, и Ностромо стал замечать, что ему больше нравится младшая. Они с ней были схожи в чем-то очень важном, без чего никогда не бывает взаимного доверия и понимания, и чисто внешнее различие характеров в таких случаях уже не служит помехой, а наоборот, только делает каждого из двоих еще более притягательным в глазах другого. Ему нужна жена, которой он сможет открыть свою тайну, иначе его жизнь станет невыносимой. В Гизелле ему нравилось все — простодушный взгляд, нежная, белая шея, молчаливость, уступчивый нрав и ленивая повадка и скрытая оживленность; в то время как Линда — бледное, напряженное, страстное лицо, кипучая энергия, многословие и пылкость, мрачность и высокомерие, одним словом, истинная дочь своих родителей, копия сурового республиканца с голосом Терезы — внушала ему тайное недоверие. Мало того, бедной девушке не удалось скрыть, что она любит Джан Батисту. Он догадывался, что ее любовь будет неистовой, требовательной, подозрительной, бескомпромиссной — такой же, как ее душа. Гизелла, женственная, мягкая, загадочно прелестная, скрывающая за внешней безмятежностью пылкую нежность души, влекла его к себе и не внушала тревоги о будущем.
Он отсутствовал подолгу. Вернувшись после одной из самых длительных своих поездок, он увидел баркасы, груженные каменными блоками, которые строители закладывали под утес Большой Изабеллы; подъемные краны и леса; копошащиеся вокруг фигурки рабочих и небольшой маяк, уже возвышающийся над фундаментом на краю утеса.
Это нежданное, негаданное, ужасное зрелище смертельно его напугало. Он погиб; что теперь может его спасти? Ничто! Ностромо похолодел, потрясенный капризом фортуны, вздумавшей направить свет маяка на единственное темное пятно в его жизни; той жизни, ценность, истинность, действительность которой была лишь отражением восхищенно следивших за ним глаз. Все в его жизни было достойно восхищения, кроме этого позора, объяснить который невозможно и из-за которого он стал жертвой силы, способной услышать проклятия и осуществить их. Темное, позорное пятно. Немного найдется людей с таким пятном на совести. И вскоре на него будет направлен свет. Свет! Он видел залитые ярким светом унижение, позор, нищету. Уж кто-нибудь наверняка… Возможно, кто-нибудь уже сейчас…
Капатас каргадоров, несравненный Ностромо, вселявший в сердца людей почтение и страх капитан Фиданца, руководитель тайных обществ, республиканец, как и старый Джорджо, и, как и он, революционер в душе (но на другой лад), был готов прыгнуть за борт своей шхуны. Он почти обезумел, и самоубийство представлялось ему вполне возможным выходом из положения. Но он никогда не терял головы. И его остановила мысль, что, покончив с собой, он не спасется от позора. Он представил себе, что он мертв, а позор, бесчестье все растут. Или, точнее говоря, он не мог себе представить, что он мертв. Он с такой силой ощущал свое существование, непрерывность своего бытия, что для него было совершенно непостижимым такое понятие, как конец. Земля существует вечно.
Он был смелым человеком. Правда, его смелость не всегда отличалась благородством, но сейчас это было не важно. Он подвел шхуну к берегу и, стоя на палубе, внимательно оглядел лощину и заросли кустарника, прикрывавшие вход в тайник. Шхуна стояла так близко от острова, что он мог перекликаться с рабочими, которые стояли на краю отвесного утеса под стрелой мощного подъемного крана. Ознакомившись с обстановкой, он понял, что никому из них незачем даже близко подходить к лощине, где спрятано сокровище; тем более в нее спускаться. В гавани ему сказали, что на острове никто не ночует. Баркасы каждый вечер переправлялись на буксире в порт, и рабочие возвращались домой, хором распевая песни. Иными словами, сейчас ему нечего было бояться.
«Ну а потом?» — спросил он себя. Потом, когда на острове станет жить смотритель в домике, который уже строят для него за утесом, в полутора сотнях ярдов от маяка и ярдах в четырехстах от тенистой, темной, заросшей кустами лощины, где хранится тайна его безопасности, его влияния, его великолепия, его власти над будущим, тайна, благодаря которой он не страшится злой судьбы, предательства богатых и предательства бедных. Что будет тогда?
Никогда ему не избавиться от проклятого сокровища. Его отвага, превосходящая отвагу других людей, сослужила ему недобрую службу: сплела его судьбу с этой серебряной жилой. И это страшное, мучительное ощущение, что он раб, было таким безысходным, что он нередко сравнивал себя с гринго, о которых рассказывала легенда, не мертвыми и не живыми, навечно связанными со своим незаконно приобретенным богатством. Ощущение это тяжким ярмом давило на своевольного капитана Фиданцу, шкипера и владельца шхуны, чья бравая внешность и баснословный успех в делах были известны всему западному побережью континента.
Неулыбчивый, усатый, отчасти утративший былую упругость походки и стройность благодаря усилиям евреев-портных, изготовлявших в лондонских трущобах вульгарного покроя твидовые костюмы, впоследствии приобретаемые отделом готового платья компании Ансани, он и на этот раз, вернувшись в Сулако, много ходил по делам, и его видели, как всегда, на улицах. И как всегда, он не препятствовал слухам, что сбыл груз с огромной прибылью. Приближался пост, и такой товар, как соленая рыба, раскупали охотно. Его видели в трамваях, курсирующих между городом и портом; раза два он разговаривал с кем-то в кафе, как обычно, ровным, сдержанным тоном. Капитана Фиданцу видели. Поколение, которое ничего не будет знать о легендарной поездке в Каиту, еще не родилось.
Капатас портовых каргадоров, получивший кличку Ностромо от не знавших итальянский язык англичан, теперь уже под настоящим своим именем снова выступил на общественной сцене в роли несколько иной — менее колоритной и более сложной для исполнителя, ибо публика (население Сулако, передовой столицы Западной республики) тоже стала иной: разношерстной и многолюдной.
Капитана Фиданцу, не колоритного, но всегда немного загадочного, увидели и сразу же узнали под высокой крышей из железа и стекла на вокзале железнодорожной станции. Он взял билет на пригородный поезд и отправился в Ринкон, где навестил вдову каргадора, который умер от ран во внутреннем дворе Каса Гулд (на заре Новой Эры так же, как дон Хосе Авельянос). В хижине он изъявил согласие поесть и выпить стакан холодного лимонада, вдова же, стоя, произнесла пылкую и многословную тираду, которую он не слушал. Он дал ей денег. Сироты, уже подросшие и получившие приличное для деревенских жителей образование, называли его дядей и попросили их благословить. Он выполнил и эту просьбу; уходя, задержался на миг на пороге, взглянул на плоский лик горы Сан Томе и нахмурился.
Точно так же он насупил свой бронзовый лоб, что придало оттенок суровости его обычно непроницаемому лицу, на заседании масонской ложи, которую он посещал… впрочем, перед банкетом его чело разгладилось. И точно так же он нахмурился на митинге, где несколько славных товарищей, итальянцев и уроженцев Западной республики, собрались в его честь под председательством нищего, болезненного, горбатенького, малорослого фотографа, чья возвышенная душа побагровела от кровожадной ненависти ко всем капиталистам, угнетателям обоих полушарий. Джорджо Виола, старый революционер, ничего не понял бы из вступительной речи фотографа; а капитан Фиданца, щедрый, как всегда, к неимущим товарищам, не стал произносить речей. Он слушал сумрачно, думал о чем-то своем, а потом ушел, недоступный, молчаливый, каким и должен быть человек, у которого много забот.
Он нахмурился еще сильней, когда на следующее утро увидел вольных каменщиков, плывущих к Большой Изабелле на баркасах, груженных прямоугольными каменными блоками. Камней было достаточно, чтобы добавить к маяку еще один ряд кладки. Такова была установленная норма: один ряд кладки в день.
Капитан Фиданца думал, напряженно думал. Когда на острове появятся чужие люди, ему к сокровищу уже не подойти. Ему и до сих пор было и трудно, и опасно пробираться к тайнику. Он был напуган и в то же время разгневан. Он размышлял, как поступить, с твердой решимостью хозяина и с лукавством раба. Затем отправился в порт.
Находчивости и изобретательности ему было не занимать; поэтому, как всегда, попав в критическое положение, он нашел средство изменить ситуацию в корне. Он умел, оказавшись в опасности, повернуть дело так, чтобы то, что ему угрожает, его защитило; уж такой был у него талант, у несравненного Ностромо, «малого, какие попадаются один на тысячу». Если смотрителем назначат Джорджо, ему не нужно будет скрываться. Он сможет приезжать открыто, при свете дня, повидаться с его дочерьми — с одной из дочерей, — а потом долго беседовать со стариком гарибальдийцем. Ну, а уж ночью… каждую ночь… Теперь он может позволить себе богатеть быстрее. Как страстно ему хотелось загребать, хватать, поглощать, покорять себе это сокровище, деспотически завладевшее его мыслями, поступками, даже сном.
Он отправился в гости к своему другу капитану Митчеллу и провернул дело именно так, как доктор Монигэм рассказал миссис Гулд. Когда старому гарибальдийцу сообщили, какая ему предлагается должность, раздумье легкой тенью пробежало по его лицу, и призрак прежней, давнишней улыбки мелькнул под белыми огромными усищами врага министров и королей. Джорджо очень тревожили дочери. В особенности младшая. Линда, получив в наследство материнский голос, унаследовала заодно и ее положение в доме. Ее звучное «Ну, падре?»[135] казалось отражением кипуче укоризненного «Ну, Джорджо?», так часто произносимого бедной синьорой Терезой. Старик был твердо убежден, что город — неподобающее место для его дочерей. Ослепленный страстью, но бесхитростный Рамирес был предметом его глубочайшей неприязни, ибо воплощал в себе пороки этой страны, населенной слепыми и низкими esclavos.
По возвращении из следующего плавания капитан Фиданца обнаружил, что семейство Виола поселилось в домике, выстроенном для смотрителя маяка. Он хорошо знал характер старого Джорджо и не ошибся в расчетах. Гарибальдиец решительно отвергал самую мысль о том, что на острове может поселиться кто-нибудь, кроме его дочерей. И капитан Митчелл, которому очень хотелось чем-нибудь порадовать своего бедного Ностромо, нашел выход из положения с той проницательностью, которую дарует людям только искренняя любовь; с соблюдением всех необходимых формальностей назначил Линду Виола младшим смотрителем маяка.
— Этот маяк частная собственность, — объяснял он всем, — и принадлежит он моей компании. Мое право выбирать кого мне угодно на должность, и я выбрал старого Виолу. Это единственное, о чем Ностромо — а он бесценный человек, чистое золото! — когда-либо меня просил.
Поставив шхуну на якорь против здания таможни, — плоская крыша, колоннада, ложногреческий стиль, — капитан Фиданца сел в лодку и направился в сторону Большой Изабеллы, открыто, при свете угасающего дня, на глазах у всех и с приятным сознанием, что он вышел победителем из единоборства с судьбой. Он будет часто ездить на остров и узаконит это положение. Сейчас он попросит у старого Джорджо руку его дочери. Он греб и думал о Гизелле. Линда, может быть, любит его, но старик не станет возражать, он будет рад, если с ним останется старшая, голос у которой точь-в-точь как у его покойной жены.
Он плыл не к узкой полоске песка, где когда-то высадился вдвоем с Декудом и еще раз, позже, когда приехал на остров один. Он подплыл к острову с другой стороны и стал подниматься по ровному, пологому склону. Джорджо Виола, которого он увидел издали на скамейке возле двери, чуть приподнял руку, отвечая на громкое приветствие гостя. Ностромо подошел. Девушек не было видно.
— Здесь хорошо, — сказал старик, как всегда рассеянно, немного отчужденно.
Ностромо кивнул; потом спросил, немного помолчав:
— Видел ты, как проходила моя шхуна часа два назад? Знаешь ли ты, почему я пришел сюда прежде, чем бросить якорь в пределах, так сказать, владений порта Сулако?
— Мы всегда тебе рады как сыну, — ответил старик, продолжая смотреть на море.
— А… твой сын. Все понятно. Я для тебя то же, чем мог бы стать твой сын. Это прекрасно, viejo. Радостно услышать по приезде такие слова. Послушай, я приехал просить у тебя…
Внезапный ужас охватил бесстрашного и неподкупного Ностромо. Он не посмел произнести имя Гизеллы. Небольшая пауза придала особую весомость и торжественность его словам.
— …руку твоей дочери. — Его сердце бешено заколотилось. — Сейчас уже пора…
Джорджо прервал его скупым жестом.
— Тут никто, кроме тебя, ничего не мог решать.
Он медленно встал. Борода, ни разу не стриженная после смерти Терезы, густая, белоснежная, закрывала его могучую грудь.
Он повернул голову к двери и громко позвал:
— Линда.
Ее пронзительный голосок ответил им откуда-то из глубины дома; похолодев от ужаса, Ностромо тоже встал, но молчал, как немой, не спуская с двери взгляда. Он испугался. Испугался не того, что любимая ему откажет, — разве могла ему отказать женщина, которую он пожелал? — нет, сверкающий призрак сокровища внезапно вырос у него перед глазами и безмолвно потребовал повиновения, и он не смел противоречить этому безмолвию. Он испугался потому, что не живой, не мертвый, как те гринго с Асуэры, он принадлежал душой и телом тому бесчестью, на которое его обрекла его бесчестная отвага. Он боялся, что ему запретят ездить на остров. Боялся и потому ничего не сказал.
Линда увидела отца и Ностромо, которые ожидали ее, стоя бок о бок, и замерла на пороге. Ее взволнованное лицо по-прежнему оставалось мертвенно-бледным; но черные глаза как бы вобрали в себя весь свет заходящего солнца, и оно ослепительно сверкнуло где-то в самой глубине этих двух черных омутов, на которые тотчас же медленно опустились тяжелые веки.
— Вот твой муж, твой господин и благодетель. — Голос старого Виолы прозвучал с такой силой, что, казалось, его слышит весь залив.
Она шагнула к ним с почти закрытыми глазами, как лунатик, которому снится прекрасный сон.
Ностромо сделал над собой неимоверное усилие.
— Пришла пора нам обручиться, Линда, — сказал он твердым голосом, спокойно и равнодушно.
Холодными пальцами она коснулась его пылающей ладони и опустила голову, черноволосую, с бронзовыми бликами, к которой на миг притронулась рука отца.
— Ну вот, душа умершей успокоилась.
Это сказал Джорджо Виола, после чего еще что-то говорил о покойной жене; а обрученные сидели рядом, но так и не подняли глаз друг на друга. Потом старик умолк; тогда заговорила Линда:
— С тех пор как я почувствовала, что живу, я жила лишь для тебя одного, Джан Батиста. И ты знал это! Ты это знал… Батистино.
Она произнесла его имя, в точности повторив материнскую интонацию. Мрачным холодом могилы пахнуло на Ностромо.
— Да. Знал, — ответил он.
Старый Джорджо сидел с ними рядом, на той же скамье, опустив убеленную сединой голову, и душа его блуждала среди воспоминаний, нежных и яростных, страшных и унылых… и он был одинок… на земле, где так много людей.
А Линда, любимая его дочь, говорила:
— С тех пор как я себя помню, я принадлежала тебе. Стоило мне только подумать о тебе, и земля вокруг меня пустела. Когда ты был рядом, я никого больше не видела. Ничего не изменилось. Я всегда была твоей. Мир принадлежит тебе, и ты позволил мне жить в нем…
Ее дрожащий голос стал глуше, и слова, которые она произносила, были мучительны для человека, сидящего рядом с ней. Она шептала горячо, торопливо. Она не заметила, как из дома вышла младшая сестра, держа в руках напрестольную пелену, которую она вышивала, как прошла мимо с улыбкой на губах, бросив быстрый взгляд в их сторону, прошла и села на скамью, слегка поодаль, по другую руку от Ностромо.
Вечер был тих. Солнце опускалось в воду где-то на самом краю багрового океана; и на белом маяке — он казался синеватым на фоне сгрудившихся над заливом облаков — светился красный глазок лампы, искорка, зажженная пылающим в небе огнем. Гизелла, тихая, торжественная, время от времени приподнимала вышиванье, чтобы скрыть, как она судорожно втягивает в себя воздух, словно взволнованная молодая пантера.
Внезапно Линда бросилась к сестре, притянула к себе ее голову и покрыла лицо поцелуями. У Ностромо застучала кровь в висках. Когда Линда наконец отпустила Гизеллу, и та сидела, неподвижная, ошеломленная этим бурным взрывом чувств, Ностромо с болью ощутил, что он теперь навеки раб, и ему захотелось убить Линду. Джорджо поднял седовласую голову.
— Куда ты, Линда?
— Зажечь лампу, padre mió.
— А… да, да… идешь выполнять свой долг.
Он тоже встал и посмотрел вслед старшей дочке; потом с веселым оживлением сказал, и в этом непривычном для него оживлении послышалось эхо давно забытых дней:
— Схожу-ка я что-нибудь приготовлю. Хе-хе, такие вот дела у нас! Сын! У старика для такого случая найдется и бутылка вина.
Он повернулся к Гизелле и сказал мягко, со сдержанной нежностью в голосе:
— А ты, маленькая моя, помолись, только не богу рабов и священников, а богу сирот и угнетенных, богу бедняков и малых детей, чтобы он и тебе послал в мужья такого же человека.
Ностромо на мгновение почувствовал, как на плечо ему легла тяжелая рука, затем старик вошел в дом. Раб серебра Сан Томе, не смеющий помышлять о воле, ощутил, как при этих словах ядовитое жало ревности вонзилось в его сердце. Этого чувства он никогда еще не знал, и Ностромо ужаснула его сила, его боль, его щемящая горечь. Муж! У нее будет муж! А между тем это вполне естественно, что у Гизеллы рано или поздно появится муж. Как он раньше этого не понимал? Сейчас, поняв, что ее прелесть и краса может достаться другому, он подумал, что смог бы убить и вторую дочь старого Джорджо. Он проворчал сквозь зубы:
— Говорят, ты любишь Рамиреса.
Она покачала головой, не глядя на него. В золоте ее волос скользили медно-красные отблески. Гладкий лоб светился нежной жемчужной белизной в этом роскошном буйстве закатных красок, где слились багрянец моря, алый огонь небес и над горной грядой мрак темного неба с проступающими уже звездами.
— Нет, — ответила она задумчиво. — Я не люблю его. По-моему, я никогда… Он меня, может быть, любит.
Ее милый, неторопливо льющийся голос растаял в воздухе, глаза смотрели в пустоту, и взгляд казался равнодушным и бездумным.
— Рамирес говорил тебе, что любит тебя? — спросил Ностромо, сдерживая гнев.
— Да… один раз. Как-то вечером…
— Несчастный! Да я…
Он вскочил, словно его ужалил овод, и, немой от ярости, стоял перед ней.
— Боже милостивый! И ты тоже, Джан Батиста! Бедная я, бедная! — запричитала она, глядя жалобно и простодушно. — Я рассказала Линде, и она теперь все бранится, бранится. Как ты, говорит, такая, на свете живешь, ничего, мол, ты не видишь, не понимаешь, не слышишь. А потом все рассказала отцу, а он сразу же начал чистить ружье. Бедный Рамирес! Ты приехал — она тут же и тебе рассказала.
Он смотрел на нее. Пристально смотрел на ямку на белой шее, думая при этом, что и вся она так же трепетна, нежна, прелестна, так же дышит молодостью и теплом. Неужели это та девочка, что выросла у него на глазах? Может ли это быть? Ему вдруг пришло в голову, что в последние годы он почти не видел… он совсем не видел ее. Да, совсем. Она явилась в мир никем не знаемая. Нежданной вошла в его жизнь. В ней таится опасность. Страшная опасность. Отчаянная решимость, прилив которой он всегда ощущал, если жизни его что-нибудь грозило, усилила бушевавшую в нем страсть. А она продолжала свое голосом, похожим на пение ручья, звон серебряного колокольчика:
— И вот вы втроем сговорились и увезли меня сюда, в эту неволю, где ничего нет, кроме неба и воды. Ничего. Только вода и небо. О, Santissima Madre![136] Я поседею здесь, на этом острове. Какая тоска! Я готова возненавидеть тебя, Джан Батиста!
Он засмеялся. Как приятно слышать ее голос, он словно ласковые руки прикасается к нему. Она сетовала на судьбу, не сознавая своего очарования, как не сознает своей прелести благоуханный цветок. Разве виновата она в том, что никто и никогда не восхищался Линдой? Она помнит, что еще в детстве, когда они обе ходили с матерью к мессе, прохожие не замечали Линду, а обращали внимание на нее, и Линда, пользуясь этим, пугала робкую младшую сестру — ведь сама-то она ничего не боялась. Она говорила, что прохожие глядят на ее золотые волосы.
— Твои волосы как золото, — сказал Ностромо, — а глаза, как фиалки, а губы, как розы; руки у тебя точеные, а шея белая…
Гизелла покраснела до корней волос. Она не была тщеславной. Не больше, чем цветок, думала она о своей прелести. Но его слова были ей приятны. Кто знает, возможно, цветку тоже нравится, когда его хвалят. Он опустил глаза и пылко сказал:
— У тебя такие маленькие ножки!
Прислонившись спиной к шершавой каменной стене, она блаженно замерла, розовая от смущения. Но быстрый взгляд украдкой скользнул вниз — действительно ли у нее такие маленькие ножки?
— Ну вот, ты наконец решил жениться на нашей Линде. О, как она меня замучила. Теперь, наверное, станет добрей; ведь ты сказал ей, что любишь ее. Я думаю, она поутихнет.
— Нет, малышка, — ответил Ностромо, — ничего подобного я ей не говорил.
— Так не откладывай. Приезжай завтра. Приезжай, скажи ей, что любишь ее, и тогда она, может быть, будет хоть немного меньше браниться, и мне, может быть… кто знает, может быть, мне…
— Позволят слушать, что говорит твой Рамирес? Этого тебе хочется? Ты…
— Боже милосердный! Какой же ты безжалостный, Джованни! — воскликнула она. — Кто такой Рамирес?.. Рамирес… кто он такой? — повторяла она, как во сне. Облака клубились над сумрачным, темным заливом, а красная полоска света на западе была похожа на раскаленный железный прут, положенный у входа в мир, зловещий, как пещера, в которую отважный капатас запрятал все свои земные богатства и радости.
— Послушай, Гизелла, — сказал он девушке решительно и твердо. — Я не стану говорить твоей сестре о любви. Хочешь узнать почему?
— Ах, наверное, я не смогу понять тебя, Джованни. Отец говорит, что ты не похож на других; что тебя по-настоящему никто не понимает; что ты еще удивишь богачей… Силы небесные! Как я устала!
Она снова приподняла вышиванье, чтобы прикрыть нижнюю часть лица, а потом уронила его на колени. Лампа маяка со стороны земли была затенена, но они видели, как из темной башни косо падает луч света, зажженного Линдой, и, устремляясь к горизонту, затмевает догорающие там пурпурные и алые блики.
Гизелла Виола, прислонившись затылком к стене, полузакрыв глаза и скрестив маленькие ножки в белых чулках и черных туфельках, сидела тихо, с безмятежной покорностью вверяя себя надвигающимся на нее сумеркам. Прелесть ее тела, загадочная неторопливость движений насыщали окружающую их ночную тьму, словно пьянящий и свежий аромат цветка. И Ностромо, безупречный капатас Ностромо жадно втягивал в себя воздух, вдыхая ее очарование.
Перед тем как сесть на весла, он оставил на шхуне костюм, купленный в магазине и приличествующий капитану Фиданце. Он стоял перед Гизеллой в клетчатой рубахе, подпоясанной красным шарфом, — в такой одежде он появлялся на пристани, когда работал на Компанию, — итальянский матрос, высадившийся на берег попытать счастья в Костагуане. Темно-красные сумерки окутывали и его, они надвигались неслышно, настойчиво, властно; точно так же они сгущались каждый вечер всего в пятидесяти ярдах от этого дома над головою Мартина Декуда, чей пагубный скептицизм не выдержал испытания одиночеством.
— Нет, послушай, — начал он наконец, овладев собой и обращаясь к ней спокойно, — я не стану говорить о любви твоей сестре, с которой только что обручился, потому что я люблю не ее, а тебя. Тебя!..
Ее нежно улыбающиеся губы, созданные для любви и поцелуев, исказил смертельный испуг. Он видел ее в сумерках; он не мог больше владеть собой. Она отпрянула от него и в тот же самый миг протянула к нему руки жестом поистине царственным в своей бездумной покорности. Он прижал к себе ее головку и осыпал дождем поцелуев белеющее в сумерках запрокинутое лицо. Он обнял ее, нежно и властно. Внезапно он увидел, что Гизелла плачет. И тогда блистательный, беспечный в любви капатас стал ласковым и бережным, словно женщина, успокаивающая ребенка. Он что-то ей нашептывал. Он сел с ней рядом и положил ее белокурую головку себе на грудь. Он называл ее: звездочка моя, мой цветочек.
Спустилась ночь. Из комнаты, где старый Джорджо, один из Тысячи Бессмертных, стоял у очага, склонив над огнем косматую голову, неслось шипение и аромат отлично приготовленного жаркого.
Все смешалось, все рушилось — это свалилось на них с внезапностью и неотвратимостью катастрофы, и он не думал ни о чем, забывшись в сладкой тишине ее объятий. Но в белокурой девичьей головке мелькнул проблеск благоразумия, и она прошептала:
— Милостивый боже! Что теперь со мною станет — здесь, между этим небом и этой водой, которую я ненавижу? Линда, Линда… вот она! — она попыталась вырваться из его объятий, которые внезапно ослабели, когда он услышал это имя. Но никто не приближался к двум черным теням на белой стене. — Линда! Бедная Линда! Я вся дрожу! Я умру от страха перед Линдой, моей бедной сестрой, обрученной сегодня с Джованни, моим любимым! Джованни, ты, наверное, сошел с ума! Я не могу тебя понять! Ну кто еще мог натворить такое? Я никому тебя не выдам… никогда!.. только самому господу богу! Но почему ты это сделал, это ведь ужасно… слепой, жестокий, сумасшедший человек!
Она высвободилась из его объятий и сидела, опустив голову, уронив безвольно руки. На темной земле белела напрестольная пелена, она лежала далеко от них, словно отброшенная сильным порывом ветра.
— Я боялся потерять тебя, — сказал Ностромо.
— Но ты ведь знал, что мое сердце принадлежит тебе! Ты все знал! Я создана для тебя! Что может нас с тобой разделить? Что? Отвечай мне! — твердила она без гнева и волнения, со спокойной, гордой уверенностью.
— Твоя покойная мать, — ответил он очень тихо.
— О!.. Бедная мама! Да, она всегда… но сейчас она святая, она далеко от нас, на небе, и я тебя ей не отдам. Нет, Джованни. Только одному господу богу. На тебя нашло затмение… но дело сделано. Ах, что ты натворил? Джованни, мой любимый, жизнь моя, мой властелин, не оставляй меня в этой могиле, среди этих темных облаков. Ты теперь уже не можешь меня здесь оставить. Увези меня немедленно, сейчас же в своей лодочке. Джованни, милый, увези меня сегодня же — мне ведь страшно показаться Линде на глаза. Увези меня, пока мы с ней не встретились.
Она прильнула к нему. Раб серебра Сан Томе почувствовал, что его руки и ноги опутали тяжелые цепи, а к губам прижалась холодная рука. Он не сразу справился с наваждением.
— Не могу, — сказал он. — Есть одна преграда, она отделяет нас с тобой от свободы всего мира.
Она прижалась к нему крепче с обворожительным простодушным кокетством.
— Ты вздор какой-то говоришь, Джованни, любовь моя! — шептала она нежно. — Ну какая еще может быть преграда? Унеси меня отсюда… прямо на руках… отнеси меня к донье Эмилии. Знаешь, я не очень тяжелая.
Она смотрела на него, будто ждала, что он тотчас же ее поднимет. Для нее не было невозможного. В эту чудесную ночь могло случиться все, что угодно. Но он по-прежнему не двигался, и она сказала громче, почти крикнула:
— Да говорю тебе, я боюсь Линды! — Он не шелохнулся. Тогда она заговорила ласково и вкрадчиво: — Так какая же у нас с тобой преграда? — спросила она и прильнула к нему.
Вот он снова прижимает ее к себе, он чувствует ее живое тепло, ее трепет, ее дыхание. Он ощутил себя могучим и сильным, он ощутил, что настала пора вырваться из рабства на свободу.
— Сокровище, — сказал он. Тишина. Она не поняла его. — Сокровище. Целая груда серебра, за которую можно купить золотую корону и украсить твою головку.
— Сокровище? — повторила она еле слышно, как во сне. — О чем ты говоришь?
Она мягко отстранилась. Он встал, продолжая глядеть на нее, и видел в непроглядной ночной темноте так же ясно, как в солнечный полдень, ее лицо, ее волосы, губы, ямочки на щеках, он видел, как она обворожительна. Ее беспечный, пленительный голосок замирал от волнения, восторга и непреодолимого любопытства.
— Сокровище! Целая груда серебра! — проговорила она, запинаясь. Потом стала допытываться: — Что это? Где? Как ты раздобыл его, Джованни?
Пленник тайны, он не смел ее открыть. И, рывком освобождаясь от заклятия, он выкрикнул, словно нанося удар:
— Как вор!
Густая чернота Гольфо Пласидо обрушилась ему на голову. Сейчас он не видел Гизеллу. Ее скрыла долгая, непроницаемая, бездонная тишина, из которой спустя некоторое время к нему проник ее голос и что-то слабо замерцало — это светилось ее лицо:
— Я люблю тебя! Я люблю тебя!
Эти слова принесли непривычное чувство свободы; в них были чары более могущественные, чем чары серебра; благодаря этим словам он сбросил с себя гнет рабской покорности и снова ощутил чудесную пьянящую уверенность в своих силах. Он сделает так, сказал он, что она будет жить в таком же великолепии, как донья Эмилия. Имущество богатых украдено у народа, а он не взял у богачей ничего… ничего, кроме того, чего они сами себя лишили из-за собственного безрассудства и предательства. Да, они предали его — говорил он, — они обманули, они искушали его.
Она верила каждому его слову… Он забрал себе сокровище, чтобы отомстить; но он уже не хочет мстить. Сейчас он думает только о ней. Она будет жить во дворце, построенном на холме в оливковой роще, в белом дворце над синим морем. Он будет хранить ее там, как бриллиант в шкатулке. Он купит для нее землю, у нее будет своя земля, плодородная земля, поля и виноградники, и ее маленькие ножки будут ступать по ней. Он целовал их… Он уже расплатился за все душою женщины и жизнью мужчины. Хмель собственного великодушия ударил ему в голову. Широким жестом он швырнул сокровище к ее ногам в непроницаемой тьме залива, в той тьме, которая — как говорят — бросает вызов всеведению бога и хитроумию дьявола. Но он предупредил ее: сперва она должна ему позволить стать богатым.
Она слушала как завороженная. Ее пальцы ласкали его волосы. Он встал с колен, шатаясь, ослабевший, опустошенный, будто бы он душу свою метнул к ее ногам.
— Так поторопись же, — сказала она. — Поторопись, Джованни, мой любимый, мой властелин, ведь я не выдам тебя никому, кроме бога. И потом… я боюсь Линду.
Он видел: она вся трепещет, и поклялся ей, что для нее он горы свернет. Он верил мужеству ее любви. Она будет храброй, чтобы он любил ее всегда… там, далеко, в белом дворце над синим морем. Потом робко, но замирая от любопытства, она прошептала:
— А где оно? Где? Скажи мне, Джованни.
Он хотел было ответить, но ничего не сказал — он молчал как громом пораженный.
— Нет! Нет! — пробормотал он наконец. Тайна, храня которую, он был немым со многими людьми, и сейчас сковала его уста. Даже ей. Даже ей он не может этого сказать. Это опасно. — Я запрещаю тебе спрашивать! — крикнул он, стараясь скрыть охватившую его ярость.
Нет, он не вернул себе свободу. Призрак беззаконно нажитого богатства, не знающий жалости серебряный идол, стоял рядом с Гизеллой и призывал его молчать, прижимая к бледным губам палец. И сердце сжалось у него в груди, едва лишь он себе представил, как будет красться ползком по лощине, вдыхая запах земли и палой листвы, как, замирая, он с решимостью отчаяния вползет в пещеру, как выберется оттуда, нагруженный серебром, прислушиваясь к каждому звуку. Он должен сегодня же там побывать, трусливый, малодушный раб!
Он наклонился, прижал к губам край ее юбки и шепнул:
— Скажешь отцу, что я ушел, — после чего исчез внезапно и бесшумно, даже звук его шагов не был слышен в ночи.
Она сидела, устало прислонившись головой к стене, скрестив маленькие ножки в белых чулках и черных туфельках. Из дома вышел старый Джорджо и, узнав, что Ностромо ушел, не удивился, чего она смутно боялась. А Гизелла теперь многого боялась, она боялась всего и всех, за исключением своего Джованни и его сокровища. Все это было так невероятно.
К внезапному исчезновению Ностромо гарибальдиец отнесся с мудрой снисходительностью. Он помнил, что он чувствовал в подобных обстоятельствах, и не обиделся на будущего зятя, проявив мужскую солидарность и терпимость.
— Va bene[137]. Ушел, так ушел. Ха-ха! Как бы красива ни была женщина, все равно на сердце кошки скребут! Свобода, свобода! Мы во многом хотим быть свободны. Сегодня важный день для Джан Батисты, а он свободный парень, не ручной, — назидательно объяснял он неподвижно сидевшей Гизелле. — Да мужчина и не должен быть ручным, — добавил он сурово. Молчание и неподвижность дочери ему не нравились. — Не позволяй себе завидовать сестре, — сказал он с укоризной.
Спустя немного времени он снова подошел к дверям позвать в дом Гизеллу. Она обернулась, лишь когда он окликнул ее в третий раз. Бедняжка была так потрясена, что сидела на скамейке не в силах шевельнуться. Она переступила порог спальни, которую делила с Линдой, с видом человека, погруженного в глубокий сон. Она выглядела так странно, что даже старый Джорджо, который, оседлав очками нос, читал библию, удивленно поднял на нее глаза и покачал головой.
Ни на что не глядя, она прошла через комнату и села у открытого окна. Линда, которую переполняла бьющая через край радость, спустилась на минутку с маяка и обнаружила, что младшая сестра сидит спиной к свече и смотрит в темноту, где то и дело вздыхает ветер, шелестят далекие дожди, — смотрит в черную ночь, какие часто бывают в заливе, смотрит во мрак, непроницаемый для взора господа бога и хитроумия дьявола. Услышав, что отворяется дверь, она не повернула головы.
Даже Линда, пребывающая наверху блаженства, не смогла не заметить странной неподвижности сестры. Она сердито нахмурилась: наверняка малышка думает о негодяе Рамиресе. А Линде так хотелось поговорить. Властным голосом произнесла она: «Гизелла!» — но та даже не повернула головы.
Девушка, которой предстояло жить в собственном дворце и ходить по собственной земле, умирала от страха. Ни за что на свете не согласилась бы она взглянуть в глаза сестре. Ее сердечко отчаянно колотилось. Она ответила, стараясь, чтобы голос ее звучал неторопливо и ровно:
— Не разговаривай со мной. Я молюсь.
Разочарованной Линде пришлось удалиться; а Гизелла продолжала смотреть в окно, потрясенная, растерянная, терпеливая, словно ожидая, что перед ней сейчас возникнет нечто подтверждающее невероятные события этого вечера. Нависшая над заливом безнадежная, черная тьма, вероятно, тоже ей снится. Она ждала.
Ждала не напрасно. Человек с омертвевшей душой выполз из лощины, нагруженный серебром, увидел свет, мерцающий в окошке, не удержался и направился к дому.
И вот из непроницаемой темноты, поглотившей даже горные вершины, перед взглядом Гизеллы, будто по мановению волшебного жезла, возник раб серебра Сан Томе. Это внезапное явление ее ничуть не удивило — все теперь было возможным, все могло произойти.
Она встала, покорно, неловко, и заговорила еще задолго до того, как свет упал на лицо приближавшегося к окну человека.
— Ты пришел забрать меня с собой. Хорошо! Открой же мне свои объятия, Джованни, мой любимый. Я иду к тебе.
Его осторожные шаги затихли, и, встревоженно сверкнув глазами, он хрипло произнес:
— Еще не время. Я должен богатеть медленно. — Угрожающая нотка появилась в его тоне. — Не забывай, что твой любимый — вор.
— Я помню! Помню! — прошептала она торопливо. — Подойди сюда! Послушай! Не покидай меня, Джованни! Никогда, никогда!.. Я буду долго, долго ждать.
Раб незаконно нажитого сокровища увидел, как она высунулась из окна и наклоняется к нему. Свет в ее комнате погас, и в наступившей темноте Ностромо, великолепный капатас, нагруженный краденым серебром, обхватил ее обеими руками за шею, как утопающий хватается за соломинку.
ГЛАВА 13
В тот день, когда миссис Гулд собиралась, по выражению доктора Монигэма, «устроить тертулью», капитан Фиданца сошел с борта своей шхуны, спокойный и невозмутимый, как всегда, и, усевшись в шлюпке, обстоятельно и не спеша, взялся за весла. Он отправился на остров позже, чем обычно. Только в середине дня подплыл он к берегу Большой Изабеллы и, оставив лодку на песке, уверенными шагами стал взбираться на пригорок.
Еще издали он заметил Гизеллу, сидевшую на стуле рядом с домом, прямо под окном той комнаты, где они жили с Линдой. Она держала в руках вышиванье, подняв его поближе к глазам. Грациозная фигурка девушки казалась воплощением покоя, и этот ее безмятежный вид еще сильнее разбередил рану в его душе, измученной постоянной внутренней борьбой. Он рассердился. Она должна была — ему казалось — еще издали услышать, как звенят его кандалы… серебряные кандалы. К тому же, будучи в начале дня в порту, он встретил доктора, о котором все говорили, что у него дурной глаз, и доктор посмотрел на него пристально.
Гизелла подняла на него взгляд, и его гнев сейчас же улетучился. Ее глаза, похожие на два цветка, с улыбкою смотрели ему в душу. Потом она нахмурилась. Он понял: она его предупреждает, что надо быть осторожней. Он отошел чуть в сторону и громким, безразличным голосом сказал:
— Добрый день, Гизелла. Линда уже встала?
— Да. Они с отцом сейчас в большой комнате.
Тогда он подошел и, заглянув в окно, чтобы убедиться, не вернулась ли туда за чем-нибудь Линда, одними губами спросил:
— Ты любишь меня?
— Больше жизни. — Под его пристальным взглядом она склонилась над вышиваньем и продолжала: — А иначе я не смогла бы жить. Нет, не смогла бы, Джованни. Ведь эта жизнь все равно что смерть. Ах, Джованни, я погибну, если ты не заберешь меня отсюда.
Он улыбнулся.
— Когда стемнеет, — сказал он, — я подойду сюда к окну.
— Ой, нет, нет, ни в коем случае, Джованни. Только не сегодня. Линда с отцом о чем-то долго говорили нынче утром.
— О чем же?
— По-моему, я слышала, как они называли Рамиреса. Я ничего не знаю. Я боюсь. Все время боюсь. Мне кажется, я умираю по тысяче раз на день. Твоя любовь для меня — то же самое, что для тебя твое сокровище. Она у меня есть, но мне всегда ее не хватает.
Он глядел на нее: все в нем замерло. Она была прекрасна. Желание зрело в нем. У него сейчас два властителя. Но Гизелла неспособна непрерывно помнить о любви. Слова ее искренни, но по ночам она спокойно спит. Когда она его видит, она воспламеняется. В остальное время она такая же, как всегда, только стала молчаливее. Она боится себя выдать. Она боится боли, резких слов, она боится вызвать гнев и видеть насилие. Ибо душа ее легка и нежна, и во всех ее порывах языческая искренность. Она прошептала:
— Не нужен нам этот дворец, Джованни, и виноградник на холме, если из-за них гибнет наша любовь.
Она замолчала, увидев Линду, которая незаметно вышла из-за угла и остановилась у стены.
Ностромо повернулся, чтобы поздороваться с невестой, и был потрясен, увидев ее запавшие глаза и осунувшееся лицо, за одну ночь ставшее больным и измученным.
— Ты захворала? — спросил он, стараясь, чтобы его вопрос прозвучал сочувственно.
Ее черные глаза сверкнули.
— Разве я похудела? — спросила она.
— Да… вроде бы… немного.
— И постарела?
— Каждый прожитый день старит… любого из нас.
— Боюсь, я поседею, прежде чем у меня на пальце окажется кольцо, — медленно произнесла она, не спуская с него пристального взгляда.
Она ждала ответа, подворачивая выше свои закатанные рукава.
— Этого нечего бояться, — рассеянно ответил он.
Линда отошла от него с обреченным видом и принялась хлопотать по хозяйству, а Ностромо вступил в беседу с ее отцом. Разговаривать со стариком гарибальдийцем было не так-то просто. Дело в том, что его умственные способности не пострадали от возраста, но как бы ушли куда-то вглубь. На любой вопрос он ответствовал медленно, с величественной серьезностью. Правда, на этот раз в нем было больше воодушевления и быстроты; старый лев ожил. Он тревожился за свою честь. Он поверил предупреждению машиниста Сидони о том, что Рамирес покушается на его младшую дочь. Он и ей не доверял. Легкомысленная, ветреная девчонка. Из наивной старческой гордости он не стал делиться этими заботами с «сыном своим, Джан Батистой». Ему хотелось доказать, что он и один еще может отстоять честь дома.
Ностромо пробыл у них недолго. Едва он исчез за полого спускающимся к морю пригорком, Линда вошла в дом и с вымученной улыбкой села рядом с отцом.
После памятного воскресенья, когда обезумевший от страсти Рамирес подстерег ее на пристани, у нее не оставалось никаких сомнений. Несвязные речи ревнивца не содержали в себе ничего, что оказалось бы для нее неожиданным. Они лишь укрепили, словно в сердце ей вогнали гвоздь, и без того не покидавшее ее чувство, что в ее отношениях с женихом нет ни счастья, ни надежности, а все зыбко и фальшиво. Она прошла мимо Рамиреса, облив его потоком презрительных и негодующих слов; но в тот же день она едва не умерла от горя и стыда, лежа на могиле Терезы, на каменной плите, покрытой надписями и резьбой, которую воздвигли по подписке паровозные машинисты и механики из ремонтных мастерских в знак уважения к героическому борцу за объединение Италии. Старику Виоле не удалось осуществить свое желание и похоронить жену в море; и Линда рыдала сейчас на могильной плите.
Ее ужасала бессмысленная жестокость Ностромо. Если он хотел разбить ей сердце вдребезги — отлично. Все дозволено Джан Батисте. Но зачем же он топчет ногами осколки; зачем стремится унизить ее? Ах, вот в чем дело! Сердце разбито, но дух не сломлен. Она вытерла слезы. А Гизелла! Гизелла! Эта малышка, которая с тех пор как научилась ступать ножками, всегда цеплялась за ее юбку. Какое двоедушие! Впрочем, не надо ее винить. Если в дело замешан мужчина, бедная вертушка ничего не может с собой поделать.
Линда унаследовала от Джорджо Виолы его стоицизм. Она решила никому не говорить ни слова. Но ее стоицизм был стоицизмом женщины, она вложила в него всю бушевавшую в ней страсть. Лаконичные ответы Гизеллы, боявшейся выдать себя лишним словом, приводили ее в бешенство — ей казалось, что неразговорчивость сестры продиктована презрением. Однажды, когда Гизелла, полулежа в кресле, разговаривала с ней, Линда бросилась к младшей сестре и оставила след своих зубов на белейшей в Сулако шейке, Гизелла вскрикнула. Но и ей не был чужд стоицизм, присущий семье Виола. Чуть не теряя сознание от страха, она небрежно произнесла: «Madre de Dios! Уж не хочешь ли ты, Линда, съесть меня живьем?» Взрыв миновал без последствий. «Она ничего не знает. Да и не может знать», — размышляла Гизелла. «Это, наверное, неправда. Да и не может быть правдой», — успокаивала себя Линда.
Но когда она впервые увидела капитана Фиданцу после встречи с обезумевшим Рамиресом, к ней вернулась уверенность, что ее беда не вымысел и не фантазия. Стоя на пороге, она смотрела ему вслед и спрашивала себя: «Встретятся они сегодня ночью?» Она решила не спускаться с башни ни на миг. После того как Ностромо скрылся из виду, она вышла из дому и села рядом с отцом.
Почтенный гарибальдиец чувствовал себя, выражаясь его собственными словами, еще совсем молодым. За последнее время слухи по поводу Рамиреса из различных источников доходили до него не раз; и его презрение и неприязнь к человеку, который несомненно не был таким, каким должен был стать его сын, возбуждали в нем тревогу. Он очень мало спал сейчас, но уже несколько ночей, вместо того чтобы читать… или сидеть перед раскрытой библией, укрепив на носу серебряные очки, подаренные ему миссис Гулд, он рыскал по всему острову, вооружившись старым ружьем, горя желанием защитить свою честь.
Линда старалась успокоить отца, положив ему на колено свою тонкую загорелую руку. Рамиреса ведь нет в Сулако. Никто не знает, где он. Он исчез. Не стоит придавать значения его похвальбе.
— Это верно, — перебил старик. — Но сын мой Джан Батиста говорил мне, — сам, я ни о чем его не спрашивал, — что трусливый esclavo пьет и играет в кости со всякой швалью из Сапиги… там, по ту сторону залива. Он, может быть, собрал самых гнусных негодяев в этом негодяйском городишке, чтобы они помогли ему похитить нашу маленькую… Но я пока еще не совсем одряхлел. Нет!
Она с горячностью стала его убеждать, что похищение невозможно; и старик послушался, умолк, покусывая белый ус. С женщинами бывает, что они что-то забьют себе в голову, в таких случаях надо им потакать, — его покойная жена была такой, бедняжка, а Линда вылитая мать. Мужчине не годится ввязываться в споры. «Может быть, может быть», — бормотал он.
А у Линды было тяжело на душе. Она любила Ностромо. Она взглянула на сидевшую в сторонке Гизеллу, и в ее взгляде смешались материнская нежность и муки ревности, страдание побежденной соперницы. Она встала и подошла к сестре.
— Послушай, ты, — сказала она грубо.
Взгляд синих глаз, — омытые росой фиалки, — обезоруживающе открытый, бесхитростный взгляд усилил гнев и восхищение Линды. Прелестные у нее глаза, у этой маленькой мерзавки, такой беленькой, с черной, лживой душой. Линда сама не понимала, чего ей хочется — то ли со злобным воплем выцарапать их, то ли осыпать их поцелуями… таинственные и бесстыдные, наивные глаза. Внезапно они сделались пустыми и без всякого выражения смотрели на нее, только страх из них проглядывал, — не удалось Гизелле скрыть его в сердце так же глубоко, как она скрыла там другие чувства.
Линда сказала:
— Рамирес ходит по городу и похваляется, что увезет тебя.
— Какая глупость! — отозвалась Гизелла и неожиданно добавила — задорно, трепеща от собственной отваги: — Уж он-то тут ни при чем.
Неосторожная фраза, но девушка устала постоянно сдерживать себя.
— Ни при чем? — сквозь зубы переспросила Линда. — В самом деле ни при чем? Должна тебя предупредить: отец бродит по ночам по острову с заряженным ружьем.
— Он напрасно это делает. Скажи ему, Линда. Меня он не послушает.
— Я ни слова не скажу… никогда… никому, — гневно выкрикнула Линда.
Так нельзя больше, подумала Гизелла. Пусть Джованни поскорее ее заберет — в следующий же раз, как только он приедет. Пусть там у него хоть горы серебра, она не хочет больше так мучиться. После разговора с Линдой она чувствует себя больной. Намерения отца ее не испугали. Ведь она попросила Ностромо нынче ночью не приходить под окно. И он ей это обещал. Гизелла не знала и не могла ни догадаться, ни вообразить себе, что у него могла быть и другая причина приплыть на остров.
Не заходя домой, Линда направилась к маяку. Настало время зажигать лампу. Она отперла низкую дверцу и тяжелыми шагами начала подниматься по винтовой лестнице башни, влача свою любовь к блистательному капатасу каргадоров, — позорные, замучившие ее кандалы. Но она их не сбросит. О, нет! Пусть расправятся с изменниками небесные силы. Медленно двигаясь по верхней части башни, где мгла мешалась с лунным светом, Линда осторожно зажигала лампу. Затем она бессильно уронила руки.
— И наша мама смотрит на все это, — пробормотала она. — Моя родная сестра… эта малышка!
Весь осветительный аппарат — медная арматура, ступенчатые призмы — блестел и сверкал как куполообразный бриллиантовый ковчег, источником света в котором служила не лампа, а некий священный огонь, владычествующий над морем. И Линда, смотрительница маяка, вся в черном, бледная, опустилась на стул, наедине со своей ревностью, вознесшись над земными страстями и земным стыдом. Приступ странной головной боли, будто кто-то вцепился в ее черные с бронзовыми бликами волосы и дергал изо всех сил, заставил ее поднести руки к вискам. Они встретятся сегодня. Они встретятся. Ей даже известно где. У окна. Боль нестерпимая… По лицу девушки катился пот, взгляд устремился туда, где лунный свет от берега до берега преградил огромным серебряным прутом вход в Гольфо Пласидо — угрюмую безмолвную пещеру, в которой пенятся буруны и клубятся облака.
Внезапно Линда встала, приложив палец к губам. Он ни ее не любит, ни сестру. Все это внезапно представилось ей таким бессмысленным, бесцельным, что она испугалась, и одновременно в ее сознании забрезжила надежда. Почему он не увез отсюда Гизеллу? Что ему мешает? Непостижимый человек. Чего они ждут? Что заставляет их обоих лгать и притворяться? Она не знает что, но только не любовь. Надежда вновь вернуть его заставила ее нарушить данную самой себе клятву не покидать этой ночью маяк. Нужно немедленно поговорить с отцом, ведь он очень умен, он поймет, в чем дело. Линда стремительно сбежала по винтовой лестнице вниз. В тот миг, когда она открыла входную дверь, до ее слуха донесся выстрел, первый выстрел на Большой Изабелле.
Она пошатнулась, словно пуля попала ей в грудь. Потом бросилась бежать и не останавливалась до самого дома. В окнах было темно. У дверей она закричала: «Гизелла! Гизелла!» — затем метнулась за угол к открытому окну их спальни, продолжая высоким, пронзительным голосом звать сестру; ответа не было, но когда она в полной растерянности снова кинулась к дверям, из дома выскочила Гизелла и пронеслась мимо нее, молча, с распущенными волосами, устремив вперед неподвижный взгляд. Она, словно на цыпочках, промчалась по траве и скрылась.
Линда брела медленно, вытянув руки вперед. На острове царила тишина и трудно было догадаться, куда идти. Дерево, под которым провел свои последние дни Мартин Декуд, представляя себе жизнь в виде вереницы бессмысленных образов, бросало на траву большое черное пятно тени. Неожиданно она увидела отца; опираясь на ружье, он стоял безмолвно, тихо, с головы до ног облитый лунным светом.
Гарибальдиец, высокий, прямой, с белоснежной бородой и волосами, был похож на статую и неподвижностью своей, и величавым спокойствием позы. Она тронула его за плечо. Джорджо не шелохнулся.
— Что ты сделал? — спросила она самым обычным, будничным тоном.
— Я застрелил Рамиреса… infame![138] — ответил он, гладя в ту сторону, где тень была чернее всего. — Как вор, явился он, и, как вор, погиб. Дитя нельзя было оставить без защиты.
Он не двинулся вперед ни на шаг, ни на дюйм. Стоял с ружьем в руке, нахмуренный, невозмутимый, старый человек, пришедший, чтобы оградить честь своего дома. Линда убрала дрожащую руку с его твердого и неподвижного, как камень, плеча и, не говоря ни слова, вошла в черную тень. Увидев, что на земле что-то шевелится, она остановилась. До ее слуха донесся лихорадочный шепот и плач, и, постояв немного, она стала различать слова.
— Ведь я просила, я умоляла тебя: не приходи сегодня, мой Джованни! И ты мне обещал. О, боже! Так зачем же ты… зачем же ты пришел, Джованни?
Линда узнала голос сестры. Потом послышались рыдания. И находчивый капатас каргадоров, владелец и раб сокровища Сан Томе, застигнутый врасплох старым Джорджо, когда он крался к лощине за серебром, ответил ей спокойно и беспечно, только голос его был как-то странно слаб:
— На то похоже, что я не мог дождаться утра, не повидав тебя еще разок, моя звездочка, мой цветочек.
Блестящая тертулья только что подошла к концу, только что отбыли последние гости, и сеньор администрадо́р удалился в свой кабинет, когда доктор Монигэм, которого этим вечером тоже ожидали, но не удостоились лицезреть, подъехал по торцовой мостовой безлюдной, освещенной электрическими фонарями улице Конституции к еще не запертым парадным дверям.
Он, хромая, поднялся наверх и обнаружил в большой гостиной вылощенного жирного Басилио, собиравшегося гасить огни. Столь позднее вторжение изумило почтенного мажордома, и он уставился на гостя разинув рот.
— Не тушите свет, — распорядился доктор. — Мне нужно видеть сеньору.
— Но сеньора сейчас в канцелярии сеньора администрадо́ра, — елейным голосом ответствовал Басилио. — Сеньор администрадо́р через час отправляется в горы. Есть опасение, что среди рабочих вот-вот могут начаться беспорядки. Совсем бессовестный народ, ни стыда, ни разума. И бездельники, сеньор. Бездельники.
— Сами вы бессовестный лентяй и болван к тому же, — сказал доктор, чья раздражительность столь успешно помогла ему снискать всеобщую любовь. — Сказано вам, не тушите свет.
Басилио с достоинством удалился. Доктор Монигэм, дожидавшийся в залитой светом гостиной, вскоре услышал, как в дальнем конце дома затворилась дверь. Прозвенели шпоры. Сеньор администрадо́р отбыл на рудники.
Шурша длинным треном, сверкая драгоценностями, блестя шелком вечернего платья, склонив изящную головку под тяжестью белокурых волос, в которых затерялись редкие серебряные нити, первая леди Сулако, как всегда именовал ее капитан Митчелл, прошла по коридору, баснословно богатая, уважаемая, любимая, почитаемая и такая одинокая, что, пожалуй, более одинокой женщины еще не было на земле.
Когда доктор произнес: «Миссис Гулд! Одну минуту!», она вздрогнула и остановилась у дверей ярко освещенной гостиной. Вид доктора, стоящего посредине пустой комнаты, воскресил в ее памяти ту давнишнюю, неожиданную встречу с Мартином Декудом; все повторилось — и ее душевное состояние, и окружающая их обстановка; ей показалось, что она снова слышит голос этого давно умершего человека: «Антония забыла здесь свой веер». Но это был голос доктора, правда, слегка измененный волнением. Она заметила, что у него блестят глаза.
— Миссис Гулд, я приехал за вами. Знаете, что произошло? Вы помните, как раз вчера мы говорили с вами о Ностромо. Так вот, случилось так, что «ланча», шлюпка с палубой, плывущая из Сапиги с четырьмя неграми на борту, проходила вблизи от Большой Изабеллы, как вдруг с берега раздался женский голос — это кричала Линда, — который велел им подойти к острову (ночь была лунная), взять раненого и отвезти его в город. Хозяин лодки — это он мне все и рассказал — немедленно повиновался. Лодка подошла с той стороны, где берег ниже; их уже дожидалась Линда. Она повела их к дереву, стоящему неподалеку от домика смотрителя. Там они увидели Ностромо, который лежал на земле, рядом с ним сидела младшая дочь смотрителя, а папаша Виола стоял поодаль, опираясь на ружье. Линда попросила их вынести из дома стол, у стола отломили ножки, после чего его можно было использовать как носилки. Они сейчас здесь, в городе, миссис Гулд. Я говорю о Ностромо и… Гизелле. Негры доставили его в больницу возле порта. Он попросил сиделку, чтобы послали за мной. Но не я ему был нужен — он хотел видеть вас, миссис Гулд! Вас!
— Меня? — прошептала она, слегка вздрогнув.
— Да, да, вас! Он попросил меня — своего врага, как он считает, — немедленно привести к нему вас. Судя по всему, он хочет сообщить вам что-то с глазу на глаз.
— Как странно! — пробормотала она.
— Он мне сказал: «Напомните ей, что я кое-что сделал для того, чтобы не обрушился кров над ее головой». Миссис Гулд, — в страшном волнении продолжал доктор. — Помните то серебро? Серебро, увезенное на баркасе… который потом утонул?
Она помнила. Но она не сказала, что ей невыносима даже мысль об этом серебре. Воплощенная искренность, она с ужасом вспоминала, что в первый и в последний раз за всю жизнь утаила истину от мужа именно из-за этого серебра. Страх повелевал ею тогда, и она никогда не простит себе этого. Мало того, это серебро, которое никто не стал бы увозить из Костагуаны, если бы ее мужу стали известны сообщенные Декудом новости, чуть не послужило косвенной причиной смерти доктора Монигэма. Ни о том, ни о другом она не могла думать без содрогания.
— Вы уверены, что оно погибло! — воскликнул доктор. — После того как его увезли, у меня все время было ощущение, будто Ностромо окружен какой-то тайной. Мне кажется, он хочет сейчас, на пороге смерти…
— На пороге смерти, — повторила миссис Гулд.
— Да, да… Он, возможно, хочет рассказать вам что-то об этом серебре, которое…
— О, нет, нет, — испуганно сказала миссис Гулд. — Разве оно не погибло, разве мы еще не покончили с ним? Разве в нашем мире еще недостаточно сокровищ, чтобы сделать каждого несчастным?
Доктор был разочарован, но не осмелился возразить. Наконец он все же решился и спросил очень тихо:
— А как быть с дочкой Виолы, с этой Гизеллой? Что нам делать? Мне кажется, отец и старшая сестра решили…
Миссис Гулд признала, что считает своим долгом сделать все, что в ее силах, для обеих девушек.
— Внизу дожидается шарабан, — сказал доктор, — если вы согласны воспользоваться таким экипажем…
Полный нетерпения, он ждал; затем в гостиной снова появилась миссис Гулд, закутанная в серый плащ с капюшоном.
В этом монашеском одеянии, накинутом поверх вечернего платья, эта женщина — само терпение и сострадание — стояла у кровати, на которой недвижно лежал блистательный капатас каргадоров. Белизна простыней и подушек особенно оттеняла сумрачное и решительное загорелое лицо, темные крепкие руки, так хорошо умевшие управляться со штурвалом, поводьями и курком, а сейчас в бездействии лежащие на белой простыне.
— Она невиновна, — говорил капатас негромким ровным голосом, будто опасаясь, что скажи он хоть слово громче, и порвутся непрочные узы, благодаря которым еще держится в его теле душа. — Она невиновна. Виноват я один. Но и это не важно. За все эти дела я ни перед кем отвечать не должен.
Он умолк. Затененное капюшоном и поэтому кажущееся очень бледным лицо миссис Гулд выражало глубокую, беспредельную печаль. Тихий плач Гизеллы Виола, которая стояла на коленях у кровати, покрыв своими рассыпавшимися золотыми волосами ноги капатаса, не нарушал царившую в палате тишину.
— Ха… старый Джорджо — защитник твоей чести. Ловко меня выследил старик, какая легкая поступь, какая меткая рука. Даже я не справился бы с делом лучше. Но он мог не тратиться на порох. Честь и так была в безопасности. Сеньора, эта девушка пошла бы на край света за Ностромо, вором… Ну, наконец-то слово произнесено! Я снял заклятие!
Тут он услышал то ли стон, то ли вздох и взглянул на девушку, сидящую у его ног.
— Я не вижу ее… а, ладно, — сказал он, и в его голосе был отзвук лихой беспечности старых времен. — Достаточно и одного поцелуя, если на остальные не хватило времени. У нее легкая душа, сеньора! Светлая и теплая, как солнечный луч — вот он спрятался за облака, вот опять играет. Они погасят ее, наползут с двух сторон, как две тучи. Сеньора, обратите на нее ваш взгляд, одарите ее сочувствием, которое славится в этой стране от края и до края, как славится отвага человека, разговаривающего с вами сейчас. Она со временем утешится. Да и Рамирес не так плох. Я не сержусь. Нет, нет! Ведь это не Рамирес одолел меня. — Он замолчал, потом с усилием и уже громче произнес: — Я умираю, потому что меня предали, а предали меня…
Но он так и не сказал, кто его предал.
— Вот она бы не стала меня выдавать, — снова заговорил он, широко раскрыв блестящие от возбуждения глаза. — Она была мне предана. Мы собирались вскоре уехать… очень далеко. Ради нее я расстался бы с этим проклятым сокровищем. Ради этого ребенка я бросил бы множество тюков, набитых серебром. А Декуд унес четыре штуки. Четыре слитка. Зачем? Проклятие! Чтобы меня погубить? Разве мог я возвратить сокровище, если недостает четырех слитков? Все бы стали говорить, что я их украл. Доктор первый сказал бы это. Горе мне, и сейчас оно держит меня!
Миссис Гулд наклонилась над ним совсем низко, холодея от страха.
— Что случилось с доном Мартином в ту ночь?
— Кто знает! В ту ночь я думал лишь о том, что случится со мной. Теперь-то мне известно. Меня ждала нечаянная смерть. А он исчез! Он меня предал. И теперь вы думаете, будто я его убил. Все вы одинаковы, благородные господа. Меня убило серебро. Оно держало меня мертвой хваткой. Держит и сейчас. Никто не знает, где оно. Но вы — жена дона Карлоса, который отдал мне его из рук в руки и сказал: «Умри, но сбереги его». А когда я вернулся и все вы думали, что оно пропало, что я услыхал? Оказывается, оно никому не нужно. Затонуло, и бог с ним. А ты, верный Ностромо, садись на коня, скачи во весь опор и хоть умри, но спаси нас.
— Ностромо, — прошептала миссис Гулд, склоняясь к самому его лицу. — Мне тоже была ненавистна даже мысль об этом серебре.
— Чудеса! Значит, и среди вас нашелся кто-то, ненавидящий то самое богатство, которое вы так ловко умеете выуживать из рук бедняков. Мир зиждется на бедняках, говорит старый Джорджо. Вы всегда были добры к бедным людям. Но богатство неразлучно с проклятием. Сеньора, сказать вам, где спрятано сокровище? Одной лишь вам… Сверкающие груды серебра!
В его голосе невольно прозвучала боль, и ей, так щедро наделенной даром сопереживания, стало ясно: он не хочет открыть свой секрет, он совершает над собой насилие. И она в испуге отвела от него взгляд, не в силах больше говорить об этом с умирающим.
— Нет, капатас, — ответила она. — О нем теперь уже никто не вспоминает. Пусть оно исчезнет навсегда.
Услыхав это, Ностромо закрыл глаза и не произнес больше ни слова, не сделал ни единого движения. Доктор Монигэм, который стоял в коридоре за дверью, возбужденный до предела, с горящими от нетерпения глазами, вошел в палату и приблизился к ним.
— Ну, миссис Гулд, — сказал он ей чуть ли не грубо, не в силах подавить терзавшее его любопытство, — ну, скажите мне теперь, я был прав? Тут в самом деле какая-то тайна. Он вам открыл ее, не так ли? Он вам сказал…
— Он не сказал мне ничего, — твердым голосом ответила она.
Огонек враждебности, которую всегда в нем вызывал Ностромо, погас в глазах доктора, и он покорно отступил. Он не поверил миссис Гулд. Но ее слово было законом. Он безропотно принял ее отказ — очередное подтверждение того, что ему не по силам тягаться с Ностромо. Даже эта женщина, которую он всей душой любил, отдала победу капатасу каргадоров, человеку, всеми признанному (не чета ему!) воплощением мужества, верности и чести.
— Пожалуйста, немедленно пошлите за моей каретой, — сказала миссис Гулд; и затем, повернувшись к Гизелле Виола: — Подойди ко мне, дитя мое; подойди поближе. Мы подождем здесь.
Гизелла робко к ней приблизилась; масса светлых растрепавшихся волос, как вуаль, прикрывала ее детское личико. Миссис Гулд взяла под руку убитую горем недостойную дочь старого Виолы, безупречного республиканца, героя, чье доброе имя никогда не замарало ни единое пятно. Тихо, медленно, как клонится увядший цветок, опустила свою голову эта девушка, которая была готова последовать на край света за вором, на плечо доньи Эмилии, первой леди Сулако, жены сеньора администрадо́ра рудников Сан Томе. И миссис Гулд, ощутив, как она вздрагивает от рыданий, единственный раз в жизни позволила себе излить ту горечь, что годами копилась в ее сердце. Слова, которые она произнесла, были достойны самого доктора Монигэма.
— Не надо так убиваться, дитя. Он бы все равно вскоре забыл тебя… тебя вытеснило бы сокровище.
— Сеньора, он меня любил. Он любил меня, — в отчаянии шептала Гизелла. — Он любил меня так, как никто никого не любил.
— Меня тоже когда-то любили, — жестко сказала миссис Гулд.
Гизелла судорожно к ней прижалась.
— О, сеньора, вас ведь будут обожать до конца ваших дней, — проговорила она, всхлипывая.
Миссис Гулд не произнесла больше ни слова до прибытия кареты. Она направилась к ней, поддерживая девушку, едва стоявшую на ногах. Когда доктор захлопнул дверцу, она высунула из окошка голову и, нагнувшись к нему, прошептала:
— Вы ничем не можете помочь?
— Нет, миссис Гулд. Да он и не позволит до себя дотронуться. Впрочем, не важно. Я взглянул на рану. Сделать ничего нельзя.
Доктор обещал этим же вечером повидать старика Виолу и его старшую дочь. Он увезет его с острова на полицейском катере. Стоя на тротуаре, он смотрел вслед экипажу, медленно катившемуся по мостовой за степенно шагающими белыми мулами.
Слух о том, что случилось несчастье, и о том, что случилось оно с капитаном Фиданцей, разнесся по порту, порядком разросшемуся за последние годы. Несколько бездомных бродяг — беднейшие из бедных — топтались на пустынной улице у дверей больницы и перешептывались при свете луны.
С раненым остался лишь фотограф, кровожадный враг капиталистов; маленький, сухонький, с бледным лицом, он сидел у изголовья кровати, взгромоздившись на высокий табурет, поджав колени и упираясь подбородком в ладони. Его привел задержавшийся допоздна в порту рабочий, которому негр с большой шлюпки, приплывшей из Сапиги, рассказал, что капитан Фиданца смертельно ранен и доставлен на их «ланче» с острова на берег.
— Будут ли какие-нибудь распоряжения, товарищ? — встревоженно спросил фотограф. — Не забудьте: нам нужны деньги для работы. С богачами нужно воевать их же оружием.
Ностромо промолчал. Тот не стал настаивать и сидел, нахохлившись, на табурете, взъерошенный, немыслимо лохматый, как горбатая обезьяна. После долгой паузы он наконец нарушил тишину.
— Товарищ Фиданца, — сказал он торжественно, — вы наотрез отказались принять какую-либо помощь от этого врача. Он действительно опасный враг народа?
Ностромо медленно повернул голову, не отрывая ее от подушки, и устремил пытливый, непроницаемый взгляд на маячившую у его кровати нелепую фигуру. Затем он снова запрокинул голову, закрыл глаза и умер без единого слова и стона, целый час промучившись от боли, о чем свидетельствовала только дрожь, время от времени пробегавшая по его неподвижному телу.
Доктор Монигэм, отплывший в сторону островов на полицейском катере, смотрел, как мерцает на воде лунный свет, как постепенно выступает из темноты черная громада Большой Изабеллы, как из-под покрова облаков падает луч света с маяка.
— Не спешите, — сказал он гребцам. Что-то он застанет там, на острове? Он попробовал представить себе Линду и ее отца и с удивлением заметил, что ему не хочется их видеть. — Не спешите, — повторил он.
С того момента, как он выстрелил в вора, покушавшегося на его семейную честь, Джорджо Виола не двигался с места. Он стоял, опираясь на старенькое ружье, крепко сжимая рукою ствол. После того как «ланча» увезла Ностромо, Линда вернулась к старику и встала перед ним. Он, казалось бы, не замечал ее присутствия, но когда уже не в силах сохранять с большим трудом дававшееся ей спокойствие она крикнула: «Да ты знаешь ли, кого убил?», он ответил: «Бродягу Рамиреса».
Линда, бледная, с безумным взглядом, расхохоталась ему в лицо. Немного погодя он начал вторить ей негромким, басовитым смехом. Потом раскаты ее хохота утихли, а старик вздрогнул и сказал:
— Он закричал голосом сына моего, Джан Батисты.
Он разжал ладонь, ружье упало, но он по-прежнему держал руку так, будто все еще опирался на ствол. Линда грубо схватила его за плечо.
— Ты слишком стар, ничего не поймешь. Пошли домой.
Он позволил себя увести. Споткнулся о порог так сильно, что чуть не упал вместе с дочкой. Все оживление последних дней было подобно вспышке угасающей лампы. Он успел ухватиться за спинку кресла.
— Голосом сына моего, Джан Батисты, — повторил он сурово. — Я слышал, как он вскрикнул… Рамирес… подлец.
Линда помогла ему сесть в кресло и, наклонившись к уху, прошипела:
— Ты убил Джан Батисту.
Старик улыбнулся в густые усы. Странные фантазии бывают иногда у женщин.
— Где малышка? — спросил он, удивленный тем, что в комнате стоит пронзительный холод и непривычно тускло горит лампа, при свете которой он привык просиживать полночи перед раскрытой библией.
Линда с минуту поколебалась, затем опустила глаза.
— Она спит, — ответила она. — Мы поговорим о ней завтра.
Она не могла заставить себя взглянуть на отца. Ее охватывал ужас и вместе с ним острая, почти невыносимая жалость. Она заметила перемену, которая произошла с отцом. Бесполезно объяснять ему, что он сделал — он не поймет, да и сама она никак не может осознать случившегося. Он сказал, с трудом произнося слова:
— Дай мне книгу.
Линда положила перед ним на стол закрытую книгу в протертом кожаном переплете, библию, подаренную ему много лет назад неким англичанином в Палермо.
— Малышку нужно было защитить, — сказал он странным, скорбным голосом.
Линда стояла у него за спиной, ломая руки и беззвучно плача. Вдруг она направилась к дверям. Он услыхал ее шаги.
— Куда ты? — спросил он.
— На маяк, — ответила она и, обернувшись, злобно на него посмотрела.
— На маяк. Да, да… выполнять свой долг.
Очень прямой, седовласый, величавый, отрешенно спокойный, он достал из кармана рубахи очки, подаренные ему доньей Эмилией. Надел их. Долго сидел неподвижно, потом раскрыл книгу и, все так же выпрямившись, высоко держа голову, стал смотреть сквозь стекла очков на набранные мелким шрифтом строчки в двух колонках. Его слегка нахмуренное лицо было суровым и непреклонным, словно отражало мрачные мысли или тягостные чувства. Но он так и не отвел от книги глаз, наклоняясь тихо, постепенно, пока не уткнулся снежно-белой головой в ее раскрытые страницы. Ритмично тикали деревянные часы на выбеленной стене, и, холодея мало-помалу, гарибальдиец еще долго лежал так, одинокий, кряжистый, нетленный, будто с корнем вырванный предательским порывом ветра старый дуб.
А огонь маяка на Большой Изабелле все горел и горел над погибшим сокровищем рудников Сан Томе. Пробиваясь сквозь синеватую, беззвездную ночную мглу, желтый луч фонаря достигал горизонта. Словно черное пятно на блестящем стекле, Линда, стоя на наружной галерее, сгорбившись, прижалась к перилам лбом. Ее ярко освещал свет луны.
Внизу, у подножья утесов, послышался мерный плеск весел и умолк, после чего из лодки возникла фигура доктора Монигэма.
— Линда! — крикнул он, запрокинув голову. — Линда!
Линда выпрямилась. Она узнала его голос.
— Он умер? — крикнула она, перегнувшись через перила.
— Умер, бедная моя девочка. Мы сейчас подойдем, — отозвался доктор. — Держите к берегу, — приказал он гребцам.
Черная фигурка Линды с поднятыми вверх руками отделилась от сверкающего фонаря, будто девушка хотела броситься вниз с маяка.
— Ведь это я тебя любила, — шептала она, и ее лицо в лунном свете казалось белым и застывшим, как мрамор. — Я! Только я! Она тебя забудет, тебя, убитого из-за ее хорошенького личика. Я не могу понять. Я не могу понять. Но я тебя никогда не забуду. Никогда.
Она стояла неподвижно, сосредоточившись на том, чтобы всю свою преданность, всю свою боль, свою растерянность, свое отчаяние вылить в одном-единственном, раздирающем душу крике.
— Никогда! Никогда, Джан Батиста!
Доктор Монигэм, плывущий к берегу на полицейской шлюпке, услыхал, как это имя прозвенело у него над головой. Еще один из триумфов Ностромо, самый великий, самый зловещий, более всех достойный зависти. Этот крик неумирающей любви, прокатившийся, казалось, от Пунта Мала до Асуэры и дальше, до светящейся линии горизонта, над которой нависло огромное белое облако, сверкающее, словно груда серебра, возвестил: дух блистательного капатаса каргадоров ныне властвует над этим темным заливом, где хранятся завоеванные им сокровища недр земных и бесценные сокровища любви.