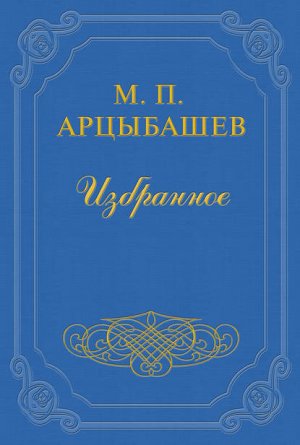
I
Это было большое, казарменнаго вида, бѣлое и скучное зданіе, плакавшее отекшей отъ сырости штукатуркой, но было построено какъ больница: такіе-же ровные и пустые коридоры, такія же большія, но тусклыя, съ прозрачными нижними стеклами, окна, такія же высокія бѣловатыя двери, съ номерками и надписями, и даже пахло здѣсь такъ же; мытымъ чистымъ бѣльемъ и карболкой. А самое непривѣтливое было то, что все здѣсь было черезчуръ чисто, пусто и аккуратно, какъ будто здѣсь жили не живые люди, а статистическія цифры.
Въ этотъ день богатая, хорошей фамиліи, молодая дама въ первый разъ пріѣхала для осмотра пріюта, такъ какъ ее только вчера выбрали вицепредсѣдательницей того общества, которое устроило этотъ пріютъ «для кающихся». Волоча по блестящему полу длинный шлейфъ и съ любопытствомъ и легкимъ смущеніемъ оглядываясь по сторонамъ, она прошла въ чистую и хорошо обставленную комнату «для членовъ комитета», а за нею, размашисто и свободно переваливаясь и шаркая подошвами, прошелъ секретарь общества, красивый, статный человѣкъ въ золотомъ пенснэ.
– Ну-съ, Лидія Александровна, – съ небрежной шутливостью избалованнаго женщинами мужчины сказалъ секретарь, – начнемъ съ пріема… новыхъ питомицъ нашего высоконравственнаго учрежденія.
– Ну, ну, не смѣяться! – кокетливо погрозила ему Лидія Александровна и на мгновеніе задержала на немъ свои большіе, красивые и слегка подрисованные глаза.
Надзирательница пріюта, желтая и сухая дама, вдова офицера, угодливо улыбнулась и, отворивъ дверь въ коридоръ, громко и отчетливо сказала, точно считая:
– Александра Козодоева.
За дверью послышались неувѣренные и торопливые шаги и вошла небольшая, полная, съ крутыми плечами и темными глазами женщина.
Лидія Александровна, сомнѣваясь, такъ-ли дѣлаетъ и шумя платьемъ, поднялась ей навстрѣчу.
«Вотъ онѣ какія… эти… женщины!» подумала она съ интересомъ, и хотя была очень воспитана, прямо, съ брезгливымъ недоумѣніемъ, нѣсколько секундъ разсматривала ее. И ей все казалось, что это не настоящая женщина, а что-то такое искусственное, спеціально для пріюта сдѣланное.
Александра Козодоева испуганно и некрасиво косила глазами и молчала.
Секретарь быстро взглянулъ на нее, но убѣдился, что не знаетъ, и успокоился.
– Вы, кажется, Александра Козодоева?
– Да-съ, – отвѣтила дѣвушка, тяжело и подавленно вздыхая.
Ее давно уже всѣ звали Сашкой или Сашей, и ей было странно отзываться на полное имя и фамилію.
– Вы добровольно желаете вступить въ пріютъ? – оффиціально и небрежно спросилъ секретарь.
– Да-съ, – опять испуганно отвѣтила Саша. Вблизи близорукій секретарь, щурясь, оглядѣлъ ее, точно цѣпляясь взглядомъ за всѣ круглыя и мягкія части ея тѣла. Саша поймала этотъ ищущій взглядъ и сразу ободрилась, будто натолкнувшись на что-то знакомое и понятное среди чужого и страшнаго.
– Мы получили уже ея документы, Лидія Александровна… Я распорядился устроить ее на мѣсто Ѳедоровой, – слегка пришлепывая губами и уступая ей мѣсто, сказалъ секретарь.
Глаза Лидіи Александровны стали испуганными; она почувствовала, что теперь ей слѣдуетъ сказать что-то хорошее и не знала что.
– Это очень хорошо… что вы задумали, – торопливо и путаясь проговорила она, – вамъ будетъ теперь гораздо лучше и… васъ тамъ помѣстятъ… вы идите, я распоряжусь… Корделія Платоновна!..
– Не безпокойтесь, Лидія Александровна, – говоркомъ проговорила надзирательница. – Идемте, Козодоева.
Когда дѣвушка уходила, Лидія Александровна въ зеркало увидѣла прищуренные глаза секретаря, и ей вдругъ показалось, что онъ просто и близко сравниваетъ ихъ обѣихъ. Что-то оскорбительное ударило ей въ голову, она страннымъ голосомъ произнесла какую-то французскую фразу и нехорошо засмѣялась.
«Чего она смѣется?» промелькнуло у Саши въ головѣ.
– А она – ничего! – сказалъ секретарь, когда дверь затворилась.
Лидія Александровна Презрительно вздернула головой.
– У васъ нѣтъ вкуса… она груба, – съ безсознательнымъ, но острымъ чувствомъ физической ревности неловко возразила она.
Секретарь, щурясь, посмотрѣлъ на нее.
– Нѣтъ, я не нахожу… А вкусъ, гмъ… – многозначительно и самодовольно произнесъ онъ и, инстинктивно дразня женщину, прибавилъ:– она прелестно сложена.
Лидія Александровна почувствовала и поняла, что онъ зналъ много такихъ женщинъ, и, несмотря на то, что такой разговоръ нестерпимо шокировалъ ее, ей пришло въ голову только то, что она гораздо лучше, красивѣе, изящнѣе. И, невольно изгибаясь всѣмъ тѣломъ съ лѣниво-сладострастной граціей, Лидія Александровна повернулась къ нему своей стройной мягкой спиной. Съ минуту она, чувствуя на себѣ раздражающій опредѣленный взглядъ мужчины, мучительно старалась вспомнить что-то важное, несомнѣнное, что совершенно исключало всякую возможность сравненія ея съ этой женщиной, но не вспомнила и только презрительно и таинственно улыбнулась, и глаза у нея, томные и большіе, прикрылись и побѣлѣли.
Желтая дама повела Сашу по коридорамъ, гдѣ встрѣчныя женщины, въ скверно сшитыхъ платьяхъ изъ дешевенькой синей матеріи, съ равнодушнымъ любопытствомъ смотрѣли на нихъ, и привела въ большую комнату, заставленную громоздкими шкафами и тяжело пропахшую нафталиномъ.
Двѣ толстыя простыя женщины, возившіяся съ грудами грязнаго прокисшаго бѣлья, сейчасъ же безсмысленно уставились на Сашу.
– Тутъ мнѣ и жить? – съ робкимъ и довѣрчивымъ любопытствомъ спросила Саша.
Желтая дама притворилась, что не слышитъ.
– Какъ фамилія? – отрывисто и въ упоръ спросила она.
И голосъ у нея былъ такой странный, что Саша невольно подумала:
«Какъ у дохлой рыбы!..»
– Чья? – машинально спросила она.
Глаза желтой дамы стали злыми.
– Ваша, конечно!
– Козодоева, моя фамилія, – тихо отвѣтила Саша, съ недоумѣніемъ припоминая, что желтая дама уже звала ее по фамиліи.
– Вамъ это… переодѣться надо, – отрывисто, мелькомъ взглядывая на ея платье, сказала надзирательница.
Если бы Сашѣ въ эту минуту сказали, что ей надо выпрыгнуть въ окно съ четвертаго этажа, она бы и это сдѣлала, такъ была она сбита съ толку. Когда она рѣшила уйти отъ прежней жизни, ей казалось, что встрѣтитъ ее что-то свѣтлое, яростное, теплое и радостное. А то, что съ нею дѣлали теперь, было такъ сложно, странно, ненужно ей и непонятно, что она совсѣмъ не могла разобраться въ немъ.
«Такъ значить, нужно… они ужъ знаютъ», – успокаивала она себя.
Саша, торопясь и путаясь въ тесемкахъ, стала раздѣваться, покорно отдавая свои кофточку, юбку, башмаки, чулки.
– Все, все – махнула рукой дама, когда Саша осталась въ одной рубашкѣ.
Саша торопливо спустила съ круглыхъ полныхъ плечъ рубашку и осталась голой.
Всѣ три женщины быстро осмотрѣли ее съ ногъ до головы, и вдругъ лицо желтой дамы перекосилось какимъ-то уродливымъ чувствомъ. Она думала, что это было презрѣніе къ тому, что дѣлала Саша своимъ тѣломъ, а это было смутное, инстинктивное чувство зависти безобразнаго, состарившагося тѣла, которое никому не было нужно, къ молодому, прекрасному, которое звало къ себѣ всѣхъ.
Саша стояла, согнувъ колѣни внутрь, и тупилась. Было что-то унизительное въ томъ, что она была голая, когда всѣ были одѣты, и въ томъ, что ей было холодно, когда всѣмъ было тепло. Колѣни ея подрагивали, и мелкая, мелкая дрожь пробѣгала по нѣжной бѣло-розовой кожѣ, покрывая ее мелкими пупырышками. Желтая дама нарочно, сама не зная зачѣмъ, медлила, копаясь въ бѣльѣ. Саша старалась не смотрѣть вокругъ и стояла неподвижно, не смѣя прикрыться руками.
«Хоть бы ужъ скорѣе… – думала она, – ну, чего она тамъ… стыдно… холодно, чай»…
– Пожалуйста, скорѣй, – опять съ тою же ищущей мягкостью и робостью попросила она.
И опять надзирательница съ удовольствіемъ притворилась, что не слышитъ.
Саша тоскливо замолчала, а что-то тяжелое, недоумѣвающее будто поднялось съ пола и наполнило все и отодвинуло всѣхъ отъ, нея.
– Вотъ это ваше платье, – сказала дама и съ радостью кивнула Сашѣ такое же дранненькое синенькое платье, какое Саша уже видѣла въ коридорѣ.
– А… бѣлье? – съ трудомъ выговорила Саша и вся покраснѣла.
Ей пришло въ голову, что можетъ быть, здѣсь и бѣлья не полагается.
– А, да… берите, вотъ…
И бѣлье было грубое и дурное, совсѣмъ не такое, какое привыкла носить Саша.
– Скорѣй, вы! – приказала желтая дама. Саша, опять торопясь и путаясь, одѣлась въ сшитое не по ней платье. Ей было неловко въ немъ и стыдно его, и тогда на одну секунду шевельнулась въ ней мысль! «И съ какой стати?»…
Но сейчасъ же она вспомнила, что она уже, почему-то, не имѣетъ права желать быть хорошо и красиво одѣтой, и тихо, путаясь въ подолѣ слишкомъ длинной юбки, пошла, куда ее повели.
Опять прошли по коридору и вошли въ высокую больничнаго вида комнату.
– Вотъ вамъ кровать, а вотъ тутъ будете свои вещи держать. Вамъ потомъ скажутъ, что полагается дѣлать, и когда обѣдъ, чай и все… тамъ…
Желтая дама ушла.
Саша сѣла на краюшекъ своей кровати, почувствовала сквозь тоненькую матерію синенькой юбки жесткое и колючее сукно одѣяла и стала искоса разглядывать комнату.
Тоненькія желѣзныя кровати тоже стояли какъ въ больницѣ, только не было дощечекъ съ надписями, но Сашѣ сначала показалось, что и дощечки есть. Возлѣ каждой кровати стоялъ маленькій шкафчикъ, очевидно служившій и столикомъ, и деревянная, выкрашенная густой зеленой краской табуретка. Въ комнатѣ было еще пять женщинъ, которыя сначала показались Сашѣ будто на одно лицо.
Но потомъ она ихъ разсмотрѣла.
Рядомъ, на сосѣдней кровати, сидѣла толстая, рябая женщина и угрюмо поглядывала на Сашу, лѣниво распуская грязноватыя тесемки чепчика.
– Тебя какъ звать-то? – басомъ спросила она, когда встрѣтилась глазами съ Сашей.
– Александрой… Сашей… – отвѣтила Саша, и ее самое поразилъ робкій звукъ собственнаго голоса.
– Такъ… Александра! – помолчавъ, безразлично повторила рябая и почесала свой толстый, вялый животъ.
– Фамилія-то, чай, есть, – вдругъ сердито пробурчала она, – дура!
И повернувшись спиной къ Сашѣ, стала искать блохъ въ рубашкѣ.
Саша удивленно на нее посмотрѣла и промолчала.
Другая, совсѣмъ худенькая и маленькая блондинка, съ круглымъ животомъ и длиннымъ лицомъ, отозвалась:
– Вы ее не слушайте… она у насъ ругательница… По фамиліи у насъ говорятъ.
– Козодоева, моя фамилія, – застѣнчиво и торопливо сказала Саша.
Блондинка съ животомъ сейчасъ же встала и пересѣла на Сашину кровать.
– Вы, милая, изъ комитетскихъ? – спросила она ласково.
– Я… – замялась Саша, не понимая вопроса.
– Вамъ сколько лѣтъ-то?
– Два… двадцать два, – пробормотала Саша.
– Значить, по своей охотѣ?
– Сама, – отвѣчала Саша и застыдилась, потому что совершенно не могла въ эту минуту отдать себѣ отчета, дурно это или хорошо.
– А почему? – съ любопытствомъ спросила блондинка.
– Да… такъ, – съ недоумѣніемъ сказала Саша.
– Да оставь ты ее! – сказала третья женщина, и голосъ у нея былъ такой простой, ласковый и мягкій, что Сашу такъ и потянуло къ ней.
Но маленькая красивая женщина только весело кивнула ей головой и отошла.
II
Ночью, когда потушили огонь и Саша свернулась комочкомъ подъ холоднымъ и негнущимся одѣяломъ, все, что привело ее въ пріютъ, пронеслось передъ нею, какъ въ живой фотографіи, и даже ярче, гораздо ярче и ближе къ ея сознанію, чѣмъ въ дѣйствительности…
Саша тогда сидѣла у окна, смотрѣла на мокрую улицу, по которой шли мокрые люди, отражаясь въ мокрыхъ камняхъ исковерканными дрожащими пятнами, и ей было скучно и нудно.
Откуда-то, точно изъ темноты, вышла тощая кошка и хвостъ у нея былъ палочкой.
Далеко, за стеклами, гдѣ-то слышался стихающій и подымающійся, какъ волна, гулъ какой-то могучей и невѣдомой жизни, а здѣсь было тихо и пусто, только кошка мяукнула раза два, Богъ знаетъ о чемъ, да по полутемному залу молчаливо и проворно шмыгали ногами худые полотеры.
Саша, какъ-то насторожившись, смотрѣла на заморенныхъ полотеровъ, чутко прислушиваясь къ отдаленному гулу за окномъ, и ей все казалось, что между полотерами и той жизнью есть что-то общее, а она этого никогда не узнаетъ.
Полотеры ушли, и терпкій трудовой запахъ мастики и пота, который они оставили за собой, мало-по-малу улегся. Опять кошка мяукнула о чемъ-то.
Саша боязливо оглянула это пустое, мрачное мѣсто, съ холодной ненужной мебелью и роялемъ, похожимъ на гробъ, и ей стало страшно: показалось ей, что она совсѣмъ маленькая, всѣмъ чужая и одинокая. Люди за окномъ сверху казались точно придавленными къ мостовой, какъ черные безличные черви, раздавленные по мокрымъ камнямъ.
Саша нагнулась, подняла кошку подъ брюхо и посадила на колѣни.
– … Ур… м-мурр… – замурлыкала кошка, изгибая спину и мягко просовывая голову Сашѣ подъ подбородокъ.
Она была теплая и мягкая, и вдругъ слезы навернулись у Саши на глазахъ; и она крѣпко прижала кошку обѣими руками.
– … Урр… м-ммуррр… ур… – мурлыкала кошка, закрывая зеленые глаза и вытягивая спинку.
– Милая… – съ страстнымъ желаніемъ въ одной ласкѣ вылить всю безконечно-мучительную потребность близости къ кому-нибудь шепнула Саша. И ей казалось, что она и кошка – одно, что кошка понимаетъ и жалѣетъ ее. Глаза стали у нея мокрые, а въ груди что-то согрѣлось и смягчилось.
– …Уррр… – проурчала кошка и вдругъ разставила пальцы и выпустила когти, съ судорожнымъ сладострастіемъ впившись въ полное, мягкое колѣно Саши.
– Ухъ! – вздрогнула Саша и машинально сбросила кошку на полъ.
Кошка удивленно посмотрѣла не на Сашу, a прямо передъ собою, точно увидѣла что-то странное. Сѣла, лизнула два раза по груди и, вдругъ поднявъ хвостъ палочкой, торопливо и озабоченно побѣжала изъ зала.
А Сашѣ стало еще тяжелѣе, точно что-то оборвалось внутри ея.
Пробило семь часовъ. Швейцаръ пришелъ и, не обращая на Сашу никакого вниманія, дѣлая свое дѣло, нашарилъ шершавыми пальцами кнопку на стѣнѣ, и сразу вспыхнулъ веселый холодный свѣтъ. Заблестѣлъ паркетъ, стулья вдругъ отчетливо отразились въ немъ своими тоненькими ножками, рояль выдвинулся изъ темнаго угла.
Одна за другой пришли Любка и толстая рыжая Паша. Любка сѣла у рояля, понурившись, точно разсматривая подолъ своего свѣтло-зеленаго платья, а рыжая Паша стала вяло и безцѣльно смотрѣть въ окно.
Саша повертѣлась передъ зеркаломъ, тяжело вздохнула и что-то запѣла. Голосъ у нея былъ сильный, но непріятный.
– Не визжи, – вяло замѣтила Паша и прижала лицо къ стеклу.
– Чего тамъ увидѣла? – спросила Саша, безъ всякаго любопытства заглядывая черезъ ея толстое плечо.
– Ни-че-го, – сказала Паша, медленно поворачивая свои глупые, красивые глаза, за которые ее выбирали мужчины, – такъ, смотрю… что тамъ.
Саша тоже прижалась лбомъ къ холодному стеклу, за которымъ теперь, казалось, была холодная и бездомная темнота. Сначала она ничего не видѣла, но потомъ темнота какъ будто раздвинулась и отступила, и Саша увидѣла ту же мокрую и пустую улицу. По ней, уходя тоненькой ниточкой вдаль, тускло и дрожа, горѣли, невѣдомо для кого фонари. И опять Саша услышала отдаленный могучій гулъ, отъ котораго чуть слышно дрожали стекла.
– Что оно тамъ? – съ глубокой тоской, непонятной ей самой, спросила Саша.
– Будто какой звѣрь рычитъ… гдѣ… – равнодушно проговорила Паша и отвернулась.
Саша посмотрѣла въ ея прекрасные, глупые глаза, и ей захотѣлось сказать что-то о томъ, что она чувствовала сегодня, глядя въ окно. Но это чувство только смутно было понято ею и глубже было ея словъ. Саша промолчала, а въ душѣ у нея опять появилось чувство неудовлетвореннаго и мучительнаго недоумѣнія.
«И что-й-то со мной подѣлалось сегодня?…» – съ тупымъ страхомъ подумала она и, подойдя къ Пашѣ вплотную, сказала тоскливо и невыразительно:
– Ску-учно мнѣ, скучно, Пашенька…
– Чего? – вяло спросила Паша.
Саша помолчала, опять мучительно придумывая, какъ сказать. Ей ясно представилось, какъ она сидѣла въ пустомъ, какъ могила, залѣ, одна-одинешенька, какою маленькой, никому ненужной, забытой чувствовала она себя, и какъ гдѣ-то далеко отъ нея гудѣла и шумѣла незнакомая большая жизнь, и опять ничего не могла выразить.
– Жизнь каторжная! – съ внезапной, неожиданной для нея самой, злобой сказала она негромко и сквозь зубы.
Паша помолчала, тупо глядя на нее.
– Нѣтъ… ничего… – лѣниво проговорила она: – вотъ тамъ… – припомнила она, называя другой «домъ», подешевле гдѣ женщина стоила всего полтинникъ… – точно, нехорошо… всякій извозчикъ лѣзетъ, грязно, духъ нехорошій… дерутся… А тутъ ничего: мужчинки все благородно, не то чтобы тебѣ… и кормятъ хорошо… Тутъ ничего, жить можно…
Она опять помолчала и вдругъ, немного оживившись, прибавила:
– У насъ въ деревнѣ такой пищи во вѣкъ не увидишь!
– А ты изъ деревни? – спросила Саша съ страннымъ любопытствомъ.
– Я деревенская, – спокойно пояснила Паша, – у насъ иной разъ и объ эту пору ужъ хлѣбъ кончается… изъ недородныхъ мы… земли тоже мало… Картошкой живутъ, извозомъ мужики занимаются, а то и такъ… Деревня наша страсть бѣдная, мужики, которые, пьяницы… Кабы пошла замужъ, натерпѣлась бы… Сестру старшую, мою то-есть, мужъ веревкой до смерти убилъ… Въ острогъ его взяли потомъ… – совсѣмъ уже лѣниво договорила она и встала.
– Куда ты? – спросила Саша.
– Чаю пить, – отвѣтила Паша, не поворачиваясь.
Саша опять повертѣлась передъ зеркаломъ, выгибая грудь и разсматривая себя черезъ плечо, но уже ей было тяжело оставаться одной въ наполненномъ пустымъ, холоднымъ свѣтомъ залѣ. Она подошла къ роялю, за которымъ попрежнему, понурившись, сидѣла Любка. Когда Саша подошла близко, Любка подняла голову и долго смотрѣла на нее. И большіе печальные глаза были недовѣрчивы и растерянны, какъ у со всѣхъ сторонъ затравленнаго звѣря.
– Любка, – машинально позвала Саша.
Она налегла на рояль полной грудью и смотрѣла, какъ въ его черной полированной поверхности отражалась она сама и Любка, съ странными въ густомъ коричневомъ отраженіи темными лицами и плечами.
Любка не отозвалась, а только придавила пальцемъ клавишу рояля. Раздался и растаялъ одинокій и совсѣмъ печальный звукъ.
– А-ахъ! – зѣвнула Саша и стала пальцемъ обводить свое отраженіе. Опять раздался тотъ же упорно печальный плачущій звукъ. Саша вслушалась въ него и съ тоской повела плечами. Любка неувѣренно взяла двѣ-три ноты, точно уронила куда-то двѣ-три хрустальныя тяжелыя капли.
– Оставь, – съ тоской сказала Саша.
Но Любка опять придавила ту же ноту, и на этотъ разъ еще тихо и протяжно загудѣла педаль. Саша съ досадой быстро подняла голову и вдругъ увидѣла, что Любка плачетъ: большіе глаза ея были широко раскрыты и совершенно неподвижны, а по лицу сползали струйки слезъ.
– Во… – удивленно проговорила Саша съ пугливымъ недоумѣніемъ.
Любка молчала, а слезы беззвучно капали и падали ей на голую грудь.
– Чего ты? – спросила Саша, пугливо глядя на медленно ползущія по напудренной кожѣ слезы, и чувствуя, что ей самой давно хочется заплакать и, почему-то боясь этого.
– Перестань, чего-ты?.. Любка, Любочка… – заговорила она и подбородокъ у нея задрожалъ.
– Обидѣлъ тебя кто?.. Да чего… Любка!
Любка тихо пошевелила губами, но Саша не разслышала.
– Что?..А?..
– За… заразилась я… – повторила Любка громче и повалилась головою на рояль.
Что-то мрачное и грозное пронеслось надъ душой Саши. Хотя заражались, и очень часто, другія товарки Саши, и хотя она знала, что это можетъ случиться и съ нею самой, ея здоровое молодое тѣло, сильное и чистое еще, не принимало мысли объ этомъ, и она скользила по ней, не оставляя въ душѣ мучительныхъ бороздъ. И только теперь, когда она въ первый разъ увидѣла такое страшное отчаяніе, только теперь впервые она совершенно сознательно поняла, что это дѣйствительно безобразно, ужасно, что изъ-за этого стоитъ такъ заплакать въ голосъ, закричать и начать биться головой, съ безнадежной пустотой и безсильной злобой въ душѣ. И ей даже показалось, что именно изъ-за этого ей было такъ тяжело сегодня цѣлый день, такъ страшно, такъ грустно и обидно. И Саша тоже заплакала, сквозь слезы глядя на затуманившееся въ черной поверхности рояля свое отраженіе.
– Чего вы ревете? – спросила подошедшая дѣвушка и стала смѣяться. – Вотъ дуры, стоятъ другъ противъ дружки и ревутъ!
– Сама дура! – не съ задоромъ, какъ въ другое-бы время, а тихо и грустно возразила Саша, но все-таки перестала плакать и отошла отъ рояля. Въ душѣ у нея было такое чувство, точно кто-то громадный и безпощадный всталъ передъ нею и страшно яркимъ свѣтомъ освѣтилъ что-то безобразное, несправедливое, непоправимо-ужасное, дѣлающееся съ нею и во всемъ вокругъ.
Когда стали приходить мужчины, Саша въ первый разъ увидѣла ясно, что имъ нѣтъ никакого дѣла до нея; между собою они пересматривались что-то говорящими глазами, даже иногда обмѣнивались непонятными Сашѣ словами о чемъ-то такомъ, чего не было въ ея жизни, а когда поворачивали глаза къ Сашѣ и другимъ, вдругъ становились точно бездушными, жадными, какъ звѣри, безжалостными и непонимающими… А чаще это были такіе тупые или пьяные люди, что они, видимо, и не понимали того, что дѣлали.
– И всегда-то такъ… – съ ужасомъ захолонуло въ груди Саши.
Пришелъ таперъ и сразу заигралъ что-то очень громкое, но вовсе не веселое. Дѣвушки, точно выливаясь изъ темной и грязной трубы, выходили изъ темнаго коридора. Музыка становилась все громче и нестройнѣе, и отъ ея преувеличенно наглыхъ звуковъ шумѣло въ головѣ. Стало жарко, душно. Все сильнѣе и сильнѣе пахло распустившимся, потнымъ человѣкомъ, пахло приторными духами, табакомъ, мокрымъ шелкомъ, пылью. Музыка сливалась съ шарканьемъ и топотомъ ногъ, съ крикомъ, съ самыми ненужными гадкими словами, и не было слышно ни мотива, ни словъ, а висѣлъ въ воздухѣ только одинъ отупѣлый озвѣрѣлый гулъ. Въ ушахъ начинало нудно шумѣть и казалось, что весь этотъ переполненный ополоумѣвшими отъ скверной, нездоровой жизни людьми, табакомъ, пивомъ, извращенными желаніями, скверной музыкой домъ – не домъ, а какая-то огромная больная голова, въ которой мучительно шумитъ и наливается тяжелая, гнилая, венозная кровь, съ тупой болью бьющая въ напряженные, готовые лопнуть виски.
И Саша противъ воли танцовала и кричала, и ругалась и смѣялась.
– Ску-учно, – сказала она старенькому чиновнику, присосавшемуся къ ней.
– Ну, и дура! – съ равнодушной злостью сказалъ чиновникъ и неудержимо сладострастнымъ шопоткомъ прибавилъ: – пойдемъ что-ли!
Тогда Саша стала жадно пить горькое пиво, проливая его на полъ, на себя, на смятую кровать. Она пила захлебываясь, а когда напилась, ею овладѣло тупое, больное, равнодушное веселье. Опять она пѣла, ругалась, танцовала и забыла, наконецъ, свое чувство и Любку, такъ что, когда въ коридорѣ началась страшная суматоха, и кто-то пронзительнымъ и тонкимъ голосомъ, съ какимъ-то недоумѣніемъ закричалъ; – «Любка удавилась!» – то Саша не могла даже сразу сообразить, какая такая Любка могла удавиться и зачѣмъ?
Но когда таперъ сразу оборвалъ музыку, и нестройно протяжно прогудѣла педаль, Саша вдругъ вспомнила и свой разговоръ съ Любкой, и все, громко ахнула и побѣжала по коридору.
Тамъ уже была полиція, городовые и дворники, запорошенные снѣгомъ, кинувшимся въ глаза Сашѣ, стучавшіе тяжелыми валенками и нанесшіе страннаго въ узкомъ душномъ коридорѣ, бодрящаго, холоднаго чистаго воздуха. На полу былъ натоптанъ и быстро темнѣлъ и таялъ мягкій свѣжій, только что выпавшій снѣгъ. И Сашѣ показалось, будто вся улица вошла въ коридоръ, со всѣми своими закутанными мокрыми людьми, суетой, шумомъ, холодомъ и грязью. Дворники и городовые равнодушно дѣлали какое-то свое дѣло, непонятное Сашѣ, точно работали спокойную и полезную работу, и только толстый усатый околоточный, въ толстой сѣрой, съ торчащими блестящими пуговицами, шинели, въ которую злобно впивались черные ремни шашки, ожесточенно и громко кричалъ и ругался.
Слышно было, какъ «экономка» слезливымъ и хриплымъ басомъ повторяла:
– Развѣ жъ я тому причиной?.. Какая моя вина?..
Лицо у нея было желтое и совсѣмъ перекошенное отъ недоумѣлой злости и страха.
Саша ткнулась въ отворенную дверь Любкиной комнаты, и хотя ее сейчасъ же съ грубымъ и сквернымъ словомъ равнодушно вытолкнулъ городовой, она все-таки успѣла увидать ноги Любки, торчавшія изъ-подъ скомканной и почему-то мокрой простыни. Ноги были босыя, потому что Любка такъ и не одѣлась послѣ пріема гостя; онѣ неподвижно торчали носками врозь, и странно и жалко было видѣть эти бѣлорозовыя, прекрасныя, съ тонкими, нѣжными и сильными пальцами, ноги неподвижными и ненужными, брошенными на затоптанный, точно заплеванный, полъ.
Саша вылетѣла обратно въ коридоръ, больно проѣхалась плечомъ о стѣну и пошла прочь, машинально потирая рукою ушибленное мѣсто.
И въ эту минуту ей стало противно, обидно, страшно и жалко себя, и захотѣлось уйти куда-нибудь, перестать быть собою, такою, какъ есть.
Въ необычное время потушили огни, гости разошлись и все сразу стало пусто и тихо-тихо. Домъ какъ будто притаился въ зловѣщемъ молчаніи. Дѣвушки боялись итти спать и толпились въ кухнѣ, однѣ одѣтыя, другія растрепанныя, измятая; лица у нихъ у всѣхъ были одинаково искривлены въ тревожныя, слезливыя, точно чего-то ожидающія гримасы. Дверь въ комнату Любки заперли, и возлѣ нея расположился, почему-то въ шубѣ и шапкѣ, дюжій спокойный дворникъ. Дверь эта была такая же, какъ и всѣ въ домѣ, невысокая, бѣлая, но именно тѣмъ, что произошло за нею, она какъ будто отдѣлилась отъ всѣхъ дверей и даже отъ всего міра и стала какой-то особенной, таинственно-страшной. Дѣвицы то и дѣло бѣгали взглянуть на нее и сейчасъ же со всѣхъ ногъ бѣжали обратно.
Одна дѣвушка, больше другихъ дружившая съ Любкой, сидѣла въ кухнѣ у стола и плакала, и отъ жалости, и оттого, что на нее смотрятъ со страхомъ и любопытствомъ.
Было страшно и непонятно, точно передъ всѣми встало что-то неразрѣшимо ужасное и печальное.
Пришла экономка, сердитая и желтая, какъ лимонъ. Она съ-размаху сѣла за столъ и стала дрожащими руками наливать и пить, какъ всегда, приготовленное для нея пиво. Губы у нея тоже дрожали, а глаза злобно косились на дѣвушекъ. Она помолчала, наслаждаясь тѣмъ, что всѣ притихли, глядя на нее испуганными и покорными глазами, а потомъ проговорила сквозь зубы:
– Тоже… какъ же… ха!.. Подумаешь!
И въ этихъ словахъ было столько безконечнаго удивленнаго презрѣнія, что даже привыкшимъ къ самой грубой и злой ругани дѣвушкамъ стало не по себѣ, неловко и грустно. И потому особенно стыдно и обидно, что каждая изъ нихъ, ничтожная и загаженная, въ самой глубинѣ души, непонятно для самой себя, какъ-то гордилась поступкомъ Любки.
И всѣ стали потихоньку и не глядя другъ на друга расходиться.
– Сашенька, – шопотомъ позвала Сашу одна изъ дѣвицъ, Полька Кучерявая.
– Чего?
– Сашенька, душенька… боюсь я одна… возьми къ себѣ… будемъ вмѣстѣ спать…
Она заглядывала Сашѣ въ лицо боязливыми, умоляющими глазами и собиралась заплакать.
– И то, пойдемъ… Все не такъ…
Когда онѣ уже лежали рядомъ на постели, имъ было неловко и странно, потому что онѣ давно привыкли лежать только съ мужчинами. Обѣ стыдились своего тѣла и молча старались не дотрагиваться другъ до друга.
Было темно и жутко. Сашѣ, которая лежала съ краю, все казалось, будто что-то черное и холодное съ неодолимой силой ползетъ по полу, медленно, медленно. Въ ушахъ у нея звенѣло мелодично и жалобно, а ей казалось, что гдѣ-то тамъ, далеко въ темномъ, какъ могила, пустомъ, холодномъ залѣ падаютъ куда-то и звенятъ хрустальныя и тоскливыя капли рояля. Тамъ сидитъ мертвая и неподвижная, холодная, синяя и страшная Любка, сидитъ за роялемъ и слезы капаютъ на рояль, и мертвые глаза ничего не видятъ передъ собой, но Сашу видятъ оттуда, страшно видятъ, тянутся къ ней. А по полу что-то медленно-медленно подползаетъ.
– Спишь? – не выдержала Саша. – А? – позвала она поспѣшно и прерывисто, не поворачивая головы и зная навѣрное, что рядомъ лежитъ Полька, и зная, что это вовсе не Полька… И голосъ ея въ темнотѣ показался ей самой чужимъ и слабымъ.
Полька шевельнулась. Ея невидимые, мягкіе, курчавые волосы слегка скользнули по щекѣ Саши, но отозвалась она не сразу…
– Нѣтъ, Сашенька, – тихо и жалобно сказала она. И Сашу неудержимо потянуло на этотъ нѣжный и слабый голосъ. Она быстро повернулась и сразу всѣмъ тѣломъ почувствовала другое мягкое и теплое тѣло, но не увидѣла ничего кромѣ все той же, все облившей, изсиня-черной тьмы. И вдругъ двѣ невидимыя худенькія и горячія руки скользнули по ея груди и осторожно боязливо нашли и обняли ея шею.
– Са-ашенька, – тихо прошептала Полька, – отчего мы такія несчастныя?..
И въ темнотѣ послышались просящія и покорныя всхлипыванія. Волосы ея щекотали шею Саши, слезы тихо мочили грудь и рубашку, а руки судорожно дрожали и цѣплялись.
Саша молчала и не двигалась.
– Лучше бы мы померли, какъ… или лучше, какъ еще маленькія были… Я, когда еще въ гимназіи училась, такъ больна была… воспаленіемъ легкихъ… и все радовалась, что выздоровѣла… и волосы виться стали… Лучше бъ я тогда умерла!..
Саша все молчала, но каждое слово Польки стало отзываться гдѣ-то внутри ея, какъ будто это она сама говорила и плакала.
– Что мы теперь такое? – продолжалъ стонать и жаловаться плачущій въ темнотѣ одинокій голосокъ. – Вонъ Люба повѣсилась, а Зинку въ больницу взяли; говорятъ у нея даже и носъ провалился… хорошенькая, вѣдь, была Зинка… И какъ будто такъ и надо… такъ мы и остались… никто не придетъ и не уведетъ, чтобы и съ нами… не…
– А… чего захотѣла… Ха!.. – вдругъ злобно, задыхаясь и трясясь вся, пробормотала Саша.
– И насъ свезу-утъ… Никому до насъ и дѣла нѣтъ… До всѣхъ дѣло есть, всѣхъ людей берегутъ… тамъ, и все… А мы, какъ проклятыя какія… А за что?
– Извѣстно. – сквозь зубы проговорила Саша и отвернулась, хотя и ничего не было видно.
– Я помню, – шептала въ темнотѣ Полька, точно жалуясь не Сашѣ, а кому-то другому, – какая я была въ гимназіи… чистенькая… Иду, и всѣ на меня смотрятъ и улыбаются… Мама встрѣтитъ: ну, что, моя дочка?.. Ничего неизвѣстно… – вдругъ порывисто, горячо и тоскливо перебила она себя: – я и не виновата въ этомъ вовсе!
– А кто виноватъ? – спросила Саша тихо и съ какимъ-то трепетнымъ и жалобнымъ ожиданіемъ:
Полька вдругъ дернулась всѣмъ тѣломъ.
– Кто?.. А развѣ я знаю!.. Ничего я не знаю, ничего не понимаю… А только я, можетъ, теперь дни и ночи плачу… пла-ачу…
И Полька заплакала тоненькимъ, тихимъ и безконечно безсильнымъ плачемъ. Казалось, будто это не человѣкъ плачетъ, а муха звенитъ.
– Жалко мнѣ жалко, Сашенька, – опять зашептала она, захлебываясь слезами, – и себя жалко, и тебя жалко, и Любку… всѣхъ…
Она затихла. Долго было совершенно тихо и какъ-то глухо. Потомъ стало слышно, какъ вѣтеръ воетъ въ трубѣ. Такъ, застонетъ тихо, помолчитъ и опять протянетъ долгій тоскливый звукъ: у-у-у… какъ будто у него зубы болятъ.
– Я дѣточекъ люблю, – вдругъ тихо и стыдливо сказала Полька, – мнѣ бы дѣтку своего, я бы… Боже мой, какъ бы я его любила!.. Са-ашенька!.. – съ какимъ-то изступленнымъ восторгомъ отчаянія всхлипнула она.
Сашѣ казалось, что ее насквозь пронизываетъ этотъ изступленный, тонкій какъ иголка, шопотъ, и ей стало невыносимо. Захотѣлось крикнуть, порвать что-то.
– Мы что тутъ?.. Такъ… падаль одна! Живемъ, пока сгніемъ… А другіе же живутъ… свѣту радуются… Я въ гимназіи все книжки читала… теперь не читаю, забыла… да и что читать!.. А тогда мнѣ казалось, что все это и я переживу… будто у меня въ груди что-то громадное… будто все счастье, какое на землѣ есть, я переживу, все мое будетъ… вся жизнь, и люди всѣ мои, для всѣхъ людей… и… и не могу я этого выразить… Са-ашенька…
– Какъ быть? – вдругъ спросила Саша сдавленнымъ, глухимъ горловымъ голосомъ.
Полька замолчала такъ неожиданно, что Сашѣ показалось, будто теперь темнота шепчетъ.
– Уйти… бы… – шепнула Полька, и Саша услыхала растерянный и робкій голосъ.
Саша вслушалась въ его придавленный звукъ и вдругъ почувствовала себя большой и сильной, въ сравненіи съ худенькой, слабой Полькой, которая могла только плакать и жаловаться. Она даже какъ будто почувствовала всю могучую красоту своего молодого, сильнаго тѣла, двинула руками и ногами и громко заговорила, точно грозя:
– И уйдемъ… что!
Въ комнатѣ уже стало свѣтлѣть; и когда Саша повернула голову, то увидѣла рядомъ неясныя очертанія бѣлаго и маленькаго тѣла и у самаго лица большіе, чуть-чуть блестящіе въ темнотѣ, испуганные глаза.
Полька молчала.
– Ну? – со злобой страха и неувѣренности почти крикнула Саша.
– Куда? – робко и чуть слышно проговорила Полька. – Куда я теперь ужъ пойду?
Будто что-то, на мгновеніе мелькнувшее передъ Сашей, свѣтлое и отрадное померкло и безсильно стало тонуть въ мутной мглѣ! И, хватаясь за что-то, почти физически напрягаясь, Саша крикнула въ бѣшенствѣ:
– Тамъ видно будетъ… Хуже не будетъ! Уйти бы только!..
И вскочила обѣими горячими ногами на холодный полъ, ясно, съ леденящимъ ужасомъ чувствуя, что мертвая Любка изъ темной бездонной дыры подъ кроватью сейчасъ схватитъ ее за ноги и потащитъ куда-то въ ужасъ и пустоту. И преодолѣвая слабость въ ногахъ, Саша босикомъ добѣжала до окна, ударила, распахнула его на темный, какъ бездонный колодезь, дворъ и высунулась далеко наружу, повиснувъ надъ сырой и холодной пустотой. Вѣтеръ рванулъ ее и вздулъ рубашку пузыремъ, леденя спину. На волосы сейчасъ же сталъ мягко и осторожно откуда-то сверху падать невидимый снѣгъ; вверху и внизу было пусто, сѣро и молчаливо, пахло сыростью и холодомъ. У Саши сдавило въ груди, сжало голову, и судорожно схвативъ горшокъ съ цвѣтами, она со всего размаха, напрягая всѣ силы въ страшной неутолимой злобѣ и ненависти, швырнула его темную пустоту за окномъ. Что-то только метнулось внизъ, и глухой тяжкій ударъ донесся снизу: