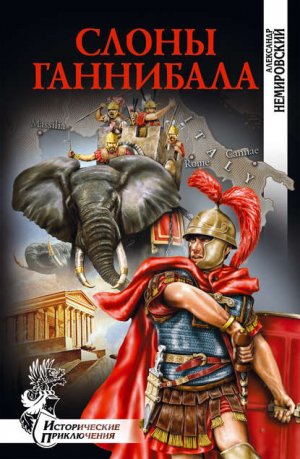
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЛЕВ ПОКАЗЫВАЕТ КОГТИ
Льва узнают по когтям.
Древняя пословица
СЫНОВЬЯ
Они возились на ковре, как маленькие смешные зверьки. Мелькали спутанные вихры, слышался визг и прерывистое дыхание. Ганнибал повалил Газдрубала. Магон уцепился за шею Ганнибала и тянул вниз. Это у них называлось войной. Сегодня Ганнибал — римлянин, а его братья — карфагеняне. Силы были равны. Ганнибалу девять лет, братьям столько же двоим.
— Сдавайтесь! — кричал старший, вращая белками глаз. — Сдавайтесь, вы, щенки!
Но малыши и не думали отступать. Магон вцепился в волосы Ганнибалу, тот потянулся, чтобы наказать «вероломного врага». Этим воспользовался Газдрубал и опрокинул старшего брата.
Приоткрыв полог, Гамилькар незаметно наблюдал за сыновьями. Его толстые губы шевелились, как всегда, когда он испытывал волнение. Давно ли в этой же комнате, на этом же самом ковре он боролся с братьями. Тогда они играли в карфагенян и греков, но воевать ему пришлось с римлянами. Двадцать три года длилась эта война. Она отняла у него все — и братьев и славу. Позорный мир, невыносимо тяжелая дань. А потом, воспользовавшись слабостью Карфагена, восстали рабы и наемники. Гамилькару пришлось сражаться с людьми, которые служили под его водительством в Сицилии. Он давил их слонами, распинал на крестах. А ведь это были в прошлом неплохие воины. И где найти им замену?
Ганнибал снова подмял под себя Газдрубала. Размахивая кулаком, он не давал приблизиться Магону, который опасливо держался в стороне.
— Рим победил! — крикнул Ганнибал тонким, срывающимся от возбуждения голосом.
Гамилькар вздрогнул. Его полное лицо побагровело. Даже у себя дома он не может избавиться от этого слова, ноющего, как застарелая рана, жгущего, как пощечина, давящего сердце, как камень.
Подбежав к оцепеневшим детям, он закричал:
— Замолчите! Чтоб я не слышал этого!
Дети растерянно поднялись с ковра. Смущенно смотрели они себе под ноги. Они всегда стеснялись отца, потому что редко его видели и так много слышали о нем от окружающих. С именем Гамилькара в их воображении связывались страны и города со звучными и диковинными названиями, битвы с далекими, неведомыми народами. Им казалось, что отец занят какой-то удивительно интересной игрой. И теперь, когда они ему подражают, он так незаслуженно суров с ними!
Магон поднес кулачки к глазам и залился слезами. Газдрубал нахохлился, как молодой петушок. Ганнибал пристально смотрел на отца. В его зрачках застыло тревожное, беспокойное недоумение.
Гамилькару сделалось не по себе от этого укоряющего взгляда. Каждый день он может уйти в ту страну, откуда нет возврата. Таков удел воина. И всегда, когда вокруг свистят стрелы и льется кровь, он думает о них, о своих сыновьях. Страстно хочется верить, что дети унаследуют не только его толстые губы, курчавые черные волосы и выпуклый лоб, но и то, что владеет душой. Или это обман, которым себя тешат смертные? Сын будет жить своей жизнью, у него появятся свои заботы, свои привязанности и своя вражда. Выросшие в логове львята разбредутся по свету. И вспомнят ли они о льве, приносившем им теплую добычу?
С неожиданной нежностью Гамилькар привлек к себе детей, потных и раскрасневшихся. От них исходил запах свежести. Так пахнут на рассвете луговые травы, еще не высушенные солнцем. Да, это его сыновья, его маленькие львята. В прошлом году они потеряли мать, еще раньше — сестру. А он покинул свое логово и стал чужим для сыновей. У них нет никого, кто бы их приласкал, кто бы разделил с ними их детские радости и огорчения. Маленькие заброшенные львята!
— Перестаньте хныкать, вы, воины! — порывисто шептал Гамилькар. — Собирайтесь, я покажу вам слонов!
В КАРФАГЕНЕ
Карфаген встречал слонов. Все улицы от Торговой гавани, где животных вывели с кораблей, до возвышающейся над городом крепости Бирсы были заполнены крикливой толпой. Казалось, во всем огромном городе не осталось ни одного человека, равнодушного к этому зрелищу. Те, кому не хватило места на тротуарах и мостовых, устроились на плоских черепичных крышах. Мальчишки облепили деревья и подножия статуй, унизали, как воробьи, каменные ограды храмов.
— Идут! — послышался громовой крик.
— Слава Гамилькару! — последовал другой возглас и тотчас же потонул в рукоплесканиях.
Из-за поворота узкой, застроенной высокими домами улицы показался первый слон. Его спину и крутые бока покрывала пестрая попона. Над попоной возвышалась обитая кожами башенка. Башенка была пуста, но перед нею, на шее слона, восседал человек с остроконечной железной палкой в руках. Его просторный плащ был подпоясан черным матерчатым поясом. Белая повязка, замотанная вокруг головы, напоминала трубочку с кремом, какие выпекают на праздники. Из-под повязки блестели живые черные глаза. Человек важно помахивал своей палкой, словно приветствия относились не к слонам и не к Гамилькару, который подарил их республике, а к нему одному.
Слон осторожно шагал, обнюхивая хоботом мостовую. Так слепец ощупывает землю палкой, прежде чем сделать шаг. Впервые за много дней под Суром [1] была не зыбкая, колеблющаяся палуба, а нагретые солнцем каменные плиты. Но у этих камней был какой-то странный и незнакомый запах, запах чужбины.
Карфагеняне считали слонов вслух: «Три... пять... девять... двенадцать». Всего двенадцать индийских гигантов. Ни разу, ни одно слоновье стадо в Карфагене не встречали с таким восторгом и воодушевлением.
Загоны в городской стене могли вместить триста слонов, но со времени войны с восставшими рабами и наемниками опустевшие помещения были заняты бездомными бродягами и нищими. Их стали называть в насмешку «слонами». И даже появилось выражение «протянуть хобот», означавшее: «просить милостыню». Теперь же огромные ниши в городской стене займут настоящие боевые слоны.
Восхищенная толпа провожала слонов до самых загонов, украшенных пальмовыми листьями и цветами. Люди терпеливо стояли на жаре, наблюдая, как индийцы заводили слонов в их жилища, как они смазывали коровьим маслом морщинистую кожу живота и ног гигантов.
Народное поверье считало встречу со слоном счастливым предзнаменованием. «Слоны приносят счастье», — говорили в народе, и каждому хотелось иметь его частицу. Предприимчивые торговцы в белых передниках поверх туник [2] сновали в толпе. На головах у них поблескивали медные подносы с фигурками слонов из эбенового дерева, камня, обожженной глины и даже хлебного мякиша, обмазанного финиковым медом. «Кому счастья?»
Отыскались и ценители боевых слонов. Их окружили кучки любопытных, смотревших прямо в рот этим знатокам. Стоит послушать, с каким воодушевлением они описывают мощь слонов, каким умом и сообразительностью их наделяют!
— Во время войны в Сицилии, — рассказывал человек в войлочной шляпе, — наш лагерь находился от римского в двадцати стадиях [3]. Ночь была темная. Утомленные воины спали. Вдруг заревели слоны. Наш полководец догадался, что идут враги. Ведь слоны не выносят запаха жареного лука, который исходит от римлян.
В толпе послышался смех.
— На земле нет животного сильнее слона, — продолжал человек в шляпе. — Я сам видел слона, свернувшего шею льву и поднявшего его своим хоботом, как котенка. А в римскую войну вся вражеская конница была уничтожена тремя «индийцами» [4].
Шумное одобрение слушателей было наградой за эту патриотическую небылицу.
Успех воодушевил рассказчика:
— Однажды в Мавритании [5] мы отправились на ночную охоту. Впереди виднелось что-то темное, подобно холмам. Подошли поближе. Да это слоны! Сидят себе, задрав к небу хобот, и смотрят на луну и ревут так жалобно, что без слез слышать нельзя. Тут-то мы и поняли: слоны молились богине Танит! [6]
Раздался оглушительный хохот. Кто-то надвинул рассказчику на глаза его войлочную шляпу.
— За кого ты нас принимаешь! — послышался чей-то возмущенный возглас. — Смотри, как бы тебе самому не свернули шею!
Опешивший знаток слонов поспешил затеряться в толпе.
К полудню площадь перед загонами опустела. Толпа растаяла, оставив после себя скорлупу от орехов и шелуху сушеных тыквенных семечек. Рабы с метлами и лейками наводили чистоту. Индийцы, накормив животных, прилегли в тени смоковницы. Они устали от непривычного для них шума чужого города.
Уже вечерело, когда к загону подошли двое карфагенян с мальчиком лет девяти. Длинный черный плащ скрадывал грузность Гамилькара. Рядом с полководцем был юноша лет двадцати пяти — племянник Гамилькара Газдрубал, «Старик», как его называли в семье за седую прядь волос на левом виске. Его плечи покрывала короткая красная накидка, какую обычно носят всадники.
— Отец, а отец! — Ганнибал теребил за рукав Гамилькара. — Смотри, какой у слона смешной длинный нос.
Гамилькар грустно улыбнулся.
— Видишь, Старик, — сказал он, обращаясь к своему спутнику, — в какую пропасть скатилась республика. Мои сыновья не видели живых слонов! А ведь всего лишь пять лет назад на улицах города слона можно было встретить чаще, чем теперь мула... А разве одних слонов мы потеряли? — продолжал он, зажмурив глаза и слегка покачивая головой. — Мы лишились флота, римляне опустошили нашу казну, отняли принадлежавшие нам острова. Они скоро заставят нас платить за воздух, которым мы дышим, за воду, которую пьем, за вино, которым совершаем возлияния богам и предкам.
— Ты прав, Гамилькар, — согласился Газдрубал. — Мы живем в тяжелое время. Но пусть меня поразит Мелькарт [7], если твои дети не увидят лучшие дни! Я верю в возрождение республики. Сегодня весь наш город встречал слонов. Народу известно, кто их купил. Многие выкрикивали твое имя.
— И эти выкрики черни — награда за мои раны, за мои труды! — Гамилькар горько улыбнулся. — Если бы ты побывал в Большом Совете, то сказал бы другое. Ты услышал бы, как рабби [8] рукоплескали Ганнону [9], когда он заявил, что я добиваюсь царской власти. Ганнон требовал, чтобы я распустил армию и отчитался перед Советом. — Лицо Гамилькара побагровело. Сжав кулаки, он закричал прерывающимся голосом: — Распустить армию, которая спасла республику?! А кто мне вернет серебро, заплаченное наемникам? Кто возвратит деньги за этих слонов, доставленных с другого края земли? Не Ганнон ли, который предан нашей республике лишь на словах?
— Отец, а отец! — Мальчик тормошил Гамилькара.
— Чего тебе надо, Ганнибал? — спросил полководец раздраженно.
— Отец, что это за люди? Почему они так странно одеты? Что у них на голове?
— Это индийцы, — отвечал Гамилькар. — Есть в том краю, где встает из океана Мелькарт, страна Индия. В ее девственных лесах водится много слонов, похожих на наших ливийских. Индийцы приручили своих слонов, сделали их послушными. Я приобрел слонов у индийцев.
— А погонщиков ты тоже купил? — допытывался мальчик.
— Нет, это свободные люди, они служат мне за серебро.
— Тогда скажи им, чтобы они заставили вот этого большого слона поклониться.
— Ты много захотел, сын мой. — Гамилькар улыбнулся. — Это боевые слоны. Им не пристало кланяться. Они обучены поражать врагов своими клыками, схватывать их хоботом, бросать наземь и затаптывать ногами.
— Отец, а отец! — не отставал мальчик. — Зачем везти слонов с края света, когда они живут у нас под боком, в Ливии?
Газдрубал, до этого не вмешивавшийся в разговор отца с сыном, весело рассмеялся:
— От наших длинноухих лишь один прок — слоновая кость. Скорее лев подружится с овцой, чем человек оседлает дикого и бестолкового «ливийца».
— Ты так думаешь? — промолвил Гамилькар, загадочно улыбаясь. — Видишь того пожилого погонщика, что сидит под смоковницей? Этот человек стоит целой армии. Зовут его Рихадом. Потолкуй с ним. Он недурно говорит на нашем языке. Рихад тебе объяснит, что нет таких диких слонов, которых нельзя приручить.
Гамилькар замолчал, о чем-то задумавшись.
— Будет время, — начал он после долгой паузы, — и ты убедишься, что я прав. Нет, не один Карфаген вступит в схватку с Римом. На нашей стороне будет Ливия с могучими слонами, сейчас пасущимися в бескрайних степях, Ливия с ее тонконогими, быстрыми, как ветер, скакунами, Ливия с ее смуглокожими наездниками и меткими стрелками из лука. Будет время. Но пока мне нужна Иберия [10]. Слоны и кони не умеют ходить по воде.
КЛЯТВА
Эти дни были заполнены тревогой ожидания. С утра Ганнибал выбегал на дорогу, соединяющую поместье с Карфагеном. Мимо мальчика проезжали повозки, запряженные сытыми, откормленными мулами. Сквозь щели в бортах повозок просвечивало золотое зерно, виднелись амфоры с вином и оливковым маслом, фрукты — все, что требуется ненасытному городу. Из города парами и по четыре шли закованные в цепи невольники — чернокожие и светлокожие. Их купили на рынке у гавани владельцы окрестных поместий. Поднимая белую известковую пыль, скакали стражники в коротких синих плащах и черных войлочных шляпах.
Отец не появлялся. Может быть, он забыл о своем обещании взять его с собой? А мальчик только и думал об Иберии. В самом звучании этого слова было для него что-то сказочное и волнующее. В нем слышался звон серебра, которым, как говорили, была полна эта страна, удары океанских волн о ее скалистые берега. Иберия! Воображение мальчика рисовало страшных чудовищ и свирепых великанов, о которых рассказывается в сказках.
Предстоящий поход в Иберию волновал не одного Ганнибала. Невидимыми, но прочными нитями имя и судьба Гамилькара были связаны с Сицилией. В те дни, когда карфагенский флот терпел одно поражение за другим, одно позорнее другого, как молния на небе, покрытом черными тучами, вспыхнула яркая слава Гамилькара Барки. С высот Эрикса [11] он совершал смелые нападения на вражеские отряды, громил непобедимые римские легионы. И если для Карфагена Сицилия была потеряна, то виноват в этом был не Гамилькар, а карфагенский флот, разгромленный в битве при Эгатских островах [12]. Как не верить, как не надеяться, что Гамилькар вернет Карфагену этот благословенный остров!
Но вместо этого Гамилькар отправляется в Иберию. Некоторым это казалось трусостью, почти предательством.
Однажды, когда Ганнибал уже потерял всякую надежду на возвращение отца, приехал Гамилькар. Короткие мгновения прощания с братьями, и вот мальчик уже в колеснице. Гулко стучат копыта: «В по-ход, в по-ход». Шарахаются в стороны пешеходы, уступая дорогу бешено мчащейся колеснице.
Радостное возбуждение Ганнибала рассеивалось при взгляде на отца. Гамилькар был хмур и сосредоточен. Как и тогда, во время игры с братьями, мальчик не понимал отца. Опять отец чем-то недоволен, словно его не радует поход в Иберию.
У храма Ваал Аммона Гамилькар дал знак рабу, чтобы тот остановил коней. По гранитным ступеням, стертым тысячами ног, отец и сын прошли в святилище. Массивные черные колонны поддерживали потолок, испещренный витиеватыми узорами. Светильники на колоннах и на стенах освещали каменные плиты пола, кожаные мешки и металлические сосуды с приношениями верующих. Заколебалась и отползла в сторону пурпурная завеса. В глубине открылся высокий алтарь, а за ним — огромная медная статуя обнаженного юноши. Не ей ли в дни праздников приносят в жертву детей?
Ганнибал, следуя за отцом, робко приблизился к алтарю. Ему стало зябко, словно холод каменных плит проник в его тело, леденя в жилах кровь.
— Положи сюда руку, сын мой. — Гамилькар показал мальчику на край алтаря.
Ганнибал послушно протянул руку на алтарь.
— Теперь повторяй за мной слово в слово: «Пусть меня покарают боги...»
— Пусть меня покарают боги...
— «...если я когда-нибудь буду другом вероломных римлян...»
— ...если я когда-нибудь буду другом вероломных римлян...
— «если я им не отомщу за позор моего отца...»
— ...за позор моего отца...
— «...и за унижение моей родины».
— ...и за унижение моей родины.
Каким только испытаниям не подвергала судьба Ганнибала! Она возносила его на вершину славы, бросала из страны в страну, из города в город, но всюду и всегда Ганнибал помнил этот храм, освещенный прыгающим пламенем светильников, этот алтарь за пурпурной завесой, в его ушах, как призыв трубы перед началом боя, звенел голос отца. Он не запомнил слов этой клятвы, но сохранил ей верность на всю жизнь.
ИБЕРИЯ
Целый месяц войско находилось в пути. Пустыни, травянистые степи, и снова пустыни. И каждый переход отдалял Ганнибала не только от Карфагена, но и от Рима. Этот город, как хорошо знал мальчик, находился к северу от его родины, за морем, а войско двигалось сушей на запад. Дать клятву в вечной вражде Риму — и сразу же отправиться куда-то на край света! Ганнибала утешала лишь мысль о предстоящих схватках с великанами и чудовищами Иберии. Но и тут его ждало разочарование.
В Иберии не оказалось никаких чудовищ. В ней как будто не водились даже львы, рык которых он слышал почти каждую ночь на всем пути до Столбов Мелькарта. Испуганно ржали кони, возницы что-то кричали и размахивали факелами, словно выводили на черном небе огненные письмена. А за Столбами Мелькарта, узким проливом, отделяющим Ливию от Иберии, ночи были полны дремотной тишины. Спали освещенные луной скалы, и море баюкало их мерным напевом прибоя.
Не было в Иберии и диких слонов, целые стада которых встречались войску на всем пути от Утики [13] до Столбов Мелькарта. Еще в Ливии Ганнибал спросил у иберийского наемника, какой самый страшный зверь на его родине. Ибер ответил, не задумываясь: «Кролик». И это, как впоследствии убедился мальчик, вовсе не было шуткой. Маленькие пушистые зверьки, так забавно шевелящие длинными усиками, уничтожали посевы, портили плодовые деревья и кустарники и даже подрывали города.
В Иберии не было и великанов, о схватках с которыми мечтал мальчик. Страну населяли простые пастухи и пахари в грубых шерстяных плащах и войлочных шляпах с загнутыми вверх полями. Жили они племенами. И столько здесь было этих племен, что одному человек ввек не запомнить их странных неблагозвучных названий: оретаны, карпетаны, ореваки, лузитаны, кантабры, плевтавры... Наверно, поэтому чужеземцы называют всех жителей этой страны просто иберами.
Иберы казались мальчику добродушными людьми. Однажды, когда он, выйдя из карфагенского лагеря, заблудился в горах ему встретился огромный ибер с длинными, как у женщины, волосами. Незнакомец не только не обидел Ганнибала, но даже пытался его успокоить, смешно щелкая языком. Посадив утомившегося и испуганного мальчика на спину, ибер явился в карфагенский лагерь. Обрадованный Гамилькар дал пастуху горсть серебряных монет, на которые можно было купить целое стадо овец. Ибер вместо благодарности плюнул и бросил деньги на землю.
Отец молча нахмурился, но, когда пастух удалился, стал проклинать неблагодарных иберов. Эти дикари, не имеющие постоянного войска и сражающиеся беспорядочной толпой, упорно не хотят признавать власти Карфагена и платить дань. Они действуют исподтишка, с хитростью, достойной дикарей. Им ничего не стоит спрятаться в горах и сбросить на ничего не подозревающих воинов огромный камень. Ночью они прокрадываются в лагерь, убивают спящих военачальников и так же незаметно исчезают. И, если стража ловит кого-нибудь из этих иберов, самыми жестокими пытками не вырвать у них имен сообщников. Когда их тела жгут огнем или раздирают железом, они улыбаются, словно не чувствуют боли. Пригвожденные к кресту, они поют свои победные песни.
Настоящие дикари!
Зато иберийские кони, по мнению отца, достойны всяческих похвал. Малорослые, ниже чистокровных нумидийских скакунов, уступающие им в быстроте и легкости бега, они более выносливы. Навьюченные тяжелым грузом, они совершают дневные переходы в сто двадцать стадий. Их не пугают бурные горные реки, узкие извилистые тропинки и бездонные пропасти. Во время сражений иберийские всадники часто спешиваются, оставляя своих коней без всякой привязи или привязывают к воткнутым в землю колышкам, и лошади стоят, не проявляя в шуме боя никакого беспокойства. Часто всадник берет себе на лошадь и пехотинца, лошадь выносит и это.
Гамилькар отсылал в Карфаген иберийских коней тысячами. На пахоте, перевозке тяжестей — всюду, где требовались сила и выносливость, стали использовать «коротышек» — так карфагеняне называли иберийских коней.
НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ
Гамилькар часто говорил сыну:
— Царевичи получают власть от отцов, мое же место займет достойный. Может быть, это будет твой брат Магон, а возможно, и Магарбал, который обучает тебя верховой езде.
Ганнибал обиженно сжимал губы:
— Нет, Магон не будет командовать войском. Он моложе меня. Его еще не учат стрелять из лука и скакать на коне. Пусть лучше тебя заменит Магарбал.
— Опередить младших братьев нетрудно. Тебе надо превзойти всех. Ты обязан лучше всех владеть мечом и дротиком. Магарбал должен признать, что ты лучший наездник в войске. Но этого еще мало. Ты должен знать больше других.
Однажды Ганнибал увидел быстро идущего отца и еле поспевающего за ним человечка. У него был голый, как страусовое яйцо, череп и оттопыренные уши. На тонкой шее болтался какой-то плоский предмет на черном шнуре. Незнакомец то и дело поправлял его.
— Вот ты какой, Ганнибал! — воскликнул незнакомец, с интересом разглядывая мальчика, опиравшегося на дротик.
— Покажи нам свое искусство! — приказал Гамилькар сыну.
Мальчик занес назад руку и метнул дротик. Направленный умелой рукой, дротик попал в деревянный столб локтях в двадцати от черты.
— Молодец! — похвалил Гамилькар. — А теперь положи оружие и подойди к нам ближе. Познакомься со своим новым учителем. Его зовут Созилом [14].
— Учитель?! — удивленно воскликнул мальчик. — Чему же он будет учить? У меня уже есть учителя фехтования и верховой езды, стрельбы из лука... Ах, я знаю: ты пращник. — Ганнибал прикоснулся к черному шнуру на шее у незнакомца.
Гамилькар и новый учитель рассмеялись.
— Мой сын, — проговорил Гамилькар, как бы извиняясь, — вырос в лагере, среди воинов. Он различает людей лишь по вооружению. Неудивительно, что он принял твой письменный прибор за пращу, а тебя — за пращника... Ты ошибся, Ганнибал, — сказал полководец. — Созил не пращник. Созил научит тебя языку эллинов.
— Эллины — наши враги. Не нужен мне их язык! — пробормотал мальчик, опустив голову.
Гамилькар недовольно поморщился:
— Кто тебе это сказал?
— Ты сам. Помнишь, ты мне говорил о войнах, которые наш город вел с эллинами, о сицилийце Агафокле, который едва не захватил Карфаген?
— Но ведь это было почти сто лет назад! — воскликнул Гамилькар. — А теперь родина Агафокла [15], Сиракузы, и другие города Сицилии и Италии принадлежат Риму. Под игом Рима и великий Тарент, воевавший против римлян и призвавший на помощь царя Пирра. В Таренте жил много лет твой новый учитель, пока не был изгнан римлянами.
Ганнибал с уважением посмотрел на эллина, который, очевидно, как и отец, был врагом римлян.
— Если ты хочешь знать, — продолжал Гамилькар, — эллины ненавидят римлян не меньше, чем мы. Но, будь даже эллины нашими недругами, тебе все равно необходимо знать их язык. Овладеть речью врага — это все равно что выбить у него меч из рук.
— Я буду учить тебя, мальчик, моему родному языку, — сказал Созил, смешно растягивая слова. — Ты узнаешь о Гомере. Тебе протянет руку великий Аристотель...
— А что они завоевали? — перебил его Ганнибал.
Созил снисходительно улыбнулся. Гамилькар шумно, раскатисто захохотал.
— Гомер покорил весь мир своими звучными стихами, — сказал эллин, — а божественный Аристотель достиг того же мудростью. Сам Александр Македонский был учеником Аристотеля.
— Об Александре я слышал. Он завоевал Индию, где живут слоны.
— Александр совершил много других подвигов, достойных удивления. Поистине он был великим полководцем.
— Хорошо, эллин, я буду учить твой язык, — согласился мальчик, — если ты меня научишь тому же, чему обучил Аристотель Александра. Я тоже хочу быть великим полководцем.
— Будет достаточно, если ты окажешься достойным своего отца...
— Вот вы и познакомились, — перебил Гамилькар эллина. Полководец не выносил лести.
Эллин знал массу занимательных историй о моряках и воинах, об их приключениях в далеких странах. Мальчика немало удивляло, как все эти истории умещались в голове Созила. Но у нового учителя была странная привычка — прерывать рассказ на самом интересном месте. Легче было уговорить сурового Магарбала отменить ежедневную скачку, чем заставить добродушного эллина закончить свой рассказ.
— Что же было дальше? Циклоп сожрал Одиссея?
— Не знаю, — невозмутимо отвечал Созил. — Вот тебе свиток. Прочти.
— Я прочту, непременно прочту, только ты ответь: Одиссей спасся? — умолял мальчик.
— Я запамятовал, что с ним случилось, — говорил в таких случаях эллин, неторопливо разворачивая папирусный свиток. — Садись-ка рядом, давай почитаем вместе.
И они начинали читать Гомера. Глядя на Созила, можно было подумать, что он переживает вместе с героями «Одиссеи» ужасы бури, перед которой беззащитен человек, страх перед чудовищами и радость возвращения на родину. Когда они дошли до того места поэмы, где Одиссей под видом жалкого нищего вернулся на Итаку и рабыня Эвриклея узнала своего господина по рубцу на ноге, грек залился слезами.
Ганнибал не разделял чувств и волнений эллина. Расплакаться из-за какой-то рабыни! Для Ганнибала творения Гомера были лишь собранием увлекательных сказок, не более, и когда ее герой возвратился на родину, судьба его перестала интересовать мальчика. Ганнибал к нему охладел. Правда, Одиссей был хитер и настойчив, чего не могли остановить никакие препятствия, но зачем он променял остров Цирцеи, царство феакийцев и другие сказочные страны на какую-то жалкую Итаку?
— Теперь об Александре, — все чаще и настойчивее просил он Созила.
Но учитель не торопился. Закончив «Одиссею», они перешли к «Анабазису» Ксенофонта [16]. Это уже были не сказочные приключения моряков, а рассказ о подлинных событиях, повесть о странствиях и злоключениях десяти тысяч эллинов в степях и горах Азии.
Наконец очередь дошли до Александра. Созил как-то принес пергаменный свиток, перевязанный кожаной тесьмой.
— Здесь, — сказал он, развязывая тесьму, — записки о завоеваниях Александра. Их написал его полководец Птолемей Лаг, ставший после смерти Александра царем Египта. Я бы рад почитать с тобою этот свиток, но твой отец посылает меня в Карфаген за братьями.
Так Ганнибалу пришлось самому, без помощи учителя, проделать за Александром весь его восточный поход. Порой мальчику приходилось не легче, чем прославленному полководцу. Дебри чужого языка страшнее джунглей Индии и раскаленных песков Гидрозии [17]. Проклятые энклитики и проклитики [18] жалили, как змеи и скорпионы. Бесчисленные неправильные глаголы громоздились, как горы. От странных созвучий захватывало дух, как от разреженного воздуха. Но Ганнибал не хотел отступать, как отступил Александр. И если он возвратился с ним в Вавилон, то только потому, что Птолемей ничего не знал о странах, лежащих к востоку от Инда.
Александр нравился Ганнибалу решимостью и смелостью. Покинув свою родину, Александр не стремился туда вернуться, как Одиссей или герои Ксенофонта. Он отказался не только от родины, но и от ее обычаев и ее богов. В Египте он поклонялся египетским богам, а в Вавилоне — вавилонским. Он хотел создать великое царство и властвовать над всем миром. А соратники и друзья Александра не могли понять величие его цели. Уступки чужеземным обычаям казались им изменой. И, хотя Птолемей говорил лишь намеками о таинственных обстоятельствах смерти Александра, Ганнибал не сомневался, что великий полководец был отравлен.
Книга об Александре была прочитана к возвращению Созила. Теперь в Иберии собралась вся семья Гамилькара. Полководец приказал продать все свои ливийские поместья, оставив лишь одну загородную усадьбу, которую можно было использовать как крепость. Казалось, он готовился к тому же, что и Александр, и хотел заставить своих сыновей забыть родину.
Все чаще и чаще Гамилькар беседовал с детьми, посещая уроки Созила и других учителей.
— Учитесь, львята! — говорил он им. — Люди всегда чему-нибудь учатся — у друзей или у врагов, на собственных или на чужих ошибках. Не так ли, Созил?
Эллин утвердительно кивнул головой.
— Наши отцы, — продолжал Гамилькар, — совершали великие деяния, но и они ошибались. Они воспитывали сыновей своих у себя дома, обучали их всему, что должен знать хозяин, купец и мореход. От тяжелого труда их избавляли рабы. Если юнцам приходилось служить в войске, они были чужими для воинов. Во время похода рабы несли их щит, на привале они мыли им ноги и обтирали со лба пот. Поэтому мы терпели поражения, поэтому нас разбили римляне. Я слышал, что римские полководцы не останавливаются даже перед казнью собственных сыновей, если они нарушают дисциплину. Так будет и с вами. Вам ясно?
— Да, отец, — ответил за всех Ганнибал.
ПОРУЧЕНИЕ
Всю ночь Гамилькар ходил из угла в угол своего шатра. Свежий ветер с гор вырвался сквозь щели в пологе и колебал пламя светильников. Странные призрачные тени прыгали на сером холсте.
Вчера из Карфагена прибыла гаула [19]. Дурные вести лишили Гамилькара сна. Порой полководец становился на колени у лежавшей на ковре квадратной медной доски и вглядывался в линии, обозначавшие морские берега, реки, границы карфагенских и римских владений. Он водил пальцем по этим линиям, покачивая головой. Толстые губы его шевелились.
Утром, как обычно, Ганнибал зашел к отцу. Смуглое, тронутое морщинами лицо Гамилькара было спокойно, только в тяжелом взгляде из-под нависших бровей чувствовалась едва заметная тревога.
— Садись, мой мальчик. Сегодня я дам тебе поручение.
— Какое-отец? — нетерпеливо воскликнул Ганнибал.
— Нам придется надолго расстаться. Я тебя отправлю за слонами.
— Куда? В Индию?
Гамилькар улыбнулся:
— Нет, нам еще рано думать о далекой стране чудес. Теперь по соседству с Карфагеном имеется своя маленькая Индия, и царем в ней Рихад. Помнишь того погонщика, который привел в город двенадцать слонов? — Гамилькар поднял с ковра медную доску. — Смотри хорошенько. Вот наш город в глубине залива. Вот река Баград, похожая на змейку. К востоку от нее — владения нумидийцев, лучших всадников, которых когда-либо носила земля. Видишь небольшой кружок? Это озеро. Оно находится на границах владений царя массилов Гайи и мавров. На берегах этого озера наши люди вылавливают слонов и с помощью Рихада приучают повиноваться погонщику.
— Почему же ты говоришь, что нам придется расстаться надолго? Ведь морем до Утики не более пяти дней пути.
Испытующе глядя на сына, Гамилькар ответил:
— Я дам тебе еще одно поручение, о котором не будет никто знать, кроме нас с тобой. — Понизив голос, полководец продолжал: — К западу от владений Гайи находятся земли другого нумидийского племени — массасилов. Царь этого племени — Сифакс. Гайя и Сифакс — враги и соперники. Каждый из них стремится захватить власть над всей Нумидией. Гайя — наш старый друг, а Сифакс... Вчера мне стало известно, что в столицу Сифакса, Цирту, прибыли римские послы во главе со знатным римлянином Сципионом. Можно не сомневаться, что римляне роют мне яму. Пока жив Гайя, нам нечего опасаться: Гайя не пустит Сифакса в Карфаген. Но Гайя стар, а Сифакс молод и энергичен. Умрет Гайя, и его наследник пойдет на сделку с римлянами или с Сифаксом.
— Кто же наследник Гайи?
— По обычаю нумидийцев, царю наследует не сын, а брат. У Гайи лишь один брат. Это Нар-Гавас, муж твоей сестры Саламбо. После смерти моей дочери Нар-Гавас женился на дочери Сифакса и стал нашим врагом. Гайя, конечно, не хочет, чтобы ему наследовал Нар-Гавас. Он рассчитывает передать власть своему сыну Масиниссе. И он сумеет этого добиться, особенно если с Нар-Гавасом что-нибудь случится.
Сколько Масиниссе лет?
— Он, кажется, моложе тебя на два-три года. Я слышал, что это пылкий и увлекающийся мальчик. Он в том возрасте, когда из человека можно вылепить все, как из глины. Но запомни: все нумидийцы скрытны и честолюбивы. Они падки на почести. С этими слабостями можно мириться. Главное — они верны своему слову и не выносят обмана. Для государственного мужа это не достоинство. Зная эти черты нумидийцев, тебе будет нетрудно подружиться с Масиниссой. Тем более, что ты говоришь на его языке.
— И это твое поручение, отец?
— Да. Ты должен завоевать душу юного варвара. Может быть, тебе это представляется делом, не достойным воина. Но пойми, будущее республики зависит от того, станет ли преемник Гайи нашим другом, будет ли он ненавидеть Рим так же, как мы. В трудное для государства время я отдал твою сестру Саламбо в жены Нар-Гавасу. Я пожертвовал дочерью, чтобы спасти республику. И республика была спасена. Мятежники были разбиты с помощью нумидийской конницы.
— Я слышал, что сестра умерла в тот самый день, когда в город привели пленных варваров. Ее сердце не выдержало зрелища пыток и мучений. Это так?
— Да, она была жертвой. Танит приняла ее и спасла город. Будь у меня другая незамужняя дочь, я бы не задумываясь выдал ее за Масиниссу, Сифакса и даже за Гайю. В новой войне с римлянами нумидийцы должны быть на нашей стороне.
В этот же день Ганнибал простился с братьями, Созилом, Магарбалом и другими учителями. Лицо юноши дышало гордостью. Еще бы: отец отпустил его одного и дал ему первое серьезное поручение!
СТЕПЬ
Вокруг простиралась всхолмленная степь, не знавшая плуга. На горизонте ее окаймляли горы, затянутые сизой дымкой. Удушливо и пряно пахли травы. Высокие желтые цветы хлестали по ногам, оставляя на сандалиях Ганнибала желтые пятна пыльцы. Часто прямо из-под копыт выскакивали маленькие зверьки с длинными, как у иберийских кроликов, задними ногами. Вспугнутые шумом дикие козы стремительно убегали прочь.
Масинисса скакал рядом с Ганнибалом. Юноша был босиком, в коротком плаще. Голова у него была, как у большинства нумидийцев, выбрита, и лишь на макушке оставлена воинственная прядь.
Отец послал его вместе с этим молодым карфагенянином к озеру, где ловят и приручают слонов. Отпуская сына, Гайя сказал: «Ганнибал — наш гость!» Масинисса понимал, что это значит. Каждое желание гостя — закон. Нет страшнее преступления перед богами, чем обидеть или оскорбить гостя.
При виде дичи Масинисса, страстный охотник, то и дело тянулся к колчану со стрелами, но, поймав взгляд Ганнибала, снова хватался за конскую гриву в белых брызгах пены. Масинисса чувствовал, что карфагенянин торопится, что ему хочется скорее увидеть слонов.
Ганнибал удивлялся быстроте нумидийских коней. Они скакали ровным галопом, красиво выбрасывая свои длинные, стройные ноги. Казалось, им неведома усталость. Изредка степь оглашалась их тревожным ржанием. Умные животные чувствовали близость прячущихся в высокой траве змей или хищников и предупреждали всадников об опасности.
Им попадались шатры нумидийцев — мапалии, — напоминавшие кили опрокинутых бурей гаул. Обитатели этих хижин перекочевывали с места на место со своими стадами, и никто из них не мог бы показать землю, где он родился и где похоронены его предки. Ни разу на всем пути через владения Гайи Ганнибал не видел клочка пашни или фруктового дерева. Нумидийцы покупали муку у карфагенян, главной же их пищей были козье молоко, дичь, моллюски и мед.
Однажды на вершине холма Ганнибал увидел крест с какой-то фигурой. Из-за большого расстояния трудно было различить, кто это.
— Беглый? — спросил Ганнибал, указывая на крест. Он имел в виду карфагенский обычай распинать на крестах непокорных и беглых рабов.
Юный нумидиец не понял вопроса. Когда они приблизились к кресту, оказалось, что распят не человек, а огромный лев с мохнатой гривой, которую Ганнибал принял за накинутый на голову мешок. Отважные нумидийские пастухи убили царя зверей и привязали его к кресту, чтобы отвратить от стад других хищников. Так же поступали под Карфагеном землепашцы, привязывавшие к шестам ворон. Масинисса же не понял Ганнибала, видимо, потому, что у его соплеменников не было рабов или они обращались с ними иначе, чем в Карфагене.
Чем ближе знакомился Ганнибал с жизнью нумидийских кочевников, тем больше он понимал, какое трудное поручение дал ему отец. Сделать Масиниссу другом Карфагена, когда ему так мила дикая воля этих бескрайних степей! Город оглушит его своей суетой, напугает алчностью и бессмысленной жестокостью. Здесь он чувствует себя щедрым хозяином, поставившим во время пира яства на стол. А в Карфагене он будет бедным гостем, допущенным к трапезе из милости. И ничто не заменит ему этого простора, этих парящих над холмами орлов, этого запаха горчайшей полыни.
На третий день вдали заблестела гладь озера. Его берега густо поросли высоким камышом, напоминавшим молодой лесок. Приближение всадников подняло переполох среди гнездившихся в камышах уток, целая туча их повисла над озером.
— А где же Рихад со своими слонами? Где маленькая Индия, о которой рассказывал отец? — Ганнибал растерянно оглядывался по сторонам.
— Там, за холмами, — сказал юный нумидиец. — Видишь верхушки столбов?
Ганнибал взглянул туда, куда показывал Масинисса, но не увидел никаких столбов. «Недаром нумидийцев называют степными орлами», — подумал он.
«МАЛЕНЬКАЯ ИНДИЯ»
Это был целый город, выросший в степи, словно по знаку чародея: загоны, бесконечные ряды мапалий и большое кладбище для тех, кого убили слоны. Из каждых пятерых смельчаков, отправлявшихся на ловлю четвероногих гигантов, возвращалось живыми двое. Мертвых и тяжелораненых приносили на носилках. Но желающих испытать свою судьбу не убавлялось. И все это благодаря иберийскому серебру. Гамилькар, готовившийся к большой войне, не жалел ни серебра, ни человеческих жизней.
Рихад, встретивший Ганнибала и Масиниссу, не был похож на царя «Маленькой Индии». В своей неизменной, выцветшей на солнце тунике, с чалмой на голове он остался тем же погонщиком слонов, каким его знал Ганнибал в детстве. И, только поближе познакомившись с индийцем, он понял справедливость слов отца: «Этот человек стоит целой армии!» Вот и ошибся Старик, уверявший, что никому не удастся оседлать дикого и бестолкового ливийца. По словам Рихада, ливийские слоны превосходят индийских свирепостью и силой и не уступают им в сообразительности. Незачем везти слонов из Индии, когда они под боком.
Индиец взялся сам проводить гостей по своим владениям. Первый загон, к которому подвел Рихад Ганнибала и Масиниссу, напоминал те, в которые пастухи запирают на ночь овец. Только вместо жердей и подпорок были врытые в землю гладкие столбы. За ними на ровной, вытоптанной площадке ходили или лежали слоны. Тут были взрослые самцы и самки, а также слонята ростом с добрую лошадь.
— Это уже обученные?
— Дикари, — коротко ответил индиец. — Еще неделю назад они бродили там, за озером.
В центре другого, квадратного загона было какое-то странное сооружение. Два высоких столба, вбитых наискось в землю, образовывали треугольник. Между столбами стоял слон. С вершины треугольника свисала веревка. За нее держался человек. Вот он спустился на спину слона. Животное угрожающе помотало хоботом и, наклонившись, сбросило человека. Человек проворно взобрался вверх по веревке. И вот он снова на спине у слона. И снова слон делает то же движение. Снова человек поднимается вверх.
С любопытством следил Ганнибал за этим состязанием в терпении и упрямстве. Сдалось животное. Ему, видимо, надоело заниматься таким пустым делом. Слон тихо качал головой, словно хотел сказать: «Это, конечно, глупо, что вы делаете, но, если вам это по душе, я уступлю».
— После этого ты отправляешь слона в войско? — спросил Ганнибал.
Индиец улыбнулся:
— Главное впереди. Это новобранец. Из него я сделаю воина. Я должен научить его исходной стойке и поворотам, бою в открытом поле с пехотой и конницей, сражению с вражескими слонами, нападению на неприятельский лагерь. Все это предписывает в «Артхашастре» министр великого Чандрагупты — Каутилья [20].
— Не тот ли это Чандрагупта, с которым воевал Селевк Победитель? [21] — спросил Ганнибал, вспоминая свои занятия с Созилом.
— Да, тот самый, который разбил Селевка, а потом стал его тестем и дал приданое за дочерью пятьсот боевых слонов.
Тут же рядом, у треугольника, стояла слониха со слоненком. Видимо, она должна была сменить слона.
— А этих вы тоже учите? — спросил Масинисса, показывая на слоненка.
— Викка! [22] — Индиец пренебрежительно махнул рукой. — У нас их ловят для забавы. Только с двадцати лет слон пригоден для дела, а лучшим считается сорокалетний. Впрочем, из малышей тоже получаются отличные бойцы, если не пожалеть времени для их обучения. Вожак моего стада Сур был пойман виккой и подарен сирийскому царю Антиоху. Но сирийцы не умеют приручать слонов, и царь поручил Сура мне. С тех пор мы с Суром друзья. Сейчас ему лет двадцать.
— А сколько лет тому, что в треугольнике? — спросил Ганнибал.
— Тридцать. Он в расцвете сил. Видишь, какие у него блестящие бока и ровная поясница. Спина по форме похожа на сосуд дрони. В таком деревянном сосуде на моей родине хранят воду. Этот дикарь будет хорошим воином.
— А бывают слоны, которые не смиряются?
— Да. С ними мы поступаем иначе.
Взяв Ганнибала за руку, индиец повел его к другой стороне загона. В самом его углу он увидел слона, привязанного толстыми канатами к столбам. Слон прилагал все усилия, чтобы освободиться. Столбы были глубоко врыты в землю. Чем больше напрягался слон, тем глубже врезались канаты в его тело. Пленник жалобно ревел, словно призывая на помощь все стадо. Но другие слоны равнодушно лежали на земле, не обращая никакого внимания на этот призыв.
Видимо, не так уже сообразительны эти животные, если они не могут помочь своему собрату. Значит, лучше иметь дело со слонами, чем с наемниками: слоны не могут сговориться и поднять мятеж.
Увлеченный своими мыслями и новым для себя зрелищем, Ганнибал на время забыл о Масиниссе! Тем неожиданнее для него был порыв юного нумидийца. Юноша бросился к столбам и ударом меча обрубил один из канатов.
— Ненавижу! — шептал Масинисса, глядя в упор на Ганнибал. — Всех ненавижу, всех! Слоны лучше вас. Они выросли свободными. Они никому не причиняют зла. Они мирно пасутся в наших степях. У вас, карфагенян, много серебра, но мало совести. Вам недостаточно наемников — вы хотите превратить этих кротких животных в убийц.
В этот же день Ганнибал и Масинисса покинули «царство Рихада». Ганнибал не мог подвергать риску и испытаниям дружбу с юным нумидийцем. В гневе Масинисса высказал о карфагенянах то, что, наверно, говорят между собой его соплеменники. «Для них мы всегда останемся пришельцами, чужаками», — думал Ганнибал.
СОФОНИБА
Карфаген ошеломил Масиниссу. Да и не только варвара мог поразить великий город. Каждого, кто первые в него попадал, изумляло великолепие храмов, гордо поднявших к небу свои купола, множество высоких домов, многолюдность улиц и площадей. Наверно, на одном лишь базаре у гавани больше людей, чем в целом племени. И эти люди не стоят на одном месте, а словно исполняют какой-то диковинный танец. Их голоса сливаются с мычанием, ржанием, блеянием, ревом.
Масинисса долго не мог привыкнуть к сутолоке и кипучему ритму огромного города. Он чувствовал себя здесь как в ловушке. Он наталкивался на прохожих или прохожие наталкивались на него. Однажды, когда он остановился посреди улицы, чтобы сосчитать, сколько у дома этажей, на него наехали ослы торговца глиняной посудой. Сосуды попадали на мостовую и разбились вдребезги! Сразу же собралась шумливая толпа зевак. Разъяренный торговец схватил оторопевшего Масиниссу и тряс его, как грушу. Подоспевший Ганнибал спас своего друга, заплатив стоимость товара.
Ганнибал показал Масиниссе свой родной город.
Они посетили городскую цитадель Бирсу. Впрочем, юного варвара больше поразила не толщина ее стен, не каменная лестница, ведущая к храму Эшмуна, а легенда о царице Дидоне, создавшей эту древнейшую часть города.
— Хитра же она была, ваша Дидона! — удивлялся он. — Купила столько земли, сколько можно покрыть шкурой быка, а потом разрезала шкуру на узкие полоски и захватила весь этот холм.
Масиниссу нельзя было оторвать от кораблей. Они казались ему огромными крылатыми чудовищами, из сказок и песен своего племени.
— Идем отсюда, — сказал он Ганнибалу, когда тот привел его в храм Господина города, Мелькарта, и показал статую, которой приносят человеческие жертвы. — У вас хитрые цари и жестокие боги.
Прошло не более недели, и Масинисса, как казалось Ганнибалу, немного освоился с суетой городской жизни. Он ходил по тротуарам, не натыкаясь на прохожих. Слыша вопли избиваемых рабов, не бросался в дом, чтобы за них заступиться, не выпускал на базаре из клеток певчих птиц, не заплатив за них денег.
Ганнибал стал отпускать Масиниссу одного.
Из прогулок по городу Масинисса стал возвращаться поздно. У него было удовлетворенное лицо и сияющий взгляд.
— Тебе нравится наш город? — спрашивал Ганнибал, радуясь хорошему настроению своего подопечного.
— Мне никогда не было так хорошо, как сейчас, — отвечал нумидиец.
Однажды, это было после полудня, Масинисса вернулся без своей войлочной шляпы, в разорванной тунике.
— Что с тобой, Масинисса? — удивленно воскликнул Ганнибал. — Где ты был? Тебя искусали собаки?
Юноша яростно сверкнул глазами.
— Да, собаки, карфагенские псы! О, я им еще покажу! Я им заткну глотки.
— Успокойся, расскажи по порядку, кто и почему тебя оскорбил.
Нумидиец взглянул в глаза Ганнибалу, и тот прочел в них такую грусть, что первым его порывом было обнять юношу, попавшего в какую-то беду.
Масинисса говорил торопливо, сбивчиво, вскакивал и снова бросался на ковер, хватаясь руками то за голову, то за грудь.
— В первый день, когда ты мне разрешил идти одному, я шел по улице к гавани. Мне хотелось снова взглянуть на корабли, пришедшие из той страны, где восходит солнце. У храма Танит меня обогнали рабы с крытыми носилками на плечах. Из носилок легко, как опускаются на землю птицы, вышла девушка. Я не знал, кто она, но сердце мое рванулось к ней. Ты слышишь, как оно бьется, мое сердце? Я смотрю на тебя, а в глазах у меня она. Будто меня околдовала богиня Танит. Я стоял, прислонившись к колонне, и мне казалось, что до этого я не жил на свете. Она вышла из храма и исчезла за пологом носилок, словно мне она приснилась. Весь следующий день я провел у храма, и нищие, просившие милостыню, уже показывали на меня пальцами, как на старого знакомого, а голуби Владычицы привыкли ко мне и ходили у моих ног. И я дождался ее. В тот день она меня увидела. Какие у нее светлые и сияющие глаза! Когда она вышла из храма, я подошел к ней. Она отослала рабов, и я проводил ее. Если бы ты знал, как мне хотелось, чтобы дом ее был на другом конце города... нет, в другом городе, в другой стране! Тогда мы шли бы рядом долго-долго, пока на небе не зажглись звезды, и снова день, и снова звезды, звезды, звезды. Но путь до ворот ее дома показался мне кратким, как тень в полдень, а время до следующей встречи с Софонибой — вечностью.
— Ее зовут Софониба? — удивился Ганнибал. — Мне кажется, я слышал о девушке с этим именем.
— Я пришел к ней на следующий день. Рабы закрыли передо мной калитку. Но я перемахнул через забор. Могла ли меня удержать каменная стена, когда вместо рук выросли крылья! — Масинисса замолчал.
— Продолжай, — торопил его Ганнибал. — Что было дальше?
— Я говорил с отцом Софонибы, просил его, чтобы он отдал свою дочь мне в жены, а он приказал своим рабам выбросить меня за ворота.
Ганнибал стиснул зубы словно от боли. Он чувствовал свою вину в этом нелепом происшествии. Разве можно было разрешать нумидийцу одному бродить по городу? Хорошее же у него останется воспоминание о Карфагене, где его выбросили за ворота, как последнего нищего!
— Если ты мне друг, — жарко шептал Масинисса, — выполни мою просьбу. Ночью я выведу коня. Ты будешь стоять у ограды ее дома, а я вынесу Софонибу на руках. Мы ускачем, и никто нас не догонит.
— Но отец Софонибы пожалуется твоему отцу. Гайя друг Карфагена, и он выдаст Софонибу.
Масинисса тряхнул головой, прядь волос на макушке чуть не задела лицо Ганнибала.
— Мы поселимся в степи. Я построю мапалию, буду собирать мед, охотиться на диких коз и уток. У нас будет вдоволь мяса и дичи. Я покрою пол и стены львиными шкурами, чтобы внутрь не задувал холодный ветер.
— Постой, Масинисса. А ты спросил Софонибу, согласна ли она бежать с тобой?
— В нашей стране не спрашивают девушку, хочет ли она быть женой. У нас девушку увозят, а отцу дают выкуп.
— Но ведь Софониба не девушка твоего племени. В Карфагене другие обычаи. И понравится ли Софонибе твоя мапалия? Захочет ли она ходить в звериной шкуре, пить козье молоко, есть моллюсков и полусырое мясо? Она выросла в доме с прямыми стенами, привыкла спать на ковре, умащаться розовым маслом, есть жаркое из собачек. Привыкнет ли она к одиночеству, к ночному рыку львов и завыванию шакалов? Подумал ли ты об этом?
Масинисса готов был заплакать. Теперь он понял, что ему не на что надеяться. Ганнибалу внезапно пришло на ум: «Не сможет ли эта Софониба привязать нумидийца к Карфагену, приручить его, как Рихад приручает слонов?»
— Не отчаивайся! — сказал он. — Ты поступил опрометчиво, но я сам пойду к отцу Софонибы и объясню ему, что ты не хотел его обидеть, что ты не знал наших обычаев. И, если он умный человек, он не откажется от родства с царем массилов.
— Но я ведь не царь! — воскликнул Масинисса.
— Но ты можешь им стать. Есть у нас в Карфагене обычай. Его называют помолвкой.
— Помолвкой? — переспросил Масинисса.
— Да, помолвкой. Жених и невеста в храме обмениваются подарками, а мужем и женой они становятся через несколько лет. Я попытаюсь уговорить отца Софонибы согласиться на помолвку, с тем чтобы свадьба состоялась тогда, когда ты займешь отцовский престол.
Масинисса оторопел.
— Теперь я понимаю, почему на меня рассердился старик. Я ему говорил о свадьбе, а когда он ответил, что я еще слишком молод и не достоин руки его дочери, вытащил кинжал и предложил сразиться верхом на конях. Тогда-то он и приказал своим слугам выкинуть меня из своего дома.
— Ты предложил своему будущему тестю поединок? — спросил Ганнибал, давясь от хохота. — Я думаю, ты его напугал до смерти. Предоставь это дело мне. Тебе лишь надо узнать, как зовут отца Софонибы, где его дом.
— Да вот он, — сказал нумидиец, протянув руку в направлении к Магаре [23]. — Видишь эти башни из белого камня среди цветущих деревьев, правее озера?
Ганнибал едва не вскрикнул. Нумидиец показывал на дом Ганнона, дворец, который, по словам отца, был причиной величайших бедствий для республики. Ибо в то время, когда Гамилькар воевал против римлян в Сицилии, Ганнон управлял ливийскими владениями Карфагена. Неслыханными насилиями и грабежом он добыл себе богатства и вложил их в строительство дома, превосходящего своей роскошью дворцы восточных владык. Не удивительно, что разоренные ливийцы примкнули к восставшим наемникам.
— Ты был у Ганнона, — угрюмо промолвил Ганнибал. — Кто бы мог думать, что богиня Танит тебя направит к этому человеку!
— Ты знаком с Ганноном? — воскликнул Масинисса.
Ослепленный Танит, он даже не удивился впечатлению, которое произвело на Ганнибала известие, что отца Софонибы зовут Ганноном.
— В нашем городе нет ни одного человека, который не слушал бы о Ганноне, хотя не каждый удостоился чести лично его знать. Многие люди в нашем городе носят имя «Ганнон». Но отца твоей Софонибы прозвали Ганноном Великим. Вместе с моим отцом он воевал против восставших наемников и ливийцев. Много раз Ганнон был суффетом [24]. Он самый влиятельный и богатый человек в нашем городе.
— Ваши отцы сражались вместе! — обрадовался Масинисса, обративший внимание только на эту часть рассказа Ганнибала. — Ганнон послушает тебя. Иди к нему и скажи, что я царский сын и хочу помолвки.
Ганнибал смутился, услышав эти слова, произнесенные с таким жаром и детской непосредственностью. Он мог бы объяснить сыну степей, что совместная борьба Гамилькара и Ганнона против повстанцев не только не сделала их друзьями, но вырыла между ними пропасть более глубокую, чем та, куда бросали приговоренных к смерти. Каждый из полководцев приписывал победы в этой войне себе, а поражения — другому. Но, если Масинисса поймет, что он, Ганнибал, не в состоянии ему помочь, не совершит ли нумидиец еще какой-нибудь ребяческий проступок?
— Скажи ему, — продолжал Масинисса, — что я не знал ваших обычаев, что я не хотел его обидеть. И пусть он не наказывает рабов. Они не виноваты.
— Я боюсь помешать тебе, Масинисса, — глухо молвил Ганнибал. — Ганнон может и меня выкинуть из своего дома. Он не нуждается в советчиках и волен выдать свою дочь, за кого пожелает. Да и Софониба тебе не пара. Разве нет красивых девушек в твоем племени?
Нумидиец несколько мгновений молча смотрел на Ганнибала. Он не мог понять, что произошло с его новым другом. Только что он сам предлагал пойти к отцу Софонибы, а теперь отказывает ему в помощи. Значит, все, что говорят соплеменники о карфагенянах, не ложь, не клевета. Оставить в беде гостя, обмануть для них проще, чем зевнуть. И Ганнибал не исключение!
Масинисса резко повернулся и выбежал во дворик, где томился и скучал по степному приволью его конь.
«Что я наделал! — в отчаянии думал Ганнибал. — Масинисса упрям и своеволен. Он добьется своего. Он станет зятем Ганнона. Как будет разгневан отец. Вот я и выполнил его поручение!»
ВО ДВОРЦЕ ГАННОНА
Софониба сидела в портике. Его мраморные колонны были обвиты лозами, листьями плюща и дикого винограда. Запах цветущих яблонь и миндаля наполнял воздух. Услышав быстрые шаги, девушка повернула голову. По дорожке, усыпанной розовыми и белыми лепестками, шел отец. Края его плаща развевались, по нетерпеливому выражению лица было видно, что у отца какая-то новость.
— Ты знаешь, доченька, кто этот дерзкий мальчишка?.. — молвил Ганнон, отдышавшись. — Ну да, тот самый, которого рабы выкинули за ворота.
Софониба отложила шитье. На плотной зеленоватой материи был вышит леопард в зарослях тростника.
— Это сын Гайи, царька массилов, — продолжал Ганнон. — Знай я об этом раньше, я выпроводил бы его из дому с меньшим шумом. Разве на лбу у него написано, что он царский сын? — И какая наглость — размахивать перед моим носом кинжалом!
Девушка наклонила голову. Румянец покрыл матовую белизну ее лица. Тень длинных ресниц легла на щеки.
Увидев смущение дочери, Ганнон расхохотался. Затряслись дряблые складки лица, закинулась вверх и запрыгала остроконечная бородка.
— Представляю тебя царицей массилов, — молвил Ганнон, сдерживая смех. — Тебя окружают придворные дамы с украшениями из разрисованных страусовых яиц. А столица-то — двадцать мапалий! А дамы-то, дамы — босиком!
Софониба еще ниже наклонила голову.
— Можешь не беспокоиться, дружок, — ласково сказал Ганнон. — Я не Гамилькар, выдавший свою единственную дочь за брата Гайи, Нар-Гаваса, и потерявший ее в день свадьбы. Твои мужем не будет варвар. Тебе не придется покидать дом, в котором ты выросла, где все хранит память о твоем детстве... Покажи твое шитье, девочка. Что это у тебя? Леопард?
— Да, отец. Но я никогда не видел живого леопарда и настоящих тростников. Я не знаю, такие ли у них стебли, такие ли верхушки. Я не была там, где родился Масинисса. Как хорошо говорит он о своей степи!..
— Ты не видела живого леопарда? — перебил Ганнон. — Я сейчас же прикажу, чтобы доставили из зверинца самого сильного и красивого леопарда в крепкой клетке. Клетку поставят здесь, у портика.
— Не надо мне леопарда в клетке! — вскрикнула девушка и бросила шитье на пол. — Я буду вышивать лебедей, черных лебедей. Помнишь, когда я заболела, ты, чтобы меня утешить, привез клетку со львом. Ночью я проснулась от страшного крика. Ты, разгневавшись, приказал бросить в клетку чернокожую Гелу. А чем она провинилась, я до сих пор не знаю... Не надо мне леопарда в клетке. Не надо!
Ганнон заметно смутился. Ему казалось, что дочь давно уже забыла об этой дерзкой рабыне, посмевшей ему перечить и позвавшей на помощь своего чернокожего жениха. Господин волен сделать с невольницей, что ему угодно. Так поступают все. Но по городу распространились слухи, что он, Ганнон, содержит целый зверинец и кормит львов рабами. «Люди всегда преувеличивают, особенно когда они завидуют богатству и славе», — подумал себе в утешение Ганнон.
— Не волнуйся, дружок, — сказал он дочери. — Если ты не хочешь леопарда в клетке, я тебе покажу зверя на воле и настоящие тростники. Мы отправимся в Нумидию. Только во владениях Гайи не будет моей ноги. Мы поедем в Цирту, к Сифаксу, царьку массасилов. Гайя — друг Гамилькара. А ты знаешь, как я отношусь к этому человеку.
— Отец, — робко сказала Софониба, — все говорят, что Гамилькар спаситель отечества и великий полководец. Он разбил вместе с тобою восставших варваров, а теперь покорил иберов.
— «Все»! — Ганнон саркастически улыбнулся. — Эти «все» не видят дальше своей вытянутой руки. Рабби любят получать дорогие дары. Гамилькар не скупится на них, благо в Иберии много серебра. А черни нравятся пышные церемонии со встречами слонов и проводами войска, с даровым угощением и блеском огней. Но поверь мне, за все это придется расплачиваться дорогой ценой. Как быстро люди забывают о своих прошлых ошибках и бедах! Римская война нас ничему не научила. А Гамилькар толкает республику к новой, еще более страшной войне.
Софониба взяла шитье. Проворно сновала игла с золотой нитью, шелестела материя под тонкими пальцами. Что Софонибе до вражды, разделяющей отца и Гамилькара! Сердце Софонибы далеко, в той сказочной стране, где травы по колено, где голубеют озера, созданные богами, а не человеческой рукой, где по зеркальной глади плывут не лебеди с подрезанными крыльями, а невиданные птицы, яркие, как заря, где в высоких тростниках пробираются леопарды, где трубят, подняв к небу хоботы, слоны. В той далекой стране, нарисованной чувством Масиниссы, светлым чувством первой любви, заблудилось сердце Софонибы.
СМЕРТЬ ГАМИЛЬКАРА
Гамилькар трудно умирал. Дротик попал ему в грудь и пробил легкое. У постели умирающего день и ночь толпились жрецы — карфагенские, нумидийские, галльские и эллинские. Каждый отряд многоплеменного войска имел не только свое оружие, свои обычаи, язык, но и своих жрецов, считавших себя знатоками лекарского искусства. Теперь жрецы наперебой предлагали свои услуги раненому полководцу, и он терпеливо их принимал. Холодеющими пальцами он ощупывал протянутую ему морскую губку, которая, по поверьям эллинов, смягчала боль, глотал лекарства, горькие, как степная полынь, и сладкие, как финиковый мед, повторял слова заклятий и молитв на двенадцати языках. Шатер содрогался от грохота металлических щитов и завывания труб. Друиды [25], специально приглашенные из Галлии, изгоняли злых духов. Жрецы Эшмуна [26] принесли в жертву своему жестокому богу семь юношей, семь жизней за одну. Разве этого мало?
Все было напрасно. Смерть стояла у полога шатра, неотвратимая, как ночь.
И, когда Гамилькар это понял, он прогнал жрецов. С умирающим остался один Старик. Ему одному Гамилькар мог доверить войско. Ему же он завещал войну с ненавистным Римом. Сыновья еще молоды. Ганнибалу семнадцать лет, а Газдрубалу и Магону обоим двадцать пять. Львята. Им нужна сильная рука.
— Останься им отцом, — шептал умирающий, — пусть они будут в гуще боя, не выделяй их среди воинов, не изнеживай. Войско решит, кто достоин быть полководцем.
Гамилькар начал бредить. Он выкрикивал какие-то имена, о чем-то просил, что-то приказывал. Придя в сознание, он с усилием поднял голову. Сыновья стояли на коленях, бледные, испуганные.
Умирающий искал глазами Ганнибал.
— Его вызвали письмом, — прошептал кто-то. — Он уже в пути.
— Слоны, — с трудом произнес полководец, — слоны должны растоптать Рим, вы слышите, львята?
Гамилькар уронил голову на кошму.
ТРАУР
Карфаген был в трауре. Люди ходили в черных одеждах, с волосами, посыпанными пеплом. Смерть Гамилькара казалась многим гибелью планов возрождения республики. Все были уверены, что созданная с таким трудом и с такими огромными затратами иберийская армия немедленно распадется, наемники разбегутся. Кому они будут подчиняться? Не Газдрубалу же, не имеющему ни военного опыта, ни славы Гамилькара! Или этому желторотому юнцу Ганнибалу?!
Известие о смерти отца потрясло Ганнибала. Юноша был подавлен горем. Отец говорил, что они расстанутся надолго, а они расстались навсегда.
Трудно поверить, что больше нет этого единственного близкого ему человека, воина, полного сил и веры в великое будущее Карфагена. Кому теперь расскажет Ганнибал о постигшей его неудаче с Масиниссой? С кем поделится своими тревогами и сомнениями?
Только теперь Ганнибал по-настоящему осознал, кем был его отец для республики. Двойное чувство гордости и горечи охватило Ганнибала. Со слезами на глазах он выслушивал слова сочувствия от незнакомых ему людей. Одни сражались под его началом в Сицилии, других отец спас от взбунтовавшихся рабов и наемников. Все эти люди говорили о Гамилькаре так, словно он был их отцом. И Ганнибал чувствовал себя членом огромной семьи, объединенной высоким чувством любви к его отцу.
С тем большей горечью воспринял он весть о том, что произошло в Большом Совете. Ганнон и его друзья явились на заседание в белом, словно смерть великого полководца была для них праздником. Стоя, рабби выслушали речь суффета Бомилькара о заслугах полководца. А когда суффет закончил свою речь, слово взял Ганнон.
— Довольно говорить о прошлом! — начал он резко. — Подумаем о будущем. Гамилькар оставил нам наследство — иберийскую армию во главе со своим племянником Газдрубалом. Он завещал нам войну. Одни боги знают, чего она нам будет стоить. Распустить армию — в этом спасение Карфагена. А юношу Ганнибала, которого требует к себе в Иберию Газдрубал, надо оставить здесь. Пусть он живет вдали от войска, подчиняясь законам и властям республики.
Ганнибал, предупрежденный друзьями, поспешил в гавань Утики.
Там можно было быстрее найти корабль. В гавани его ждал Масинисса.
Его неразлучный конь был весь в мыле. Видимо, Масинисса очень торопился. В руках у нумидийца белел свиток папируса, скрепленный царской печатью.
— Отец велел передать это тебе. — Юный нумидиец протянул Ганнибалу свиток. — Он уже знает о смерти Гамилькара и скорбит вместе с тобою.
— А как Софониба? — спросил Ганнибал, засовывая свиток за край плаща.
— Почему ты мне не сказал обо всем сразу? — с укором сказал Масинисса. — Отец и слышать не хочет об этой помолвке. Он говорит, что не позволит мне породниться с врагом твоего отца.
— Я не мог тебе это тогда объяснить, ты был слишком взволнован. Теперь ты знаешь все. Софониба не виновата, что ее отец — Ганнон, но Гайя прав, когда отказывается выполнить твою просьбу.
— Нет, не прав, не прав, не прав! — выкрикнул Масинисса. — Какое мне дело до того, что ваши отцы были врагами? Твой отец, да пребудут к нему милостивы подземные боги, ушел в ту страну, откуда нет возврата. И вместе с ним ушла и вражда. Тени не должны стоять на пути у живых.
— Но Ганнон не тень, — со вздохом сказал Ганнибал. — Вчера Ганнон выступал в Большом Совете. Он требовал задержать меня здесь. Он мой враг.
— Ну и пусть, — сказал Масинисса, стараясь не глядеть в глаза Ганнибалу. — Пусть Ганнон твой враг. Я увезу Софонибу с собой. Наш след затеряется в травах, и нас не настигнет ваша вражда. Этому никто не может помешать, даже мой отец.
Масинисса подбежал к своему коню и легко вскочил на него. Ганнибал долго смотрел вслед юному нумидийцу. «Вот и пришел конец нашей дружбе, — подумал Ганнибал. — Случайная встреча с неведомой девушкой у храма Танит разрушила все мои планы. Как же должно быть могущественно это чувство, если оно заставляет расходиться друзей, делает врагами отца и сына! А я, я встречу ли когда-нибудь свою Софонибу? Или мною будет владеть не Танит, а боги войны, которым посвятил меня отец?»
На корабле Ганнибал сломал печать и развернул свиток. Гайя просил Ганнибала, чтобы он взял Масиниссу с собой в Иберию.
Юноша своеволен и вбил себе в голову мысль о помолвке с дочерью Ганнона. «В схватках с врагами, — писал Гайя, — врагами твоего отца и моими врагами, он поймет, в чем истинное назначение и счастье мужа».
Ганнибал подошел к борту. Корабль выходил из бухты. Скачущий всадник казался уже едва заметной точкой. «Гайя плохо знает своего сына, — подумал Ганнибал. — Масинисса не нуждается в наставлениях и не выносит наставников. У него свои представления о счастье мужчины. Он погибнет или добьется своего».
СУРОВАЯ ШКОЛА
Старик точно выполнил предсмертную просьбу Гамилькара. Ганнибал служил в войске рядовым воином. Вместе со всеми он переносил жару и холод. Повинуясь начальникам, он шел в разведку, впереди всех он вступал в битву, последним уходил. Магарбал давно уже считал его первым наездником в армии, а балеарские пращники — лучшим стрелком. Он не отличался одеждой от других воинов, спал на земле, закутавшись в плащ. Он умел говорить не только на языке эллинов, но свободно изъяснялся на нумидийском, лигурийском, кельтском и иберийском языках. И, может быть, это больше всего снискало ему уважение воинов разноплеменной армии. Притворяясь спящим, он не раз слышал, как спорили о нем наемники.
Эллины уверяли, что мать у него родом из Сиракуз, что она научила его языку своих предков. Нумидийцы яростно доказывали, что Ганнибал рожден их соотечественницей, происходящей из того же племени, что и зять Гамилькара, Нар-Гавас. Прославленные пращники-балеряне считали, что детство Ганнибал провел на Питикуссе [27], и даже точно указывали тот город, где он жил и выучился благородному искусству метания камней.
Ганнибал ничем не напоминал других карфагенян, объяснявшихся с наемниками при помощи толмачей. Он был прост и доступен. Он умел повиноваться и подчинять своей воле других.
Магарбала и других старых воинов поражало внешнее сходство черт Гамилькара и сына.
Тот же упрямый подбородок в черных кольцах бороды, то же повелительное выражение глаз. Казалось, что воскрес сам Гамилькар, который в дни молодости вел воинов с высот Эрикса на римские легионы.
В пору дождей войско, утомленное и поредевшее в стычках с иберами, возвращалось в Новый Карфаген. Этот город на узком, далеко выступающем в море мысе в южной части Иберии, был делом рук Старика, его гордостью. Город рос прямо на глазах. Несметные полчища рабов, добываемых в войнах с иберами или привозимых из Карфагена, Утики, Гадеса, возводили прекрасные дворцы и храмы, мостили улицы, сооружали массивную стену, перегородившую перешеек и сделавшую новый город неприступной крепостью. Желая затмить Карфаген, славившийся садами и озерами Магары, Газдрубал приказал выкопать большие яблони, груши, смоковницы и доставить их в город. Все годы подвластные иберийские племена платили дань серебром и людьми, один год они должны были внести дань деревьями и кустами. И, хотя многим казалось диким это требование, оно было выполнено. Иберы знали, к чему вело неповиновение.
И город за один лишь год покрылся садами, украсился озерами с белыми и черными лебедями, плавающим по их зеркальной глади. Это было сказочное превращение каменистого полуострова в город и сад.
Ганнибал жил во дворце Старика. Ганнон лопнул бы от зависти, если бы увидел его роскошь. Крыша дворца была из серебряных пластинок, сложенных наподобие черепицы. Говорили, что на нее ушло сто талантов [28] серебра. Стены и лестницы были из эбенового дерева, которое привезли мореходы из страны чернокожих.
Но не менее, чем сказочная роскошь дворца, его посетителей поражала непонятная привязанность Ганнибала к Старику. По тонким расчетам Ганнона, они должны были перегрызть друг другу глотки. Племянник унаследовал власть Гамилькара над войском, все богатства этой страны, а родному сыну не досталось ничего. Уже много лет он служит в войске простым воином, и только зимой его пускают во дворец. Но и во дворце он занимает крохотную каморку, достойную какого-нибудь раба, а не сына Гамилькара. Те, кому пришлось видеть «покои Ганнибала», уверяли, что они настолько малы, что в них не уместилось даже ложе, и Ганнибал спит на голом полу, и все убранство этой комнаты — оружие на стенах. Этому было трудно поверить, и еще труднее было это понять.
В отношении Ганнибала к Старику не было ни зависти, ни недоброжелательства. Газдрубал точно выполнял предсмертную волю отца. А дело отца, как это видно каждому, находилось в сильных и надежных руках. Да будь жив Гамилькар, он вряд ли бы достиг большего! Завоевано все восточное побережье страны до Ибера, кроме города племени эдитанов — Сагунта; многочисленные племена в глубине полуострова платят дань; открыты богатейшие серебряные рудники в нескольких стадиях от города.
Карфагенские богачи, нажившиеся на торговле серебром и рабами, прославляют Старика до небес и поддерживают его в Большом Совете. И даже римляне, минуя Большой Совет и суффетов, заключили со Стариком соглашение, признав все его завоевания до Ибера, и лишь потребовали не трогать Сагунт.
ПИР ГАЗДРУБАЛА
Никогда еще дворец Газдрубала не вмещал такой шумной и пестрой толпы. Рядом с карфагенскими рабби в длинных, до пят, одеждах, с золотыми кольцами на пальцах и в ушах можно было увидеть иберийского наемника в полотняном панцире с фалькатой [29] у пояса или кинжалом на кожаной перевязи. По устланной пышным мидийским ковром лестнице чинно поднимались дочери и жены иберийских царьков. На головах женщин были кожаные митры со вставленными в них серебряными квадратиками, их шеи были увешаны бронзовыми цепочками с амулетами, щеки вымазаны киноварью. И рядом с ними шли жены и наложницы карфагенских военачальников с золотыми браслетами на запястьях и лодыжках, с сапфирами и изумрудами в волосах. Аромат дорогих аравийских благовоний смешивался с вонью дельфиньего жира, считавшегося у иберов целебным.
А какая пестрота в убранстве стола! Рядом с доставленными специально из Карфагена золотыми кубками на тонких ножках — из них, по преданию, пила сама Дидона — стояли грубые иберийские чаши, украшенные фигурками людей и животных или просто оранжевыми, желтыми и белыми линиями. К жаркому из собачек, без которого в Карфагене не обходился ни один пир, подавали грубые ячменные лепешки — пищу иберийских пастухов.
Это было смешение карфагенского и варварского миров, плод политической мудрости Газдрубала. Ганнибалу, читавшему в детстве записки Птолемея Лага об Александре, помнилось, что такой же пир устроил в Вавилоне македонский царь Александр, видимо, хорошо понимал, что завоеватели только тогда смогут удержать власть над населением огромной персидской державы, если не будут презирать его обычаи и нравы. Великий македонец решил в один день устроить свадьбу десяти тысяч своих воинов с дочерьми персидской знати и сам тоже женился на Роксане.
Читал ли Старик воспоминания Птолемея или нет, он поступал так же, как Александр. Он вступил в брак с дочерью иберийского царька Арцагеза, Регилой. Невесте, сидевшей рядом с женихом, было не более восемнадцати лет. Ганнибал скользнул взглядом по лицу, бледному как мел, по белому одеянию, скрепленному на груди массивными серебряными фибулами [30]. Невольно вспомнился Масинисса и его любовь к Софонибе. С каким чувством говорил нумидиец о девушке, с которой он был знаком лишь несколько часов! А Старик готовится к этому браку более года. Много раз он делился с Ганнибалом своими планами, раскрывал ему все выгоды этого брака. Но ни разу он не обмолвился, какие у невесты глаза, нос, какой у нее голос и какие она носит одежды.
И только теперь Ганнибал может видеть, что у невесты голубые глаза, но они покраснели, и по киновари, покрывающей щеки, слезы проложили извилистые белые дорожки. Какие она может испытывать чувства к Старику, когда не только Ганнибалу, но и почти всем сидящим за этим столом известно, что Арцагез заплатил своей дочерью дань Газдрубалу и отказал знатному юноше Вламуну, любившему Регилу с детских лет.
Пир был в полном разгаре. Рекой лились карфагенские, сицилийские и массалийские вина. Захмелевшие карфагенские военачальники, смешно коверкая иберийские слова, клялись в любви к сотрапезникам — бывшим врагам и лезли к ним целоваться. Но вот загудели иберийские глиняные трубы, застучали костяные хлопушки. На середину зала выбежали три иберийских воина. Их лица закрыты масками. В руках у иберов сверкающие кинжалы.
— Пляска с оружием! Пляска с оружием! — радостно закричали гости.
Многие вскочили с мест и яростно хлопали ладонями в такт пляске.
Встал со своего места и Газдрубал. Он не хлопал, так как в правой руке у него была неудобная иберийская чаша, которую нельзя было поставить на стол, не пролив вина.
И вдруг крик ужаса заглушил хлопки и звучание варварской музыки. Один из плясунов кинулся с кинжалом к Газдрубалу и вонзил его в грудь по самую рукоятку.
Старик лежал на полу в луже вина и крови. Убийца стоял перед ним, скрестив руки на груди. Маска спала. На мужественном загорелом лице не было ни страха, ни смятения. Глаза сияли радостным блеском.
Невеста, протянув руки, как слепая шла к убийце. Все расступились.
— Вламун, — говорила Регила одними губами. — Зачем?
Никто в зале не шелохнулся. Никто не кинулся к убийце, чтобы связать ему руки, схватить его, обрушить на него град ударов, стереть эту наглую улыбку с его безусого лица.
Ганнибал почувствовал, что все взгляды устремлены на него. Удар кинжала поставил кровавую точку на владычестве Старика, да будут к нему милостивы подземные боги! Теперь вся власть над армией, и над завоеванной страной, и — страшно подумать! — над судьбами родины переходит к нему. Ганнибал втянул голову в плечи, словно на него легла какая-то колоссальная и невидимая тяжесть.
ОСАДА САГУНТА
Сагунт жил мирной, безмятежной жизнью. В окружавших этот иберийский город садах зрели розовые яблоки и пурпурные гранаты. Жители готовили корзины к сбору богатого урожая. В предместье с зари до заката бесшумно вращались гончарные круги. Трудолюбивые ремесленники лепили посуду из знаменитой сагунтийской глины, которая легче воды. Обожженная в подземных гончарных печах посуда приобретала темно-оранжевый оттенок, ценимый повсюду, где в кувшинах знают толк.
Рыбаки несли в тростниковых корзинах дары моря — рыб с выпученными глазами и огромных омаров, шевелящих усами и клешнями. Богатые сагунтийские купцы в тавернах на главной площади города подсчитывали выручку. Мальчишки играли в бабки.
В час пения петухов Ганнибал подошел к городу. Лишь немногим жителям окрестных поселений удалось укрыться за городской стеной. С ее башен можно было видеть, как рассыпавшиеся в предместьях карфагенские наемники тащат утварь, угоняют скот, сбивают копьями еще не созревшие плоды. Слышался женский плач, отчаянные вопли людей, уводимых в рабство.
Сагунтийцы, возглавляемые старейшинами, оставили свои мирные дела. Ремесленники, ковавшие ранее косы и серпы, готовили катапульты и баллисты [31]. Каменщики укрепляли городскую стену, заменяя выщербленные камни новыми. Нашлась работа и детям. Они подавали сражающимся стрелы, подносили хворост к кострам, на которых стояли котлы с водою, подтаскивали к метательным орудиям свинцовые шары и камни.
Ганнибалу не удалось застигнуть сагунтийцев врасплох, и он приступил к осаде.
Этот город напоминал ему о дерзости римлян, распоряжавшихся в Иберии, как у себя дома.
Они приказали Старику не трогать Сагунт, и он покорно выполнял их приказание.
Ненависть клокотала в груди Ганнибала при виде этого города, словно его стены стояли на его пути в Рим.
Стены Сагунта имели форму неправильного прямоугольника. С южной стороны угол городской стены был обращен к обширной равнине. Именно здесь Ганнибал приказал строить гелеполу — многоэтажную осадную башню. Ее стена, обращенная к противнику, имела в каждом этаже бойницы. Через них можно было с помощью небольших катапульт метать камни и стрелы.
Чтобы подкатить гелеполу к стенам Сагунта, нужно было срыть неровности и бугорки, засыпать ямы, плотно утрамбовать землю. Эти работы, по расчетам Ганнибала, должны были отнять не более двух недель. Но осажденные не дремали. По ночам отважные сагунтийские юноши совершали нападения на карфагенские посты, днем вражеские катапульты забрасывали карфагенян камнями и стрелами, не позволяя врагам подвести насыпь к стене.
Чувствуя себя в безопасности, так как карфагеняне еще не установили свои катапульты, сагунтийцы выкрикивали сверху ругательства. Насадив на стрелы записки, они посылали их осаждающим.
Ганнибал прочел одну из них: «Карфагенские ослы, вы выбрали себе добычу не по пасти и подавитесь ею».
Особенно неистовствовал сагунтиец в синем плаще. Приложив ко рту согнутый в трубку металлический лист, усиливавший голос, он осыпал Ганнибала самой отборной бранью.
В конце концов Ганнибалу это надоело.
— Позовите Тирна, — приказал он.
Тирн, командир балеарских наемников, не замедлил явиться. Плечи его и грудь покрывала овчина, у пояса на широком кожаном ремне висел холщовый мешочек с камнями. От Тирна исходил резкий, неприятный запах. На Островах Дождей, как называли иберы Балеарские острова, не росли благовонные деревья, а у нищих островитян не было ни золота, ни серебра для покупки даже касторового масла, которым натирались бедняки. Балеарцы смазывали свое тело соком какого-то тростника, смешанным со свиным салом.
— Видишь того ругателя в синем? — обратился полководец к Тирну. — Убери его!
Тирн неторопливо снял с плеч овчину и бросил ее на землю у ног. На шее у балеарца были три черных шнура различной длины. Перебирая их пальцами, Тирн взглядом измерял расстояние до стены. Видимо, его устраивал средний шнур, так как он вытянул его. Вынув из мешочка камень величиною с плод фигового дерева, Тирн вложил его в петлю шнура и занес назад руку.
Камень просвистел в воздухе и угодил прямо в синий плащ. Ругателя словно сдуло со стены.
Вопль восторга, вырвавшийся из сотен глоток карфагенских наемников, и крики ужаса осажденных слились в сплошной рев.
Когда он утих, Ганнибал обратился к Тирну, уже успевшему поднять и накинуть на плечи овчину:
— Давно я хотел узнать, какие боги тебя научили твоему искусству.
— Бог голод, — отвечал балеарец. — Когда я был еще мальчиком, отец клал на землю лепешку и не давал ее, пока я не попадал в нее из пращи.
— А жив ли твой старик?
— Да, — отвечал Тирн. — Мой отец еще охотится на коз.
— Тогда передай ему вот это. — Ганнибал протянул балеарцу слиток серебра. — Скажи, что серебро посылает ему бог войны за то, что он воспитал меткого стрелка.
Ганнибал долго не мог забыть слов балеарца.
«Бог голод» — лучше не скажешь, — думал он. — Это он согнал в мое войско всех этих варваров — галлов, балеарцев, садов, лигуров. Какое им дело до Карфагена? Наемники будут мне верны до тех пор, пока они будут сыты, пока в мешочках будет позвякивать серебро. Серебра ждут их стареющие отцы, юные невесты, молодые жены. Звон серебра громче боевых труб зовет их на приступ вражеских стен, он заставляет их переносить боль и усталость".
ПОСОЛЬСТВО ВАЛЕРИЯ ФЛАККА
Римляне с тревогой наблюдали за событиями в Иберии. Однако ни не могли и думать о вмешательстве в иберийские дела. Их силы были заняты борьбою на Адриатическом море. Даже тогда, когда Ганнибал открыто напал на дружественный римлянам Сагунт, явно ища повода для войны, римляне медлили. Наконец они решились отправить посольство к Ганнибалу под стены Сагунта.
Во главе посольства стоял сенатор Валерий Флакк. Ему было поручено напомнить Ганнибалу о договоре, который заключил с Римом его предшественник, и пригрозить войной, если он не оставит в покое Сагунт.
Две недели понадобилось Валерию Флакку для того, чтобы добраться от римской гавани Остии к иберийском порту Таррагону. Еще неделя ушла на путь от Таррагона до Сагунта. Сагунт находился не на самом берегу, а стадиях в трех от моря. Поэтому осажденным не было известно о прибытии посланцев Рима. Без согласия карфагенян римляне не могли попасть в город и укрепить сагунтийцев в их намерении сражаться до конца.
В то время, когда римские послы высаживались на берег, Ганнибал был занят расстановкой таранов. Это были длинные и толстые бревна, подвешенные цепью к верхней перекладине прочной рамы. Окованный железом конец бревна имел вид бараньей головы. Над таранами сооружался навес из досок, прикрытый сырыми бычьими кожами.
Узнав о прибытии римлян, полководец усмехнулся.
— Передай, — сказал он Магону, — что я не могу их сейчас принять. Враги озверели и делают вылазки. Невзначай послы будут ранены или убиты. Безопасность почтенного сенатора Валерия Флакка для меня важнее всего. Пусть он дождется окончания осады.
Магон вскоре возвратился.
— Если бы ты видел, как надулся Валерий Флакк, когда передал ему твои слова! Казалось, у него от ярости лопнут глаза. «Ничего, — закричал он, — я добьюсь справедливости в Карфагене! У Ганнибала сейчас нет времени, чтобы встретиться со мной, — у него будет его с избытком, когда я его в цепях повезу в Италию».
Ганнибал несколько мгновений разглаживал бороду. Магон ждал, пока Ганнибал примет решение.
— Брат, — сказал Ганнибал твердо, — тебе придется отправиться в Карфаген. Римляне обратятся в Большой Совет с жалобой и найдут сочувствие у Ганнона и его прихлебателей. Надо предупредить наших друзей в Карфагене, подготовить их к встрече римских послов. А чтобы склонить души колеблющихся, возьмешь это!
Ганнибал показал на несколько кожаных мешков в углу шатра.
— Что это? — спросил Магон.
— Серебро! Ты не заметил, что чаши весов долго колеблются, пока на них не бросят гири. Серебро перевесит все сомнения. Так говорил Старик. Только ты должен попасть в Карфаген раньше римлян. На обратном пути завернешь к Гайе. Пусть он пришлет тысячу всадников и вместе с ними Масиниссу. Если увидишь юношу, скажи, что очень хочу его видеть.
Магон прибыл в Карфаген за день до римлян. Он успел переговорить с друзьями и раздать подарки тем, кто не примыкал ни к партии Ганнибала, ни к враждебной ей партии Ганнона. Валерий Флакк был выслушан Большим Советом в недружелюбном молчании. Посла поддержал один Ганнон.
Он говорил об угрозе, которую навлек на Карфаген Ганнибал, о том, что, подобно отцу, сын простирает руки к власти. С негодованием он вспоминал об оскорбительном отказе Ганнибала принять послов римского народа, пришедших просить за своих союзников. Ганнон утверждал, что, нападая на Сагунт, Ганнибал подрывает стены Карфагена.
Рабби, как это заметил Магон, приглашенный на Совет, слушали затянувшуюся речь Ганнона, словно исполняя досадную обязанность. Некоторые обменивались насмешливыми взглядами.
А Ганнон, стоявший на возвышении для ораторов, за креслами суффетов, казалось, этого не замечал. Он продолжал свою речь. Голос его стал прерываться, словно ненависть душила его, глаза налились кровью. Ганнон требовал дать немедленное удовлетворение Риму, увести войско от Сагунта и выдать римлянам Ганнибала. Он требовал вознаградить сагунтийцев за понесенный ими ущерб.
Когда Ганнон кончил свою речь, по залу прокатился ропот. Многие рабби вскочили со своих мест.
— Позор! Предатель! — кричали они. — Сколько тебе заплатили римляне?
Магон не без удивления заметил, что больше всего бесновались те, кому он вчера вручил подарки Ганнибала.
«Видимо, брат был прав, — подумал Магон. — Серебро укрепило колеблющихся».
Ответ был передан Валерию Флакку в тот же день. В обширном послании перечислялись все договоры о дружбе меду Римом и Карфагеном. «И будет ли справедливо, если римский народ предпочтет сагунтийцев древнейшему союзу с Карфагеном?» Этими словами заканчивалось послание.
КОНЕЦ САГУНТА
Ночью воины привели перебежчика. Дрожащее пламя факелов освещало полотняный панцирь и такие же полотняные штаны, перевязанные до колен сыромятными ремнями сандалий. Голову сагунтийца покрывал шлем из железных колец с тремя гребнями, какой обычно носят знатные иберы.
— Кто ты? — спросил Ганнибал.
— Меня зовут Альконом, — торопливо отвечал перебежчик, словно боясь, что его могут не выслушать. — Я пришел сам, никто не знает, что я здесь.
— Чего же ты хочешь?
— Пощады во имя богов. Улицы города полны трупами. Женщины и дети умирают от голода. Чернь соревнуется отваге и безумии. Она не хочет и слышать о переговорах. Но лучшие люди жаждут мира.
— Ты хорошо сделал, что пришел, — сказал мягко Ганнибал. — Но лучше, если бы это сделал раньше. Война отняла у меня много времени, и Сагунт должен за это заплатить. Ты будешь моим послом и понесешь согражданам условия мира. Выслушай их. Вы сдадите все оружие, отдадите все золото и серебро, в одной одежде выйдете из города. Я укажу вам место для поселения.
Перебежчик отшатнулся.
— Чего же ты молчишь? — спросил Ганнибал после долгой паузы. — Разве я не милостив? Зачем вам эти руины? — он показал на освещенные луной развалины стен и башен. — Пусть здесь живут волки и змеи.
— Убей меня, Ганнибал, — решительно произнес Алькон. — Каждый, кто осмелится передать сагунтийцам твои условия, будет казнен. Лучше погибнуть от рук врага, чем принять смерть от сограждан.
— Не верь ему, он трус! — послышался чей-то голос.
Из толпы, окружившей перебежчика, вышел воин в кожаном шлеме. Ганнибал вспомнил, что его зовут Алорком. Еще при отце он возглавлял отряд иберийских всадников. Воины любили его за храбрость и справедливость.
— Сагунтийцы знают меня, — сказал Алорк. — Нас связывают узы старинного гостеприимства [32]. И, если Алькон боится гнева своих сограждан, избери меня посредником. Я передам твои условия осажденным.
На следующее утро у стен Сагунта появился человек с оливковой ветвью в руках. Это был Алорк. Сагунтийские стражи пропустили его в ворота и, ни о чем не спрашивая, завязали ему глаза. Потом его вели долго-долго, — видимо, по всем городским улицам. Алорк слышал за спиной все нарастающий топот ног, но до его слуха не донесся ни разу звук человеческого голоса. Люди выходили из домов и шли за человеком с повязкой на глазах. Казалось, в этом пугающем безмолвии их вела сама слепая судьба.
Наконец чья-то рука легла на плечо Алорка, и он остановился. Ему развязали глаза. Он увидел городскую площадь, заполненную сагунтийцами. На него были устремлены сотни глаз, подернутых мрачными тенями. Бледные, судорожно сжатые губы едва сдерживали готовый вырваться крик.
Алорк передал старейшинам условия Ганнибала. Каждое его слово было слышно на площади. Сагунтийцы начали расходиться, но вот они вернулись снова. В руках у них какие-то свертки, хворост, обломки мебели. Они бросают все это в одно место. На площади вырос холм. Кто-то поднес к нему факел. Вспыхнул костер. Одни бросались в его пламя. Другие обнимали жен, брали на руки детей, осыпали их последними поцелуями, перед тем как убить. Третьи раздирали свои одежды и сами подставляли грудь под меч. Алорк закрыл лицо руками. Ужас наполнил все его существо.
Карфагеняне, не дождавшись возвращения Алорка, приготовились к бою. Но город, казалось, вымер. Не видя никого из врагов, не встретив сопротивления, они не могли понять, что произошло. То там, то здесь поднимались столбы дыма. На улицах лежали окровавленные тела мужчин и женщин. Сагунтийцы предпочли смерть рабству.
ДУКАРИОН
После взятия Сагунта Ганнибал удалился в Новый Карфаген. Здесь он разделил добычу между воинами и ожидал возвращения посланцев из галльских земель.
С восторгом отзывались посланцы о достоинствах земли италийских галлов, о невероятном изобилии ее плодов. По их словам, медимн [33] ячменя стоил там два обола [34], а медимн пшеницы — четыре обола. На полях, не знающих недостатка влаги, гречиха и просо давали невиданный урожай. В дубовый лесах паслись огромные стада свиней, а на сочных горных лугах бродило бесчисленное множество коз, овец и лошадей. Холмистые и низменные местности были густо населены галльским племенами — бойями, инсубрами. Это рослые и красивые люди. Сердца их переполнены ненавистью к Риму, и они готовы оказать карфагенской армии помощь людьми и припасами.
Послы привели с собой проводника, инсубра Дукариона, в прошлом римского раба. Это был человек лет двадцати пяти, почти ровесник Ганнибала, голубоглазый, со светлыми волосами, с правильными чертами лица. Дукарион питал фанатическую ненависть к Риму, и это создавало какую-то особую близость между ним и Ганнибалом. К тому же Дукарион немало повидал на своем веку и мог рассказать о Риме и подвластных ему народах.
— Расскажи, как ты стал рабом, — спросил Ганнибал.
Инсубр нахмурился:
— Когда римляне разбили наше войско у Адды, они ворвались в нашу деревню [35]. Они сожгли хижины. Мать с сестрою погибли в огне. Нас, юношей, они привязали к деревьям и били прутьями. А Гай Фламиний смеялся, видя наши мучения.
— Сам Фламиний? — воскликнул Ганнибал. Он кое-что слышал об этом человеке, который был первым управителем захваченной у Карфагена Сицилии.
— Да, это он возглавлял римский легион, занявший наше селение.
— Расскажи, какой он, Фламиний.
Инсубр пожал плечами, удивившись, почему могущественного полководца заинтересовал римлянин, бывший теперь частным лицом.
— Он выше тебя ростом и старше, бреет бороду, как все римляне, ходит быстро, глаза у него серые, смеется, широко открыв рот.
— Боюсь, что по твоему описанию я не узнаю Фламиния, даже если встречусь с ним лицом к лицу. У большинства римлян серые глаза, и мало ли кто смеется с широко открытым ртом. А ты не знаешь, знатного ли он рода?
— Я слышал, что власть ему принесла не слава предков, а любовь римской толпы. Он разделил наши земли между плебеями. Дорога к морю по их настоянию названа его именем [36]. А потом он построил в Риме новый цирк, также получивший его имя.
Ганнибал молча кивал головой. Галерея римлян, созданная в его воображении, пополнилась новым портретом. Гай Фламиний занял место рядом с Квинтом Фабием, потому что их родовые имена начинались с одной буквы. Но как они не похожи, эти двое, на «фэ». Фабий — осторожный и медлительный, Фламиний — быстрый, горячий, с острым умом. Баловень судьбы. Успех вскружил ему голову.
— Извини, что я прервал твой рассказ, — молвил Ганнибал, отвлекшись от своих мыслей. — Что стало с тобой потом?
— В цепях нас привезли в Рим. С тех пор я не видел больше никого из моих друзей. Римляне боятся держать вместе людей одного племени, и нас купили разные господа. Я попал на мельницу. К жернову вместе со мной приковали сирийца, фракийца, скифа и грека. Хозяин был уверен, что мы не поймем друг друга. Слово «свобода» произносится по-разному, но одинаково дорого сердцу каждого. Во время римского праздника Сатурналий [37], этих мучительных и коротких дней ложной свободы, мы бежали. Римляне послали за нами в погоню собак, обученных охоте за людьми. Но мы обманули псов и их хозяев, спрятавшись на островке на Тибре. Вода смыла наши следы. Римляне называли этот островок именем бога-целителя Эскулапия и посылали туда умирать старых и безнадежно больных рабов. Днем и ночью с острова слышатся стоны и вопли умирающих. Мимо острова проходят лодки и корабли, но никому не придет в голову причалить к острову и бросить умирающим кусок заплесневевшего хлеба.
Может быть, эта бесчеловечность и спасла нас. Три дня мы прятались в зарослях, обращаясь с мольбой каждый на своем языке, каждый к своим богам. Но просили мы об одном, и боги вняли нашим молитвам. Ночью мы незаметно проникли на корабль с зерном, не зная, куда он плывет. Мы пробрались в трюм и лежали тихо, как мыши. Теперь нас уже мучил не голод, а жажда. На четвертые сутки плавания мы готовы были выдать себя за глоток воды. Но жажда свободы была сильнее. Не знаю, сколько еще прошло дней. Сквозь забытье я услышал, как заскребла якорная цепь и плеснул якорь. Выгружали зерно. Это было спасение. От рабов-грузчиков я узнал, что нахожусь в Массалии. Рабы принесли мен воды. Моим товарищам по бегству вода была не нужна. Они были слабее меня. Их убила жажда. Из Массалии я направился к Альпам. Через неделю я был среди своих. Я рассказал о том, как со мной обращались римляне, показал им рубцы на своей спине. Сердца моих родичей зажглись гневом. Они мне обещали, что будут мстить римлянам. Когда к нам прибыли твои послы, родичи сказали мне: «Иди с этими чужеземцами и приведи в наши земли их войско. Самим с римлянами нам не справиться».
Ганнибал с интересом слушал Дукариона. Он видел в нем первого подданного великой западной державы, столицей которой он сделает Рим. Нет, он не вернется в Карфаген, где его будут стеснять на каждом шагу. Он станет повелителем всех этих обиженных и недовольных Римом людей. И его держава будет такой же разноплеменной, как войско.
ГАДЕС
Распустив воинов-иберов по домам, чтобы с наступлением весны они снова собрались в Новом Карфагене, полководец отправился в Гадес принести обет Господину Мелькарту. В Гадесе Ганнибал должен был встретиться и с Магоном.
Огромные волны подкатывались к скале, составлявшей подножие храма Мелькарта, и с грохотом разбивалась. Снова и снова катились валы, как разъяренные упорством врага, обезумевшие воины, брошенные на приступ невидимым полководцем. Его непреклонная воля обрекала их на смерть и забвение, превращала в водяную пыль, но на их место становились все новые и новые бойцы с изогнутыми щитами и острыми копьями. Снова и снова катились волны.
Это прекрасное, неповторимое зрелище рождало необычные мысли. «Война, всюду война! — шептал Ганнибал. Он ощутил привкус соли, словно прижался к лицу матери и ее слезы высохли у него на губах. — Океан воюет с берегом, берег — с ветром, племя идет на племя, а кто я в этой войне? Всесильный полководец или игрушка в руках могущественных сил? Властен ли я над войной, которая началась до моего рождения и будет после меня? Пусть мне захочется бросить войско и бежать в степи к Масиниссе, жить в мапалии и охотиться на диких коз. Прекратится ли война, виновником которой считают меня, Ганнибала? Распустят ли римляне свои легионы и потопят флот, откажутся ли рабби от иберийских рудников, приносящих им баснословные доходы? Нет! Тысячу раз нет! На мое место станет другой, мой брат Газдрубал или Ганнон. И все равно будет война. Снова и снова будут катиться волны и рассыпаться в водяную пыль. И, если я бессилен перед потоком событий так же, как эта волна не может остановиться или повернуть вспять, значит, есть что-то, что сталкивает волны с камнями и племена с племенами. И это что-то мы называем Мелькартом, воздвигаем ему храмы и алтари, приносим жертвы».
Ганнибал выхватил из ножен кинжал и бросил в море.
Уже почти тысячу лет на этой скале верующие приносили морю жертвы, финикийские и карфагенские купцы кидали в волны слитки серебра и монеты, янтарь, перстни с драгоценными камнями. Они просили у Мелькарта доброго ветра и богатой добычи. А этот человек на скале бросил в океан свое оружие и просил взамен ярость.
Ганнибал шагал к дому старейшины, где остановился Магон.
Полководец внимательно выслушал рассказ брата о заседании Большого Совета, на котором Ганнон и его сторонники потерпели позорное поражение. Когда вновь прибывший посол сказа: «Здесь я приношу вам, карфагеняне, войну и мир, выбирайте!» — никто из рабби не заколебался. «Выбирай сам!» — раздался единодушный крик, и римлянин выбрал войну.
Магон рассказал также о новом отряде боевых слонов, который подготовлен в «Маленькой Индии» и сейчас находится на пути в Иберию вместе с самим Рихадом.
— А как Гайя? — спросил Ганнибал. — Выполнит ли он мою просьбу?
— Гайя обещал прислать тебе полторы тысячи всадников. Но сына Масиниссу пока прислать он не может, так как тот исчез.
— Исчез? — удивился Ганнибал.
— Да, он скрылся после того, как отец наотрез отказался помочь ему жениться на Софонибе. Но я думаю, что Гайя хитрит. Нумидиец спросил, зачем тебе Масинисса, если ты взял Сагунт.
— Как сказать, — ответил Ганнибал тихо. — Может быть, Гайя понял то, о чем не догадываешься ты. Сагунт только начало. Из Сагунта дорога ведет в Рим.
— В Рим! — воскликнул Магон. — Но ты забываешь о дальности пути, о множестве диких племен, с которыми нам придется встретиться!
— Нет, я все это знаю.
— А чем ты будешь кормить воинов во вражеских землях? Чем?
— Я все равно пойду на Рим, даже если мне самому придется жевать кожу сапог и есть человечину.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРЫЖОК
НА ПУТИ К РОДАНУ
Шагают слоны Ганнибала. Корзины на их спинах покачиваются, как лодки в море. Наемники стоят по обочинам дороги, пропуская вперед слонов. Лишь немногим из этих тысяч иберов и кельтов, сардов и балеарцев довелось видеть слонов. С суеверным ужасом они взирают на животных, не похожих ни на одного зверя их гор и лесов. С восхищением они разглядывают их толстые, как вековые дубы, ноги, в которых ощущается невиданная мощь. И эта мощь послушна их повелителю — Ганнибалу. Он, кажется, не только понимает языки всех племен, но, подобно волшебнику, может управлять этими сказочными животными. Стоит ему подать знак, и они ринутся и растопчут каждого, кто осмелится перечить карфагенянам.
Шагают слоны Ганнибала. Гудит и стонет под их ногами земля. В тяжелой поступи слонов — непреклонность воли полководца и неотвратимость возмездия. Рим должен быть уничтожен. Рим будет раздавлен карфагенскими слонами. Десятки дней отделяют войско Ганнибала от Италии. А какие препятствия его ожидают? Реки, обрывы, снежные горы, воинственные и дикие племена. Но разве меньше преград было у этих слонов на пути к Иберии? Перед тем как стать послушными человеческой воле, они прошли суровую школу Рихада, человека, стоящего целой армии. Рихад совершил то, что не удалось никому. Он приручил диких «ливийцев», которых считали непригодными к войне.
Рим должен быть уничтожен. Такова цель похода, известная лишь ближайшим помощникам Ганнибала. Для остальных движение на север, к Пиренеям, — это только завоевание еще не захваченной карфагенянами части полуострова от реки Ибер до Пиренеев.
Шагают слоны Ганнибала. Пыль поднимается из-под их ног и повисает в воздухе, покрывает лица всадников и пехотинцев, ложится на конские попоны. Осталась позади цветущая долина Ибера. У Эмпория [38], белые дома которого раскинулись по берегу подобно грозди винограда, карфагеняне простились с морем. Они бросали в волны клоки волос и шептали слова заклятий. Они собирали на берегу блестящие от влаги камешки и прятали их в ножны, привязывали на шею и к поясу.
Пестрое, как праздничная процессия, войско поднимается все выше и выше в горы. Только изредка попадаются огороженные камнями клочки пашни на склонах гор. Племя летанов спешит увести стада подальше от прожорливого, как саранча, воинства.
Шагают слоны Ганнибала. Открылась скалистая цепь Пиренеев — рубеж Иберии. Теперь уже всем ясно, что Ганнибал задумал нечто более грандиозное, чем завоевание всей Иберии. Три тысячи иберов во главе с Алорком отказались покинуть родную землю. Ганнибал мог окружить их и раздавить слонами. Но он не сделал этого. Ганнибал понимал: тогда поднимется против Карфагена вся Иберия. Справится ли с новым восстанием Газдрубал Младший, которому он оставил всего лишь двадцать тысяч пехотинцев, всадников и моряков? Поразмыслив, Ганнибал дозволил остаться в Иберии всем, кто не желает разделить с ним риск похода. Таких оказалось около одиннадцати тысяч человек. Отпуская всех желающих, Ганнибал одновременно избавлялся от трусливых и ненадежных воинов, которые могут впоследствии стать обузой. Еще десять тысяч человек он оставил во вновь завоеванной области между рекой Ибером и Пиренеями. Он не имел намерения отказаться от завоеваний в Иберии, для того, чтобы сломя голову устремиться в другие страны. Он знал, что за его спиной надежный тыл, обеспеченный сильным и верным войском.
Без труда Ганнибал перешел Пиренеи. В это время года перевалы не были покрыты снегом и горы не подавляли своей суровостью. С Ганнибалом было пятьдесят тысяч пехотинцев и десять тысяч всадников. Хижины из толстых, вкопанных в землю бревен с островерхими соломенными крышами ничем не отличались от оставшихся по ту сторону Пиренеев. Но Ганнибал знал, что отсюда начинается огромная страна, населенная многочисленными племенами кельтов, или галлов, как их называют римляне. Никому из карфагенских купцов не приходилось проникать в глубь этой страны. Купцы, опасаясь оставлять свои корабли, посещали лишь поселения на берегу Внутреннего моря и океана, омывавшего Галлию с запада. Всему, что Ганнибал знал о Галлии, он был обязан древним летописям да рассказам наемников, служивших в его войске.
В древности на южных берегах Галлии находились финикийские колонии, основанные теми же предприимчивыми торговцами и мореплавателями, которые положили первые камни в стены Карфагена. Теперь эти берега заселены вольными, как ветер, племенами, среди которых затерялась греческая колония Массалия. Массалийцы были союзниками римлян, и поэтому Ганнибал, не желавший выдавать римлянам свои планы, предпочитал держаться севернее Массалии.
Первым после спуска с гор был городок племени сорбонов Иллибер. Не слышалось привычного кудахтанья кур и блеяния овец — обычной добычи проголодавшихся солдат. Город был оставлен жителями. Это верный признак, что местные племена считают Ганнибала врагом и готовятся к сопротивлению. Ганнибал приказал найти хотя бы одного иллиберца. Несмотря на похвальное рвение воинов, перерывших прелые вязанки соломы на земляном полу хижин, обследовавших чердаки и другие укромные места, Ганнибал провел в неизвестности целый день. Лишь к вечеру рассыпавшиеся по окрестностям всадники Магарбала привели пастуха, прятавшегося вместе со своим стадом в горной лощине. По их словам, захватить его было труднее, чем справиться с дюжиной воинов. Стадо охраняли огромные собаки, такие злые и дикие, что их трудно отличить от волков.
В ответ на вопрос Ганнибала, куда делось население города, пастух издал какое-то мычание.
— Я потерял целый день, а вы мне привели немого! — возмутился полководец.
— Сейчас он у меня заговорит! — с угрозой в голосе воскликнул Магарбал и приказал принести орудия пытки.
Один лишь взгляд на клещи и колодку с медными шипами развязал пастуху язык.
Так Ганнибал узнал, что две ночи назад жители Иллибера направились к городу Русцину, что на речке Телис, и что там собирается ополчение других галльских племен — вольков и тектозагов.
— Почему вы бежите от меня? — спросил Ганнибал у пленника. — Ведь я иду войной не на вас, а на римлян.
— Мы не знаем, с кем ты собираешься воевать, — ответил пастух, но боимся, что ты отнимешь у нас свободу, как отнял ее у иберов.
Отпустив пастуха, Ганнибал послал за Дукарионом.
— Мне ничего не стоит рассеять полчища галлов, раздавить их слонами, но это будет ненужное кровопролитие. Отправляйся в Русцин и скажи вождям, что я желаю с ними встретиться. Пусть они явятся к Иллиберу.
Встреча состоялась на следующий день, после полудня. Вождей в плащах, отороченных мехами, в шлемах из бычьей кожи сопровождало несколько телохранителей, видимо, из числа их солдуриев [39].
Варвары с удивлением рассматривали сосуды из какого-то невиданного материала, бесцветного и прозрачного, как лед, бронзовые полые головы быков, служившие чашами, и другие редкие и ценные предметы, которые Ганнибал приказал вынести и положить на ковер.
— Это я дарю вам, — сказал Ганнибал, показывая на ковер с вещами. — И эти сосуды с вином тоже.
Вожди довольно кивали головами. Их радовали подарки, но больше всего то, что чужеземцы, судя по всему, торопятся покинуть их страну.
Один из вождей с рыжими, как медь, волосами подошел к Ганнибалу. В руках его был огромный рог, оправленный по краям серебром.
— Прими и наш дар! — сказал рыжеволосый. — Это рог зверя наших лесов — зубра. Зубр меньше твоих чудовищ, — галл взглянул в сторону слонов, — но свирепее их. Человеку еще не удавалось сесть на спину зубра, а твои звери послушны, как кони в упряжке.
Ганнибал не стал разубеждать варвара, не знавшего, что боевой слон в своей ярости не уступит львице. Он просто взял рог из его рук и сказал:
— Если это так, как ты говоришь, вино, которое я буду отныне пить из рога, даст мне силу в борьбе с врагом. Мой враг Рим. Это и ваш враг. Римляне покорили галлов, живущих за Альпами, превратили их в рабов. Многие галлы служат в моем войске. По неведению вы хотели помешать мне достигнуть Рима, теперь я вас тоже считаю друзьями.
Простившись с вождями, Ганнибал приказал трубачам дать сигнал к отправлению. Войско двинулось в путь. Чтобы наверстать время, потерянное в Иллибере, Ганнибал приказал двигаться и ночью. Сделали только две короткие остановки, чтобы попоить и покормить слонов и вьючных животных.
На одном из этих привалов Ганнибалу сообщили, что в отряде иберийских галлов неспокойно. Многие не хотят нести мешки с топорами и кирками, которые он распределил между всеми воинами.
Это было неповиновение, требовавшее сурового наказания. Но Ганнибал знал наемников.
Они вспыльчивы и драчливы, как дети, и обращаться с ними надо, как с детьми.
Без промедления Ганнибал поскакал туда, где расположились галлы. Его сопровождал Магон.
Когда Ганнибал сошел с коня, галлы окружили его беспорядочной толпой. Они что-то возбужденно кричали.
— Постойте. — Ганнибал поднял руку. — Пусть скажет кто-нибудь один.
Вперед выступил немолодой галл с золотой гривной на шее.
— Мы устали, — сказал он. — Ты нас заставляешь идти и днем и ночью и к тому же нагружаешь поклажей. Свободному воину не пристало нести ничего, кроме оружия.
— Да, да! — криком поддержали его галлы. — Мы не рабы! Пусть несут эти мешки иберы!
— Послушайте, что я вам скажу, — молвил Ганнибал. — Однажды мул и осел несли груз. Мул не захотел взять часть ноши осла, которого хозяин нагрузил больше, а когда осел свалился под тяжестью, должен был тащить всю поклажу. Я готов передать эти мешки иберам, а их оружие вручить вам. Тогда вы будете сражаться и за себя и за них. Вы согласны?
В ответ послышалось какое-то ворчание. Галлы подходили к мешкам и молча брали их на плечи.
В РИМЕ
В то время, когда Ганнибал подходил к Пиренеям, консул Публий Корнелий Сципион, которому предстоял поход в Иберию, находился еще в Риме. Консулу было лет под пятьдесят. И по римским понятиям он был человеком не старым. У него было энергичное лицо с резко очерченным носом, твердыми линиями губ, прямые, почти сросшиеся в переносице брови.
Консула задержали чрезвычайные обстоятельства. На севере Италии подняло оружие племя бойев. К бойям вскоре присоединились инсубры, их селения недавно были разорены римлянами, земли захвачены римскими поселенцами из колоний Плаценции и Кремоны. Соединив свои силы, бойи и инсубры напали на римских колонистов. Высланные для переговоров с галлами римские послы были коварно захвачены восставшими и объявлены заложниками. Более того: полчища галлов осадили главную римскую крепость в Северной Италии — Мутину [40].
Брошенный против галлов легион претора Луция Манлия попал в засаду в покрывавших тогда Северную Италию густых лесах. Бросая убитых и раненых, оставляя неприятелю военные значки, римляне бежали в открытое место. На выручку им и был брошен один из легионов Публия Корнелия Сципиона, намечавшийся для отправки в Иберию. Вместо отосланного легиона пришлось спешно набирать новый.
В заранее назначенный день к Капитолию стекались юноши с котомками и посохами.
Тут были и апулийцы, пропахшие козьим сыром, крепкие, неторопливые, с румянцев во всю щеку; живые и подвижные кампанцы — сыновья садоводов и виноградарей; бледные, с нездоровой полнотой тиррены. Особняком держались молодые римляне, в более опрятной одежде, с дерзким и самоуверенным взглядом.
Среди новобранцев находился и сын консула, носивший, как это часто бывало у римлян, то же имя, что отец [41].
Менее года назад Публий надел мужскую тогу [42], но он не казался моложе других.
Это был худощавый юноша с бледным лицом, на котором выделялись задумчивые карие глаза. Черты лица были тонкими и удивительно правильными, его немного грубили лишь коротко остриженные волосы. Белоснежная, хорошо выглаженная тога облегала подобранное, немного худощавое тело. Ноги были обуты в сандалии с завязками до колен.
Публию не приходилось испытывать нужду и переносить лишения. Он, как младший в доме, был избалован заботами родных.
Товарищи по играм дразнили его «греком», так как он предпочитал чтение Гомера мальчишеским забавам.
С творениями великого греческого певца он был знаком не по неуклюжему переводу вольноотпущенника Ливия Андроника. Он читал Гомера на его языке, и это доставляло ему невыразимое наслаждение.
Теперь прощай Гомер, прощай родной дом на Палатине с тенистым садом. Бог войны Марс, потрясая своим копьем, зовет за собой!
НОВОБРАНЦЫ
— Выше ногу, мальчики! — кричал центурион, человек лет сорока, с гладко выбритым обветренным лицом. — Ровнее ряд. Эй ты, вислоухий, не зевай, а то понюхаешь лозы!
Пот катится по лицу, тунику хоть выжимай, а центурион безжалостен.
— Что, задремали неженки! — рычит он. — Вам бы пряжу прясть, а не в строю шагать!
И так до полудня. А в полдень обед под вязами. Но разве его можно назвать обедом? Невольно вспоминаешь хрустящие на зубах ломтики поджаренной свинины, которые ставили на стол рабы.
— Встать! — кричит во все горло центурион. — По одному, бегом к столбам!
«Наверно, он считает, что я родился обезьяной», — подумал Публий, остановившись в недоумении перед вкопанным в землю гладким столбом.
— Что стал?! — Центурион слегка ударил Публия прутом. — Подбери ноги.
Руки скользят по столбу, ноги с непривычки дрожат.
— Выше, выше! — кричит центурион. — Вот так!
Садится солнце.
Центурион ведет утомленных новобранцев к Мульвийскому мосту. Может быть, он им хочет напомнить о подвиге Горация Коклеса, сдерживавшего на том берегу, перед мостом, натиск врагов. Нет. Он приказывает сбросить одежду. И вот Публий вместе с другими плещется в воде, смывая пот, пыль и усталость.
Центурион не отстает.
— За мной на тот берег! — кричит он.
И новобранцы плывут за ним, с трудом преодолевая сильное в этом месте течение.
— Молодцы! — хвалит центурион.
На носу уже иды [43], а что-то не слышно об оружии, настоящем оружии воина, о котором мечтает Публий. Лишь к календам [44] в лагерь пришли повозки.
— Привезли наше оружие! — пронеслось по лагерю.
Как передать то нетерпение, которое охватило Публия и его товарищей! Кончится наконец это нелепое топтание по Марсову полю. Можно подумать, что из них готовят не воинов, а бегунов. Им выдадут оружие — короткий блестящий меч, пилум [45] с длинным трехгранным наконечником, крепкий щит.
Каково же было разочарование, когда в повозках оказались вместо мечей какие-то плохо обструганные палки, а вместо щитов — плетенки из прутьев!
— Что? Не нравится? — насмешливо спрашивал центурион. — На них уже мужская тога. Им, видите ли, стыдно держать эти палки. Научитесь владеть сначала ими. Возьмите их в правую руку... Поднимите. Чувствуете?! Они вдвое тяжелее меча. Возьмите плетенку. Теперь бегом к чучелам! Правую ногу вперед! Коли!
Деревянное чучело, подвешенное к перекладине в виде греческой буквы "П", прыгает от ударов, как живое. Но центурион недовольно морщится. Он выхватывает из рук Публия палку и делает ею короткий быстрый удар в живот чучела. Отступив, он снова наскакивает на чучело и поражает его в голову.
— Подай плетенку! — кричит он Публию. — Ни одна часть тела во время удара не должна быть открыта... Вот так.
Он прячет левую руку под щит. И он снова делает выпад.
Нелегко быть воином. Чего ты только не должен уметь: бегать, перепрыгивать через рвы, влезать на деревья, переплывать реки, бросать дротик, стрелять из лука, фехтовать, но главное — повиноваться.
Дисциплина — основа римского войска. Без разрешения воин мог разве лишь дышать, да и то в любое мгновение его могли послать на смерть и отнять у него дыхание вместе с жизнью. Неповиновение каралось смертью. Какой римлянин не слышал о Манлии Торквате, убившем своего сына-победителя за невыполнение приказа. И это не было сказкой, выдуманной для устрашения воинов. Ликторы — служители, сопровождавшие консула, — не расставались со связками прутьев. И те, кому не приходилось видеть казни труса или нарушителя дисциплины, во всяком случае слышали свист розог или имели на своем теле от них следы.
В МАССАЛИЮ
«Прощай, Марсово поле! Прощай, Рим!» — думал Публий, шагая по дороге в Остию. Как хочется оглянуться и окинуть прощальным взглядом сверкающие кровли Капитолия, плоскую, застроенную невысокими зданиями вершину Палатина, где на кривой улочке прошло его детство! Но как повернуться, если это дурная примета. «Обернешься — не вернешься», — говорили предки. Правда, греческие мудрецы, с сочинениями которых знаком Публий, высмеивают народные суеверия и приметы. Но что подумают воины, которые шагают рядом с Публием, когда увидят, что он, сын консула, обернулся, покидая город! Ведь никто из них не только не читал Эпикура [46], но даже и не слышал об этом греческом мудреце. Люди подумают, что он пренебрегает обычаями предков. Лучше уж проститься с Римом мысленно.
К полудню войско было у Остии, небольшого городка, основанного, по преданию, четвертым римским царем Анком Марцием. Говорят, что Остия выросла на соли. Напротив города, на правом берегу Тибра, находятся соляные варницы. На торговле солью и разбогатели римские колонисты. Дорога, ведущая в глубь полуострова через Рим, стала называться Соляною. Теперь ее можно назвать и Хлебной: через Остию в Рим идет зерно из плодородной Кампании. Остия — это морские ворота Рима. Недаром во время первой войны с пунами к Остии подошел Гамилькар Барка с флотом. Но то, что удавалось отцу, не удастся сыну. У пунов мало военных кораблей. Ганнибал возлагает надежды лишь на конницу и слонов. Таково мнение сената, посылающего войско морем в Иберию. Войско должно отвлечь внимание Ганнибала, а в это время главные силы римлян высадятся в Африке, у стен Карфагена.
Публия волновало зрелище огромной флотилии из шестидесяти судов, стоявших на якорях близ Остии. Консул же не разделял восторгов сына.
— Какой это флот! — говорил он, покачивая головой. — Вот у моего коллеги сто шестьдесят кораблей, не считая мелких, сторожевых. Когда мы тянули жребий, Семпронию улыбнулась Фортуна: ему досталась Африка [47]. Нам же придется иметь дело с косматыми галлам и иберами. Я не сомневаюсь, что карфагенский сенат немедленно отзовет Ганнибала из Иберии, как только флот Семпрония покажется у Карфагена.
В Остии после принесения жертвы морским богам консул взял сына на свой корабль. Никто, даже придирчивый центурион, не сможет мысленно его упрекнуть, что он сделал сыну поблажку. В море нельзя ни упражняться с оружием, ни строиться. На корабле можно только сидеть, тесно прижавшись друг к другу. И не все ли равно, на каком корабле?
Справа по борту тянулся плоский берег с редкими селениями и городами. Еще лет триста назад они принадлежали могущественному народу — этрускам, власть которых простиралась на обширные районы Средней и Северной Италии. Потомки этрусских морских разбойников превратились в мирных пастухов и землепашцев, исправно платящих налоги и подати.
Отец оживился, когда берег повернул влево, образовав огромную дугу. Это было побережье Лигурии, где ему приходилось воевать в молодости. Одна за другой мелькали мрачные сторожевые башни, ранее крепости воинственных лигуров, а теперь обиталища морских птиц.
— Здесь, — говорил отец, — скрывался неприятель и свозил сюда хлеб, прятал скот. Каждую крепость приходилось осаждать. Лигуры дрались, пока у них было продовольствие.
Однажды утром Публий увидел на горизонте розоватую гряду облаков. Сколько на них ни смотри, они не расплываются. Их причудливые очертания неизменны. И тогда юноша догадался, что перед ним снежные вершины Альп, отделяющие землю покоренных римлянами племен от страны неподвластных римлянам галлов и лигуров.
Вскоре переменился ветер. Теплый и нежный зефир сменился холодным аквилоном [48]. Корабли закачало, заходила палуба под ногами. Кормчий приказал всем отойти от бортов. В глазах у Публия все расплывалось, подкашивались ноги. Нептунова [49] болезнь. Она изматывала людей, непривычных к морю.
Но муки длились недолго. Корабли приблизились к берегу. В одном месте берег прерывался. Это был вход в Массалию. Холмы, на которых расположен город, амфитеатром спускались к гавани, имевшей правильную форму орхестры [50]. В довершение сходства с театром у мола стояли корабли массалийцев, издали напоминавшие группу хористов.
Публий слышал, что Массалия — единственный дружественный Риму город в этой враждебной стране. Обессиленные войнами с лигурами, в землях которых была основана колония, в страхе перед этрусскими пиратами и пунами, греки Массалии заключили союз с Римом. Пока этот союз не давал Риму особых выгод, но теперь можно лишь благодарить предков и восхищаться их предусмотрительностью. Что бы сейчас делали римляне, не будь этого спасительного союза!
Центурион, командовавшие высадкой, приказали воинам не брать на берег оружия, чтобы не нарушить закона массалиотов: ни один чужеземец не может показаться в городе вооруженным.
Массалиоты, высыпавшие на набережную, встречали сходящих на берег римлян, вручая каждому из них мелкую монету.
Публий не удивился. Еще в Риме он слышал об этом странном обычае. Он ответил массалиоту, передавшему ему монету, как полагалось: «верну в Аиде».
Пока происходила высадка с кораблей, отец беседовал с людьми в пурпурных одеяниях, членами массалийского Совета Шестисот. Вести были ошеломляющими. Оказывается, Ганнибал со всей своей армией уже перешел Пиренеи, миновал Иллибер и идет к Родану. У пунов много конницы и боевых слонов. Хитроумный план сената задержать Ганнибала в Иберии и ударить по Карфагену рухнул. Сын Гамилькара взял инициативу в свои руки. «Какую он преследует цель? — ломал себе голову консул. — Как он решился оставить недавно покоренную им страну, где может вспыхнуть восстание?» На эти вопросы никто не мог ответить. Но медлить было нельзя. Пуны могут показаться каждое мгновение.
Консул подозвал ликтора и что-то сказал ему. И вот звуки военной трубы поднимают рассыпавшихся по набережной воинов. Еще не отдохнувшие и не оправившиеся от морской болезни, они должны строить за стенами Массалии лагерь.
ПЕРЕПРАВА
Шагают слоны Ганнибала. На пути у войска нет больше преград. Подарки из сагунтийской добычи открыли ему дорогу. Десять дневных переходов — и оно стоит на берегу Родана. Жители степей ливийцы, привыкшие ценить каждую каплю воды, с изумлением смотрели на широкую и полноводную реку. Оставленный позади Ибер казался по сравнению с Роданом ручейком. Расточительность богов этой страны, не умеющих беречь воду, казалась поразительной.
Полководец, прищурившись от солнца, зорко осмотрел противоположный берег. Он был пуст. Хоть сейчас можно было бы переправиться туда вправь. Но во всем войске не найдется и тысячи воинов, умеющих плавать. А слоны? Как переправить слонов?
День и ночь на берегу Родана стучат топоры. Воины выдалбливают лодки из цельных деревьев. А пока шла работа, противоположный берег занял галлы.
Ганнибалу надо было во что бы то ни стало заставить галлов удалиться, иначе о переправе нечего и думать. Решение было принято мгновенно. Полководец вызвал Магона и приказал ему с частью войска, состоящей преимущественно из иберов, отправиться вдоль берега реки, против ее течения, чтобы совершить переправу в удобном месте и, если это понадобится, напасть на галлов с тыла.
Отряд выступил ночью. Разминая коней, воины пошли широким шагом. Рядом с Магоном были опытные проводники, хорошо знавшие окрестные места. Милях в двадцати пяти от карфагенского стана река разделялась на несколько рукавов, образуя небольшие заросшие лесом острова. Здесь, широко разливаясь, Родан был неглубок.
Магон спрыгнул с коня и подошел к воде. Река влажно пахла водорослями. Поодаль стояли в воде большие птицы с розовато-белым оперением, с маленькой изящной головкой на длинной тонкой шее. Магону показалось, что таких же птиц он видел близ Утики, на берегу Баграда [51]. Со стороны островов донесся странный непривычный для жителей степей звук. Кричала какая-то птица или зверь. Магон прислушался. Семь раз повторился этот странный звук, и стало тихо. Магон счел это добрым предзнаменованием и приказал своему отряду спускаться к реке.
Через день Ганнибал увидел на противоположном берегу реки, левее неприятеля, столб дыма. Это был условный знак: отряд Магона находится в указанном ему месте и готов к нападению.
Не успел еще черный столб дыма растаять в воздухе, как Ганнибал начал переправу. Пешие воины, разбитые на тройки и пятерки, заняли стоявшие у берега лодки. Всадники переправлялись на плотах, держа за уздцы плывших рядом коней. Часть коней была поставлена на плоты.
Видя, что карфагеняне начинают переправу, галлы выбежали на берег. Потрясая над головами щитами, они затянули воинственную песню. Их вопли сливались с шумом воды, пенившейся под ударами весел, с криками карфагенских воинов, ободрявших с берега своих товарищей, с ржанием лошадей.
Отряд Магона подходил с тыла к вражескому стану. Галлы оказались меж двух огней. Их теснили спереди и сзади. Заметавшись по берегу, они отыскали еще не занятый карфагенянами проход и разбежались по своим селениям.
Теперь можно было приступить к переправе слонов. Из бревен сколотили плоты. К этим плотам прикрепили канаты, конца которых перевезли на противоположный берег. Кроме того, на плоты нанесли земли и дерна.
Затаив дыхание карфагеняне на обоих берегах реки смотрели, как индийцы повели слонов по насыпи к паромам. Первым шел Сур. У воды слон остановился и подозрительно обнюхал хоботом край плота. Сур не понимал, чего от него хотят. С тех пор как он стал подвластен людям, Сур познакомился со многими странными привычками и капризами этих двуногих. Им нравилось, когда он, разъяренный криками, звоном оружия и звуками труб, бежал туда, куда его гнал погонщик, сбивал с ног лошадей, топтал ногами таких же двуногих. Но эти же люди больно кололи его железной палкой, если он бросался на лошадей, привязанных к столбам, хотя это были такие же лошади. Люди всегда его отгоняли от большой воды, видимо опасаясь, что он утонет сам или утопит их вместе с привязанной к спине башенкой. Теперь же они гнали его в реку. Они хотят, чтобы он стал на эти доски с насыпанной сверху землей. Ну что ж, он выполнит и этот их каприз.
Вслед за Суром на плот взошли и другие слоны. Затем скрепы были сорваны, воины натянули канаты, и плоты вместе с находившимися на них животными оказались на середине реки.
Несколько животных в страхе кинулись в воду. Погонщики, бывшие на их спинах, погибли, но сами слоны, к величайшему удивлению Ганнибала, переплыли бурную реку и невредимыми вышли на противоположный берег.
Пока происходила переправа слонов, Ганнибал отправил часть нумидийской конницы в пятьсот всадников вниз по течению Родана на разведку. Неподалеку от своего лагеря нумидийцы столкнулись с римскими конными воинами, посланными на разведку Сципионом. После упорной схватки нумидийцы были обращены в бегство, и римские всадники приблизились к карфагенскому лагерю близ переправы. Не догадываясь, что большая часть карфагенян находится уже на противоположном берегу, римские разведчики повернули коней, чтобы известить консула о местонахождении неприятеля.
Горя желанием сразиться с врагом, Публий Сципион направился ему навстречу. Каково же было удивление консула, когда через три дня, прибыв к месту переправы, он застал брошенный лагерь. От галлов он узнал, что пуны переправились через Родан и направляются в область галльского племени аллоброгов. Только теперь консулу стало ясно, что задумал Ганнибал. И он не медля двинулся к кораблям в Массалию.
В АЛЬПАХ
Всего неделю назад в долине могучего и прекрасного Родана воины оставили лето: залитую сверкающим солнцем речную рябь, яркую зелень прибрежных лугов, мягкие очертания холмов, ветер, ласково играющий узорными листьями кленов. А здесь в лицо повеяло холодом вечной зимы. Лес, продуваемый колючим горным ветром, был бледным и тусклым. Снежные вершины сливались с тяжелыми, пепельного цвета облаками и от этого казались еще страшнее и выше. Исковерканные, изогнутые скалы напоминали сказочных чудовищ, заколдованных и окаменевших по чьей-то злой и непреклонной воле. Под ногами страшные пропасти, где с грохотом несутся потоки. Их можно только слышать, но не видеть. Обитателям плоских равнин, людям, выросшим в степях, горы казались дикими и безобразными, полными ужаса.
«Если есть на свете грозные духи, они должны обитать здесь», — думали суеверные воины, хватаясь за свои амулеты — зубы дельфина, будто бы спасающие от внезапного испуга.
Воины рассыпались по селению. Вскоре они откуда-то выкатили деревянный бочонок, обитый железными полосами, наподобие тех, которыми римляне обивают свои продолговатые щиты. Окружив свой трофей, галлы подняли такой радостный вопль, что можно было подумать, будто в нем по крайней мере золото. Когда выбили дно бочонка, Дукарион первым погрузил туда свой металлический ковш и протянул его Ганнибалу. До краев ковш был полон мутной пенящейся жидкостью.
— Выпей, — сказал он. — Это наше северное вино. Его делают из ячменя и называют пивом.
Ганнибал хлебнул глоток. Жидкость имела горьковатый привкус.
«Несчастные варвары! — подумал Ганнибал. — Боги лишили их чудесной виноградной лозы, поэтому им приходится пить эту мерзость».
— Смотри, что они еще тащат! — воскликнул Магон, показывая на группу воинов, несших на копье какой-то белый продолговатый предмет.
Воины подошли ближе и бросили на землю свою ношу. Перед Ганнибалом была огромная голова какого-то чудовища. В углубление каждого из ее глаз можно было всунуть ногу.
— Где вы это нашли? — спросил полководец.
— На берегу реки, — ответил тощий ибер, вытирая вспотевший лоб. — Мы думали, тебе будет интересно полюбоваться черепом этого великана.
— Да ведь это слон! — воскликнул Магон. — В Альпах — слон! И какой огромный! Смотри, какой у него бивень!
Ганнибал молчал. Огромная голова с пустыми впадинами глаз внушала ему ужас. Какой полководец повел в Альпы слонов? Кто уничтожил этих гигантов? Когда это было? [52] А что сулят горы ему?
В этот же день войско достигло подножия высокого холма. Ганнибал посмотрел вверх. Над тропой нависли огромные черные камни. Каждого из них было достаточно, чтобы раздавить сто воинов, а из-за камней выглядывали обросшие волосами лица горцев. В шапках мехом вверх они были похожи на сильных и страшных зверей. Возможно, это были жители разграбленного селения или обитатели других деревень, напуганные появлением чужеземцев. Находясь в безопасности, они могли преградить путь целой армии.
Надо было во что бы то ни стало узнать, каковы намерения врагов, долго ли они собираются оставаться в своем орлином гнезде. Это вызвался сделать Дукарион. Далеко обойдя скалу, он проник в расположение горцев. В темноте он легко сошел за воина, задержавшегося в селении, тем более что говорил на галльском языке. Узнав, что горцы по ночам покидают проход, чтобы занять его на рассвете, Дукарион поспешил сообщить об этом Ганнибалу. Ночью Ганнибал приказал разложить побольше огней, чтобы обмануть бдительность врагов, а сам, отобрав лучших воинов, занял склоны, оставленные вечером горцами. Утром на виду у неприятеля войско снялось с лагеря и двинулось вверх по течению реки Изар.
ПЕРЕВАЛ
На девятую ночь пути Ганнибал, скакавший впереди с Дукарионом и двумя телохранителями, достиг перевала. Луна освещала дикую и суровую пустыню гор. Высоко к небу занеслись покрытые льдом скалы. Казалось, они хотели достигнуть своими вершинами звезд, но остановились, застыли, залюбовавшись собой, великолепные, бесстрастные ко всему, что их окружало.
В темноте лениво текло войско, огибая скалы, заполняя ущелье криками, ударами, конским ржанием. Резкий холодный ветер безжалостно трепал одежду, обжигая своим ледяным дыханием лица, руки, спины воинов. Лошади брели, понуро опустив голову. Из ноздрей у них шел белый пар.
Ганнибал бесконечно долго смотрел на поднимающееся войско, пока оно не втянулось на заснеженную площадь перевала и не рассыпалось по ней черными копошащимися кольцами.
Первые лучи солнца осветили далеко внизу узкую ленту дороги, а по краям ее павших лошадей и мулов, сломанные повозки, напоминающие брошенные капризным ребенком глиняные игрушки.
Повернувшись, Ганнибал невольно вскрикнул. Его взору открылся вид на страну, перерезанную реками, расцвеченную зеленью лугов, на море, сверкающее под солнцем, как вычищенный медный щит. Внизу, под ногами, была Италия. Его волновала близость этой страны, которую он никогда не видел, но о которой так много мечтал. Как не похожа Италия на знакомые ему с детства равнины Африки и взгорья Иберии!
— Сюда! — кричал Ганнибал воинам, окоченевшим, сломленным усталостью. — Смотрите, вот она, Италия, наша цель и добыча! Я отдаю ее вам всю, с лесами и реками, городами и селениями...
И настолько прекрасно было зрелище этой страны, такой ощутимо близкой и зовущей, что всем хотелось протянуть руки, как к картине, нарисованной каким-то искусным художником, и ощупать закостеневшими, несгибающими пальцами доску и краски, из которых складывалось это светлое чудо.
Снявшись со стоянки, карфагеняне начали спуск с перевала. Ветер в ущелье дул еще резче, еще колючей и пробирал до костей. Крутая дорога местами была еще покрыта снегом, остатком последних обвалов. Снег проваливался под ногами. Тяжелые вьюки сползали коням на шею. Дорога петляла по голым, обледеневшим склонам. Поскользнешься — лети в пропасть.
Всадники спешились и шли сзади, держась за конские хвосты. Варвары, в течение нескольких дней неотступно следовавшие за войском, как будто исчезли. Видимо, они решили предоставить уничтожение пришельцев самой природе. Или эти места непроходимы не только для армии с конницей и слонами, но даже и для самих горцев?
Внезапно раздался сигнал тревоги. И сразу же он был заглушен нестройным ревом сотен глоток. На передовых воинов напали горцы, обошедшие войско тайными тропами.
«Конец! — подумал Ганнибал. — Сейчас напуганные животные полетят в пропасть, а вслед за ними и люди, ибо нет такой силы, которая могла бы заставить воинов броситься на помощь передовому отряду. Страх перед этой скользкой обледенелой тропой сильнее моего приказа, сильнее голоса разума. Сейчас конец».
Но опасения Ганнибала оказались ложными. Случилось то, чего меньше всего можно было ожидать. Нападающие остановились, словно окаменев. Их изумление длилось несколько мгновений. Но вот они поворачиваются и бегут, несутся без оглядки, словно за ними гонится целый сонм духов, бегут, бросая оружие.
Карфагеняне, недоумевая, оглядываются. Почему бегут горцы? Что их испугало? Догадка приходит внезапно и вместе с нею взрыв хохота. Воины, усталые, голодные, с отмороженными руками и ногами, не спавшие много ночей, позабывшие, что такое улыбка, смеются. Их тела содрогаются от хохота, звенит оружие, ударяясь о заледеневшую одежду. И скалы, отражающие эти странные звуки, откликаются чудовищным эхом. Кажется, они тоже смеются над ужасом дикарей, впервые увидевших слонов.
Слоны! Ганнибал чувствовал все большую признательность, почти нежность к этим огромным животным. И здесь, в этой ледяной пустыне, они спасают его от гибели. Слоны — это его смугла, пылкая Ливия, поднявшаяся на борьбу с холодной и заносчивой Европой. Слоны — это мечта о победе над Римом, которой отдал жизнь его отец.
Через три дня войско спустилось в зеленую долину, расширяющуюся к югу, как и река. В тишине журчали горные ручьи. У частокола, окружавшего селение из десятка домов, стояли седобородые старцы в белых одеждах. Опираясь на посох, они изумленно смотрели на невиданных пришельцев. В обитателях долины не было той дикости, которой отличались горцы! Словно вместе с природой и климатом изменились люди. Они стали мягче, гостеприимнее.
Из селения потянуло запахом дыма, напомнившим об усталости и голоде. Ганнибал сошел с коня, чтобы осмотреть место привала.
СМОТР
Горы стояли грозным полукругом, великаны в ослепительно белых шлемах, в черных панцирях и зеленых плащах. Пятнадцать дней с ними шла война. Горы сбрасывали со своих плеч камни и снежные лавины, громоздили уступы, разверзали под ногами пропасти, обжигали щеки холодом, ослепляли глаза чудовищным блеском своих льдов. Как слаб и беспомощен человек в борьбе с этими неумолимыми гигантами! Но все же его упорство победило. Горы расступились и нехотя пропустили эту горсточку пигмеев. Кажется, теперь они смотрят с поднебесья и снисходительно улыбаются: "Эй вы, двуногие муравьи! Много ли вас осталось?
Звук военного рожка нарушил ход мыслей Ганнибала. Он понял: войско уже выстроено, пора идти. Сегодня впервые за много месяцев Ганнибал устраивал смотр войску, перекличку живых.
Левый фланг занимали иберы. Они были в своих неизменных сагумах — коротких красных плащах из грубой материи. Только эти сагумы имели такой вид, словно их терзали своры гончих. Длинные спутанные волосы делали иберов похожими на косматых львов. Приветствуя полководца, иберы подняли свои маленькие щиты, переплетенные сухожилиями.
Галлы. Они в штанах до щиколоток и в легких туниках. Многие без щитов. Здесь не больше тысячи воинов. А ведь через Пиренеи перешло шесть тысяч галлов. Где остальные? Погибли или рассеялись? Смешались с толпами горцев или вернулись на родину? Что их заставляет здесь стоять? Жажда добычи или верность долгу?
— Теперь у нас будет вдоволь настоящего вина, — бросил он весело галлам, зная их пристрастие к этому напитку.
Ответом на эти слова был нестройный благодарный вопль.
Ливийцы. Какое печальное зрелище! «Мои ливийцы», — называл он их про себя или в кругу друзей, не желая показывать своего пристрастия к этому храброму и верному племени. Неужели это его ливийцы? Жалкие лохмотья вместо одежды. Ноги обмотаны грязными тряпками, через которые проступает кровь. Лица и руки в синих и черных пятнах, словно у клейменных рабов. Ганнибалу захотелось поднять к небу кулаки и крикнуть богам: «Что вы сделали с моими лучшими воинами? Отдайте моих ливийцев!» Но он спрятал руки за спину и сказал громко и отчетливо:
— Давным-давно наш город вел войну с греками из Кирены [53]. Между нашими и греческими владениями был спорный кусок земли. И вот тогда два брата из рода Филенов предложили похоронить себя живыми на спорной земле, чтобы она принадлежала родине.
Ганнибал обвел внимательным взглядом поредевший строй ливийцев.
— Вы потеряли многих, — продолжал он. — Ваши друзья погибли на этой чужой земле, чтобы она всегда принадлежала Карфагену.
Балеарские пращники. Ганнибал им что-то сказал, и они затряслись от хохота. Прыгали черные витые шнуры на их впалых животах.
— Что? Что он сказал? — пронеслось по строю сардов.
— Это только нам, — отвечали задорно балеарцы.
И новая волна хохота прокатилась по их рядам.
Нумидийцы. Их осталось шесть тысяч. Потери невелики. Недаром он их так берег. Правда, часть без коней. Но разве мало коней в этой стране?!
Боевые слоны. Они покачивают головами, словно жалуются: «Что ты с нами сделал, Ганнибал? Нас только семнадцать. И мы едва стоим на ногах».
— Рихад, — обратился Ганнибал к индийцу, — выживут ли они?
Индиец низко поклонился:
— Да, если ты дашь им отдых, не менее двух недель. Здесь густая трава. Они будут сыты.
«Две недели. Отдых, — думал Ганнибал. — В отдыхе нуждаются и слоны и люди. Две недели, и у меня будет снова армия. А если римляне не дадут мне этих двух недель? Тогда пропало все, тогда напрасны все труды и жертвы».
Эти дни Ганнибал коротал за игрой, которой его научил Рихад. Индиец называл ее «чатуранга», что в переводе означало «четыре рода войск». На деревянной доске, расчерченной в том же порядке, что и римский лагерь — по квадратам, — друг против друга располагались фигурки из кости — пешие воины, всадники, боевые слоны и квадратные башенки наподобие гелепол. Два вражеских стана — черный и белый. И каждый из них возглавлялся королем и королевой в диадемах. Чатуранга была серьезной и умной игрой. Ганнибал научился ей еще в Иберии и теперь легко выигрывал у Рихада.
— Не могу понять, — сказал он как-то Магону, — почему тебя не привлекает чатуранга? Что хорошего в игре в кости, которой ты отдаешь все свободное время? Чему она тебя может научить? Полагаться на случай, на удачу, слепую, как старый конь в серебряных рудниках?
— А для меня чатуранга слишком сложна и скучна, — возразил Магон. — Просиживать весь день за деревянной доской, словно от твоего хода зависит судьба армии, — это не по мне.
Наблюдая за выражением лица Ганнибала во время игры, можно было подумать, что перед ним не доска, а настоящее поле боя. Тому, кто хочет разгадать секрет его побед, не мешало понаблюдать за игрой. Он был смел и в то же время осмотрителен. Он часто шел на жертвы, чтобы добиться лучшего расположения фигур, и умело пользовался малейшей оплошностью партнера.
— Нет, — сказал Ганнибал Магону, пришедшему его навестить, — чатуранга лишь отдаленно напоминает войну. Здесь, — он показал на доску, — я уверен, что мои воины не повернут оружия против меня, что они точно выполнят мой план. А в жизни все иначе. Вот этот воин, — Ганнибал взял в руки пешку, — находится на территории врага. Это галл. Он должен выполнять волю своего белого царя. Но при искусной игре я могу заставить его служить себе. Для этого я и ввел в действие слонов... Нет, не этих, а настоящих — индийцев и ливийцев. Я принес их в жертву. Они погибли в Альпах. Но во вражеском стане переполох. — Ганнибал смахнул несколько белых пешек с доски. — Путь в Италию открыт.
ЕДИНОБОРСТВО
Ганнибал был взволнован. Гонцы, посланные в земли галлов, пограничные с Тирренией, принесли известие, что римский консул Публий Сципион прибыл из Массалии и с небольшим количеством воинов высадился у Пизы [54]. Присоединив к своему отряду легионы, охранявшие северные рубежи Италии, он вступил в равнины реки Пада, которую галлы называют Боденком. Всего лишь три дневных перехода отделяет оба войска. А воины еще не успели отдохнуть от утомительного перехода в горах. Если первое сражение будет проиграно, галлы разбегутся, как зайцы из дырявой корзины. Не отыщешь следов!
Ганнибал решил снова собрать войско. Воинам надо сказать, что они должны сражаться не из-за горсти серебра, которую они получают в каждое новолуние, а за собственную свободу и жизнь. У них нет надежды вернуться на родину, а плен для них означает рабство, оковы и страдания. Сказать это на языке галлов — обидятся ливийцы, произнести речь на ливийском языке — будут обижены галлы, сарды, балеарцы. Выступать перед каждым отрядом — долго и утомительно. Наемники не любят долгих речей, им понятен язык действий. Решение пришло внезапно.
— Собери войско и прикажи поставить перед воинами пленников, — сказал он Магону. — Тех, что мы захватили под Таурасией [55].
Когда Ганнибал прибыл на поле, все войско было уже в сборе.
— Дукарион, — обратился он к своему проводнику, — скажи им: если кто хочет получить это, — Ганнибал указал на лошадей и снаряжение, — пусть выйдет вперед, чтобы сразиться друг с другом на глазах у войска.
Когда Дукарион объяснил пленникам, чего от них хочет полководец, вперед вышли все.
— Это слишком много, — сказал Ганнибал. — Достаточно будет двоих. Пусть кинут жребий.
Жребий указал имена двух юношей; на лицах их была неподдельная радость, другие же пленники опечалились. Они стояли, хмуро уставясь в землю. А тем временем кузнецы сбивали с ног и рук счастливцев оковы. И вот в руках у них сверкнули мечи. Они скоро будут свободны. Один из них вернется свободным в свой дом, обнимет родных и близких, другой — освободится от мучений. Их чувство радости было понятно каждому, кто наблюдал за ними в этот миг.
Схватка началась. С поднятыми вверх мечами галлы описывали круги, обходя друг друга. Их лица выражали такую ярость, словно они были не товарищами и соратниками, а злейшими врагами. Удары следовали за ударами, но противникам пока удавалось уклоняться от них. Волнение зрителей нарастало. При каждом ударе у них вырывались возгласы одобрения или недовольства. Многие вышли из рядов и подошли совсем близко к сражающимся. Внезапно один из галлов сделал прыжок и нанес своему противнику страшный удар, но меч рассек ему плечо, что, однако, не помешало раненому обрушить меч на голову соперника. Вопль вырвался из тысячи глоток.
Еще несколько мгновений галл держался на ногах. Кровь заливала его лицо. Потом он рухнул на землю.
Победитель несколько мгновений стоял молча с опущенной головой, словно в ужасе перед тем, что он сделал. Потом, с ненавистью взглянув в сторону Ганнибала, медленно зашагал к своим трофеям.
Ганнибал поднял руку, призывая воинов к вниманию.
— Вот и ваш выбор, — сказал полководец. — Рабство. — Он указал на группу пленников, жалких, растерянных. — Смерть. — Ганнибал перевел взгляд на окровавленное тело павшего юноши. — Или победа... — Ганнибал протянул обе руки к юноше.
Тот уже успел надеть блестящий шлем, натянуть латы и выбирал коня.
Это была самая краткая из речей, которую приходилось когда-либо произносить Ганнибалу. И самая убедительная. Надо ли было говорить, что у воинов нет иного выхода, как сражаться, не щадя жизни, что надежда возвратиться на родину бегством тщетна, что за их спиною горы, реки и дикие враждебные племена.
ТИЦИН
Соорудив лагерь и наведя на быстрой речке Тицин мост, Публий Сципион во главе отряда конницы выехал на разведку. Всадники двигались изогнутой линией: середина впереди, а края отставали. Копыта гулко били по каменистой земле.
От лазутчиков консул узнал, что Ганнибал перешел Альпы и находится в стране тауринов, в двух дневных переходах от Тицина. Сципиона удивляли дерзость и отвага полководца пунов. Мог ли он до Массалии предположить, что Ганнибал решится перейти Альпы с конницей и слонами? Этот переход расстроил все его планы. Пришлось разделить войско на две части. Одну из них, во главе с братом Гнеем, он послал в Иберию, а другую повел назад, в Италию. Сципион был уверен, что переход через Альпы дорого стоил Ганнибалу. Поэтому он торопился нанести пунам удар до того, как они сумеют отдохнуть и пополнить свою армию.
Стадиях в двух от моста консул заметил впереди большой столб пыли. Будучи уверен в правильности сведений лазутчиков, консул решил, что галлы, напуганные неприятелем, угоняют с пастбищ свои стада. И когда столб пыли был уже совсем близко, когда уже было поздно отступать, консул увидел вражескую конницу. Она двигалась колонной по шесть всадников в ряд. Смуглые худощавые люди словно приросли к крупам коней. Всадников возглавлял человек лет тридцати, с черной, в кольцах бородой. На нем были сияющие латы, длинный пурпуровый плащ. «Ганнибал!» — пронеслось в мозгу у Сципиона, но, прежде чем консул успел дать команду, нумидийцы издали воинственный вопль. Земля загудела под копытами.
Легковооруженные римские пехотинцы в страхе стали искать спасения за строем римской конницы, внося замешательство в ее ряды.
Нумидийцы, которыми командовал сам Ганнибал, на ходу изменив направление, ударили во фланг римлян. В воздухе просвистели дротики. Раздались крики ужаса, стоны раненых.
Публий, находившийся неподалеку от отца, заметил, как на полном ходу остановился его конь и консул, неестественно подняв локоть правой руки, медленно сползает на землю. Конница сжалась, приняв раненого в середину. Но ряды ее редели, и уже совсем близко слышался воинственный клич нумидийских всадников. Прижавшись к гриве коня, Публий мчался на помощь. Взять раненого на коня было делом нескольких мгновений.
И вот уже Публий с отцом, обнявшим сына здоровой рукой, несется к римскому лагерю. В ушах свистит ветер, щеки пылают, сердце бьется тревожно и радостно. Справа и слева, защищая консула своими телами, скачут его ликторы.
Вот уже виден лагерный вал с частоколом. Часовые подымают бревно, заменяющее ворота. Из других ворот выходят манипулы тяжеловооруженных. Убедившись, что им не догнать беглецов, нумидийцы повернули вспять.
Поддерживая голову и плечи отца, Публий помог ему спуститься с коня и сесть на подстеленный кем-то плащ. Легионный лекарь осторожно снял с консула латы и приподнял край тоги, набухший от крови.
Консул повернул побледневшее лицо к сыну и встретился с ним взглядом.
— Ты начал неплохо, мой мальчик! — тихо прошептал он.
БОДЕНК
Мост из плотов, наведенный на реке еще до битвы с пунами при Тицине, был цел. Прогромыхав по бревнам, колеса непривычно мягко вошли в землю, сырую от недавно выпавшего дождя.
Публий накрыл плечи задремавшего отца краем своей тоги и соскочил с повозки. Перед ним была великая река Пад. От берегов, покрытых молчаливым лесом, веяло такой грустью и безнадежностью, что невольно вспоминалась греческая сказка о безрассудном Фаэтоне, упавшем где-то здесь вместе со своей солнечной колесницей. Не эти ли склонившиеся над рекой тополя и ивы оплакивают несчастного янтарными слезами? [56]
Тишину нарушили глухие удары. Легионеры разрушали мост, чтобы по нему не прошел враг. Публий обернулся к повозке. Отец не спал. Он тревожно вглядывался в темный лес на противоположном берегу Пада. Теперь, после Тицина, консул уже не рвался в битву. Он старался ее оттянуть до прихода из Сицилии другого консульского войска, во главе с Гаем Семпронием.
В этот же день римляне достигли Плаценции [57]. У стен города вырос лагерь.
Воины отдыхали и набирались сил. Консула радовала весть, что Семпроний спешит на помощь. Пока Ганнибал переправится через Пад, Семпроний будет здесь.
Но вскоре стало известно, что Ганнибал со всем своим войском находится уже по эту сторону реки. Это казалось чудом. Одни говорили, что Ганнибал, поднявшись к верховьям реки, перешел ее вброд, поставив слонов в ряд, чтобы ослабить напор течения. Другие уверяли, что пуны навели мост из лодок, присланных италийскими галлами. Как бы то ни было, Ганнибал за два дня сумел осуществить то, что другой полководец сумел бы выполнить лишь за неделю. Лишний раз убедившись, что противник, несмотря на свою молодость, превосходит его опытом и талантом, Сципион приказал усилить караулы. Он опасался неожиданного нападения.
Нападение совершилось оттуда, откуда его никто не ожидал. На рассвете лагерь огласился криками. Сципион вышел из претория, поддерживаемый за плечо сыном. Нельзя было понять, что происходит. Часовые стояли на местах. Ворота были закрыты, на улицах было пусто. Крики доносились из палаток, находившихся между алтарем и преторием. В палатках происходила какая-то возня. Кто этот невидимый враг, незаметно проникший в лагерь? Уже тревожно гудели трубы. Воины сбегались к преторию, строились по манипулам. Достаточно было взглянуть на их строй, чтобы понять все. В строю не было галлов, не было и военных трибунов. Пока верные консулу легионеры кинулись к палаткам, беглецов и след простыл. В палатках лежали окровавленные и обезглавленные трупы римских трибунов. Преследование оказалось бессмысленным. Убийцы, хорошо знавшие местность, были уже в своих родных лесах. Ужас и скорбь охватили воинов. Еще одна неудача, более страшная по своим последствиям, чем поражение при Тицине.
Теперь нельзя было сомневаться во враждебности галлов. Надо было рассчитывать только на собственные силы. В следующую же ночь, покинув злополучный лагерь, легионы Сципиона двинулись на соединение с Семпронием Лонгом к притоку Пада-Требии.
А тем временем Ганнибал принимал перебежчиков. Они подходили к нему по одному и складывали у ног окровавленные головы римлян. Ганнибал приветливо улыбался и дарил каждому и перебежчиков горсть серебряных монет.
— Идите домой, — говорил им Ганнибал. — Пусть ваши родичи порадуются свободе своих сыновей. А это серебро вам не помешает. Не так ли?
Дукарион, стоявший рядом с полководцем, ничего не понимал. Распускать по домам таких отличных воинов, да еще перебежчиков, для которых из страха перед наказанием немыслим плен! Это безумие!
Когда перебежчики удалились, полководец взглянул на Дукариона. Прочитав в глазах его недоумение, он сказал:
— Эти люди, явившись к своим, будут лучшими ходатаями в мою пользу. Каждый из них приведет троих, а может быть, и четверых. Ты показал свою преданность, и поэтому назначаю тебя начальником этого будущего отряда.
Ганнибал оказался прав. Не прошло и недели, как к валу карфагенского лагеря подошла огромная толпа воинов с длинными мечами в руках. Среди пришедших было много людей с трубами и свирелями. Ганнибал хотел их отослать, но Дукарион сказал:
— Звуки труб и свирелей воодушевляют нас.
И Ганнибал оставил в лагере всех пришедших. Их было семь тысяч человек.
ТРЕТИЙ КОНСУЛ
По обычаям предков, воин, спасший товарища, заслуживает высшей награды. Спасенный должен называть спасителя отцом и угождать ему во всем. Но ведь не может отец называть отцом своего сына. Публий должен быть доволен тем, что избавлен от придирок центурионов и находится в претории.
Отец не признавал лекарей, пользуясь испытанными дедовскими средствами — настоями трав, молитвами ларам. Но, так как рана не заживала, он решил послать в Анций, в святилище Эскулапия [58], гонца, верного вольноотпущенника Килона, с искусно отлитой из серебра рукой. Эта жертва должна была принести полное выздоровление. А пока Килон находился на пути в Анций, Публий должен был перевязывать рану. Он выполнял эту обязанность с такой любовью и старанием, что отец готов был бы публично признать, что обязан своим выздоровлением одному сыну, если бы не боялся гнева завистливых богов.
Оставаясь наедине с сыном, Сципион часто делился с ним своими тревогами, посвящал его в свои планы.
Консула более всего волновала судьба легионов Гнея Сципиона, отправленного морем в Иберию. Не может быть, чтобы Ганнибал повел в Италию все свое войско. Он должен был знать, что иберы так же не любят пунов, как галлы — римлян. Кого же он оставил в Иберии? С каким войском? Удастся ли Гнею закрепиться в Иберии и поднять на борьбу против пунов иберов?
Публий был невольным свидетелем той сложной и скрытой для постороннего глаза работы, которую выполнял полководец. К отцу приходили легаты [59], докладывая ему об укреплении лагеря, о настроениях воинов, о действиях противника. Он допрашивал взятых в плен лазутчиков и принимал послов сената, интересовавшихся нуждами и намерениями консула.
Однажды в преторий вошел коллега отца Гай Семпроний, необычно возбужденный и радостный.
— Можешь меня поздравить, — сказал он, обращаясь к Сципиону. — Мои воины напали на нумидийцев в то время, когда они грабили галлов и гнали их до самого пунийского стана. Вот тебе и непобедимая конница Ганнибала! Пуны бежали как зайцы. Мои воины ликуют. Я возвратил им уверенность в победе.
Отец равнодушно смотрел себе под ноги, словно речь шла не о победе над пунами, а о чем-то малозначащем.
— Теперь, — продолжал Семпроний, — нам нечего медлить. Соединим наши армии и разом ударим по врагу.
— Не обольщайся успехом в этой стычке, — молвил Сципион, приподнимаясь на локте. — Ты не знаешь Ганнибала. Это коварный и опасный враг. Надо ждать.
— Чего ждать? — вспылил Семпроний. — Третьего консула с его армией или пока галлы полностью не перейдут на сторону врага?
— А ты разве не знаешь, — спокойно возразил Сципион, — что войну могут решить не только опытные и смелые полководцы со своими армиями, но и другие могущественные неосязаемые силы! Да, я жду третьего консула с его легионами. Этого консула не избирали на комициях и не утверждали в сенате. Имя этому консулу — время, а его легионы — это дни, недели и месяцы бездействия вражеского войска. Не забывай, что Ганнибал в чужой стране и в Африке нет другого Ганнибала, который мог бы повторить его поход и доставить ему подкрепление. А галлам скоро надоест кормить всю эту прожорливую африканскую саранчу. Галлы нетерпеливы, им подавай сразу победу. И, если ее не будет, тогда они станут нашими союзниками.
Публий, слушая этот спор двух консулов, испытывал незнакомое ему прежде чувство раздвоенности. Он отдавал должное благоразумию отца, его привлекало остроумие, с помощью которого отец отбивал натиск Семпрония, но Публию было трудно понять, как можно без конца уклоняться от боя, когда враг опустошает страну и рвется к Риму. «А в прошлых войнах, невольно задавал себе вопрос юноша, — разве Рим не добивался победы с помощью решительных схваток? Дважды наши предки вступали в сражение с Пирром и дважды терпели жестокое поражение, хотя и удивляли врага своим упорством. Но они не стали уклоняться от третьей битвы, которая решила исход войны в их пользу».
Когда однажды Публий высказал свои сомнения отцу, тот тяжело вздохнул:
— Поступками людей часто руководит честолюбие! Какое Семпронию дело до третьего консула, который, как я уверен, принесет Риму победу. Его тревожит другое: на носу консульские выборы, и тогда конец его полномочиям. Слава победы может достаться кому-нибудь другому. Вот этого он боится и поэтому рвется в бой. Какой страшный вред может принести республике один безрассудный человек, если ему вручена высшая власть!
Прошло немало лет, пока не только Публий, но все римляне поняли, что в борьбе против такого противника, как Ганнибал, время было самым надежным союзником. Пока же осторожность казалась трусостью, а безрассудство — храбростью. Честолюбивый Семпроний так раздул свой незначительный успех, что в Риме он казался кое-кому настоящей победой. По городу поползли кем-то пущенные грязные слухи, что Сципион потому медлит со сражением, что не может участвовать в нем из-за раны и не хочет, чтобы лавры победителя достались Семпронию.
Слухи эти достигли и лагеря, и Публию не раз приходилось слышать насмешливые замечания солдат по адресу отца. Они глубоко ранили и обижали его, хотя сам он не менее других рвался в бой.
Настроения римских солдат были хорошо известны Ганнибалу, и полководец был доволен, что все идет так, как он задумал. Начальник нумидийцев Магарбал, искусно разыгравший сцену отступления, получил награду. Были награждены и рядовые всадники, хорошо сыгравшие порученные им роли беглецов.
— Ты более щедр, когда мы отступаем, — сказал Магарбал, получая награду.
Ганнибал рассмеялся. Он не стал объяснять Магарбалу, как его радовало, что удалось внушить неопытным и плохо обученным вражеским воинам обманчивую надежду на успех. Галлы, составлявшие чуть ли не половину его войска, пока еще не пали духом. А римляне самонадеянны. Семпроний глуп, хитрый Сципион прикован к постели. Остается лишь наметить место для будущего сражения...
Опытным глазом Ганнибал оценил выгоды равнины, отделявшей его стан от римского лагеря. Поле пересекалось ручьем с высоким берегом, густо поросшим терном. Ему было известно, что римляне опасаются лесистых местностей, в которых италийские галлы обычно устраивают засады. Этот же ручей даже не заставит их насторожиться.
— Смотри, — говорил полководец, обращаясь к Магону, — вот место, где ты должен спрятаться. Возьми с собой тысячу пехотинцев и столько же всадников. Не забудь приказать им положить блестящее оружие и шлемы на землю.
— Можно идти? — спросил Магон.
— Иди... Нет постой! — крикнул он ему вслед.
Магон остановился. Ничто не говорило посторонним, что Ганнибал и Магон не просто военачальник и подчиненный, а братья. Более того: на людях Ганнибал был подчеркнуто строг с братом. Теперь же в его голосе послышалось что-то необычно ласковое.
— Будь осторожен, Магон, — сказал Ганнибал, взяв брата за руку. — Впереди у нас еще много битв. Не бросайся в схватку первым. Ты ведь не рядовой воин. Помни, чему нас учил отец.
Магон поднял голову. В его глазах блеснули слезы. Откуда они? Воспоминание об отце и далеком детстве или необычно ласковый тон и забота Ганнибала?
— Иди отдыхай, — сказал Ганнибал, прощаясь. — Пусть отдохнут и воины. Место займешь ночью. Понял?
ТРЕБИЯ
Римский легионер не красноречив. Спроси его, где он сражался, за что получил бронзовую фалеру [60], где был ранен, — он промычит в ответ что-то невразумительное. Но попроси рассказать, чем его кормили, какая еда ему по душе, и ты его не узнаешь.
И откуда у него тогда появятся и дар слова и воображение! Он вам так опишет гусиную печенку в молоке с медом, или маринованные маслины, или хрустящую корочку жареной свинины, что вы проглотите собственный язык. И неудивительно!
Что приносит воину каждый новый день? Брань центуриона, розги, раны, смерть. Одна лишь еда скрашивает суровую, полную изнурительного труда и опасностей солдатскую жизнь.
И в это холодное утро, когда воины Тиберия Семпрония, зябко поеживаясь, выходили из палаток, они думали о завтраке. Чем их сегодня накормит повар Муммий, порази его Юпитер. С тех пор как они прибыли в эту суровую и дикую страну из солнечной Сицилии, воины знали одну лишь бобовую похлебку. Сколько было шуток по ее поводу! «Муммий хочет нас заживо похоронить! — смеялись легионеры. — Ведь в дни поминовения умерших предков на их могилы приносят бобы».
Из приоткрытого медного котла шел вкусный запах. Нет, сегодня не бобовая похлебка, а что-то более привлекательное. Солдаты доставали свои миски и садились у котла. Муммий суетился и весело подмигивал.
Тревожно прогудела труба.
— Строиться! — кричали центурионы.
Пуны совсем обнаглели. Их всадники появились у вала. Дротики свистят у палатки самого консула. Ганнибал вызывает его на битву. Может ли Тиберий Семпроний упустить этот момент? Правда, время слишком раннее и воины не успели позавтракать. Ну что ж, они будут обедать с большим аппетитом!
Консул дал знак к выступлению. Конница, а за нею пехота покидали лагерь. Заколыхались черные и красные перья на шлемах. Блеснули копья и мечи. Консул невольно залюбовался своим войском, имевшим такой грозный и внушительный вид. Пуны отступали к Требии.
Ночью в горах шел дождь. Река вздулась. Пешим воинам вода доходит до пояса. Чтобы никого не снесло течением, консул приказал воинам держаться за руки. Оружие и доспехи переправили на конях. Когда весь легион совершил переправу, было уже около полудня. Сквозь густые облака пробивалось солнце. Но оно было бессильно согреть воинов. Кровь их застыла не только от холода, но и от сосущего голода. Муммий, где твоя бобовая похлебка? Сейчас она казалась желанной, как родной дом. Но Муммий со своим медным котлом остался на том берегу этой мерзкой речушки.
В это же время из карфагенского лагеря Ганнибал выводил своих воинов. Они успели подкрепить себя пищей и питьем, накормить своих лошадей и, раздевшись у костров, натереть грудь и руки касторовым маслом.
Пуны строились в одну прямую линию. Конница стояла на флангах. Впереди всадников были боевые слоны. В центре находились балеарские пращники, за ними ливийцы, иберы, галлы. Своими свинцовыми шарами балеарцы так дружно встретили римских стрелков, что те скрылись за рядами тяжелой пехоты.
Римской пехоте, защищенной шлемами и щитами, балеарцы не могли причинить большого ущерба, поэтому Ганнибал направил пращников против римской конницы. Осыпаемые градом свинцовых шаров и камней, всадники смешались и обратились в бегство.
Несмотря на холод и истощение, римские пехотинцы в центре выдержали натиск карфагенских слонов. Пропустив их вперед, римляне засыпали четвероногих гигантов тучей дротиков и копий. Испуганные слоны повернули назад, и, если бы не искусство Рихада и других индийцев, они раздавили бы карфагенских воинов.
Бой развернулся и на левом фланге, где находились галлы. Услышав звуки труб, они скинули свои плащи и остались в одних штанах — то ли им хотелось устрашить врага мощью своих обнаженных мускулов, широтой груди, показать свое презрение к ранам и смерти, то ли они боялись, что плащи будут цепляться за кусты и помешают сражаться. В первом ряду галлов не было ни одного воина без золотой гривны на шее — признака знатного происхождения. А вот и Дукарион. Его лицо дышит яростью. Месть за все — за рабство, за рубцы на бедрах! Месть! И меч опускается на головы римлян. Месть!
Судьбу сражения решила карфагенская конница. Она опрокинула римскую, погнала назад к реке и в то же время охватила с двух сторон римскую пехоту, храбро сражавшуюся в центре. Высоко взлетали и со свистом рассекали воздух сверкающие мечи. Римляне, не выдержав натиска, падали, лошади, потеряв седоков, неслись по лугу, неловко вскидывая задними ногами. Наконец вышел из засады Магон со своими всадниками и ударил в тыл римлянам. Магон мчался, прижавшись к гриве своего вороного коня. Забыты были все наставления и советы брата. Магон впереди всех. Его меч разит, как молния.
— Руби их, Магон, руби! — шептал Ганнибал, наблюдавший за битвой с вершины холма. — Сжигай их, как ветер пустыни, знойный ветер Ливии.
Облако пыли окутало место боя. Когда оно рассеялось, стало видно, что весь берег реки сплошь покрыт трупами, обломками щитов и копий. Лишь десяти тысячам легионеров во главе с Семпронием удалось пробиться через вражеские ряды на Плаценцию.
В ШАТРЕ ГАННИБАЛА
У шатра Ганнибала Дукарион увидел воина в штанах до щиколоток и легком плаще; судя по одежде — ибера. Незнакомец снял шлем. Свежий утренний ветер зашевелил копну ярко-рыжих волос.
Дукарион знал всех друзей и приближенных Ганнибала, имевших доступ в его шатер, этого же рыжеволосого он видел впервые.
— Заходи, Дукарион, — сказал рыжеволосый, приподнимая полог шатра.
— Откуда ты меня знаешь? — удивился галл.
— Я новый телохранитель Ганнибала. Полководец предупредил меня, что ты явишься. Он поручил мне с тобой поговорить.
Дукарион не без тревоги переступил порог палатки. До сих пор Ганнибал еще ни разу не вел с ним переговоров через третьих лиц. Если полководец нуждался в его совете или хотел что-либо приказать, он вызывал Дукариона к себе. И это льстило галлу, возвышало его в глазах соплеменников. «Может быть, Ганнибал на меня сердит? — было первой мыслью Дукариона. — Или стряслась какая-нибудь беда?»
На коврике против входа, где обычно спал полководец, лежал меч Ганнибала, с которым он никогда не расставался. Но еще большее беспокойство вызвали две большие дыры в холсте, как раз над ковром.
Дукарион рванулся к незнакомцу.
— Скажи, что с Ганнибалом? Откуда эти разрезы?
— Успокойся, — сказал рыжеволосый, — присаживаясь на ковер. — Ганнибал жив. Заговорщики просчитались. Им было неведомо, что полководец и ночью не знает покоя.
— Кто же эти заговорщики? — воскликнул Дукарион.
— Следы ведут в палатки галлов, недавно набранных в войско. Это твои воины. Ты сам галл. Кому же, как не тебе, знать, почему галлы хотят убить полководца?
— Это поручил узнать Ганнибал? — спросил Дукарион.
— Да, это его воля... нет, просьба, — поправился рыжеволосый.
Дукарион задумался.
— Приходилось ли тебе когда-нибудь бывать в гостях — начал он после долгой паузы.
Рыжеволосый утвердительно кивнул головой.
— Тогда тебе должно быть известно, — продолжал Дукарион, — что хозяин рад гостю, когда тот не слишком долго засиживается. Гость должен знать меру и вовремя уйти, чтобы хозяину не показалось, что он хочет остаться в его доме навсегда.
— Я понял тебя, Дукарион, — сказал рыжеволосый. — Но, если хозяину надоест гость, не лучше ли прямо об этом сказать?
— Это так, — согласился Дукарион. — Но хозяин плохо знает своего гостя и боится, как бы его слова не вызвали гнева. Этим, — Дукарион показал на отверстия в шатре, — галлы предупредили Ганнибала.
— Что же ты посоветуешь ему сделать?
— Не мне давать Ганнибалу советы, но, если бы я был на его месте, я не стал бы дожидаться весны и немедленно двинулся на Рим.
— Спасибо тебе за совет, Дукарион, — молвил рыжеволосый. — Я всегда ценил твой ум и преданность.
— Ты? — удивился Дукарион. — Я тебя вижу в первый раз!
Рыжеволосый заметно смутился, пробормотал что-то невнятное, но потом, широко улыбнувшись, сорвал с головы парик.
Перед изумленным инсубром был сам Ганнибал.
— Не удивляйся, — сказал полководец, подбрасывая на ладони парик. — Я знаю, что ты мне друг... Погибнет римский консул — римляне изберут другого. Если же что-нибудь случится со мной, армия развалится. Магон еще молод, Газдрубал в Иберии. Поэтому в шатре Ганнибала будет жить его рыжеволосый телохранитель. Ты меня понял?
В АПЕННИНАХ
Покрытые лесом вершины Апеннин напоминали мохнатую спину готовящегося к прыжку зверя, и войско бесстрашно двигалось ему навстречу по узкой, извилистой дороге. Впереди шли слоны, за ними — ливийская, галльская и иберийская пехота. Колонну замыкала конница. Было ясное зимнее утро, и солнце играло на шлемах и начищенных до блеска щитах, на крупах нумидийских коней и на повозках, которыми снабдили Ганнибала галлы, довольные, что наконец избавляются от долго засидевшихся гостей.
Ганнибал решил покинуть равнину Боденка, не дожидаясь весны. Он знал, что римляне еще не успели оправиться от первых двух чувствительных ударов и чем раньше будет нанесен третий, тем значительнее надежда на успех.
Дукарион, хорошо знавший эти места, уверял, что войску в горах не угрожают ни пропасти, ни обвалы, ни нападения врагов. Апеннины — не Альпы. Это хорошо понимал и сам Ганнибал, решившийся на переход в зимних условиях.
Около полудня небо затянулось темной пеленой. С гор, охвативших дорогу полукругом, повеяло холодом. Ударил дождь пополам со снегом. Они бил воинам в лицо, не давая перевести дыхание. Брови и бороды забелели от инея. Сырые одежды и обувь закаменели.
Ганнибал приказал разбить палатки. Ветер срывал их. Они хлопали крыльями, как гигантские птицы. Вскоре с неба начали падать маленькие острые кусочки льда. Ганнибал и раньше слышал об этом грозном явлении природы, которое варвары называют градом, а теперь ему пришлось не только наблюдать его, но и ощущать удары льдинок по голове, прикрытой шлемом, по спине, по коленям. Закрыв голову руками, воины бежали к скалам, стремясь укрыться под их навесами. Только балеарцы оставались на тех местах, где их застиг град, и, закрыв глаза ладонями, смотрели вверх. Многие сняли с шеи шнуры, словно намереваясь помериться силами с невидимыми небесными пращниками.
— Развести костры! — слышались слова команды.
«Костры!» — повторяло эхо.
Ганнибал понимал, что сейчас только движение может спасти войско. Если не дать воинам работы, они превратятся в ледяные сосульки. Полководец кричал, приказывал, тормошил.
Воины начали собирать топливо. На склонах гор, нависших над дорогою, они мечами рубили кустарник, выламывали руками маленькие деревца.
Запылали костры. Воины совали ноги чуть ли не в самое пламя, кашляли от едкого дыма, терли слезящиеся глаза. Порывы ветра прижимали пламя к земле, поднимали снопы искр, обжигавшие лица воинов. Пришлось сесть спиной к ветру. Сверкала молния. Гром, повторяемый эхом, гремел с невиданной силой.
Буря прошла так же быстро, как и появилась. Небо очистилось от туч. Солнце осветило горную дорогу. И только тогда Ганнибалу стало ясно, какой страшный урон понесло войско. Напуганные падающими с неба кусочками льда, индийцы остановили своих слонов, и те бросились бежать, не разбирая дороги.
Только одному Рихаду удалось спасти своего Сура. Индиец прижался лицом к шершавой коже животного. Он чувствовал себя бесконечно одиноким в этой чужой дикой стране. Какое ему дело до Ганнибала и его намерений? Он выполнил все, что от него требовалось. И, если от стада в пятьдесят слонов остался один вожак, в этом не его вина.
Рихад гладил хобот животного. «Сур, викка», — шептал он. Сур — это частица его родины, лежащей где-то за морями, горами и пустынями, возможно потерянной навсегда.
Ганнибал приказал отступать к прежней стоянке. Глядя на спускающихся с гор карфагенян, можно было подумать, что они только что выдержали большое сражение: люди шатались от усталости.
ПОСЛЕДНИЙ СЛОН
Восходили Плеяды [61]. С юга подул влажный ветер, который называли здесь Фавонием. Ярко светило солнце, бурно низвергались с Апеннин потоки, заливая плоские равнины Этрурии. Пришла весна, стремительная и нетерпеливая, первая италийская весна, которую видел Ганнибал.
Говорят, что весна — это пора Танит. Прислушайтесь! Нет, это не вздохи влюбленных, а бульканье воды и хлюпанье грязи, всасывающей ноги и копыта, не свист соловьев, а тяжелое храпение лошадей и удары бичей по мокрым конским крупам. Весна — это время войны. Недаром римляне назвали ее первый месяц мартом: Марс, бог войны, потрясает своим деревянным копьем. Но этой весной у него достойный соперник — сам бог Мелькарт из знойной Ливии со своими горячими нумидийскими конями и смуглыми всадниками.
Войско ганнибала идет болотами Этрурии. Узнав, что вновь избранный консулом Фламиний загородил ему дорогу на Аримин, Ганнибал двинулся напрямик, через местность, залитую весенним половодьем.
Под Ганнибалом вздрогнула и зашаталась лошадь. Полководец соскочил, придерживая узду. Конь упал на колени. Последними отчаянными усилиями он пытался оторвать колени от земли. Еще несколько мгновений, и он бился на земле, в его огромных кротких глазах стояли слезы. Этот конь был подарен Ганнибалу отцом. Вспомнилось, словно это было вчера, как говорил отец: «Ты должен лучше всех скакать на коне. Сам Магарбал должен признать тебя лучшим наездником». Эти уже остановившиеся почти человеческие глаза видели пламя Сагунта, бурный Родан и снежные громады Альп. Ганнибалу казалось, что от него ушел один из его близких друзей.
С этими мыслями Ганнибал пересел на слона, которого подвел Рихад. Удивительно, как вынослив этот Сур! Он пережил всех слонов стада Рихада — огромные кости его индийских и ливийских собратьев белеют в Альпах и Апеннинах. Пройдут сотни, а может быть, и тысячи лет. Люди найдут эти кости, как Ганнибал нашел в Альпах череп слона. «Здесь жили слоны?» — удивятся люди. А догадаются ли они, что на этой земле в его пору не жили слоны, что этих слонов привел он, Ганнибал, выполняя завет отца. «Слоны должны растоптать Рим, — вы слышите, львята?» Так говорил отец на смертном одре. И Ганнибал услышал эти слова, хотя его и отца разделяло море. И он повел слонов на Рим, через широкие реки, через горы и болота.
Со спины Сура, как с высокой башни, было видно растянувшееся войско. За ливийцами и иберами тянулись галлы. После того как прошли тысячи ног, земля была истоптанной и вязкой. Галлы проваливались по пояс в ямы. Наверно, они охотно отказались бы от будущей добычи и пустились бежать домой. Хорошо, что сзади идет конница, которой командуют Магарбал и Магон. Они удержат беглецов силой.
Пять дней и пять ночей длился этот невиданный переход. Липкий пот покрывал лицо и тело Ганнибала. Может быть, дало себя знать напряжение зимних месяцев. Или он заболел лихорадкой, бичом этих мест. Говорят, местные жители воздвигают лихорадке алтари и молятся ей, как богине. Рихад, сидевший с ним рядом, прикладывал к пылающей голове Ганнибала тряпку, смоченную в болотной воде.
— Отец, — кричал Ганнибал, простирая вперед руки, — я не мог выполнить твое поручение! На пути стала Софониба. Масинисса ушел в степи, где пасутся слоны.
Рихад покачивал головой. Он понимал, что Ганнибал бредит. Он обращается к отцу, давно ушедшему в край предков, говорит о какой-то Софонибе. Но имя Масиниссы было знакомо Рихаду. Так звали юного нумидийца, сына царя Гайи. Рихад вспомнил, как Масинисса разрубил мечом канат, которым был привязан слон к столбу. Это было девять лет назад. И полководец помнит об этом своенравном юнце!
К утру индиец вздремнул. Он проснулся от прикосновения руки. Ганнибал что-то хочет сказать.
— А ты знаешь, Рихад, — сказал полководец, — мы с тобой потеряли больше всех: у тебя остался всего один слон, а у меня — один глаз.
Рихад повернул голову. Правый глаз Ганнибала сильно воспален. Но его еще можно спасти. Нужен отдых и лечение, которое рекомендует божественный Дживака [62].
Услышав этот совет, Ганнибал расхохотался:
— Предпочитаю иметь голову без одного глаза, чем тело без головы.
Индиец ничего не ответил. Он снял с себя черный матерчатый пояс и стал обматывать им голову Ганнибала.
Черная повязка придавала лицу полководца мрачное выражение, но в глубине души Ганнибал ликовал. Он добился цели: обошел Фламиния, не дал соединиться двум консульским армиям.
ТРАЗИМЕНСКОЕ ОЗЕРО
Утро было пасмурное. Огромная чаша озера дымилась, словно ее поставили на огонь. Густой серый туман медленно полз в горы, скрывая их очертания, заполняя долины и впадины, рассеиваясь на вершинах, едва освещенных солнцем. Ничто не нарушало тишины. Лишь изредка с низменных, покрытых редким тростником берегов слышались пронзительные и тоскливые крики птиц.
Но вот раздались еще какие-то звуки. Это был звон оружия, фырканье мулов, ржание лошадей, скрип колес, топот ног и грубые окрики центурионов, грозивших отстающим палками и призывавших на них гнев богов. Римское войско вышло на единственную дорогу, которая вела к Риму мимо Кортоны и огибала Тразименское озеро.
Фламиний скакал на белом коне. Он так торопился, что, объезжая знак легиона, толкнул его, и воинская святыня упала на землю. Это считалось плохим предзнаменованием, но Фламиний не обратил на него внимания, не остановил войско, не принес искупительной жертвы богам. Консул был охвачен мыслью о предстоящем сражении. Подобно всем недалеким людям, Фламиний считал, что противник должен действовать так, как это желательно ему самому, как это предписывается законами войны и здравым смыслом. В действиях Ганнибала он не находил логики. Можно понять, почему Ганнибал так торопится покинуть земли галлов: он не хочет обременять своих союзников постоями и поборами. Ясно, почему он болотами обошел дорогу и вышел в тыл: ему хочется дать сражение на ровной местности, а не в горах, где находится лагерь Сервилия. Почему же Ганнибал, выйдя на плоские поля Этрурии, поспешил на юг, оставил местность, столь удобную для действий своей конницы? Не намерен же он штурмовать стены Рима, имея в тылу четыре легиона Фламиния? Скорее всего, Ганнибал просто испугался, узнав кто возглавляет римскую армию. Эта мысль наполнила сердце Фламиния гордостью, он выпрямился и поправил свой позолоченный шлем.
Ему, чью родители были плебеями, Рим в дни смертельной опасности вручил свою судьбу. Ни один из этих патрициев, гордящихся восковыми изображениями своих предков, не достоин командовать даже центурией в его армии. Все они — Сципионы, Фабии, Метеллы — надулись от тщеславия и вот-вот лопнут, как лягушки из греческой басни.
Фламиний вспомнил, как после его победы над галлами сенат отказался дать ему конный триумф, придравшись к каким-то небесным знамениям. Теперь же, когда на Рим идут полчища Ганнибала, сенаторы стали в нем нуждаться, они заискивают перед ним, они ему льстят. Ничего, скоро им придется участвовать в его триумфальной процессии. Фламиний улыбнулся, представив себе, какую кислую мину состроит консул прошлого года Сципион, узнав, что им, Фламинием, разбит непобедимый Ганнибал.
Интересно, где теперь этот пун? Наверно, уже вышел на мою дорогу. Все равно, он далеко не уйдет. Для него и его воинов уже заготовлены колодки и цепи. Ими наполнены десять повозок.
Фламиний оглянулся. Обоза, двигавшегося в центре походной колонны, не было видно. Туман, ползший справа, со стороны Тразименского озера, густел, и скоро ничего нельзя было различить, кроме расплывчатых фигур воинов передового отряда.
И вдруг тихая местность огласилась нестройным гулом, шедшим откуда-то сверху. Град камней, туча копий посыпались на римлян.
«Засада?» — мелькнуло в мозгу у Фламиния, и в это же мгновение что-то тяжелое ударило его в голову.
Покачнувшись, он схватился за гриву коня, но конь, видимо раненый, захрипел и осел под ним.
Быстро соскочив с коня, чтобы не быть придавленным, Фламиний ощупал голову. Шлем куда-то упал, слева над ухом волосы слиплись, но кость, по-видимому, не была задета. Враги напирали. Туман мешал разглядеть, сколько их. Теснота и паника не позволяли развернуться в боевой строй. Застигнутые врасплох, римляне кинулись вправо и влево, но навстречу бежали воины других манипул, которых гнала карфагенская конница.
Многие бросились в озеро. Они надеялись добраться до островков, расположенных стадиях в четырех от берега. Пока было мелко, люди шли по дну. Поверх воды виднелись головы, плечи, руки с бесполезным оружием. Балеарские пращники устроили настоящую охоту на беззащитных людей. Камни и свинцовые шары догоняли римлян и в воде. Люди в ужасе пускались вплавь. Оружие и доспехи тянули их ко дну.
Другие искали спасения на неприступных кручах, скользили и падали. Крики наполнили местность. Воины молили врагов о пощаде и погибали под ударами.
Кое-где завязывался бой. Несколько десятков легионеров окружило консула. Черные, слипшиеся от крови волосы оттеняли измученное, бледное лицо.
— В строй, в строй! — кричал консул, размахивая мечом.
Легионеры, образовав полукруг, яростно отбивались от наседавших галлов. Римские щиты гудели от ударов мечей. Слышалось прерывистое дыхание уже утомившихся галлов. Дукарион был на коне. Он наблюдал за боем, защищая тыл своих воинов от неожиданного нападения.
И вдруг инсубр как-то неестественно выпрямился. Впившись глазами в римлянина без шлема, Дукарион воскликнул: «Это он!» — и направил коня в гущу сражающихся.
Солнце нагрело воздух. Туман рассеялся. Стали отчетливо видны небольшие островки в нескольких стадиях от берега и скалы на противоположном берегу. Магарбал с нумидийской конницей отправился в погоню за римлянами, которым удалось скрыться в тумане. Наемники приступили к «жатве» — так в войске называли сбор всего, что осталось на поле боя. Нужно не зевать, если хочешь себя вознаградить за раны и усталость.
Проворнее всех действовали галлы. Они не утруждали себя выворачиванием солдатских заплечных мешков, в которых едва что-либо найдешь, кроме зачерствевшей ячменной лепешки, бронзовой бритвы, зазубрившегося от долгого употребления ножа и двух-трех амулетов. Галлы бросались к военным трибунам, легатам и всадникам, носившим на третьем пальце правой руки золотое кольцо. Когда кольца не сходили с закостеневших пальцев, они рубили пальцы вместе с кольцами и бросали их в свои заплечные мешки. Если бы Ганнибалу вздумалось узнать, сколько римских начальников погибло в бою, он мог бы приказать галлам сосчитать собранные ими кольца.
По полю боя неторопливо шагал Тирн со своими пращниками. На плечах у всех балеарцев были тяжелые дубины. Балеарцев не интересовали пожитки и ценности покойников. Они боялись, что вещь мертвеца принесет им несчастье. Балеарцы искали трупы своих земляков, чтобы похоронить их по обычаям предков.
Вот еще один пращник, нашедший смерть в бою. Балеарцы оттащили его в сторону и перебили ноги дубинами. Теперь покойник не страшен: он не сможет явиться ночью и пугать живых. Но все же лучше завалить его могилу камнями. Так будет безопаснее.
С высоты холма Ганнибалу были видны вся дорога до закругленных холмов, огибавших озеро с севера, прибрежные камыши и спокойная серебристо-серая гладь озера. По облаку пыли можно было догадаться, что возвращается конница Магарбала. Вот уже видны всадники по обеим сторонам длинной колонны пленных. Судя по длине колонны, Магарбал захватил не менее пяти тысяч римлян. Но Ганнибал нетерпеливо вглядывался в даль. Может быть, он ждал Дукариона, которого послал найти труп консула? Да, ему хотелось взглянуть на человека, о котором он так много думал последнее время. Нет, это не тщеславие победителя, желающего насладиться зрелищем поверженного врага, а просто любопытство. «каков он этот Фламиний? Таким ли я его себе представлял?» Там, в низине, у самой дороги, воины уже роют могилу, в которую будет опущено тело консула. Пусть знает вся Италия, что он, Ганнибал, уважает храбрых и мужественных воинов, даже если они его враги.
Послышался конский топот. К Ганнибалу подскакал Дукарион. У галла было растерянное лицо.
— Обыскали все поле боя, тела Фламиния нет.
— Где же оно? — спросил полководец раздраженно.
— Не знаю, — ответил галл, пожимая плечами. — Я бы считал, что он скрылся, если бы сам не поразил его мечом.
Ганнибал ничего не сказал, но по его лицу было видно, что он недоволен.
Можно было подумать, что полководец расстроен только тем, что Дукарион не выполнил его приказания. Но Ганнибала тревожит другое. Он надеялся, что сразу после победы над римлянами к нему явятся старейшины италийских городов и предложат ему союз, продовольствие и воинскую помощь для похода на Рим. Но никто не являлся. Может быть, италийцы еще не знали о разгроме римлян или страх перед римлянами еще не выветрился после двух сражений и они ждут третьего?
ДИКТАТОР
Трепещут красные флажки на Яникуле [63]. Претор Манлий, в отсутствие консулов считавшийся главой государства, созывал народ на Марсово поле, где, согласно обычаям предков, граждане собирались по центуриям. Каждая из центурий состояла из сотни вооруженных граждан от семнадцати до сорока шести лет. Среди тысяч римлян, сходившихся в этот день на Марсовом поле со всех частей города и окрестных селений, был и молодой Публий. На нем, как и на других гражданах его центурии, был блестящий бронзовый панцирь. В правой руке его был круглый щит, у пояса висел короткий меч, называвшийся гладием. После битвы при Тицине он прибыл вместе с отцом в Рим. Теперь отец уже не консул, а только лишь сенатор. Прирожденная гордость патриция, презрение к таким выскочкам, как Фламиний, заставили Сципиона удерживать сына при себе. Сципион не мог себе представить, что его сын будет служить под началом какого-нибудь демагога, обязанного своим выдвижением не знатности рода и не собственной доблести, а хорошо подвешенному языку. «Поверь мне, говорил он Публию, — когда войско возглавит настоящий полководец, тебе не придется сидеть дома».
Публию казалось, что отец несправедлив к Фламинию. Разве человек виноват, что его предки не патриции и у него в атриуме не шкафа с их восковыми изображениями? Разве история Рима не знает примеров величайшей доблести людей незнатных? И разве сам Фламиний своими победами над галлами не показал себя достойным высшей в республике должности консула? И все же отец оказался прав. Фламиний погубил римское войско. Правда, виной этому не его плебейское происхождение, а самонадеянность.
Перед центуриями римских граждан показался претор Манлий, сопровождаемый шестью ликторами. Претор поднял руку, призывая к вниманию.
— Квириты! — начал он. — Вам известно, что не впервые наши доблестные легионы вступают в схватки с Ганнибалом. Но из донесений полководцев к сенату не всегда можно установить, каков исход сражения. До вчерашнего дня мы считали, что римское войско не одержало решительной победы, но и не потерпело поражения.
Публий покраснел. Он понял намек Манлия. Ни отец, ни Семпроний не сказали сенату и народу правды о битвах при Тицине и Требии.
— Теперь консул Фламиний мертв, — продолжал претор. — Он не мог послать донесение сенату. Но, будь Фламиний жив, ему бы не удалось скрыть от римского народа гибель легионов. Наше государство в опасности. Обычаями предков консулу дозволено назначить диктатора. В городе теперь нет консула. Сервилий со своими легионами находится дальше от Рима, чем Ганнибал. Взяв это во внимание, сенат предлагает вам, квириты, избрать диктатора. После тщательного обсуждения мы остановились на имени Квинта Фабия. Народу предстоит решить, достоин ли Квинт Фабий диктаторских полномочий.
Квинт Фабий! Публий не раз встречал этого невысокого, слегка сутулого римлянина. Фабий часто приходил к ним домой в дни праздников, один или с супругой. В шумной компании гостей Фабий казался самым незаметным. Говорили, что когда-то он воевал в Сицилии и в землях лигуров, но сам Фабий никогда не рассказывал о своих победах. Фабий предпочитал слушать других и даже при явном неправдоподобии рассказов, когда трудно удержаться от неловкой улыбки, на лице его не было ничего, кроме доброжелательного внимания. Публий обратил внимание на то, что Фабий все делал с достоинство — здоровался, ел, мыл руки. В поведении его не было ничего напускного и неестественного. И все же Публий представлял себе иным человека и полководца, который победит Ганнибала. Он должен быть сильным, решительным, бесстрашным.
Народ приступил к голосованию. Первыми голосовали восемнадцать центурий всадников. Это были самые богатые граждане, которые, по обычаю предков, обязаны приходить в войско вместе с конем. Теперь многие из этих «всадников» не смогли бы сесть на коня без помощи раба. Это были крупные землевладельцы и торговцы, ростовщик и откупщики государственных налогов. «Всадник» стал почетным титулом, дающим право голосовать первым и носить на пальце золотое кольцо.
Вслед за всадниками голосовали центурии первого класса, к которому принадлежал и Публий. Граждане первого класса единодушно поддержали кандидатуру Фабия.
Вновь избранный магистрат должен был произнести речь перед народом. Обычно в этой речи благодарили за оказанное доверие и обещали приложить все усилия, чтобы его оправдать. Все ждали, что скажет диктатор.
Фабий предстал перед народом во всем величии своей власти — в пурпурной тоге, в окружении двадцати четырех ликторов. Речь диктатора была краткой:
— Квириты! Не трусостью ваших братьев и сыновей объясняются наш поражения, а пренебрежением к богам. Консул Фламиний не потрудился принести им жертвы, вопросить их об исходе сражения. Чтобы умилостивить богов, я даю обет принести им в жертву весь приплод коз, свиней, овец и коров, которых вскормят к концу весны горы, равнины, луга и пастбища Италии, и устроить состязания в музыке, поэзии и драматическом искусстве, употребив на это триста тридцать три тысячи сестерциев и триста тридцать три с третью динария.
Обвинения против Фламиния показались Публию смехотворными. Как консул мог принести жертву перед битвой, когда враги внезапно напали на войско? И все же Публий находил речь диктатора мудрой. Народ должен думать, что поражения вызваны не воинским искусством Ганнибала, не храбростью его воинов, а нерадивостью консула в отношении к богам. Виновный найден, и приняты меры для завоевания милости богов. Диктатор даже продумал цифру расходов: всем ведь известно, что у римлян «три» — счастливое число, как у пунов «семь».
Собрание окончилось. Римляне расходились по домам. Со стороны реки слышались глухие удары. Воины разбирали свайный мост через Тибр.
У БЕРЕГОВ АДРИАТИКИ
Колеса закрытой повозки, в которой дремал утомленный полководец, загремели на чем-то твердом и легко покатились по ровному месту.
Ганнибал приподнял полог и высунул голову наружу.
— Стой! — крикнул он воину, правившему лошадьми.
Это была первая мощеная римская дорога, которую ему пришлось видеть. И названа она именем человека, нашедшего смерть в бою, — Фламиниева дорога. Римляне строили основательно. Дорога должна была соединить Рим с галльскими землями, облегчить их захват и ограбление. Римляне, привыкшие к тому, что являются господами Италии, не могли думать, что их дорогой может воспользоваться кто-нибудь другой. Через три дневных перехода Ганнибал может стоять у стен ненавистного города, протянувшему, подобно спруту, щупальца своих дорог. Но нет, еще рано. Люди утомились. Износились одежда и обувь. Хромают кони.
— Этот прямой и ровный путь не для нас, — сказал Ганнибал, опуская полог. — Нам нужно найти к Риму свою дорогу.
Впереди показалась сверкающая полоса, сливающаяся на горизонте с небом. Вот уже можно разглядеть похожие на цветки лилий паруса. Море! Впервые за долгие месяцы блужданий в горах и лесах близкая и родная сердцу каждого карфагенянина стихия. Море было видно из любой части великого города, и, казалось, оно обнимало свое детище. Море было матерью Карфагена, а флот — его колыбелью. Недаром предков Ганнибала называли номадами морей. Их крутобоким гаулам были послушны бури и ураганы. Удивленные упорством моряков, они склоняли перед ними седые головы своих валов. В каких только бухтах не бросали гаулы якоря! Какими товарами не заполнялись алчные пасти их трюмов! С какими народами не вступали в схватки моряки! Часто они уносили в свой город изогнутые, как слоновьи бивни, носы вражеских кораблей, трофеи своих побед. Но море изменило Карфагену, переметнулось на сторону римлян. Одно поражение тяжелее другого терпел карфагенский флот в прошлой войне. И самый страшный позор — гибель морской славы родины — видели скалы Эгатских островов.
Больше нечего было испытывать судьбу. Это впервые понял Гамилькар. Он повернулся к морю спиной и стал искать счастья на суше. У Карфагена не было флота, и отец повел войско в Иберию сушей. Он создал это разноплеменное войско и завещал Ганнибалу сухопутную войну. И разве это не чудо — лучшие в мире моряки были разбиты новичками, не державшими в руках весла! А теперь моряки бьют на суше непобедимую римскую пехоту. Да, отец был прав. Боги моря изменили Карфагену. У них теперь новые любимцы. Но не все еще потеряно. Есть еще боги гор, лесов и степей. С их помощью мы одержим победу. Так думал Ганнибал, глядя на раскинувшееся перед ними море.
Больные и ослабевшие воины лежали на берегу, блаженно вытянув стершиеся в кровь ноги. Волны с глухим шумом покрывали прибрежные камни, то скрывавшиеся под водою, то снова показывавшие свои черные блестящие спины. Воины были благодарны морю, овевавшему их своим свежим ветром и успокаивавшему голубизной. Они не задумались над тем, почему море изменило Карфагену.
Балеарец Тирн ощупывал рукой кожаный пояс, в котором зашиты были все его сбережения — двадцать «коней» [64]. «Еще десять коней, — думал Тирн, — и можно будет обзавестись хозяйством. Неплохо бы прикупить пару рабов. Пусть они пашут землю. Я же с отцом буду охотиться на коз».
Галлы из отряда Дукариона орали какую-то песню. Они уже успели заглянуть в погреба прибрежного селения. В глиняных бочках было столько вина, что его не выпить и за год.
— Чего ему пропадать зря, — сказал Дукарион. — Выкатывайте бочки на песок. Будем купать лошадей в вине.
Это предложение было встречено радостным ревом.
— Купать в вине! В вине! — зашумели кельты, вскакивая, и нестройной толпой бросились к погребам.
Ливийцы по приказу Ганнибала снимали с повозок римское оружие, захваченное у Тразименского озера. Ганнибал убедился в превосходстве римского вооружения. Римский меч был короче карфагенского. Его клинок из прочного металла имел заостренный конец. Таким мечом удобнее поражать врага в ближнем бою. Жаль, что нельзя использовать грозные римские пилумы. Их длинные и тонкие наконечники согнулись при ударе о щиты и доспехи. Римский щит немного громоздок, но зато он закрывает почти все тело. Доски щита обтянуты холстом и телячьей кожей, обиты железными полосами, защищающими от ударов. Хороши и римские панцири из металлических полос.
На песке выросли целые холмы из оружия. Его хватило бы не на одну армию. Но Ганнибал распорядился дать римское оружие лишь ливийцам, наиболее опытным и преданным ему воинам, а оставшееся бросить в море, чтобы им не воспользовались враги.
Сам Ганнибал с группой карфагенян в маленькой бухточке осматривал два небольших корабля, которые местные жители называют «либурнами». Он ходил по палубе, заваленной канатами, проверял крепление парусов и прочность весел, осматривал тесный трюм, куда могло поместиться не более десяти бочек пресной воды и двух десятков кожаных мешков с мукой. На одном из этих либурнов в Карфаген отправится Магон. Надо сообщить в Карфаген и в Иберию, что Ганнибал с войском находится на берегу Адриатического моря, в Апулии, и ждет помощи для окончательного разгрома врага. Ганнибалу нужны нумидийские кони и всадники. Если их нет у Гайи, может быть их пошлет Сифакс. Может быть, теперь, после битвы при Тразименском озере, царь массилов одумается и поймет, что от римлян ему нечего ждать.
ВСТРЕЧА В ТЕАТРЕ
Это были последние дни пребывания Публия в Риме. Скоро ему предстояло отправиться в легион Фабия. Так решил отец перед отправлением в Иберию. А пока Публий бродил по городу, опустевшему и поэтому еще более прекрасному. Пусть другие восторгаются широкими и ровными кварталами Александрии [65], мраморными лестницами и дворцами Пергама [66]. Сципиону нравились кривые улочки Рима, где все дышало стариной, форум, где рядом с курией и царским домом находилась убогая хижина, считавшаяся жилищем самого Ромула. А сколько преданий, трогательных по своей наивности, связано с каждым пригорком, каждой улицей города! Все здесь переносит тебя в прошлое, и порой кажется, что судьбами города вершат возвышенные героические тени. Их голоса слышатся и в порыве ветра, шелестящего листьями старой смоковницы, и в криках птиц, гнездящихся в полуразрушенных башнях.
Во время своих странствий по городу Публий забрел в театр, где, согласно обету диктатора, проходили состязания в драматическом искусстве. Театр занимал один из склонов Палатинского холма. В ту пору в Риме не было постоянного театрального сооружения со сценой и орхестрой, специальными местами для зрителей. У подножия холма находился грубо сбитый дощатый помост с навесом. Зрители располагались где кто хотел. Сенаторы, боясь выпачкать свои белоснежные тоги, стояли, плебеи сидели прямо на траве или на принесенных из дому подстилках.
Ставили пьесу Ливия Андроника «Ахилл». Это было переложение на латинский язык божественной гомеровской речи, настолько далекое от подлинника, как земля от неба. Поэт, явно желая польстить римлянам, считавшим себя потомками троянцев, изобразил Гектора таким могучим героем, что Ахилл, вопреки «Илиаде», бежал от него без оглядки и, наверно, погиб бы бесславной смертью, если бы какой-то юнец в белом, спустившийся с крыши навеса по веревке, не нанес в спину троянского героя предательский удар. Этот юнец, очевидно, изображал богиню Геру [67]. Зрители без должного уважения к супруге Зевса бросали в нее огрызки яблок и куски лепешек, которые они предусмотрительно захватили с собою: представление длилось весь день, до заката солнца.
Шум голосов заставил Публия обернуться. Сверху, немного прихрамывая, спускался человек лет сорока. На нем была не первой свежести тога. Щеки были покрыты густой щетиной. Можно было подумать, что незнакомец находится в трауре [68]. Однако взгляд у него был скорее радостным, чем грустным.
Плебеи при виде незнакомца вскочили со своих мест и шумно его приветствовали.
— Будь здоров, Гней Невий! Иди к нам!
— Благодарю вас, друзья! — Незнакомец приложил руку к груди. — Простите, что я в таком виде. В тюрьме не дают ничего острого. Стиль [69] мне заменил воображение, а папирус — память. А вот бронзовую бритву не заменишь ничем.
— Твои стихи острее бритвы! — крикнул кто-то из плебеев. — Недаром Метеллы боятся показаться на комициях. Ты их так отбрил, что им не поздоровилось.
"Так вот он какой, Невий! — думал Публий. — Вот он, гроза нобилей и враг Метеллов. Его ядовитые стихи против этого знатного рода были у всех на устах, но Публий помнил из них лишь одну строку: «Злой рок дает Метеллов Риму в консулы».
Сципион перевел взгляд на сцену.
Там появился шатер Ахилла. Греческий герой размышлял вслух о своей неминуемой гибели, которая должна наступить после совершенного им великого подвига — победы над Гектором. В шатер вступил старец с разметавшимися седыми волосами. Это некогда могущественный царь Трои — Приам, а ныне несчастный отец, согбенный годами и горем. На глазах у Приама Ахилл убил Гектора и, привязав его тело к колеснице, трижды объехал вокруг города.
У зрителей вырвался протяжный стон при виде страдальца. Победитель и побежденный. Ахилл и Приам. Лютые враги. Но они смертные. Они люди. Их ждет одна и та же дорога в Аид и челн Харона. Общая судьба всех человеческих поколений. Старец припал к рукам Ахилла. Он целует руки убийцы своего сына. Ахилл не оттолкнул старца. По щекам греческого героя льются слезы. Ахилл и Приам обнялись и плачут вместе.
Веками певцы будут прославлять победу над врагами, правители государств будут награждать победителей венками и водружать на площадях их статуи. Но есть еще более великий подвиг — человечность. Он торжествует над злом, которое причиняют смертные друг другу, над враждою и распрями, над жестокостью богов и даже над судьбою.
Не потому ли даже в переложении Ливия Андроника эта сцена, созданная великим Гомером, так волнует Сципиона.
— Прости меня, — обратился Публий к своему соседу. — Я слышал, что тебя называли Гнеем Невием. Мне хотелось бы узнать твое мнение о пьесе и игре актеров.
— Игра? Разве это игра! — воскликнул Невий. — Слышишь, как дрожит у Ахилла голос? Ты думаешь, от жалости к несчастному Приаму? От страха! Раб, играющий Ахилла, боится, если публика будет недовольна представлением: его так отдерут, что он неделю сидеть не сможет. Этого боятся и другие актеры. Однажды во время представления моей «Федры» публика так стала орать и свистеть, что эдил приказал прервать пьесу. Тут же, на глазах у зрителей, ликторы сорвали с актеров одежды, в дело пошли розги. И это зрелище понравилось публике больше, чем сама пьеса. Можно сказать, что зрители были в восторге. «Бей Федру! Поддай Ипполиту!» — слышались возгласы. Можно подумать, что свист розог для зрителей приятнее пения сирен.
— Ты прав, — согласился Сципион. — У римских квиритов грубые вкусы. Из всех зрелищ им милее всего кулачный бой. Но театр ведь и создан для того, чтобы воспитывать зрителей. Недаром греки называли его «школой для взрослых». Чтобы учить народ, нужны трагедии и комедии из его жизни. Риму нужны свои поэты.
— О каких поэтах может мечтать Рим, когда он не терпит правды! Ты, наверно, знаком с комедиями афинянина Аристофана. Какой только бранью не осыпает Аристофан Клеона! А ведь комедии Аристофана писались и ставились при жизни Клеона. Клеон, к каждому слову которого прислушивался народ, присутствовал на представлении «Всадников» и узнавал себя в наглом кожевнике. Все Афины смеялись над Клеоном. Что же было после этого с Аристофаном? Ему отрубили голову? Бросили в тюрьму? Высекли розгами? Нет, его наградили лавровым венком! Поэтому в Афинах были Аристофаны и Эврипиды. А Риму достаточно и Ливия Андроника.
— Но Рим имеет не одного Андроника, — возразил Сципион. — У Рима есть и Гней Невий. Рим любит его стихи о войне с пунами. Кто не знает этих строк: «Они предпочитают пасть на этом месте, чем к землякам вернуться со стыдом и срамом». Рим ждет от Невия поэмы о войне с Ганнибалом.
— Пусть об этой войне напишет мой внук.
— Твой внук? — удивился Публий. — А сколько ему лет?
— Один месяц. Он родился в тот день, когда меня бросили в тюрьму.
— Что же он будет знать о Ганнибале и о войне с ним? Римские полководцы будут известны ему лишь понаслышке.
— Вот и хорошо. О старине писать безопаснее. А еще лучше обратиться к грекам. Но и тут надо остерегаться, чтобы какой-нибудь римский нобиль не узнал себя в «хвастливом воине» [70]. Ты советуешь писать о войне с Ганнибалом, но что мне сказать о Сципионе и Семпронии, выдавших свои поражения за победы?
Публий густо покраснел.
Приняв молчание и смущение юноши за отсутствие у него возражений, Гней Невий продолжал:
— Да, Сципионам и Семпрониям не понравилась бы моя поэма, если бы я вздумал ее написать. Ею был бы больше доволен Ганнибал. Вот кто недурно играет свою роль. А ты знаешь, мне жалко оставлять такой сюжет моему внуку. Может быть, мне действительно заняться им самому? Но удобно ли писать о том, чего не видел? Что я знаю о Ганнибале? Он дал клятву быть вечным врагом Рима. И у него один глаз.
— Когда мы встретились, у него было два глаза, — сказал Публий. — Но и я, пожалуй, знаю о Ганнибале не больше тебя.
— Ты видел Ганнибала? — удивился поэт.
— Публий Корнелий Сципион Младший! — раздался голос глашатая.
— Публий повернулся:
— Прощай, меня зовут.
— Ты сын консуляра? [71] — удивился Невий. — Какой же я осел! Никогда не отделаюсь от привычки говорить с людьми, не узнав их имени.
— Не беспокойся! — сказал Сципион. — Меня не может обидеть правда. Я рад, что познакомился с тобой, и буду еще более счастлив, если нам удастся встретиться и продолжить разговор. Прощай!
В РИМСКОМ ЛАГЕРЕ
Фабий шагал между рядами полотняных палаток, освещенных лунным светом. Уже месяц, как он избран диктатором, и за это время он не провел ни одной спокойной ночи. Вместе с почетом и властью должность диктатора принесла ему волнения и бессонницу. Италия, разбитая в нескольких сражениях, потерявшая уверенность в собственных силах, вручила Фабию свою судьбу. Она ждет избавления от полчищ Ганнибала, а что она ему дала для победы! Несколько тысяч наскоро обученных военному делу поселян. С ними он должен победить опытных иберийских и ливийских пехотинцев, страшную нумидийскую конницу.
Впереди на валу виднелся силуэт часового, опирающегося на копье. Фабий вспомнил свою юность, римский лагерь в Сицилии у горы Эрикс. Как тогда все было просто для него. Дождаться смены и спать. А теперь он не знает покоя ни днем, ни ночью, словно Италия поставила его своим недремлющим стражем.
С вершины холма, на котором был разбит лагерь, виднелись равнина, расплывчатые очертания оливковых рощ и виноградников. Там враг, сильный и коварный. Может быть, Ганнибал сейчас тоже не спит и готовит войску новую западню. Ганнибалу не терпится как можно скорее закончить войну: ведь он на чужбине и каждый день отнимает у него силы и не прибавляет новых. Он нетерпелив, этот африканец, у него горячая южная кровь. В борьбе против него лучшее оружие — терпение.
Из палаток доносится богатырский храп воинов. Легионеры устали. Почти каждый день им приходится разбивать новый лагерь. Выкапывать рвы, обкладывать вал дерном, обносить его частоколом. А в тот день, когда не надо строить лагерь, находится другая работа — чистить оружие смесью уксуса и мела, молоть зерно на хлеб.
В одной из палаток не спали. Говорили двое. Фабий прислушался.
— Сколько мы будем здесь торчать, как куры на насесте? Можно подумать, что наша овечка заботится о том, чтобы нам было виднее, как одноглазый опустошает Италию!
«Овечка», — с усмешкой подумал Фабий, — мое школьное прозвище. И это им известно".
— Чего от него ждать? — послышался другой голос. — Он хочет ускользнуть от Ганнибала за тучами и облаками. Вот Минуций — настоящий орел. Будь он диктатором, от пунов осталось бы мокрое место.
Фабий медленно зашагал к преторию. «Кто эти люди, отзывающиеся обо мне с таким презрением? — думал он. — Землепашцы из Этрурии или пастухи из Самния? Вражеское нашествие лишило их крова и семьи. Они рвутся в бой, забывая о судьбе Фламиния и его армии. Да простят боги их заблуждение. Уместно ли думать об обидах, когда решается судьба отечества! Честолюбие уже погубило Фламиния. Пусть они считают меня трусом или предателем. Это не заставит меня отступить».
Фабий задремал к утру. Но сон его был недолог. Снаружи слышался шум. Кто-то хотел его видеть, а ликтор не пускал.
— Иди к легату! — кричал он. — Диктатор еще спит.
— Я уже был у легата! — доказывал незнакомый голос.
Фабий, накинув тогу, вышел наружу. К нему, прихрамывая, шел худощавый человек лет сорока. Фабию показалось, что он где-то его видел.
— Будь здоров! — сказал незнакомец.
— Я тебя слушаю, — ответил диктатор.
— Я буду краток, Возьми меня к себе в войско.
— Тебе лучше бы остаться дома. Походы и бои не для тебя.
— То же самое ответили спартанцы, — сказал незнакомец, переходя на греческий язык, — хромому афинскому учителю Тиртею... А потом...
— Можешь не продолжать, — прервал Фабий. — Я знаю, что ты скажешь дальше, Гней Невий. Потом Тиртей написал свои воинственные элегии, и они вдохнули в воинов мужество, спартанцы разбили врагов. Но я не нуждаюсь в твоих элегиях, Гней Невий. Ты немного опоздал. Тебе бы лучше обратиться к Фламинию.
— Разве твоим воинам помешает мужество в эти тяжелые для Рима дни?
— Бывает разное мужество, — уклончиво ответил диктатор. — Поэты воспевают воинов, рвущихся в бой, а я учу легионеров воздерживаться от сражений. Недаром меня называют овечкой. Теперь понимаешь, что тебе здесь не место?
— Нет, именно теперь я понял, что должен быть с тобой, ибо кому, как не поэту, известно, что высшее мужество — идти вопреки общему мнению, встречая насмешки и клевету. Тебя называют в Риме «Медлитель», но ты заслужил имя «Величайший». Я уверен, что потомки так тебя и назовут [72].
И СНОВА МОРЕ
В тот день Сципиона вызвали в сенат. Нет, его не отправляли в армию, как он решил тогда в театре. Ему дали более опасное и почетное поручение. Это задание можно было доверить лишь молодому, энергичному человек, а не какому-нибудь неповоротливому сенатору с трясущимися от старости руками. Предстояло отвезти в Цирту, к союзнику римлян нумидийскому царю Сифаксу, послание сената. Выбор пал на юного Сципиона. Он должен был плыть на корабле Килона, считавшегося самым смелым моряком тирренского побережья.
И снова море качало его на своей груди, снова о борт триеры били волны; поднимая брызги, кувыркались дельфины, черноголовые чайки стремительно падали вниз, задевая крыльями гребни волн.
Триера подняла якоря в начале второй стражи, а на рассвете слева по борту показался лесистый полуостров. Над лесом, над голубыми скалами поднимались здания со сверкающими белыми колоннами.
— Анций! — воскликнул словоохотливый грек. — Видишь, там храм Нептуна, а правее — святилище Эскулапия. Здесь я принес в жертву серебряную руку, и Эскулапий возвратил твоему отцу здоровье.
— Где ты только не был, Килон! — молвил не без иронии Сципион. — Я не удивлюсь, если когда-нибудь узнаю, что ты побывал в подземном царстве и, подобно Одиссею, вернулся оттуда живым.
— У меня с Одиссеем много общего, — подхватил, нисколько не смутившись, Килон. — Мы оба родились на острове, нас обоих преследовали боги своей завистью и гневом, мы оба были нищими, нас покидали друзья... Правда, есть в наших судьбах одно различие, — добавил Килон после некоторой паузы.
— Что ты имеешь в виду? — спросил Сципион с улыбкой.
— Одиссея ждала его благодетельная супруга двадцать лет, у меня же, благодарение богам, нет никакой Пенелопы. Зачем моряку Пенелопа, когда у него и так много хлопот! Смотри, чтоб не налететь на скалу, не попасть в бурю, не напороться на пиратов, чтоб в трюме не завелись крысы, чтоб ракушки не облепили киль, чтоб не прогнили канаты и не лопнула рея. А когда удастся всего этого избежать, приходит какая-нибудь новая напасть. Например, тебя вызовут в Рим и прикажут: «Килон, плыви в Нумидию». Легко им, просиживающим свои тоги до дыр, говорить «плыви»! Сейчас война, и, если карфагеняне узнают, кто у меня на борту, они не посмотрят, что я мирный грек. Мое место там! — Килон свистнул и показал не рею.
— Но ты ведь сам выбрал профессию, связанную с риском. И, если это так, тебе нечего упрекать сенаторов за то, что они поручили тебе рискованное дело. Если ты благополучно доставишь меня в Рим, получишь двести золотых.
— Куда они мне, золотые! — воскликнул Килон. — Для уплаты Харону [73] хватит и медного асса, а наследников, благодарение богам, у меня нет. Вот что: если меня вздернут на рею, а тебе удастся возвратиться в Рим, купи на деньги, которые мне обещаны, столько вина, сколько могут выпить все моряки Капреи [74], когда они ожидают восхождения Плеяд и в их кожаных мешочках не колотится ни один асс. Обещаешь?
— Обещаю! — ответил Сципион. — Но только в том случае, если мне удастся доставить послание сенату Сифаксу.
Промелькнул островок у устья небольшой речки. Это была Астура — место уединенного отдыха римской знати. Отсюда уже был различим залитый солнцем мыс Цирцеи, а за ним — мыс Мизен.
С Мизена берег, подобно жемчужной нити, сверкал пятнами городов и вилл. И эти пятна то сливались в сплошную линию, то расходились, разделяясь зеленью оливковых рощ. В глубине Куманского залива виднелась меловая вершина Везувия, курчавившаяся виноградниками. А правее — Флегрейские поля, за которые, как говорят, сражались боги и гиганты. А что оставалось делать людям? Люди следовали примеру богов. Каких только завоевателей не видели эти берега, эти горы, окружившие Кампанию каменным амфитеатром! Этруски, греки, самниты, римляне, а теперь пуны. Перед отъездом из Рима Публий слышал, что в Кампанию долиной Вольтурна движется Ганнибал. Может быть, он сейчас уже в Капуе? А Фабий? Опять отступает? Неужели он отдаст пунам и этот очаровательный край?
Корабль вошел в сверкающе серые воды пролива, отделяющего Салернский полуостров от Капреи. Это была родина Килона. Какими словами грек ни описывал красоты своего родного острова, но все меркло перед живыми красками, перед очарованием зеленых и каменистых холмов, вписанных в голубое небо.
Южнее Салерна берег стал выше и перешел в темные закругленные холмы. Это была суровая Лукания. Здесь уже можно было опасаться встречи с кораблями пунов. Триера шла по ночам. Днем она стояла на якоре в укромных бухтах Бруггия, у западного берега Сицилии. Сципион любовался красавицей Этной, поднявшей свою гордую седую голову над зелеными полями Сицилии. Наверно, с вершины Этны виден Карфаген. Но никому, кроме мудреца Эмпедокла, не удалось взобраться на Этну. Как говорят, на другой день Этна выплюнула его сандалию.
У Эгазы, одного из Эгатских островов, триеру настиг сторожевой корабль пунов. Килон приказал спустить паруса.
— Что везешь? — крикнул пун в красном плаще, когда корабли сцепились бортами.
Сципион обратил внимание на полное лицо и оттопыренные уши пуна.
— Мир тебе, добрый человек! — отвечал Килон. — Приятно встретиться в море. Бывало, плывешь неделю подряд — и ни одного паруса. А с этими варварами, — он показал на Сципиона и стоявших с ним рядом матросов, — разве поговоришь!
— Не мели языком, — остановил карфагенянин это поток речи, — скажи толком, откуда и куда плывешь и что у тебя в трюме?
— Клянусь Гераклом, — продолжал хитрый грек, — с тех пор как Ганнибал и его воины спустились с Альпов, подобно богам, в нашем Неаполе можно жить. Римляне налогов не берут, солдат на постое нет. У меня виноградники под Везувием. В вине хоть купайся. Вот и везу в Карфаген двадцать пифосов [75] на продажу.
— А вино-то доброе? — смягчился пун.
Грек прищелкнул языком:
— Фалернское!.. Эй, ты, — обратился он к матросу, сбегай в трюм принеси сюда запечатанную амфору.
Через несколько мгновений Килон передавал амфору пуну.
— Не пей сразу, — советовал он ему, — вино надо остудить и выдержать неделю.
— Прощай, — сказал пун. — Держи правее, если не хочешь напороться на скалу. А встретишь наши корабли, скажи, что знаешь Гескона. Тебя не тронут.
— Да будут к тебе милостивы боги! — отвечал грек и дал знак поднимать паруса.
Ветер погнал корабль и вскоре триера пунов превратилась в крошечный белый цветок, покачивающийся на горизонте.
Килон стал дико хохотать.
— Что с тобой? — спросил Сципион.
— Фалернское! — Грек давился от хохота. — Попробует он моего фалернского!
У СИФАКСА
Расположенная на плато с отвесными склонами Цирта имела доступ через узкий перешеек с юго-запада. Видимо, сейчас городу никто не угрожал, и на единственной дороге к нему Сципион не встретил ни одного воина. Сам Сципион в хитоне, каким его снабдил Килон, легко сошел за греческого купца, которых было немало в царстве массасилов.
У городских ворот Сципион остановил юный воин с пучком волос на макушке. Узнав, что перед ним римский посол, нумидиец повел Сципиона по городу. Судя по почтительным взглядам и поклонам, которыми провожали нумидийца и его спутника горожане, проводник Сципиона был не простым воином.
Вскоре они подошли к дому, выделявшемуся среди соседних зданий большой плоской крышей. На крыше было разбито нечто вроде цветника или сада. Сципион слышал, что в Карфагене богатые люди приказывают своим рабам натаскивать на крыши землю и сажать цветы и деревья. Видимо, Сифакс во всем подражал пунам.
Внутренность царского дома еще более убедила Сципиона в правильности своего первого наблюдения. Стены и пол были покрыты коврами, которые так любят пуны. Немногочисленные слуги носили такие длинные одежды, что полы их волочились по земле, а пальцы рук были едва видны из-под широких рукавов. Сципион невольно вспомнил рабов в доме своего отца. Туники выше колен не мешали им работать и двигаться.
Впрочем, сам царь, восседавший на троне, был в нумидийской одежде. На голове его была корона из перьев. Юноша, сопровождавший Сципиона, предложил ему подойти к царю.
Сципион молча протянул Сифаксу свиток. Царь медленно читал послание сената. На покрытом морщинами лице Сифакса не отражалось никаких чувств, словно его не трогали ни упреки в неверности своему обещанию, на которые не скупились сенаторы, и не прельщали те богатства, какие ему сулились в обмен за несколько сотен всадников.
Сифакс встал с трона и положил свиток на стол. Пергамент свернулся и стал похож на древко копья.
— Я хорошо знаю твоего отца, — сказал Сифакс, подходя к Сципиону. — Он пожаловал ко мне в тот год, когда иберы убили Гамилькара Барку. Твой отец был тогда в должности претора.
— Эдила, — поправил Сципион, вспоминая рассказ отца о посольстве к Сифаксу.
— Да, Эдила, — продолжал Сифакс тем же невозмутимым тоном. — Он был еще совсем молодым человеком. Но стоило с ним поговорить, чтобы понять: этот человек пойдет далеко. Я рад, что сенат послал ко мне тебя, сына консула. А есть ли у твоего отца еще сыновья?
— У меня есть брат Луций, — коротко ответил Сципион. Его начало волновать, что Сифакс, вместо того чтобы дать прямой ответ на просьбу сената, пустился в расспросы о его отце и близких.
Сифакс переменил тему разговора.
— Нет на земле народа коварнее пунов, — начал он издалека. — Не хватило бы дня, чтобы исчислить все обиды и притеснения, которые мне пришлось вынести от пунов. Правда, с тех пор как они начали войну с вами, они подобрели. Они сулят царство Гайи моему сыну Вермине. — Сифакс показал на юношу, приведшего Сципиона во дворец. — Но мне известно, что они давно уже обещали отдать царство Гайи Масиниссе.
— А кто такой Масинисса? — спросил Сципион, притворившись, будто он впервые слышит это имя.
— Боги, — отвечал Сифакс, — даровали Гайе долгую жизнь, но дали ему лишь одного сына. Да и тот, поссорившись с отцом, покинул дворец и скитается где-то в стране чернокожих. Я знаю цену их обещаниям и словам! — продолжал Сифакс гневно. Вся моя надежда на то, что вы им свернете шею, а я помогу вам во всем, что в моих силах. Ровно через неделю я тебе сообщу, сколько смогу дать тебе всадников. Мы подумаем о кораблях для доставки их в Италию. В моей столице нет воинов. Они находятся на границе с владениями Гайи.
Разговор был закончен. В сопровождении Вермины Публий отправился в дом, где его ждали еда и постель. Спать! Впервые за все эти дни быть спокойным, что не проснешься в оковах на корабле пунов. Публий мог быть доволен результатами первой беседы с царем. По-видимому, Сифакс ничего не знал о поражении Фламиния или это поражение не изменило его прежнего доверия к Риму и его мощи.
СТЕПИ МАСИНИССЫ
Трудно было подумать, что Ганнон, да, сам Ганнон, вызовется вести переговоры с Сифаксом. Недоумевал не только Магон, прибывший в Карфаген по поручению Ганнибала, но многие рабби, считавшие себя близкими к Ганнону людьми. Зачем Ганнону понадобилось отправляться к Сифаксу просить всадников для армии Ганнибала, если он совсем недавно предрекал гибель этой армии и страшные бедствия Карфагену? Зачем он предложил сыну своего врага Магону отправиться к Сифаксу вместе? Возможно, на Ганнона подействовало известие о битве при Тразименском озере. Или он боялся, что ему не достанется ничего из того потока добычи, который, как все понимали, скоро хлынет из Италии.
Во всяком случае, Ганнон отправился к Сифаксу. Вместе с отцом была Софониба. Прошло пять лет с того дня, как у храма Танит девушка встретила Масиниссу. Какие удивительные события произошли за эти годы! Армия, руководимая Ганнибалом, перешла через покрытые льдами горы и вторглась в Италию. На равнинах этой принадлежащей римлянам страны происходили сражения, за которыми следил затаив дыхание весь мир. Отзвук этих грозных событий едва доходил за каменную ограду дворца Ганнона. С тех пор как Ганнон прогнал из дома Масиниссу, Софонибе стало казаться, что кто-то бросил между нею и отцом камень [76]. Софониба уходила, когда отец, по своему обыкновению пространно и утомительно, развивал перед нею свои планы. Что ей до Италии, о которой стал часто говорить отец! Ее сердце по-прежнему блуждает в стране Масиниссы. И, когда эта страна казалась потерянной навсегда, отец объявил свое решение: они едут в Нумидию.
Так вот они, степи Масиниссы, травы по колено, табуны полудиких, необъезженных коней, гряда синеватых гор на горизонте! Казалось, эти горы звали девушку к себе, обещая ей счастье. Птицы, распластав крылья, парили в небе. Если бы дать Софонибе их крылья, она бы нашла мапалию, где ее ждет Масинисса. И никто бы их не разлучил!
На границе владений массилов Ганнона и его свиту встретила кавалькада всадников. Этот плотный, широкоплечий человек — сам царь Сифакс. Он смотрит на девушку изумленным и восторженным взглядом. Сифакс не слышит и отца, который просит у царя каких-то всадников. Отец, неужели ты не видишь, не понимаешь, что люди, которые так смотрят, отдадут не только всадников, но все, что ты попросишь, и даже больше того, о чем ты можешь мечтать!
Ганнон взглянул на дочь. «Не бойся, дружок, — говорит его взгляд. — Я не собираюсь иметь своим зятем варвара. Но зачем лишать варвара надежды, если из этого можно извлечь пользу?»
В этот же день к Сципиону явился Вермина.
— Я по поручению отца, — сказал он. — Отец просил передать, что он не может выполнить твою просьбу.
Это было настолько неожиданно, что в первое мгновение Сципион не мог вымолвить ни слова.
— Но он мне обещал! Я хочу видеть Сифакса.
— Это невозможно. И тебе лучше всего покинуть Цирту, если не хочешь оказаться в плену. Сейчас у нас гости из Карфагена.
Сципион понял, что дальнейшие разговоры бесполезны. Видимо, Сифакс узнал о поражении Фламиния или что-нибудь еще заставило его изменить своему слову. Надо добираться до моря, где его ждет корабль Килона.
Стадиях в десяти от столицы Сифакса Сципион услышал далекий стук копыт.
В первое мгновение пришла мысль: погоня. Но, внимательно вглядевшись в далекий столб пыли, поднимаемый конскими копытами, Сципион понял, что за ним не могут послать отряд в две или три тысячи всадников. Всадники приближались. Это нумидийцы. Уже видны их черные непокрытые головы и острия копий.
Сойдя с дороги, Публий лег в яму, покрытую высохшими, шуршащими листьями. Отсюда его не увидят, а он сам сможет осторожно наблюдать.
Впереди скакал карфагенянин в красном плаще поверх лат. Где-то он видел это лицо с энергичным подбородком и твердо сжатыми губами. Да это ведь Ганнибал! Таким он был у Тицина, когда рассеялось облако пыли и он встретился лицом к лицу с римлянами.
Нет, Ганнибал не может покинуть свое войско. Ганнибал сейчас в Италии. Кто этот пун, это двойник Ганнибала?
Проскакал передовой отряд, уже не видно лица карфагенянина, видна лишь его спина, развевающийся по ветру красный плащ.
Кем бы ни был этот двойник Ганнибала, ему удалось добиться того, чего не удалось Сципиону. Сифакс обманул его, дав всадников Карфагену. Но почему он это сделал? Почему?
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГАННИБАЛ У ВОРОТ
ОГНИ НА ВЫСОТАХ
Ночь обещала быть спокойной. Уже сменилась вторая стража [77]. В стане пунов тихо. Видно, Ганнибал раздумал покидать Кампанию. Наверно, она пришлась ему по душе. Где он найдет лучшее место для зимнего отдыха? Правда, Капуя не открыла своих ворот пунам, однако известно, что капуанская чернь только и ждет случая, чтобы впустить их в город. Но что это такое? Во мраке загорелись огни. Их становится все больше и больше. Нет, это не костры. Огни двигаются. Море огней. Оно залило всю равнину и скоро достигнет высот, господствующих над тесниной, где стоят в засаде четыре тысячи легионеров. Возглавляющему их военному трибуну казалось, что войско пунов выступило с факелами, что пуны хотят захватить высоты, чтобы обойти отряд с тылу. Нет, он этого не допустит! Разделив легионеров на две группы, военный трибун скомандовал им идти на сближение с врагом.
— Что стали? Ячменного хлеба захотели? [78] Вперед! — кричал он, размахивая прутом.
Стараясь быть незамеченными, римляне карабкались вверх. Ноги скользили. Воины падали, цепляясь за ветви какие-то колючих растений, обдирали локти и колени. Здесь склоны были круче, чем там, где поднимались карфагеняне. Но вот враг уже близок. Римляне занесли копья и остановились в недоумении. Навстречу им бежали обезумевшие от страха быки с привязанными к рогам пучками горящего хвороста. Ветер раздувал огонь, подхватывал искры. Быки мотали головами, пытаясь сбросить эти движущиеся вместе с ними костры. Откуда-то сзади доносились гортанные выкрики погонщиков, щелкание бичей, воинственные возгласы воинов. Быки идут не сами. Их гонят вверх пуны. Но как сразиться с ними, если врагов отделяют быки? Быки идет прямо на римлян. Они обдают их своим жарким дыханием, задевают влажными боками. Это мирные быки, привыкшие тянуть плуг и тащить огромные повозки с сеном или дровами. Коварным пунам было мало того, что они заставили сняться землепашцев со своих насиженных мест и оставить могилы своих предков: они взялись за верных друзей землепашца — быков. Прячась за их спины, они хотят добиться победы.
Опасаясь новой хитрости, римляне бросились бежать и на склоне горы наткнулись на легкую конницу карфагенян. От полного истребления их спасла лишь темнота.
Огни на высотах были видны и Фабию, но он с присущей ему осторожностью приказал своим воинам оставаться на местах. Когда рассвело, римляне увидели заполнившее дорогу войско пунов, непрерывную вереницу нагруженных телег, запряженных лошадьми и мулами. Пуны уже прошли через теснину, оставленную римским отрядом.
По приказу диктатора у претория были собраны воины, поставленные в засаде. Они стояли понурив голову. У них были спутанные волосы, руки и ноги в царапинах, одежда в репьях. Вместо того чтобы оставаться на месте, преграждая путь неприятелю, они, обезумев, ринулись на скалы, очистив врагам дорогу.
Фабий стоял в окружении своих ликторов, каждый из которых был чуть ли не на голову выше его.
— Римский народ облек меня огромной властью, — сказал Фабий, указывая на ликторов. — Вы видите эти фасции с воткнутыми в них топорами? Но знайте, что вам не угрожает ни смерть, ни позорное наказание. Я готов простить ошибку каждому из вас, но не себе. Одни боги могут решить, достоин ли я той власти, которую мне доверили сенат и римский народ. Я отправляюсь в Рим, чтобы, по обычаю предков, вопросить богов об их воле. В мое отсутствие вами будет командовать Минуций.
Диктатор повернулся и медленно зашагал к преторию. Воины провожали его взглядом. Среди них был и Гней Невий. Но Гней Невий, казалось, ничего не видел и не слышал. Образы теснились в его мозгу и наполняли все его существо звучанием рождающихся строк. В этих строках — блеск ночных звезд над перевалом и море огней, мычание быков и их жаркое дыхание, ярость боя и тишина, в которой прозвучали слова диктатора. Так начиналась поэма, которую Гней Невий не уступит никому. Он создаст ее сам, если только боги сохранят ему жизнь. Разве эта война менее значительна, чем та, которую описал Гомер? Потомки Энея, спасшегося бегством из горящей Трои, бьются насмерть с правнуками Дидоны [79]. Они хитры и мстительны, эти азиаты! Но что он еще знает о них? Гомер был греком, но враги греков, троянцы, не злодеи, а живые люди. Они отважны, умны, добры, благородны. Они любят своих отцов и жен, они радуются и страдают. Гомер был греком. Но как ему удалось проникнуть в души врагов? Или он находился долгие годы в их стане и подглядел слезы на глазах у Приама? А может ли он, Гней Невий, соперничать с Гомером, если он не видел ни одного живого пуна и сражался не с пунами, а с быками, с мирными быками, обезумевшими от боли!
ВТОРОЙ ДИКТАТОР
Нет, это не было то хорошо знакомое многим время Конса [80], когда над полями плывет веселый гул голосов, когда сверкают серпы и от их прикосновения валятся спелые колосья, когда на гумнах громоздятся золотые холмы соломы, а по дорогам громыхают повозки, запряженные сытыми, украшенными гирляндами цветов мулами и лошадьми.
Пуны покинули свой лагерь ночью. В руках у них были фалькаты и веревки. Они крались к чужому полю, чтобы снять чужой урожай. Но те, кто срезал колосья и связывал веревками снопы, были не жнецами и вязальщиками, а ворами, и их ждала смерть, достойная воров. Об этом позаботится сам Конс.
Поистине эта ночь должна быть отмечена белым камешком [81]. Когда пуны, нагруженные снопами, были почти у ворот своего лагеря, над их головами засверкали мечи. Стоявшие в засаде воины Минуция напали на врагов, рассеяли их, обратили в бегство.
Слух об успехе Минуция быстро достиг Рима. Народные трибуны, и среди них родственник начальника конницы Метилий, решили собрать плебеев для обсуждения государственных дел.
— На форум! На форум! — кричали глашатаи, обходя улицу Башмачников, кварталы Булочников, Медников, Позолотчиков, площади Слесарей и Гончаров [82].
Люди в туниках, вымазанных глиной и сажей, с руками в тесте и копоти, с волосами, подвязанными шнурками, покидали мастерские и узкими, извилистыми улицами текли к сердцу города — римскому форуму.
— Квириты! — торжественно начал свою речь Метилий. — Поздравляю вас с победой. Начальник конницы Марк Минуций вчера напал на неприятелей, опустошавших селения Апулии. Убито свыше сотни пунов и еще столько взято в плен. Наши воины показали, что они научились не только строить укрепленные лагеря и отходить без потерь, что считает своей главной заслугой диктатор Фабий, но и умеют обращать врагов в бегство.
Площадь вздрогнула от рукоплесканий. Сенаторы, окружавшие Фабия, съежились, испуганные этим выражением неодобрения диктатору. Но сам Фабий стоял в той же невозмутимой позе.
— Теперь вы знаете, кто виноват в наших бедствиях, в горе, которое обрушилось почти на каждую семью. Нобили с самого начала затеяли эту войну, чтобы лишить народ всех прав и подчинить его власти одного человека. А теперь они умышленно затягивают войну, чтобы сохранить власть Фабия. Стоило Фабию ненадолго покинуть войско, и одержана победа. А если мы откажемся от диктатора и изберем в консулы достойных людей, пунам не продержаться в Италии и одного дня.
Гул одобрения прокатился по площади.
— Верно! — кричали плебеи. — Долой Медлителя!
Под возмущенный рев толпы на трибуну пробирался Фабий. Народ не дал ему говорить, заглушая слова его свистом и выкриками: «Трус! Предатель!» Это было невиданное зрелище единодушного осуждения его плана ведения войны. Терпение плебеев иссякло. Поля крестьян опустошены отрядами Ганнибала, горожане страдали от дороговизны, неотступной тени войны. Народ требовал решительного сражения с Ганнибалом, и среди римских сенаторов находились люди, которые поддерживали это требование. Все чаще называлось имя Теренция Варрона, обещавшего положить конец войне.
Наконец Метилию удалось успокоить толпу.
— Я не буду отвечать на вздорные обвинения, — начал диктатор. — Я оставил Минуцию войско с тем, чтобы он не ввязывался в сражение. Он нарушил приказ и будет наказан моей властью. Больше мне нечего сказать.
Поднялся невообразимый шум. Всем было известно, что диктатору дозволено заключать граждан в оковы и казнить их без суда.
— Квириты, не выдавайте Минуция! — кричал Метилий. — Лишим Фабия власти и вручим ее тому, кто хочет спасти Рим!
В этот день народ принял невиданное в истории Рима решение: Минуций был избран диктатором с теми же правами, которыми обладал Фабий.
Фабий тайно от всех покинул Рим и отправился к своему войску. Он застал своего бывшего подчиненного раздувшимся от непомерной гордости.
— Давай будем командовать по очереди, — предложил он Фабию, — день я, а день ты.
Фабий отрицательно покачал головой.
— Лучше разделим легионы, — ответил он. — Я оставлю себе первый и четвертый, ты возьми себе второй и третий.
— Будь по-твоему, — охотно согласился Минуций. — Только знай, что я не буду прятаться от врагов. Где только возможно, я стану их бить и преследовать.
— Это твое дело, — холодно ответил Фабий. — На то ты и диктатор. Только не забывай, что ты одержал победу над Фабием, а не над Ганнибалом.
Так в Апулии появилось два римских лагеря, в каждом из которых было по два легиона. Ими командовали враждующие римские полководцы. Это узнали пуны. Ганнибал зорко следил за действиями римлян, выжидая своего часа.
Между лагерем Минуция и Ганнибала возвышался холм, которым было нетрудно овладеть. Он мог бы стать отличным местом для лагеря. Равнина вокруг подножия холма, лишенная растительности, издали казалась гладкой, но на самом деле имела небольшие рвы и углубления. Ночью Ганнибал рассадил часть своих воинов по рвам и ямам, а на рассвете открыто отправил небольшой отряд занять холм. Внушить неприятелю ложное представление о своих намерениях — было главное в искусстве Ганнибала. Видя малочисленность неприятеля, Минуций выслал на холм легкую пехоту, потом всадников и наконец, заметив, что Ганнибал идет на помощь своим, двинулся всем войском в боевом порядке. Минуций на сомневался, что пуны собираются захватить холм для устройства на нем лагеря.
Завязалось ожесточенное сражение. Оно шло с переменным успехом, пока Ганнибал не подал сигнал своим воинам. Они вскочили разом и с громким криком ринулись на врага. Последние ряды римлян были изрублены. В легионах Минуция поднялось неописуемое смятение.
Фабий наблюдал за всем происходящим с высоты лагерного вала. Заметив, что римлян окружают, что их ряды смешались, он в досаде хлопнул себя по бедру.
— Клянусь Геркулесом! — воскликнул он. — Минуций погубит себя куда скорее, чем я предполагал! Эй, трубачи! Играйте тревогу!
С развернутыми военными значками манипулы выходили из лагеря. Пуны, зашедшие в тыл к Минуцию, сами оказались под угрозой окружения. Они дрогнули и побежали. Римское войско было спасено от неминуемого разгрома.
В этот же день Ганнибал шутливо заметил друзьям, удивленным отвагой и мужеством римского полководца:
— Я не раз предсказывал, что эта туча, обложившая вершины, в один прекрасный день разразится грозою с ливнем и градом.
ПАВЕЛ И ВАРРОН
Доложив о неудаче своей миссии сенату, Публий направился в Апулию, где находилось войско. Им уже командовал не Фабий, ставший после окончания шестимесячного срока своей должности частным человеком, а вновь избранные консулы.
Дорога в Апулию пролегала через разоренный пунами Самниум. Селения встречали путника мертвой тишиной. Не слышалось гоготанья гусей, блеяния овец, мычания коров. Скот и птица были уведены пунами или прирезаны жителями, не желавшими оставить свое добро врагу. Женщины, справлявшиеся с хозяйством с помощью немногих уцелевших рабов, смотрели на каждого путника с тревогой и настороженным любопытством. «Когда же, — говорили их взгляды, — когда же вернутся наши мужья и сыновья? Когда Италия будет свободна от вражеских полчищ?»
В римский лагерь близ Канн Публий прибыл на рассвете. Лагерь напоминал настоящий город. Немногие города Италии могли соперничать с ним численностью своего населения. На улицах, образованных белыми палатками, можно было встретить и старых римских друзей, и сотни незнакомых лиц. Слышалось ржание коней, крики мулов, звуки точимых о камни мечей. В одних туниках воины бежали к Ауфиду, чтобы смыть в ледяной воде остатки сна. По другую сторону реки виднелся вал и частокол меньшего римского лагеря. На свайном мосту, охраняемом всадниками, сновали фигуры. Было видно, что войско переживает тревожные предгрозовые минуты.
У трибунала Публия окликнул консул Эмилий Павел. Ему уже за сорок лет, но у него лицо без единой морщинки, мягкие округленные губы. Глядя на его лицо и белые руки с длинными тонкими пальцами, трудно было поверить, что этот человек посвятил почти всю свою жизнь служению Марсу, что он еще юношей участвовал в битве при Эгатских островах, а затем воевал против иллирийцев и сардов [83].
— С каким ветром, Публий? — бросил консул. — Где всадники Сифакса?
Слушая рассказ Сципиона, консул озабоченно покачивал головой.
— Это очень печально! — произнес он тихо, когда Публий рассказал о своей неудаче. — Сейчас даже тысяча всадников оказала бы нам незаменимую услугу. Тебе ведь известно, что конница Ганнибала превосходит нашу и по численности и по выучке. А в мире нет всадников лучше нумидийских... Я устал бороться с моим коллегой, — продолжил Эмилий Павел после короткой паузы. — Он рвется в бой, как некогда Фламиний. А здесь совершенно открытая местность, умножающая преимущества конницы. А впрочем, что ему местность! — Эмилий Павел безнадежно махнул рукой. — Еще в Риме, на форуме, не сняв мирной одежды, он предсказывал день сражения. Я согласился стать консулом лишь по просьбе Фабия. Фабий надеялся, что мне удастся удержать моего коллегу от пропасти, куда его неудержимо влекут два коня — невежество и тщеславие. Но мне удастся скорее одолеть Ганнибала, чем Варрона, и порой я чувствую, что мне здесь не подчинен никто, кроме моих ликторов... А ты был у Варрона? — спросил вдруг Эмилий Павел.
— Нет, — отвечал Сципион. — Но разве недостаточно, что я говорил с тобой?
— Я вижу, ты не знаешь, — сказал с улыбкой Эмилий Павел, — что мы командуем войском по очереди: день я, день он. Как раз сегодня день Варрона. Консул должен знать о результатах твоей поездки.
Сципион не сразу проник в преторий. Варрон принимал легатов, из палатки доносился его резкий голос. Наконец консул освободился и вышел из претория.
Перед Публием был рослый мужчина с грубыми, словно высеченными из камня, чертами лица и красной, изрытой морщинами шеей. На первый взгляд он был похож на центуриона, всю жизнь отдавшего воинской службе. Однако Сципион слышал, что Варрон в войске недавно и своему возвышению обязан дерзким нападкам на нобилей, снискавшим ему любовь городской черни. Поле сражения казалось Варрону тем же форумом, на котором он был как у себя дома, а победа, как он полагал, всегда принадлежит тому, за кем большинство. А большинство в эти дни шло за Варроном!
— Что бы нам дали всадники Сифакса? — воскликнул Варрон. — В наших лагерях восемьдесят три тысячи? Никакой! — ответил он сам и взмахнул рукой. — Посмотри, какое здесь поле, а моему коллеге хочется в горы. Пример Медлителя, его друга, не дает ему покоя. А сколько еще можно ждать? Сколько можно еще избегать схватки?
Слушая Варрона, Публий вспоминал разоренные деревни Самниума, незасеянные поля, тревожные взгляды поселянок. Да, это так. Италия больше не хочет ждать, и тысячи людей сказали бы вслед за консулом:
«Довольно уходить от схватки! Пора скрестить мечи!»
Но почему ему так не нравится грубый голос консула и его манера размахивать рукой так, будто он намерен вколотить в собеседника свои мысли? Почему он задает вопросы и отвечает на них сам, не давая другому раскрыть рта? И, наконец, разве пристало полководцу заниматься такими подсчетами — восемьдесят, сорок, восемьдесят три? Ведь он не в таверне своего отца на форуме!
— Завтра день моего коллеги, — закончил Варрон, — а затем мой. Прислушивайся, юноша: скоро запоют трубы!
КАННЫ
Это была та же равнина, которую Ганнибал наблюдал вчера с пригорка, но теперь вся местность, от большого римского лагеря на этом берегу реки до малого на противоположном, была заполнена войсками и блеском оружия в косых лучах утреннего солнца. В центре большого лагеря, над преторием, как пламя, полыхало большое пурпурное полотнище. Римляне решили дать сражение, и они об этом объявляли открыто, они бросали вызов. Из северных ворот по направлению к мосту, соединявшему оба берега и оба лагеря, двигались все новые и новые манипулы. Никогда Ганнибалу не приходилось видеть такое огромное войско. Ближе к реке строилась римская конница, правее — ее пехота. Глубина строя превосходила его ширину. Левый фланг занимала конница римских союзников. Из малого лагеря выходили легковооруженные отряды и становились впереди пехотинцев.
— Вот оно, войско! — воскликнул Магарбал. В голосе его были ужас и удивление. — Никому из смертных не приходилось сражаться с такой колоссальной армией!
Но есть еще более удивительная вещь, которую ты не заметил, — спокойно сказал полководец не оборачиваясь.
— Что же это? — нетерпеливо спросил Магарбал, приподнимаясь на стременах и вглядываясь в том направлении, куда смотрел полководец.
— А то, — продолжал Ганнибал так же спокойно, — что в этих десяти легионах нет ни одного человека, которого звали бы Магарбалом.
Шутка Ганнибала была встречена взрывом хохота. Карфагеняне радовались, что их полководец так спокойно смотрит в глаза опасности.
Солнце уже поднялось высоко, когда карфагенская армия перешла Ауфид и приняла тщательно продуманный Ганнибалом боевой порядок. На левом крыле, упиравшемся в берег, против римской конницы Ганнибал поставил галльскую и иберийскую конницы. Справа к ней пристроились колонны ливийцев. В лучах солнца вспыхивали острия копий и начищенные бляхи панцирей. Ливийцы были в римском вооружении, доставшемся Ганнибалу у Тразимена, и походили бы полностью на римлян, если бы не пестрые туники, видневшиеся из-под лат. В центре расположились обнаженные до пояса галлы со своими длинными, закругленными на конце мечами. Рядом с ними были иберы с короткими отточенными мечами и круглыми, сплетенными из сухожилий щитами, в белых туниках. Издали одежды иберов сверкали, как покрытые льдом и снегом скалы в их родных Пиренеях. На правом фланге стояли другие колонны ливийцев, а на самом краю — конница, которой командовал Магарбал. Нумидийцы привстали на стременах, напряженно вытянув шею. Их руки судорожно вздрагивали. Лица выражали безумную жажду боя.
Сквозь промежутки в рядах ливийцев и галлов выбежали балеарцы. Засвистели каменные и свинцовые ядра, раздался треск щитов, которые выставили перед собою римляне.
Тирн, по своему обыкновению, не торопился. Он снял с шеи самый длинный шнур и отыскал глазами в римском пешем строю всадника в блестящем шлеме с перьями. Такой же точно шлем он видел на поле боя у Тразименского озера. Шлем был из чистого серебра, и, говорят, он принадлежал самому Фламинию. Вложив в шнур свинцовое ядро, Тирн занес руку назад и молниеносно выбросил ее вперед вместе со шнуром. Человек в блестящем шлеме закачался и упал. Так же не торопясь Тирн надел на шею шнур и зашагал к своим.
— Тирн, ты убил консула! — вопили ливийцы.
Но балеарец ничем не показывал своей радости, хотя в глубине души ликовал. За убитого консула Ганнибал обещал пять слитков серебра.
В бой вступили всадники на левом крыле карфагенской армии и на правом — римской. Но здесь сражение менее всего походило на битву конницы. Нельзя было обойти противника ни слева, ни справа. Этому препятствовали река и своя же пехота. С громким криком воины стаскивали противников с коней. Все смешалось в смертельной рукопашной схватке. Уцелевшие римские всадники были оттеснены и обратились в бегство.
Иначе сложились дела в центре боевого порядка. Сначала ряды галлов и иберов стойко выдерживали натиск римлян. Впереди бился Дукарион. Его обнаженный торс возвышался над телами пораженных им врагов, ноги скользили в крови, а длинный меч, которым он рубил наотмашь, сверкал, как молния. Но вот уже ни сбоку, ни сзади нет никого из галлов. Он остался один, и на него движется новый римский строй. Римлян ведет человек с окровавленной головой. Нет, Тирн не убил консула, а только ранил его. У Эмилия Павла есть еще силы, чтобы бить и гнать врага.
Галлы и иберы отступали в беспорядке. Как и всегда в сумятице боя, они не знали, что делалось справа и слева от них. Им казалось, что отступало все войско. Оглядываясь, они видели лишь направленные на них неумолимо сверкающие острия мечей и гони в окровавленных сандалиях, шагающие через трупы. «Все кончено! — в ужасе думал Дукарион. — Вот она, смерть!»
Но римляне почему-то остановились. Ровный ряд их мечей изогнулся и задрожал, заколебался и стал отползать назад.
Случилось то, что предвидел один Ганнибал. Бегущие галлы и иберы втянули за собой римлян в середину его армии. Его ливийцы, его гордость и надежда, стояли на месте плечом к плечу. Они только развернулись вполоборота, так что их мечи были направлены на фланги наступающих и уже уверенных в своей победе римлян. Теперь карфагенский строй напоминал полумесяц, и его рога грозно охватывали римлян, сжимали их в железном кольце.
Но у римлян была еще конница на правом фланге. Им ничего не стоило прорвать в одном месте кольцо, выйти из окружения и короткими сильными ударами сзади разбить его на отдельные части. Но вместо этого римляне спешились. Пехотинец, посаженный на коня, не становится всадником! Кони мешали римлянам. А отступать, когда рядом бьется пехота, мешало им чувство долга и товарищества. Лучше умереть на месте, чем бежать!
Ганнибал, видя, как римляне спешиваются, воздел руки к солнцу, уже перевалившему через середину неба.
— О Мелькарт! — воскликнул полководец. — Благодарю тебя, что ты лишил врагов своего божественного разума, что ты отдал их мне со связанными руками и ногами!
Римское войско было окружено. Впрочем, теперь оно походило не на войско, а на беспорядочную толпу объятых ужасом людей. Они уже не слышали команды. Они устремлялись туда, где, как им казалось, можно уйти от неминуемой смерти, но повсюду наталкивались на вражеские копья и мечи. Спасением им представлялся римский лагерь на правом берегу Ауфида. Там остался обоз и несколько тысяч воинов. Но этот лагерь за рекой. И все бегут к реке.
Сципион сталкивался с беглецами, отбивался мечом от римских же всадников, пытавшихся пробиться сквозь людскую толщу и давивших копытами раненых. У реки Сципион увидел сидящего на камне человека. Он зажимал руками лицо, и кровь струилась по его пальцам и заливала тогу. Римлянин отнял руки, и Публий узнал Эмилия Павла. Публий бросился к раненому консулу, чтобы его поднять. Но Павел отстранил его.
— Не надо, — еле слышно прошептал раненый. — Не трать времени. Возвести сенаторам, чтобы они укрепили город. А Фабию передай, что я остался верен его наставлениям.
— Богам не нужна твоя смерть, Эмилий, — сказал Сципион. — Ты один только неповинен в этом несчастье. Дай мне руку, я помогу тебе сесть на коня.
Эмилий Павел покачал головой:
— Позволь мне умереть консулом среди моих воинов. Это лучше, чем предстать перед сенатом в роли обвиняемого.
Последних слов Сципион не расслышал. Толпа беглецов подхватила его и оттеснила от умирающего. Вот Сципион уже у реки. Холодная вода Ауфида обожгла его и отрезвила. Он понял, что спасение не на том берегу, где рыскали вражеские всадники, а в самой реке. Плыть, куда несет течение, плыть, покуда хватит сил.
На поле боя опустилась ночь. Луна скрылась за тучами, словно и для нее было невыносимо это страшное зрелище. С тех пор как она освещает землю, еще не погибало сразу столько людей.
...Как только рассвело, Ганнибал вышел из шатра. Он окинул взглядом поле боя. Римляне лежали тысячами, пехотинцы и всадники вперемежку, кого с кем соединила смерть. Некоторые, приведенные в чувство утренним холодом, приподнимались из груды трупов. Обнажив шею, они просили смерти, как милостыни.
Балеарцы, берберы и галлы поодиночке и группами в несколько человек обходили поле боя. Они добивали раненых, снимали с мертвых золотые украшения и серебро — с лошадиных сбруй. Поодаль под охраной всадников пленные рыли ров. В нем будут похоронены все восемь тысяч воинов армии Ганнибала, павших в битве с римлянами.
Несколько всадников окружило Ганнибала. Это были его соратники и брат Магон.
— Друзья, — обратился к ним Ганнибал, — об этом сражении будут говорить наши внуки и правнуки. Теперь нам надо отдохнуть и собраться с силами.
— О каком ты говоришь отдыхе! — вспылил Магарбал. — Нельзя медлить ни одного мгновения. Я отправлюсь вперед с конницей, а ты с остальной армией следуй за мной. Через четыре дня мы будем пировать на Капитолии.
Ганнибал задумчиво покачал головой:
— Еще рано.
— Когда же? Когда? — воскликнул Магарбал. — Или ты хочешь, чтобы и эта великая битва не имела последствий? Может быть, ты намерен променять Карфаген на Италию, как твой отец променял его на Иберию?
— Еще рано! — повторил Ганнибал более твердо. — А за готовность выступить на Рим благодарю.
— Я вижу, что боги не дают всего одному человеку! — грустно сказал Магарбал. — Ты, Ганнибал, научился побеждать, а пользоваться победой не умеешь.
Ганнибал ничего не ответил. Повернувшись, он медленно зашагал к берегу, где нумидийцы сгоняли в кучу пленных. Вскоре Ганнибала догнал Магон. Братья молча шли рядом. У реки они остановились, чтобы рассмотреть пленных. Многие из них были ранены, у всех были усталые, безучастные лица. Внезапно из колонны пленных вышел человек лет сорока пяти с худым, обросшим щетиной лицом. Он смотрел на Ганнибала с таким любопытством, словно тот был не человеком, а богом.
— Тебе что-нибудь нужно? — спросил Ганнибал на ломаном латинском языке.
— Можешь говорить со мной по-гречески, — молвил пленник.
— Ты эллин? — Ганнибал перешел на греческий язык.
Пленник молчал, но так же не отводил глаз от Ганнибала.
— Что же ты молчишь? Если ты не римлянин, я тебе дарую свободу.
— Я Гней Невий, — ответил пленник, — у меня три естества. Когда я вспоминаю о римлянах, захвативших мое кампанское поместье, я их проклинаю на кампанском языке. Когда я радуюсь тому, что остался жив, молюсь музам на языке эллинов. Но стихи пишу по-латыни.
— Я вижу, ты поэт?
— Да, меня называли поэтом, пока я, питаясь крохами с пиршественного стола Гомера, сочинял трагедии для театра. Но, с тех пор как я написал стишки о Метеллах, меня просто называют Невий, а иногда добавляют: «тот Невий, который сидел в тюрьме».
— Что же тебя заставило пойти в войско, если римляне так плохо к тебе отнеслись?
— Я хотел видеть тебя. Поэт должен знать героев своей поэмы. Я пишу поэму о войне.
— Вот у меня и свой поэт! — воскликнул Ганнибал, обращаясь к сопровождавшему его Магону. — Помнишь наши уроки с Созилом? Что осталось от Александра, кроме написанных о нем книг? Может быть, обо мне узнают из стихов этого римлянина, или грека, или кампанца, ибо этот человек утверждает, что у него три естества. Отведи его в обоз, и пусть ему там дадут три лепешки и три чаши доброго вина.
— Хорошо, что он знает только три языка, — вставил с улыбкой Магон. — Знай он столько языков, сколько ты, пришлось бы ему выпить целый пифос.
— Отведешь его и возвращайся, — закончил Ганнибал. — Мне надо с тобой поговорить.
По тону Ганнибала Магон сразу же догадался, что ему снова предстоит путь в Карфаген. На этот раз ему не хотелось покидать Италию. Ганнибал вскоре вступит в Рим. В этом после Канн Магон не сомневался. Магону хотелось быть свидетелем позора римлян.
В БОЛЬШОМ СОВЕТЕ
В первый же день своего прибытия в Карфаген Магон отправился в Большой Совет. Брат поручил ему рассказать об одержанной победе и просить подкрепления.
Рассказ Магона прерывался рукоплесканиями и радостными выкриками рабби. Казалось, что все они разделяют те чувства, которые переживал он сам, участник и очевидец великой битвы. Но это было не так.
К возвышению для ораторов шел Ганнон. Его глубоко посаженные глаза смотрели жестко и презрительно, губы были искривлены насмешливой улыбкой.
— Не раз мы слышали здесь о победах, которые одерживал Ганнибал, — начал Ганнон, подняв вверх ладонь. — Совсем недавно нам докладывали о великой победе у какого-то озера, варварское имя которого не удержала моя память. Но я прекрасно помню, что тогда Ганнибал просил у нас пять тысяч всадников, и я сам отправился за ними к моему другу Сифаксу. Теперь же нам говорят о величайшей победе. И на этот раз требуют вдвое больше конницы, вдвое больше денег. Еще одни Канны, и наш город останется без казны и без войска.
В зале раздался смех, послышались выкрики:
— Правильно, Ганнон!
Окрыленный поддержкой, Ганнон продолжал:
— Я понимаю, Магон, победа ослепляет. Еще твой отец упрекал меня, что я преувеличил число мятежников, убитых и взятых мною в плен. Возможно, ошибался. Но слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы за один день было истреблено сорок пять тысяч воинов? И, наконец, не объяснишь ли ты нам, как в такой огромной массе мертвецов твой брат сосчитал погибших римских сенаторов и всадников?
Магон подошел к столу суффектов и бросил на него холстяной мешок, завязанный сверху кожаными тесемками. Все в зале затихли, полагая, что в этом мешке захваченные во вражеском лагере свитки со списками воинов или другие неоспоримые доказательства сообщенных Магоном цифр.
Магон рванул тесемки, и оттуда со звоном посыпались кольца, сотни, тысячи колец. Кольца заполнили весь стол. Несколько десятков колец упало на пол, и рабби вскочили, чтобы их поднять.
— Что это такое? — послышались голоса. — Откуда эти кольца?
Магон поднял руку, призывая к тишине.
— Римляне, как и мы, носят кольца. Только у них кольцо не награда за успешно совершенный поход, как это принято у нас, а знак сенаторского или всаднического достоинства. Ни один сенатор или всадник не носит более одного золотого кольца. Эти кольца собраны на поле битвы у Канн. Вот и сосчитай, Ганнон, сколько погибло сенаторов и римских всадников в этом сражении.
В зале послышались рукоплескания. Ганнон молчал. На его побагровевшем лице выразилась растерянность. Опять этим хитрым Баркидам удалось завоевать расположение советников. Опять они добьются своего.
— Считай, Ганнон, — продолжал Магон, потрясая кулаком. — Что же ты медлишь? Ведь лучше тебя здесь никто не умеет считать. Ты только и делаешь, что считаешь и высчитываешь. Ты никак не можешь дождаться своей доли италийской добычи. Ты напоминаешь мне ростовщика, который хочет получить проценты, ничего не дав в долг.
Слова эти били как молот. От них некуда было спрятаться. Под насмешливыми взглядами рабби Ганнон покинул зал.
Это была победа Баркидов, которую шутники называли вторыми Каннами.
Огромным большинством было принято решение послать Ганнибалу четыре тысячи нумидийских всадников, сорок слонов и тысячу талантов серебра, а Магону было предложено отправиться в Иберию для набора там двадцати тысяч пехотинцев и четырех тысяч конных воинов. Войско это должно было идти в Италию на помощь Ганнибалу.
Радостный и взволнованный, Магон покинул Большой Совет. На площади, напротив Дворца Большого Совета, он увидел всадника на красивом белом коне. Конь нетерпеливо перебирал ногами.
Магон невольно залюбовался прекрасным животным. За годы, проведенные в армии Ганнибала, Магону приходилось видеть немало породистых и быстроногих скакунов. Но он готов был поклясться Мелькартом, что не встречал лошади таких благородных кровей. Она была вся белая, словно меловая гора. На высокой, изящно изогнутой шее сидела крепкая голова с выпуклыми сверкающими, как звезды, глазами. Есть ли в мире другой конь с такими необыкновенно сильными и стройными ногами!
Залюбовавшись конем, Магон лишь скользнул взглядом по всаднику. На нем был плащ из леопардовой шкуры, облегавший стройное худощавое тело. На вид незнакомцу можно было дать лет тридцать, не больше.
— Привет тебе, Магон, — сказал незнакомец, спешившись. — Я тебя сразу узнал.
Магон внимательно взглянул на человека в плаще из леопардовой шкуры. Нет, ему незнакомо это лицо с широко расставленными глазами и крутым, энергичным подбородком.
— Откуда ты меня знаешь? — удивился Магон.
— Магон похож на своего брата, — отвечал уклончиво нумидиец.
— Ты служил у Ганнибала? Но почему я тебя не могу припомнить?
— Я познакомился с твоим братом тогда, когда был жив еще твой отец и Ганнибал не имел армии. Меня зовут Масинисса.
Магон бросился к нумидийцу и схватил его за плечи:
— Брат часто вспоминал о тебе, интересовался тобой! Он просил меня узнать, где ты. Но никто во всем Карфагене не мог рассказать мне о тебе. Говорили, что ты исчез.
— О том, где я был, знает один Мерг.
Услышав свое имя, конь повернул к нумидийцу свою красивую голову с умными, почти человеческими глазами.
Масинисса положил руку на шею коня. Животное задрожало в радостном нетерпении и упруго переступило с ноги на ногу.
— Но Мерг не умеет говорить, — продолжал нумидиец, — хотя понимает людей лучше меня. Ливия велика. Никто не измерил ее пределов. Мы с Мергом побывали там, где еще не ступало копыто нумидийского коня. Мы были в стране гор, где скалы покрыты изображениями животных и людей. В этих местах охотятся на колесницах, поражая газелей стрелами и дротиками [84]. Мы были в непроходимых лесах. Над нашими головами сверкали чужие звезды; их не видел еще ни один человек, родившийся на берегах Внутреннего моря.
— Ты неправ, Масинисса. В той стране, где светят чужие звезды, еще триста лет назад побывал Ганнон Мореплаватель.
При слове «Ганнон» нумидиец вздрогнул.
— Я не слышал о твоем Ганноне, — сказал он глухо. — Я знаю другого Ганнона. Из-за него я пять лет не был на родине. И теперь я вернулся в Карфаген, потому что не могу забыть его дочери. Ты слышишь, не могу.
— И Ганнон знает, что ты в Карфагене?
— На этот раз он меня не прогнал, как пять лет назад. Он мне разрешил с ней встречаться.
Поздравляю тебя, Масинисса! Я рад, что ты обрел свое счастье. Если я задержусь в Карфагене, буду у тебя на свадьбе.
— На свадьбе! — иронически повторил Масинисса. — О свадьбе еще рано говорить. Ганнон поставил одно условие. О, если бы он его выставил пять лет назад! Тогда бы я проделал с Ганнибалом весь его поход.
— Что же это за условие?
— Ганнон говорит, что мужем его дочери не может быть безвестный человек, потому что Софониба знатного рода. Он выдаст за меня дочь только тогда, когда я буду царем или прославлюсь в битвах с римлянами. Возьми меня с собой к Ганнибалу. Отец всегда хотел этого. Он будет рад, когда узнает, что я вернулся, что я воин. Пусть Гайя живет еще сто лет. Своим счастьем я буду обязан не его смерти, а самому себе.
— Твое решение правильно. Но к Ганнибалу я попаду не скоро. Мне приказано отправиться в Иберию, где мой брат Газдрубал воюет с братьями Гнеем и Публием Сципионами. Там, в Иберии, мы наберем войско. Тебе я поручу конницу. С этим войском мы двинемся через Пиренеи и Альпы в Италию.
Глаза Масиниссы вспыхнули жадным и радостным блеском.
ПРОЩАНИЕ
Видимо, он прискакал издалека. Его плащ был в пыли, а конь блестел от пота, словно облитый водой. Блестели при луне глаза Масиниссы из-под длинных ресниц, и блеск их был подобен небесному огню.
Как они похожи друг на друга — стройные, трепетные, сильные...
Софониба прикоснулась к шее Мерга.
— Осторожно, может укусить, он дикий, — быстро проговорил Масинисса.
Но конь даже не шелохнулся. Он только слегка скосил свой блестящий выпуклый глаз и втянул напряженными ноздрями воздух.
Девушка рассмеялась. Изумленное и слегка напуганное выражение глаз коня напомнило ей первую встречу с Масиниссой на ступенях храма Танит. Нумидиец был так удивлен, словно из храма выходила не она, Софониба, а сама богиня. А потом объяснение с отцом! Какой он смешной и милый, этот юноша с длинным варварским именем, напоминающим крик степной птицы.
— Мерг тебя не боится, — сказал Масинисса, поправив на остром загривке коня перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы. Мерг чувствует, что я тебе друг. А там, — Масинисса показал на дворец Ганнона, — не знают этого. Там меня боятся, словно я могу тебя обидеть. Там говорят, что я должен ждать, что я должен показать свою храбрость в бою с вашими врагами — римлянами. И тогда мы сможем быть всегда вместе.
— Всегда? — спросила девушка.
— Да. Я никогда не буду с тобой расставаться. Мы будем вместе ездить на охоту, рядом лежать на траве и видеть звезды. Ты знаешь, у каждого человека есть своя звезда, которую боги создали вместе с ним. Когда звезда падает, умирает человек. Твоя звезда, наверно, самая красивая и самая яркая. Ночью я часто смотрю в небо и ищу ее, твою звезду. Мне кажется, если найду ее, никогда тебя не потеряю. Но в небе так много звезд! Они то вспыхивают, то гаснут. Они меняют свои места. Они смеются надо мной. А потом боги опускают голубой полог, и тогда не найдешь ни одной звезды.
— Я покажу тебе свою звезду, — сказала девушка грустно. — Это самая обыкновенная звездочка. В тот день, когда я родилась, она взошла на небе и принесла с собой летний зной. Жрецы говорят, что это несчастливая звезда. Приходи сегодня ночью, мы на нее посмотрим вместе.
— Сегодня ночью, — сказал Масинисса, — я буду на корабле в море. Сегодня отплывает флотилия в Иберию. Магон, брат Ганнибала, берет меня с собой. Твой отец услышит обо мне. В Иберии, сражаясь с врагами, я найду твою звезду.
Какое-то неизъяснимое чувство охватило Софонибу. Кто ей этот человек? Что ее связывает с ним, с варваром, поклоняющимся чужим богам? А почему-то этот варвар становится ей все дороже и дороже. Рядом с ним, на одном коне, она ускакала бы за эти синеющие горы в зовущий и неведомый край счастья.
В КАНУЗИИ
Остатки разбитого Ганнибалом войска сходились в Канузий, город ниже Канн, по течению Ауфида, в девяти милях. Этот маленький город обладал мощными стенами и считался одной из сильнейших крепостей Италии. Ганнибал много раз проходил у Канузия, но не пытался его брать. Видимо опасаясь мести пунов, о победе которых знала уже вся Италия, канузийцы запирали перед римлянами двери своих домов. Там, где римлян пускали внутрь, их отказывались кормить, ссылаясь на недород. Брать пищу силой римляне не решались, боясь открытого возмущения канузийцев.
Впрочем, нашлась и в Канузии добрая душа. Это была немолодая вдова, по имени Буза. Говорят, ее покойный муж был на римской службе центурионом. Так это или нет, Буза великодушно открыла свои городские закрома, а ее сельские рабы пригнали в Канузий овец и свиней и передали их воинам. Этой еды могло хватить на два-три дня. А что делать, когда кончатся эти запасы?
На городской площади собралась толпа беглецов. Тут можно было увидеть и совсем старых воинов с лицами, иссеченными шрамами, со спинами, сгорбленными от тяжести солдатских мешков.
Рядом с ними стояли или сидели прямо на земле юнцы. Их щеки еще не знали прикосновения бронзовой бритвы. У них были безумные глаза и лица со следами грязи и слез. Канны были их первым сражением. Они пережили весь ужас этого побоища. Многие, притворившись мертвыми, лежали среди трупов и бежали с поля боя лишь под покровом ночной темноты. Других, подобно Сципиону, спас быстрый Ауфид, и они дали обет принести божеству этой реки кровавую жертву.
Купание в холодной реке не прошло для Сципиона бесследно. Его трясла лихорадка. Зубы выбивали дробь. Но, превозмогая себя, он вместе с другими военными трибунами распределял между воинами зерно и мясо. Вдруг кто-то коснулся его плеча. Сципион обернулся.
— Это ты, Фил? — сказал он бледному юноше, сыну бывшего консула. — Что произошло?
— Заговор! — ответил Фил с дрожью в голосе. — На квартире Метелла собрались воины. Они хотят бежать из Италии, воспользовавшись судами канузийцев [85].
«Опять Метеллы!» — подумал Сципион. Ему вспомнилась встреча в театре, небритое лицо Гнея Невия, поэта, заклеймившего этот заносчивый род. Теперь один из Метеллов склоняет воинов на измену. Нет, этому не бывать!
Сципион крикнул, обращаясь ко всем на площади:
— Друзья, мы пережили страшный день Канн, а теперь новая беда. Те, кому дорого спасение отечества, за мной!
Заговорщики уже собирались покинуть дом, чтобы осуществить свое решение, когда ворвался Сципион с несколькими воинами.
Заговорщики остановились в нерешительности. Что ему надо, этому военному трибуну, сыну разбитого Ганнибалом консула?
— Стойте! Одумайтесь! — воскликнул Публий. — Вы забыли о своем долге перед родиной!
— Долге? — насмешливо повторил Метелл, юноша с бледным, прыщеватым лицом. — А родина помнит о своем долге перед нами? Мы не желаем быть рабами пунов, не желаем быть нахлебниками Бузы. С нас достаточно Канн. Мы хотим быть свободными!
— Какою же ценой ты хочешь сохранить свою свободу, изменник! — воскликнул Сципион. — Ценою рабства матерей и сестер? Ценою их унижения и позора? Нет, римлянин не может быть свободным, пока на земле Италии Ганнибал.
— Довольно кормить глухого осла баснями! — сказал резко Метелл. — У нас нет иного пути. В Риме нас казнят как трусов. Когда узнают, что мы бежали от Ганнибала. А Ганнибал нас сделает рабами за то, что мы римляне. Если мы останемся в Канузии, подохнем с голоду, как собаки.
— Нет, у нас есть еще один выход! — уверенно произнес Публий. — Не бросать оружие, а брать его! Нас мало, и мы бессильны нанести поражение Ганнибалу, но мы можем нападать на его войско по ночам, захватывать в плен фуражиров, уничтожать склады. Пусть поразит Юпитер всемогущий и всеблагой меня, весь мой род и все, что ему принадлежит, если я не омою это оружие в крови врага! — Сципион занес над головою Метелла меч. — Повторяй, Метелл, и все, кто здесь, слова этой клятвы.
— Пусть поразит Юпитер всемогущий и всеблагой меня и весь род мой и все, что ему принадлежит... — послышался нестройный хор голосов.
В КАПУЕ
Огромный город встречал Ганнибала. Тысячи жителей вышли на улицы и площади, чтобы лицезреть человека, овеянного славой величайшего полководца. Богатые капуанские купцы разослали по всей улице от Римских ворот [86] до дома братьев Ниниев, где должен был остановиться Ганнибал, пестрые ковры и ткани. Под копыта коней, под ноги наемников летели цветы, знаменитые капуанске розы, аромат которых воспет поэтами; приветственные выклики сливались в гул, напоминавший рокотание волн.
Два года после вступления Ганнибала в Италию капуанцы сохраняли верность Риму. Два года капуанским сенаторам, находившимся в родстве со знатными римскими родами, удавалось сдерживать нетерпение и ярость простонародья, требовавшего союза с Ганнибалом. Только теперь, после Канн, рассеялся страх перед римским оружием и римской местью. Честолюбивые помыслы получили новую обильную пищу. Чем Капуя хуже Рима? Разве она не может возвратить земли, отнятые римлянами, и с помощью Ганнибала стать первым городом Италии? Теперь путь к отступлению отрезан. Схвачены и перебиты все римские граждане, находившиеся в Капуе или Кампании по делам службы или по частным делам. С Ганнибалом заключен союз на условиях сохранения капуанцами свободы, своих законов и своего управления.
Намерением Ганнибала было тотчас же собрать капуанский сенат, чтобы обсудить план дальнейших действий и совместной борьбы против Рима. Но Пакувий и другие вожди партии, предавшей Капую Риму, выразили непритворное удивление.
— Сначала мы отобедаем, а после осмотрим город, — молвил Пакувий.
После обеда Ганнибал приказал привести Гнея Невия.
— Я хочу, чтобы ты меня сопровождал по городу, — сказал он пленнику. — Пусть капуанца говорят: «Вот Ганнибал, сопровождаемый поэтом».
— А ты не боишься, что они подумают: «Вот Гней Невий в сопровождении Ганнибала»?
У Пакувия, услышавшего эти слова, глаза полезли на лоб. «Так говорить с могущественным Ганнибалом!»
Но Ганнибал лишь рассмеялся:
— А ты опишешь в своей поэме то ликование, с каким меня встречала Капуя!
— Поэма моя будет бронзовым зеркалом, — отвечал поэт. — В ней отразится все, чем живут люди Капуи, Рима и Карфагена. Да, я не премину рассказать о кампанских розах, летевших под копыта твоих коней, но я не забуду и Деция Магия, которого твои воины связанным тащили в тюрьму, пока ты здесь пировал.
Деций Магий безумец! — воскликнул Пакувий с дрожью в голосе. — Он открыто призывал граждан не пускать тебя в Капую.
— Вот видишь, сказал спокойно Ганнибал, — во всей Капуе отыскался всего один человек, да и тот безумец, который не приветствовал меня и мое войско. А ты хочешь о нем слагать стихи. Разве это справедливо?
— У нас есть пословица, — сказал глухо Невий: — «Истина часто страдает, но не гибнет никогда».
Ганнибал хлопнул ладонью по лбу:
— Я понял все. Ведь и ты сидел в тюрьме. Поэтому тебе стало жаль Магия. Обещаю по случаю этого торжественного дня даровать безумцу свободу, если он публично признает свою вину... А теперь, — Ганнибал обратился к Пакувию, — покажи мне город. Что тут у вас самое интересное?
— Амфитеатр! — в один голос ответили Пакувий и Ниний.
Это было огромное сооружение в форме круглой чаши. Стенки ее составляли ряды зрителей, а дно — арену, посыпанную мелким белым песком. Ганнибалу отвели почетное место — у самой арены. Здесь всегда сидели иностранные послы и капуанские сенаторы.
Амфитеатр встал, криками и рукоплесканиями приветствуя почетного гостя и союзника Капуи. Но вот все смолкло. На арену двумя отрядами, человек по тридцать в каждом, выступили воины. Щиты их, расширяющиеся кверху для прикрытия груди и плечей, имели золотые и серебряные накладки. У воинов с серебряными щитами была белая полотняная одежда, у воинов с золотыми щитами — пестрая. Колыхались, как листья сказочных деревьев, яркие перья, украшавшие островерхие шлемы.
Сделав круг, воины остановились напротив того места, где сидел Ганнибал, и прокричали хором несколько слов.
— Идущие на смерть приветствуют тебя, — шептал Пакувий Ганнибалу. — Это обычная фраза гладиаторов. Они из школы Ниниев.
Ганнибал уже был захвачен красочным невиданным зрелищем. Служители раздали бойцам оружие, и по сигналу трубы гладиаторы ринулись друг на друга. Мечи мелькали в воздухе, как молнии. Слышались удары мечей, воинственные крики самих гладиаторов и возгласы толпы, одобряющей своих любимцев:
— Загоняй его к барьеру! — Рази! Бей труса!
У барьера стояли надсмотрщики с бичами и железными палками. Горе тому, кто уклонится от боя и не даст насладиться зрителям картиной своих мучений.
Победили воины с золотыми щитами. Их осталось всего шестеро.
— Слава золотым! — надрывались зрители. — Слава!
Победители покинули арену. Выбежали люди с раскаленными щипцами. Они приложили их к распростертым на арене телам, чтобы убедиться, не остался ли кто в живых. Ганнибал ощутил запах горящего мяса. Мертвых уволакивали крючьями, а тяжелораненых добивали молотами. Другие служители граблями выравнивали песок, засыпая лужи крови.
Пока убирали арену, Пакувий рассказывал Ганнибалу о древнем обычае гладиаторских боев.
— Нашими учителями были этруски, одно время владевшие Кампанией и основавшие Капую. Но у этрусков бои устраивались лишь на похоронах лукомонов — так они называют правителей своих городов. Для нас же гладиаторский бой — это праздник. Скорее наша чернь откажется от дарового угощения, чем пропустит такое представление.
— А есть ли гладиаторы у римлян? — обратился Ганнибал к Невию.
— Конечно, ответил поэт. — Только Риму сейчас не до гладиаторов.
На арену вышли двое бойцов в шлемах с забралами. Черное тело одного из них напоминало статую из эбенового дерева. Другой гладиатор был выше своего противника на целую голову, у него было стройное тело со светлой розоватой кожей.
— Галл и эфиоп! Галл и эфиоп! — вопили зрители.
Судя по крикам, эти гладиаторы были хорошо знакомы капуанцам. Выступление их считалось праздником. Но гладиаторы явно не оправдывали ожиданий публики. Они сражались нехотя, вяло.
— Огня! Бичей! — яростно кричали капуанцы.
И служители наотмашь били гладиаторов бичами из бычьей кожи. Бич оставлял на теле галла длинные кровавые следы.
Ганнибал невольно вспомнил поединок, устроенный им перед войском после перехода через Альпы. Там бойцы сражались с большей яростью, хотя их не погоняли ни бичами, ни раскаленными прутьями.
— А что получит победитель? — спросил он Пакувия.
Капуанец не понял вопроса.
— Ты хочешь, сказать, какое вознаграждение получит ланиста? — спросил он.
— Нет, я спрашиваю, какая награда ожидает победившего гладиатора.
Капуанец рассмеялся:
— Может быть, в благодарность за доставленное богатство ланиста избавит его от розог, когда он провинится, или будет кормить досыта.
— Теперь я понимаю, почему они сражаются как неживые, — молвил Ганнибал. — Если бы наградой за победу была свобода, тогда не понадобились бы эти люди с бичами.
— Но хороший гладиатор стоит целого состояния! — возразил Пакувий. — Ланиста слишком часто рискует потерять его на арене и мечтает лишь о том, чтобы отличный боец остался жив. На что же он будет надеяться, если победителя ждет свобода? А впрочем... — Пакувий задумался. — Ты наш гость, и выполнить твое желание для меня счастье!
Не успел Ганнибал промолвить и слова, как Пакувий уже что-то быстро-быстро шептал служителю на ухо.
Через несколько мгновений по знаку служителя схватка остановилась. Глашатай объявил:
— Присутствующий среди нас великий наш друг и полководец Ганнибал просит даровать в этой схватке свободу победителю. Пакувий оплачивает все убытки, которые понесет от этого ланиста.
Схватка возобновилась. Галл начал теснить эфиопа. Тот яростно отбивался, медленно отходя к барьеру, отделяющему арену от зрителей.
Амфитеатр, как и при схватке «золотых» и «серебряных» щитов, разделился на два враждующих лагеря.
— Гони черную собаку! — вопили сторонники галла.
— Не подпускай близко галла! — орали приверженцы эфиопа.
Да, это была схватка, какой еще не приходилось видеть ни капуанцам, ни Ганнибалу. Там, у подножия Альп, сражались юнцы, истощенные голодом и цепями, а здесь бились мужи, не уступающие друг другу ни в опытности, ни в воле к победе. Свобода была на острие меча у каждого из бойцов.
Вскоре стало заметно, что галл начал уставать. Его лицо и плечи покрылись потом. Движения стали неуверенными. Галл торопился, стремясь как можно скорее нанести противнику удар, эфиоп бился хладнокровно. Только еще больше заблестели его черные плечи и шары мускулов на руках.
Но что это?
Меч ударил в щит эфиопа. Эфиоп поскользнулся. Нет, это обманное движение. Снизу он нанес короткий и сильный удар. Галл рухнул на песок к ногам эфиопа.
Амфитеатр грохотал. Зрители вскочили с мест и кричали, приветствуя победителя. Многие бросали на арену цветы и монеты, желая вознаградить гладиатора.
Ниний достал из кожаного мешочка монету, намереваясь ее бросить на арену.
— Постой! — остановил его Ганнибал. — Дай ее мне.
Ганнибал внимательно рассматривал большую медную монету с изображением волчицы, кормящей двух младенцев.
— Как это называется — спросил он после долгой паузы.
— Асс, — отвечал Ниний.
— Это римская монета? — спросил Ганнибал, припомнив, что римляне приписывали основание своего города близнецам, вскормленным волчицей.
Нет, это наша капуанская монета. Капуя считала себя сестрой Рима.
— А нет у тебя римской монеты?
Ниний порылся в мешочке.
— Изволь! — Капуанец протянул Ганнибалу маленький блестящий кружочек. На одной его стороне была женская голова в шлеме.
— Это серебро? — спросил Ганнибал.
— Серебро сверху, а ядро монеты из свинца.
В разговор вмешался Пакувий:
— Такова и свобода, которую римляне дали Италии. Поскреби ее немного, а под нею рабские цепи.
— Ниний и Пакувий, вы должны мне помочь, — сказал Ганнибал.
Капуанцы обратились в слух.
— Я хочу выпустить монету, но не такую, — Ганнибал с презрением указал на римский асс, — монету из настоящего серебра. Серебро доставят из Иберии, а чеканку возьмите на себя.
— Прекрасная мысль! — воскликнул Пакувий. — Мы изобразим на монете твое лицо.
— Не надо. Война обезобразила мое лицо. Я хочу, чтобы на монете была фигура слона.
— Слона? — удивленно воскликнул Ниний.
— Да. Мой отец мечтал, что слоны раздавят Рим. Говорят, он умер с этими словами на устах. Благодаря отцу, его настойчивости и мудрости, были приручены ливийские слоны. На монете должен быть изображен не индийский слон, а «ливиец» с длинными ушами. И, чтобы никто не сомневался, в чем смысл монеты, пусть на другой ее стороне будет изображен он, — Ганнибал показал на арену, — эфиоп с толстыми губами и черными курчавыми волосами.
Чернокожий, приняв от служителей подобранные ими деньги, покидал арену. Представление было окончено.
БИТВА У ИБЕРА
Только прибыв в Иберию, Магон понял, что рабби его обманули. Совет поручил ему набрать в Иберии двадцатичетырехтысячное войско для Ганнибала и этим самым снимал с себя ответственность за помощь италийской армии. Рабби возложили эту ответственность на Магона, заведомо зная, что никаких воинов в Иберии не добыть. Незадолго до памятного всем заседания Большого Совета, на котором Магон высыпал на стол золотые кольца, было получено письмо от Газдрубала. Брат сообщал о восстании, охватившем всю Северную Иберию. Зачинщиком его был Алорк, тот самый ибер, которого много лет назад Ганнибал отправил послом в Сагунт. Алорк подговорил начальников кораблей, стоявших в устье Ибера, поднял на борьбу иберийские племена. Иберия не могла послать Ганнибалу ни одного воина, она сама нуждалась в помощи. Не мог послать ему помощь и Карфаген, так как против него вскоре после отъезда Магона выступил Сифакс. Одни говорили, что царь массасилов возобновил союз с Римом, другие уверяли, что причиной войны является отказ Ганнона выдать за Сифака свою дочь Софонибу. Как бы то ни было, Сифакс снова стал врагом Карфагена.
Пользуясь бедственным положением Карфагена, римляне усилили свои атаки в Иберии. Как стало известно Газдрубалу, они стягивали свои силы к Иберу. К войскам Гнея Сципиона, находившегося в Иберии с начала войны, присоединились легионы его брата Публия, бывшего консула. Видимо, римляне придавали большое значение Иберии, если они решились в пору самых тяжелых неудач отправить за море воинов во главе с этим способным полководцем.
Газдрубал построил лагерь на холмах милях в пяти от Ибера, на берегу которого стоял римский лагерь. Первые дни враги прощупывали друг друга, вступая в мелкие стычки. Наконец карфагенский полководец решился на сражение. В полдень войско пунов покинуло свой стан и спустилось на равнину, к реке.
Римское войско было построено, как обычно, манипулами. Впереди стояли манипулы гастатов, самых молодых воинов, за ними — манипулы более опытных бойцов — принципов, строй замыкали триарии, воины, испытанные во многих битвах. Полководцы вводили их в бой в случае крайней необходимости.
Это было первое сражение, в котором пришлось участвовать Масиниссе. Воины его отряда имели по два коня. На одном они скакали, другого держали на поводу. Во время битвы они перескакивали с уставшей лошади на свежую. Сам Масинисса решил положиться на одного Мерга.
Страшен был натиск римских манипул. Римляне знали, что от исхода сражения зависит их возвращение на милую сердцу родину, и они решили или победить, или умереть. Другое дело иберы, из которых состояло войско Газдрубала. В случае победы им предстояло отправиться в Италию на помощь Ганнибалу. Иберы предпочитали потерпеть поражение на родине, чем идти на чужбину.
И потому, едва только с обеих сторон были брошены дротики, центр карфагенской армии, состоявший из иберов, начал отступать. С большим упорством шел бой на флангах, где Газдрубал поставил ливийцев. Никакими усилиями римлянам не удавалось раздвинуть эти фланги, но и Газдрубал не мог их сомкнуть и повторить в Иберии Канны.
Римляне ввели в бой свою многочисленную конницу, преимущественно из иберийских союзников. Но всадники Масиниссы, уступавшие римской коннице в численности, надежно прикрывали свое войско. Каждый нумидиец сражался за двоих. Их кони не знали устали. А Масинисса сражался за пятерых. Всадник на белом коне появлялся то там, то здесь, и казалось, что это сам бог Мелькарт в человеческом облике.
К вечеру, сломленные искусством римских бойцов, карфагеняне начали отступать к своему лагерю. Нумидийцы следовали за пехотой, защищая ее фланги.
Но что это такое? Всадник на белом коне отделился от своих и понесся в самую гущу римлян. Не успели римляне крикнуть, как Масинисса подскакал к знаменосцу и выхватил у него из рук полотнище с изображением дятла — значок манипула. Крик ужаса вырвался из сотен глоток. Потерять знамя легион равносильно поражению. Позор ожидает всех. Несколько римских всадников рванулось в погоню за смельчаком.
Масинисса прижался к шее Мерга. Ветер свистел у него в ушах и раздувал римскую тряпку, которую он не успел засунуть в плащ. На мгновение Масинисса пожалел, что во время боя не имел двух коней. Мерг устал, он тяжело дышит, а у римлян свежие и сильные кони. Римляне нагоняют. Тряпка, которую он держит в левой руке, притягивает их и умножает ярость. Враги уже могут достать его или Мерга дротиком. Чего же они медлят? Масинисса взглянул вперед и увидел в нескольких шагах от себя широкий ручей. «Римляне хотят меня взять живьем», — подумал Масинисса и хлестнул Мерга римской тряпкой.
Легко, без каких-либо усилий, лошадь взвилась под ним и перелетела через ручей. Римляне едва удержали своих коней у обрыва. Обернувшись, Масинисса слышал бессильные проклятия, которые враги посылали ему вдогонку.
Проскакав еще немного, нумидиец спешился. Бросив на землю римское полотнище с изображением птицы, Масинисса стал рядом с Мергом и погладил его по крутой потной шее.
Мерг вздрогнул и протянул черную губу к своему господину, словно желая схватить его за край одежды.
— Софониба не знает, от какой мы с тобой ушли беды, — сказал тихо Масинисса.
В годы своих странствий по Ливии, когда ему подолгу приходилось быть одному или находиться среди чужеземцев, Масинисса привык разговаривать с Мергом. Ему казалось, что конь понимает слова и отвечает по-своему — наклоняет голову, поводит ушами и тихо ржет.
— Эту римскую птицу, — продолжал нумидиец, — я пошлю Ганнону. — Пусть старик повесит ее у себя над головой, а если ему будет мало одной этой птицы, мы с тобой добудем другую. Правда, Мерг?
Мерг затряс головой и тихо заржал.
Небо уже покрылось звездами. Из-за гор показался лик Танит, и долина Ибера озарилась ее мягким светом. Масинисса стоял, запрокинув лицо; взгляд его перебегал от одного созвездия к другому. Так кормчий в безбрежном море ищет звезду, указывающую путь гауле. А разве любовь, которую дарует Владычица людям, не та же звезда? Чем бы были без нее смертные? Они бы рыли землю, как кроты, и ползали бы по ней, как черви. Они бы затерялись во мраке жизни, погрязли в своих жалких будничных делах и заботах без цели и желаний, без светлой радости и окрыляющих надежд. Без любви они не пели бы песен и не перебирали струны из овечьих кишок. Без тебя, о Танит, они не рвали бы цветов и не называли своих возлюбленных их именами.
— Как ты думаешь, друг, — спрашивал нумидиец Мерга, — не это ли звезда Софонибы?
Мерг нетерпеливо заржал, словно призывая Масиниссу в путь.
— Ты прав, — молвил Масинисса, — нам пора. Газдрубал и Магон, наверно, уже думают, что нас взяли боги смерти. А мы явимся и покажем это.
Масинисса поднял с земли полотнище и легко вскочил на спину Мерга.
ДВА БРАТА
Гаула накренилась от толчка. Магон, сидевший на корме, чуть не упал за борт. Перед тем как спуститься со сходен, Магон еще раз взглянул на берег, украшенный зданиями, садами и рощами. Искусство людей здесь состязалось с самой природой. Как жаль, что брату удалось захватить лишь крошечный отрезок этого побережья! Нола, Неаполь и другие его города, сверкающие, как драгоценные камни в золотой оправе, остались верны Риму. Магон слышал, что под Нолой Ганнибал потерял две с половиной тысячи воинов и, что еще страшнее, целое лето. А Ацерры, жалкий городишко, близ которого пристал к берегу корабль Магона, был покинут самими жителями и достался Ганнибалу полуразрушенным.
Дорога в Капую шла виноградниками. Вязы, вокруг которых вились лозы, как воины, рядами стояли до самых холмов. Было время сбора винограда. Рабы сносили корзины, наполненные янтарными и пурпурными гроздьями, к дороге и привязывали их к спинам маленьких осликов.
Лагерь Ганнибала находился не в самой Капуе, а в четырех римских милях от нее, на берегу реки Вольтурн. По дороге к лагерю Магону то и дело попадались наемники. Они шли по двое, по трое и горланили песни на своих варварских наречиях. Некоторых сопровождали женщины, полуобнаженные, с лицами, раскрашенными киноварью.
У самой дороги на траве развалились трое воинов, судя по одежде — иберы. До Магона донеслись обрывки их пьяной болтовни.
— Иду я из амфитеатра, а она стоит на углу. Глаза — вот! И остальное...
Хохот заглушил эти слова.
— А где ты ее оставил? Там же?
Еще взрыв хохота.
Нет, не воинскими подвигами хвалятся захмелевшие наемники. И вообще, глядя на них, трудно поверить, что войско находится во вражеской стране. Магону стало многое понятно. У брата появился новый опасный враг — распущенность, роскошь. Этот враг проник в армию и разрушает ее изнутри, как червь яблоко. После страшных бедствий в горах, кровопролитных сражений, грязи, крови войско попало в этот благословенный край. Он был наградой за все, что перенесли воины. И вполне заслуженной наградой! Отнять эту награду, лишить воинов того, что у них под рукой и чего они заслужили, бессилен и сам Ганнибал.
Ганнибал, крепко обняв брата, повел его и спутников к богато накрытому столу. Потягивая из серебряной чаши фалернское, обгладывая куриное крылышко, Магон думал о своем: «Разве люди, сражавшиеся под Тразименским озером и Каннами, не имеют права на удобную постель, на хорошее вино, на вкусную еду? Но это и есть роскошь, которая губит войско».
У Магона и его спутников после двухнедельного плавания был отличный аппетит. Когда стол опустел, Ганнибал обратился к Магону:
— А теперь, брат, расскажи, что ты привез.
С каждым словом Магона перед Ганнибалом вырисовывалась страшная картина бедствий, какие пришлось перенести карфагенянам в Иберии: мятеж начальников кораблей, отпадение иберийских союзников и, наконец, битва при Ибере. Здесь проявил себя Масинисса.
— Молодец Масинисса! — воскликнул Ганнибал. — Он вполне достоин той награды, к которой так стремится.
— Ты говоришь о руке Софонибы?
Ганнибал кивнул головой.
— Я подозреваю, что Ганнон ведет нечистую игру, — с тревогой заметил Магон. — Ходят слухи, что, после того как Сифакс послал против Карфагена конницу, Ганнон стал сговорчивее. Он хочет отдать свою дочь Сифаксу в обмен на мир и союз против Рима.
— Торгаш! — с презрением воскликнул Ганнибал. — Наш отец выдал Саламбо за Нар-Гаваса, но он не предлагал ее тому, кто даст дороже. Конечно, ему выгоднее Сифакс — он царь, а Масинисса даже не наследник.
— К тому Сифакс богат, а у Масиниссы нет ничего, кроме коня Мерга. А какой это конь! Я отдал бы за него все богатства...
— ...если бы ты их имел, — перебил Ганнибал брата. — А, насколько я понимаю, тебя война обогатила не больше, чем меня. Все, что присылают из Карфагена, что удается добыть силой или по договору, — все идет наемникам. А войне не видно конца.
— Скоро, уверенно сказал Магон. — Газдрубал готовит свою армию для перехода через Альпы по твоему пути. Вместе с ним пойдет и Масинисса. Когда мы все трое соберемся в Италии, Риму не выдержать. Римляне сами предложат мир.
КАЗИЛИН
Этот маленький городок на реке Вольтурне до войны с пунами ничем не был знаменит. Его укрепления уступали по своей высоте и охвату стенам доброй сотни других городов Италии. В летописях не сохранилось свидетельств того, что в Казилине родились какие-нибудь знаменитые мужи или в окрестностях этого города случились какие-либо чудеса. Надо же было, чтобы слава избрала этот город из сотни других!
Незадолго до битвы у Канн в Казилине оказался небольшой отряд римских воинов и римских союзников, не успевших присоединиться к легионам. Известие о каннской катастрофе заставило воинов задержаться в городе до получения распоряжений из Рима. Распоряжения не приходили, а тем временем Капуя успела перейти на сторону Ганнибала и открыть ему свои ворота. Не было сомнений, что жители Казилина, родственные по языку капуанцам и так же, как они, ненавидящие римлян, в удобный момент призовут Ганнибала. Поэтому римские воины ворвались в жилища казилинцев и перебили их всех до единого.
Так возникла римская крепость в непосредственной близости от Капуи. Это не на шутку пугало Ганнибала. Он послал небольшой отряд ливийцев и приказал начальнику этого отряда вступить с римлянами в переговоры об условиях сдачи города. Ливийцы приблизились к городу, их поразила совершенная тишина и признаки запустения. Полагая, что римляне, испугавшись, сами очистили город, ливийцы начали отбивать ворота и лезть на стены. Вдруг ворота отворились, и два римских манипула набросились на опешивших ливийцев и изрубили их. Вслед за этим был послан с более многочисленным отрядом Магарбал, но и он не смог одолеть нескольких сотен римских храбрецов.
Пришлось двинуться против Казилина самому Ганнибалу со всей своей армией и приступить к осадным работам. Смешно было строить гелеполу для осады такого городка, и Ганнибал решил ограничиться осадными лестницами и подкопами.
Днем и ночью карфагеняне рыли под землей траншею. Выкопанную землю ночью незаметно убирали на носилках. Но римляне с безошибочной точностью находили выходы траншей и преграждали их своими поперечными канавами. Римляне бросали во вражеские подкопы бочки с горящими куриными перьями. Удушливый дым выкуривал пунов, как зверей из нор.
Такая же неудача ожидала осаждающих, когда они попытались воспользоваться таранами и осадными лестницами. Римляне забрасывали врагов стрелами и дротиками, делали частые вылазки. Во время одной из таких вылазок был смертельно ранен Рихад. Сур никого к себе не подпускал. Пришлось увести его к Капуе, а вместе с ним и других боевых слонов. Началось время дождей. Вода заливала подземные ходы. Многие воины заболели лихорадкой. Ганнибалу ничего не оставалось делать, как снять большую часть своего войска. Перед городом был построен укрепленный лагерь и в нем оставлен отряд ливийцев. Ганнибал надеялся, что голод завершит уничтожение казилинского гарнизона.
На исходе зимы Ганнибал возвратился к Казилину. Воины, находившиеся в укрепленном лагере, уверяли, что в Казилине едва ли осталось две сотни бойцов. Многие римляне, терзаемые голодом, бросались со стен. Другие без оружия стояли на стенах, подставляя грудь стрелам и дротикам. Единственный перебежчик из города уверял, что осажденные давно уже поели всех крыс и мышей и теперь питаются размоченными в воде ремнями и кожами от щитов.
Впрочем, однажды удалось найти в ветвях ив на берегу Вольтурна деревянный бочонок с мукой. Кто-то помогал осажденным, бросая в реку выше города все, что может пойти в пищу.
Ганнибал приказал поставить воинов у реки и, дав им лодки, вменил в обязанность следить за тем, чтобы рекой ничего не пропустить в город. Больше бочек с мукой не видели, но по середине реки плыли орехи. Осажденные вылавливали их сачками и решетами.
Но более всего Ганнибала удивило, что римляне бросали со стен на взрытую его воинами землю семена репы. «Неужели мне придется стоять под Казилином, пока взойдут эти семена?» — сказал Ганнибал и тотчас же согласился вести переговоры с осажденными.
Осада Казилина отняла у Ганнибала почти год. А сколько в Италии таких Казилинов!
Ганнибала расстроило также известие о бегстве Гнея Невия. В карфагенском лагере поэт пользовался полной свободой. Ганнибал часто с ним беседовал и считал, что интерес поэта к нему самому крепче всех уз и засовов. Еще обиднее, чем бегство (не так уж велика потеря), было подброшенное поэтом письмо. Оно содержало несколько слов: «Тому, кто видел Ганнибала при Каннах, не нужен Ганнибал при Казилине».
«Отправился искать другого героя!» — грустно думал Ганнибал.
КУРУЛЬНАЯ ДОЛЖНОСТЬ
Публий смотрел на огромную, покрытую пожелтевшей травой чашу Большого цирка. Когда-то там стояли сараи. Со своими сверстниками он сбегал к ограде, поближе к сараям, где храпели и били копытами нетерпеливые кони. Можно ли забыть тот волнующий миг, когда по знаку эдила раскрывались решетчатые двери и на арену вырывались двенадцать колесниц! Давно пустует Большой цирк, и от этой неправдоподобной пустоты щемит сердце. Не скачками и не гладиаторскими боями заняты римляне. Курульные эдилы давно уже забыли о своих обязанностях по устройству зрелищ. Они заняты лишь охраной города, снабжением его хлебом.
Стемнело. Затих город, погрузившись в траур ночи. Только обходящая улицы и площади стража нарушала тишину легким бряцанием оружия.
Сципион прислонился к дереву, раскинувшему ветви наподобие крыльев, и прислушался к неторопливой беседе стражей.
— Да, были времена, — сказал один из стражей, — припасы ценились дешевле глины. Купишь на асс хлеба — вдвоем не съешь. А теперь на тот же асс дадут комок с бычий глаз.
— Отчего хлебу быть дешевым? — молвил другой страж. — Кому за плугом ходить? Все граждане в войске. А теперь и рабам черед пришел. В сенате решение принято: молодых рабов в легионы призывать, дав им свободу. Вот и зарастут поля чертополохом.
— Все в воле богов, — вступил в разговор третий караульный. — Их теперь ни во что не ставят, жертвы не приносят, вот они и гневаются. На форуме я видел пастуха, прибывшего из Пицена [87]. Там шел каменный дождь. А на Овощном рынке на руках у кормилицы младенец закричал: «Триумф!» А младенцу-то всего шесть месяцев!
Прошел ночной дозор, а Сципион еще долго стоял у дерева, размышляя о судьбах города и о своем будущем. Ему казались смешными суеверия толпы. Он не видел ничего странного в каменном дожде. Наверно, где-нибудь произошло извержение вулкана и кусочки окаменевшего пепла занесло с дождем или ветром в Пицен. Он не мог сдержать улыбку при мысли о младенце, предвещавшем не то победу, не то поражение. Но все же какую силу имеют эти суеверия, если они не только распространяются в народе, но по их поводу принимает решение сенат, жрецы записывают их в свои священные книги?
С этими мыслями Публий подошел к дому. В атриуме горел свет. Несмотря на позднее время, мать не спала. Она сидела у украшенного цветами очага с глиняной мисочкой в руках.
— Ты исчез, — сказала она недовольно. — Забыл, какой сегодня день! Мне пришлось одной принести жертву пенатам [88].
Публий наморщил лоб, силясь понять, что мать имеет в виду.
— Какой ты невнимательный! — продолжала Фульвия. — Сегодня твоему брату разрешено баллотироваться в эдилы. Луций будет магистратом!
Публий молча кивал головой. Пусть мать думает, что он доволен ее выбором. Да, это ее выбор. Ей кажется, что служебная карьера сыновей должна проходить в том же строгом порядке старшинства, что и выдача дочерей замуж: сначала выдают замуж старшую дочь, а потом уже младшую. «Так и я буду всегда отставать от брата на два года. Я сражался при Тицине, спас отца, раскрыл заговор Метелла и помешал заговорщикам покинуть Италию. А что сделал Луций?»
В постели Сципион еще раз вспомнил разговор о знамениях. Кто мог поручиться, что какой-нибудь жрец не выдумал эту сказку про ребенка, закричавшего «триумф»? Надо же поднять у народа дух! А что, если... Решение пришло внезапно. Публий успокоился и уснул.
Рано утром в ночной тунике Публий вбежал в спальню матери:
— Мать, мне снился сон...
— Что-нибудь с отцом? — сказала Фульвия; клубок ниток выпал из ее рук.
— Не волнуйся. Отец тут ни при чем. Во сне я видел тебя. Ты, Луций и еще кто-то сидели на пороге дома, а я возвращался с форума в окружении друзей. Ты бросилась ко мне и крикнула: «Смотрите, мой сын — курульный эдил!»
— А дальше что? — нетерпеливо спросила Фульвия.
— Дальше я проснулся, — сказал Публий смущенно, словно извиняясь, что сон был таким коротким.
— Кажется, что вещий сон, — промолвила нерешительно Фульвия. — Возможно, баллотироваться следует тебе, а не Луцию. Впрочем, я посоветуюсь с гаруспиком [89], и как он скажет, так и будет.
Гаруспик Фабриций нашел сон вещим и посоветовал Фульвии, чтобы баллотировался ее младший сын. Фабриций знал обоих братьев и понимал, что в интересах Рима дать дорогу более способному и энергичному Публию.
Случилось так, как «снилось» Публию. В 542 году от основания Рима он был избран курульным эдилом. Мать встретила его на пороге.
— Точно так, как тебе снилось, мой мальчик! — говорил она, обнимая сына.
Публий Корнелий Сципион молча кивал головой. Пусть мать думает, что ему в ту ночь что-то снилось. Пусть так думают и другие.
ГАННИБАЛ У ВОРОТ!
— Ганнибал у ворот! Ганнибал у ворот! — с ужасом повторяли римляне, заполнившие площади и улицы города.
Как в дни самых страшных бедствий, матроны с воплями поднимали руки к небу и вытирали своими волосами ступени храмов, камни жертвенников.
— Ганнибал у ворот!
Уже восемь лет это имя витало над Италией. Сколько раз после страшных поражений легионов римляне называли его, бессильно сжимая кулаки! Сколько слез и стонов оно принесло Риму! Даже за сотни миль Ганнибал внушал римлянам ужас.
А теперь — страшно подумать! — Ганнибал у ворот.
Ганнибал смотрел на великий город. Рим был его целью, когда он принял командование войском. В диких, занесенных снегом ущельях Альп он мечтал о нем. Казалось, каждая победа приближала его к Риму. У берегов Тразименского озера были разгромлены легионы консула Фламиния. Римляне с ужасом ожидали, что Ганнибал двинется на их город. Но он не сделал этого. Воины были слишком утомлены. После разгрома римской армии при Каннах римляне с минуты на минуту ожидали появления Ганнибала. Тогда он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы двинуться на Рим.
Но ему было мало захватить Рим и разрушить его. Он мечтал о большем. Он верил, что ему удастся объединить под своей властью все племена Италии, римляне сами сложат оружие и он сделает Рим столицей своей державы. Но планы Ганнибала были разрушены стойкостью римлян и страхом перед ними италиков. Кроме Капуи, ни один город добровольно не перешел на сторону Ганнибала.
Ганнибалу пришлось совершать походы, чтобы заставить упрямцев понять, что им надо покориться. Во время одного из походов Ганнибала по Италии римские отряды, пользуясь его отсутствием, осадили Капую.
Тогда на выручку явился Ганнибал. Он заставил римлян снять осаду, но не мог долго оставаться в городе, не имевшем запасов продовольствия, и отступил. Вокруг Капуи сжалось железное кольцо римской осады. Вновь подошел Ганнибал. Он пытался вызвать римлян на открытое сражение. Римляне оставались в своем лагере, преграждавшем путь в город. Осаждать римский лагерь карфагеняне не могли. Римляне предусмотрительно уничтожили все запасы продовольствия и корма для лошадей в окрестностях Капуи. Тогда Ганнибал и решил совершить поход на Рим, надеясь, что осаждающая Капую римская армия двинется на помощь столице. Приказав ставить горящие сторожевые огни, быстрым маршем Ганнибал двинулся к Риму.
Ганнибал смотрел на Рим. Город казался совсем иным, не таким, каким прежде вставал в его воображении. Зная любовь римлян к порядку, их строгую военную дисциплину, он предполагал увидеть большой воинский лагерь — ровные, пересекающиеся под прямым углом кварталы, а вместо этого перед ним были тесные, кривые, извилистые улицы. Одноэтажные и двухэтажные домики тонули в темной зелени садов. Подчас виднелись одни кровли, крытые тесом и кое-где черепицей [90]. Ни одного храма, который мог бы сравниться по величию и красоте с храмами Танит и Ваал-Аммона! Рим нельзя было сравнить и с богатой и нарядной Капуей, широко расстилавшейся по равнине. И этот город он хотел сделать столицей своей державы!
Послышался топот.
— Повелитель! — крикнул гонец, остановив коня. — Римляне остаются под стенами Капуи!
Ганнибал отпустил гонца. Теперь уже в его взгляде было не любопытство, а раздражение и ненависть. Разве Канны не показали римлянам, что они не могут победить! Другой город на месте Рима давно бы сложил оружие, запросил бы пощады. А Рим продолжает борьбу, прячась за стенами, за рвами и частоколами, нанося удары исподтишка.
Ганнибал чувствовал бессилие перед навязанным ему римлянами способом ведения войны. Он, Ганнибал, привык сражаться в открытом поле, а его заставляют ждать. Время сейчас самый страшный его враг. Время отнимает у него союзников, опустошает казну, портит воинов.
Через два дня армия Ганнибала, разграбив окрестности Рима, разрушив загородные виллы, двинулась на юг. Римлянам уход Ганнибала казался чудом. Враги исчезли, как ночное видение, как сонм ларв [91], напуганных утренним светом. Римляне вышли из городских ворот и двинулись ко второму милевому камню на Аппиевой дороге, где стоял Ганнибал. Эти места были объявлены священными. Здесь среди надгробных памятников из белого камня, окруженных темной зеленью кипарисов, были воздвигнуты алтари божествам — охранителям города.
Неудачный поход Ганнибала на Рим открыл римлянам ворота беззащитной Капуи. Страшной была месть Рима.
Всех жителей города вывели на городскую площадь. На их глазах одного за другим секли розгами и казнили капуанских сенаторов, считавшихся виновными в отпадении Капуи от Рима. Римляне хотели напугать капуанцев, сломить их дух и волю.
Окончилась казнь. Ликторы вложили в фасции топоры. Консул приказал легионерам вывести всех капуанцев за стены их родного города и продать в рабство. В это время из толпы вышел капуанец с суровым и обветренным лицом и обратился к консулу:
— Ты сможешь потом хвастаться, что убил человека, который храбрее тебя. Люди, которых ты убил, не держали в руках оружия, а я воин. Казни меня.
— Ты сошел с ума! — воскликнул консул. — Я бы мог убить тебя за твою дерзость, но римский сенат даровал тебе, как и всем другим, стоящим здесь, жизнь.
— Зачем мне жизнь, — грустно сказал капуанец, — если родина моя в руках врагов, родные и друзья погибли, своей рукой убил я жену и детей, чтобы они не испытали рабства! Если ты мне отказываешь в смерти, я найду ее сам.
Выхватив из-за тоги спрятанный кинжал, человек пронзил себе грудь и упал к ногам потрясенного консула.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ЗВЕЗДА СОФОНИБЫ
НОВЫЙ КАРФАГЕН
Да, это была Иберия. Отсюда Ганнибал совершил свой немыслимый прыжок через Пиренеи и Альпы в Италию. Сюда шестнадцатилетним юношей плыл Публий Сципион на корабле вместе с отцом, надеявшимся разрушить это логово зверя и вырвать корни войны. Боги решили иначе. Отцу пришлось возвратиться в Италию, чтобы испить там горечь поражения. Но Иберия властно звала его к себе. В то время как на полях Италии Рим терпел одно за другим поражения, по сравнению с которыми Тицин мог бы показаться победой, из Иберии — да, только из Иберии — приходили благие вести.
Отец первым из римских полководцев перешел Ибер, считавшийся границей карфагенских владений. В решительных схватках во второе лето войны он уничтожил флот пунов и стал господином всего иберийского побережья до Нового Карфагена. Видя успехи отца, иберы восстали против пунов, и Газдрубал, брат Одноглазого, с остатками своего войска бежал к берегам океана.
В те годы, когда внимание было приковано к схваткам на полях Италии, мало кто понимал, что отец не менее, чем Квинт Фабий, заслужил почетное имя спасителя Италии. Теперь же всем известно, что уже в лето Канн Газдрубал получил приказ двигаться в Италию на соединение с Ганнибалом. Одноглазый не двинулся из Канн на Рим только потому, что ожидал своего брата со слонами и осадными орудиями. Ничего не спасло бы Рим, если бы с Альп, подобно снежной лавине, скатилось новое свежее войско пунов. Но отец этого не допустил.
Получилось так, что собранная в Карфагене армия, предназначенная для отправки в Италию, была переправлена в Иберию. Вот тогда сенат впервые оценил заслуги отца, тогда в народном собрании нашлись добровольцы, которые на свои средства отправили в Иберию корабли с продовольствием. А когда отец одержал победу при Илитургах и Интибалах, когда в Рим были доставлены сорок два вражеских знамени, когда все народы полуострова перешли к римлянам, смолкли голоса маловеров и недоброжелателей. Все поняли, что ключ к победе затерян в горах Иберии. Но отцу не удалось его найти. Отец погиб в расцвете славы и надежд.
Нет, не победе над двадцатью юнцами в Канузии и не другим мизерным делам обязан Публий своим назначением, а тем, что носит имя отца. Это имя стало такой же неотделимой частью Иберии, как названия ее гор и рек. Все привыкли к тому, что Сципион побеждает в Иберии, что Сципион захватывает города, что Сципион присылает вражеские знамена. И, если в Иберии нет Сципиона, значит, оттуда нечего ждать добрых вестей.
Публию придется сражаться с Газдрубалом Баркой, проведшим в этой стране чуть ли не всю свою жизнь, и соперничать со славой отца. Он должен быть не только достоин ее, но обязан ее превзойти.
Вот теперь он ждет к себе Килона, ждет и надеется на что-то, а это «что-то» может лопнуть, как пузырь.
Грек не изменился за эти годы. Он так же разговорчив и так же жаден.
— Скажи, Сципион, зачем тебе моя посудина, если в гавани, я сам видел, стоят тридцать отличных триер? Может быть, тебе снова хочется повидать Сифакса?
— Нет, Килон, пока еще нам рано в Ливию. Да и с Сифаксом мне не о чем говорить. Я слышал, что он снова сговорился с пунами и даже собирается жениться на дочери Ганнона. У меня дело поважней. Что ты скажешь о Новом Карфагене?
— Лопни мои глаза! Не хочешь ли ты меня послать в пасть циклопу? Из всех приключений Одиссея, сознаюсь, это мне менее всего по душе. На худой конец я согласен послушать сирен или испытать ласки Цирцеи.
— Ты догадлив, Килон, но сирен ты послушаешь, когда вернешься, а если тебя Цирцея устраивает больше Пенелопы, кто тебе может помешать?
— Что же нужно Риму в пещере циклопа?
— Узнать, дома ли пастух, а если нет, скольких баранов он оставил взаперти.
— Я тебя понял, — подхватил грек, — ты хочешь выяснить, в городе ли Газдрубал и какова численность гарнизона. А что будет, если меня схватят пуны?
— Одиссею было труднее, и то он вернулся на Итаку.
— Вернулся нищим, — вставил хитрый грек.
— На этот счет можешь не беспокоиться. Тебя ожидает награда в десять раз больше той, которую ты получил в прошлый раз.
— Ну что ж, я согласен. Только ты мне сверх этих денег дашь еще сто амфор масла.
— Зачем тебе столько масла. Ты его не съешь и не сожжешь за всю свою жизнь. Или, может быть, ты намерен стать бегуном и хочешь натираться маслом?
— Я не собираюсь ни есть, ни жечь твое масло. Что касается бега, то могу тебе признаться: серебро меня устраивает больше, чем лавровый венок [92]. Масло я буду продавать. Взгляни на меня.
Килон расправил свои редкие волосы и надвинул их на лоб, нагнул голову и изобразил на лице то угодливое выражение, которое появляется у торговцев, когда они хотят продать свой товар.
— Чтобы лампа не погасла, бери мое масло. Горит без дыма. Не проходи мимо!
— Похож! — рассмеялся Сципион. — Ты даже их прибаутки знаешь.
— Натрешь кожу — станешь моложе, — продолжал грек. — Жди меня через неделю, — сказал он другим тоном. — А если не вернусь, не забудь о моих земляках. Пусть выпьют вина на все деньги и совершат возлияния богам.
Весть о том, что на базаре за стеной Нового города масло продают в полцены, быстро распространилась. Стол, где Килон разложил свой товар, окружили хозяйки с лекифами. Было и немало зевак, собравшихся просто послушать говорливого эллина и посмотреть, как ловко он торгует. Лилось густое масло через отверстие воронки, и такой же бесконечной струей лилась из уст грека речь.
— Подходи, любезный, подходи! — зазывал он пожилого пуна с длинным копьем в руке. — Натрешь кожу — будешь моложе. Победитель Рима, не проходи мимо!.. Бери, красавица, масло понравится, — обращался он к женщине лет тридцати, заполняя ее лекиф. — Больше к тому же полюбишься мужу.
В толпе раздался смех.
— Вот и промахнулся, эллин! — крикнул кто-то. — Муж у нее в армии Газдрубала. У нее не муж на уме.
Женщина, поведя бедрами и метнув в говорившего гневный взгляд, удалилась. Ее место заняла другая хозяйка, подставив под струю масла свой лекиф.
Уже подходила к концу девяносто третья амфора. Вызывая своих покупателей на разговор, Килон успел узнать все, что требовалось Сципиону. Газдрубала, сына Барки, с войском нет в городе, он находится где-то у Гадеса. Вне города находятся и две другие карфагенские армии. В Новом Карфагене не более тысячи воинов.
Килон не заметил, как в толпе очутился толстый, как пифос, карфагенянин в красном плаще. Что ему надо? У него в руках нет лекифа, и он не похож на зеваку.
— Эй, приятель, — сказал толстяк, проталкиваясь к Килону. — Где я тебя встречал?
Килон опустил амфору на стол. Лицо карфагенянина ему тоже показалось знакомым. Где он видел эти оттопыренные уши?
— Доблестный воин, — сказал он как можно спокойнее, — ты меня мог видеть в Массалии. Мою лавку на агоре знает каждый.
— Не крути мне голову. В Массалии я не был.
— Умный человек может ошибиться только один раз, — загадочно сказал Килон. — Но клянусь Гераклом, ты не ошибешься, если возьмешь мое масло. Где ты найдешь лучше и дешевле?
— Да не нужно мне твое масло! Погоди. — Толстяк подошел так близко, что слышалось его тяжелое дыхание. — Не твою ли гаулу я остановил у Эгузы? Тогда ты был неаполитанцем и продавал вино и дал мне вместо фалернского какую-то протухшую воду.
Килон понял, что медлить больше нельзя: толстяк узнал его. Надо бежать. Но куда? Впереди — городская стена, справа — гавань, где стоит на якоре его посудина. Даже если удастся туда пробраться, карфагенские сторожевые суда догонят прежде, чем он успеет три раза свистнуть. Остается залив, что за спиной. Противоположный берег отсюда стадиях в десяти.
Схватив амфору с маслом, Килон плеснул ее в лицо остолбеневшему толстяку. Тот поскользнулся и упал.
— Держи его! Римский лазутчик! — ползая на коленях, вопил толстяк.
Килон уже был у воды. С разбега он бросился в волны и вынырнул шагах в десяти от берега. Оглянувшись, он увидел, что к берегу бежит человек шесть и среди них толстяк с лицом, заляпанным маслом.
Килон плыл, напрягая все силы. Кровь стучала в висках, в груди хрипело. Мешали сандалии, и он сбросил их, разорвав завязки. Преследователи откуда-то раздобыли лодку. Расстояние между лодкой и Килоном сокращалось. Килон напрягал последние силы. Он уже слышал плеск весел и торжествующий вопль: «Не уйдешь!»
Килон выбросил тело из воды, чтобы взглянуть в последний раз на сияющее небо. «Пусть меня сожрут рыбы, — пронеслось у него в мозгу, — это лучше, чем пытки и крест».
И в этот момент волны стали откатываться гряда за грядой. Килон ощутил ногами дно. И вот Килон уже бежит по песчаной отмели, соединяющейся с берегом. А где же лодка? Лодка уткнулась носом в песок, но это не та отмель, по которой бежит Килон. Между отмелью Килона и отмелью, остановившей преследователей, широкая полоса воды. Что делать? Перетащить лодку через песок. Все шестеро схватились за нос и борта лодки. Жилы готовы лопнуть от напряжения, а лодка едва сдвинулась с места. Еще раз! Тот же результат. Нет, лучше вплавь. Преследователи подбежали к воде и стали сбрасывать с себя сандалии и плащи. Первым вошел в воду толстяк, но тотчас же повернул назад. Видимо, вода показалась ему холодной. Килон был уже на берегу. Не оглядываясь, он бежал к камышам.
— Ушел! — взвизгнул толстяк и, дрожа всем телом, стал натягивать свой красный плащ.
— Что с тобой, Килон? — спросил Сципион, с удивлением глядя на разорванную одежду, на разбитые в кровь ноги грека. — Где твоя посудина?
Килон сделал жест, показывающий, что корабль потерян.
— Все оттого, что я торговал маслом, — сказал он, как бы оправдываясь. — Мне надо было им натираться, тогда бы я ускользнул из города незамеченным.
И Килон рассказал Сципиону все по порядку до того момента, как стали отходить волны и он коснулся ногами дна.
— Это был отлив, — сказал Сципион. — Конечно, отлив. А в каком это было часу дня?
— Часа два до полудня, — отвечал Килон.
Сципион задумался.
СОН СЦИПИОНА
С возвышенности виден весь Новый Карфаген, расположенный на узком полуострове в обширном заливе. Утреннее солнце золотило высокие кровли и квадратные стены башен. Над плоскими черепичными крышами возвышался дворец, утопавший в зелени садов. Говорят, в этом дворце преемник Гамилькара был заколот во время свадебного пира.
— Посмотрите на этот город, — говорил Сципион выстроившимся воинам. — Сюда свозят пуны все серебро из рудников Иберии. Здесь хранятся несметные богатства, и все они буду принадлежать римскому народу и вам, победителям. В городе сейчас нет вражеской армии. Только тысячу воинов оставил здесь Газдрубал, брат Ганнибала. На нашей стороне сила и помощь богов. Этой ночью я видел сон — сам владыка морей Нептун протягивал мне золотые короны с зубцами, чтобы я наградил ими храбрецов, одолевших стены города.
Воины слушали полководца затаив дыхание. Они были суеверны. Они верили вещим снам.
Бой начался по звуку военной трубы. Оттеснив пунов, совершивших вылазку из города, римляне придвинули к стенам лестницы и стали взбираться по ним вверх. Стены были очень высоки. Сверху сыпались груды камней, летели окованные железом бревна, лились кипяток и расплавленная смола. Воины обрывались и падали с головокружительной высоты. Их место занимали другие. Время шло. Римляне гибли. Не золотая корона с зубцами, а каменный столбик и могила в чужой земле выпали им на долю.
Нет, не сбывался пророческий сон Сципиона. «Какое дело богу морей Нептуну до осады городов! — ворчали воины, снимавшие осадные лестницы. — Вот если бы дело шло о морском сражении, тогда Нептун мог бы помочь».
Осажденные карфагеняне не знали ни о сне Сципиона, ни о его планах. Слыша сигнал отбоя, они радовались, что опасность миновала. Главное для них сейчас — выиграть время, пока не подоспеет помощь. Уже отправлены гонцы ко всем трем армиям в Иберии: к Газдрубалу — сыну Гамилькара Барки, к Газдрубалу — сыну Гескона, и Магону. Они явятся и выручат город из беды.
Штурм города со стороны перешейка был предпринят Сципионом лишь для отвода глаз. Отборных воинов консул направил к заливу. Воины недоумевали, зачем их сюда послал полководец без кораблей и лодок для переправы. И вдруг начали откатываться волны, кое-где обнажая дно. Легионеры вспомнили о сне Сципиона. Сам Нептун осушил море, чтобы дать им пройти к стенам города.
Воины двинулись в залив. Ноги застревали в песке и в иле. Оружие и лестницы в вытянутых вверх руках стали втрое тяжелей. Местами вода доходила до горла. Но воины шли и шли. Вот и городская стена, сползающая к самому морю. Здесь она много ниже, чем со стороны перешейка. Подвинуть лестницы и взойти по ним — дело нескольких мгновений. Теперь по стене вправо и влево — к ближайшим воротам. Враги уже обнаружили римлян. Но в городе лишь тысяча воинов. Штурм начался.
Снова со стороны перешейка к стене пододвинуты лестницы. Как муравьи во время наводнения вползают на корягу, так римляне взбираются на стены города. Упорные, цепкие и беспощадные, они опрокидывают вниз врагов, охраняющих башни, спускаются по веревкам к воротам, сбивают замки и засовы.
Теперь уже не отдельные воины, а целые манипулы с поднятыми вверх военными значками развернутым строем вступают в город.
Призывно звучит труба. Сколько дней в утомительных учениях и тяжелых походах солдаты мечтали услышать эту мелодию! Она разрешает любое насилие, любую бессмысленную жестокость. Женщина, старик, грудной ребенок — никому нет пощады. Полководец разрешает им все. Попадется на пути собачонка, виляющая хвостом, — удар мечом. Осел, жующий сено, — снова удар.
Вечером богу Нептуну была принесена благодарственная жертва. Легионеры были уверены, что Нептун даровал им победу. Получая из рук Сципиона золотые венки с зубцами, копья, чаши и конскую сбрую [93], воины вспоминали о вещем сне полководца. Произошло так, как он предсказал.
И только один человек в целом мире знал наверняка, что римляне обязаны своей победой не богу Нептуну, а естественному явлению — отливу, а также сообразительности молодого полководца, втайне от всех решившего взять город со стороны залива. Но этого человека, показавшего римлянам дорогу к победе, уже не было в Иберии.
СЛЕЗЫ ДОЧЕРЕЙ
Дворец Ганнона готовился к пиру. По всем лестницам и коридорам огромного дома сновали рабы с красными от бессонницы глазами. Из подвала, где располагалась кухня, доносился стук ножей, звон металлических тарелок и крики эконома, торопившего поваров, кухарок и пирожников. Из сарая в глубине двора слышался визг и тявканье щенят. Чтобы мясо было нежным и сочным, щенят вторую неделю поили одним молоком.
Мрачные залы дворца украшались гирляндами зелени и восковых цветов, ни в чем не уступающих живым. Если положить рядом две розы — живую и восковую, — даже садовник не сможет их различить, и только пчела указала бы на живой цветок, сев на него.
К стволам пальм, столбам ограды и мраморным колоннам портиков прикреплялись факелы и светильники. В то мгновение, когда перед гостями покажутся жених и невеста, факелы и светильники будут зажжены, забьют невидимые фонтаны и из портиков польются звуки флейт.
За окованной железной дверью рабыни под присмотром самого Ганнона разбирали содержимое сундуков, чтобы выбрать приданое Софонибы. В этих сундуках хранились не доспехи, снятые с неприятеля в бою, не дорогое оружие, а сокровища, принадлежавшие некогда предприимчивым предкам Ганнона, морякам и пиратам, и доставшиеся ему по наследству. Среди предков Ганнона называли великого мореплавателя, основавшего двести пятьдесят лет назад за Столбами Мелькарта тридцать карфагенских колоний. Дар этого мореплавателя — шкуры диковинных чудовищ — был одной из достопримечательностей храма Танит, а прибитая к стенам храма бронзовая табличка содержала рассказ о его необыкновенных приключениях. Правда, в этой табличке не было указано, что великий мореплаватель умер на чужбине, преследуемый знатью и жрецами, но народ знал об этом. Слава Ганнона Мореплавателя озарила далеким, но немеркнущим светом потомка, носящего то же имя.
Рабыни вынимали из сундуков тяжелые ткани и ковры с причудливыми узорами, бусы из янтаря, золотые и серебряные украшения, стеклянные финикийские и египетские сосуды. Все это получит дочь, царица массасилов. Кто, видя эти сокровища, осмелится сказать, что Ганнон скуп? А когда Софониба увезет эти богатства и украсит ими царский дворец в Цирте, смолкнут голоса недоброжелателей.
Двор Сифакса и Софонибы не уступит в роскоши дворам восточных владык.
В последние годы Ганнон находился в тени. Если о нем вспоминали, то в связи с его упорной и непонятной враждой к Ганнибалу. Если Ганнона слушали в Совете, то только из вежливости. Все сторонники Ганнона отошли от него, подкупленные Баркидами или ослепленные блестящими победами Ганнибала. А теперь имя Ганнона повторялось повсюду с уважением. Почитатели Ганнона чуть ли не носили его на руках. Стали вспоминать, что в то время, когда едва ли не весь Карфаген поддерживал честолюбивые замыслы Ганнибала, один Ганнон сохранил трезвую голову и призывал к дружбе с Римом. Кто, как не Ганнон, настаивал, чтобы Ганнибала, еще юнца, задержали в Карфагене, а потом, когда Ганнибал осадил Сагунт, требовал его выдачи римлянам. Если бы тогда вняли совету Ганнона, Карфаген умножил бы свои богатства, а не растратил их на слонов и наемников, сохранил бы свои заморские владения, не ждал бы с минуты на минуту вторжения врагов. Зачем нужны были Карфагену слоны и огромная сухопутная армия? Разве не море дало ему богатство и славу? Нет, не море изменило Карфагену, как утверждают глупцы, а Карфаген изменил морю. И теперь море мстит Карфагену. Оно отступило, и римляне по суше прошли к Новому городу. У Карфагена нет кораблей для защиты Иберии и Балеарских островов. У Карфагена нет кораблей для борьбы с вражеским вторжением. «Строить корабли!» — этот призыв Ганнона был подхвачен всем народом. Строительство кораблей было выгодно не только богатым купцам, поставлявшим лес, смолу, медь, канаты, но и городскому люду, жившему трудом своих рук. Но вдруг Сципиону удастся обмануть бдительность моряков и высадиться в Африке? Ганнон предусмотрел и это. «Римлян сбросит в море конница», — утверждал Ганнон и дал Карфагену конницу. Поклонники политического гения Ганнона утверждали, что еще десять лет назад Ганнон предвидел бедственное положение Карфагена и необходимость союза с Сифаксом, тогда тяготевшим к римлянам. Именно поэтому он не выдавал замуж свою единственную красавицу дочь, которой теперь тридцать лет.
Правда, ходили упорные слухи, что замуж отказывалась выходить сама Софониба, но кто поверит, что человек, сумевший повести за собой весь народ, пойдет на поводу у женщины! Да и какая девушка откажется от замужества и заточит себя в четырех стенах?
День брачного торжества приближался, и весь город с радостным нетерпением ожидал прибытия Сифакса с пятьюстами всадниками и даровых угощений, обещанных Ганноном. Не с таким же ли чувством четверть века назад карфагеняне ожидали слонов, которые, казалось, сулили счастье, но ввергли государство в пучину несчастий?
И только для одной невесты приезд царя и брак с ним были страшным и неотвратимым бедствием. Ганнон обманул дочь, уверив ее, что Масинисса погиб в Иберии. Эта ложь казалась Ганнону необходимой, чтобы вырвать у дочери согласие на брак с Сифаксом, к которому она не питала никаких чувств. Но ложь была слишком сильным лекарством, пострашнее самой болезни. Ганнон не представлял себе, как пройдет брачный пир, если невеста в слезах.
— Довольно слез, говорил Ганнон дочери. — Я не хочу, чтобы весь город знал о твоем своеволии! Да, я тебе обещал, что ты не будешь женой варвара. Но боги решили иначе. К тому же Сифакс царь и наш друг. Он ради тебя отказался от союза с Римом. Ведь твой Масинисса тоже был варваром, и будь он жив...
Глаза Софонибы яростно сверкнули.
— Не называй этого имени! Довольно того, что я согласилась исполнить твою волю. Чего же ты хочешь еще? Отнять единственное, что у меня осталось, — мое горе, мои воспоминания? Я любила Масиниссу. Да будь он простым пастухом, я не променяла бы его на всех царей мира со всеми их сокровищами.
Софониба закрыла лицо руками. Там, за стенами ее дома, ее города, был просторный, залитый солнцем сказочно прекрасный мир. Масинисса пришел оттуда, чтобы взять ее с собой. А они заперли ее, заперли в четырех стенах. Что для них она? Приманка в их грязной игре. «Если ты полюбила одного варвара, можешь полюбить и другого». Такова воля отца.
— Софониба, я не сказал тебе главного. — Ганнон сел рядом с дочерью. — Римляне взяли Новый Карфаген. У нас нет армии, нет казны. Все сожрало отродье Гамилькара, будь оно проклято! Если Сифакс нам не поможет, Карфаген не продержится и дня. Римские варвары будут подгонять стариков и детей копьями на свои корабли, а знаешь ли ты, что такое римское рабство? Они осквернят наши храмы, надругаются над нашими святынями. Ты должна забыть о Масиниссе. Пусть никто не подумает, что тебе неприятен этот союз.
Софониба опустила голову. У нее нет больше сил противостоять упорству отца. Пусть будет так, как он хочет. Но ее душа будет закрыта для него навсегда, для него и для всех.
БЕЗУМНАЯ НЕВЕСТА
С далеких, покрытых вечными снегами Пиренейских гор дул порывистый северный ветер. От его холодного дыхания склонялись верхушки дубов. Пожелтевшие листья и желуди падали на дорогу. «Тук-тук!» — слышалось, когда желуди ударялись о камни. Но вот раздался еще какой-то звук, отдаленно напоминающий удары желудей: «Ток-ток!» Из-за поворота дороги показался всадник на белом коне. Человек в черном плаще прижался к гриве коня. Он мчался с такой быстротой, словно от скорости зависела его жизнь. «Ток-ток!» — стучали копыта.
Всадником был Масинисса. Сегодня он узнал всю правду, правду, которую давно уже знали все — и Магон и даже Газдрубал: Ганнон выдал свою дочь за Сифакса. А он еще считал Баркидов своими друзьями! Ни Магон, ни Газдрубал не предупредили его об игре, которую вел Ганнон. Они с ним заодно. Эта мысль привела Масиниссу в ярость.
У развилке дороги Масинисса увидел женскую фигуру в белом. Что делает женщина в горах, где до ближайшего селения полдня пути? Масинисса придержал коня. Не странно ли, — на женщине свадебный наряд. Невеста одна в горах!
Женщина шла к нему навстречу, простирая вперед руки, как слепая.
Нумидиец остановил коня. Луна осветила лицо, белое как мел, с черными горящими глазами.
— Кто ты? — спросил Масинисса.
— Вламун, куда ты скачешь? — молвила незнакомка. — Не трогай Газдрубала. Не обнажай кинжал.
Масинисса оцепенел. Эта странная незнакомка прочла его затаенные мысли. Она пророчица. Да, он задумал убить Газдрубала и бросить его голову к ногам Сципиона. Тогда римляне вернут ему владения отца, которые Ганнон отдал Сифаксу и его сыну Вермине.
— Вламун, — кричала женщина, протягивая к Масиниссе руки, — не пляши на пиру Газдрубала! Надень маску, надень маску.
Масинисса хлестнул Мерга, и женщина в белом осталась за поворотом дороги. Масиниссе стало ясно, что это безумная. И раньше он слышал, что потерявшие рассудок люди обладают удивительным даром пророчества. В Нумидии их окружают почетом, прислушиваясь к каждому слову. Но этой пророчице известно даже имя человека, которого он, Масинисса, должен убить.
Внезапно догадка озарила Масиниссу. Несчастная говорила о другом Газдрубале, том, которого Магон называет Стариком. Он был заколот много лет назад на пиру каким-то ибером. Что это дало Иберии? Старика сменил Ганнибал, подчинивший многие прежде независимые племена Иберии. Нет, все-таки эта женщина пророчица. Она советует надеть маску. И он последует ее совету. Никто не должен знать, что он задумал. Пусть Газдрубал и Магон считают, что он хочет возвратиться в Карфаген лишь для того, чтобы отомстить Сифаксу, своему врагу и другу римлян.
ОСЛИНЫЕ УШИ
В то время, когда Сципион брал Новый Карфаген, Килон находился на пути в Италию. Римский полководец щедро расплатился с лазутчиком. Он дал ему записку на имя аргентария [94] Скинтия с просьбой выдать подателю этой записки пять тысяч сестерциев. Килон хорошо знал таверну Скинтия, она находилась на форуме за храмом Сатурна.
Грек живо представлял себе, как Скинтий заведет его в свою таверну и будет долго рассматривать записку Сципиона и отпечаток его перстня. Ведь не каждый день приходится выдавать такую сумму. А пока меняла будет разглядывать доверительное письмо, он, Килон, будет сидеть с важным видом, положив ногу на ногу. Сидеть и молчать. Молчать, о чем бы его ни спрашивал меняла. Или говорить о погоде и о других ни к чему не обязывающих пустяках. Меняла удивится. «Что с тобой, Килон? — скажет он. — В прошлый раз, когда я тебе выдавал двести сестерций, ты мне так подробно все описал, что мне кажется, я сам побывал в Африке, а теперь ты стал таким важным и неразговорчивым, словно получил наследство или тебя избрали в сенат!» И как ни будет хотеться Килону рассказать о своей торговле маслом в Новом Карфагене, и о чудесном спасении, и о щедрости полководца, из своих личных денег заплатившего ему за захваченный пунами корабль и гребцов, Килон будет молчать. Сципион взял с него клятву, что он ни с кем не обмолвится словом о том, что он был в Новом Карфагене. «Вот тебе еще сто сестерциев за молчание», — сказал Сципион. Эти деньги позвякивают у него в кожаном мешочке как напоминание о клятве. И если ему каждый раз будут платить столько за молчание, то он будет нем, как рыба, или станет объясняться знаками. А в море? С кем говорить в море? С рыбами? Или с гребцами-варварами, знающими лишь свистящий язык плети?
Но время шло. Уже трое суток корабль находился в пути, и Килон ни с кем еще не поговорил, не поделился своей радостью. Килон испытывал ощущение раба, который знал о тайне царя Мидаса, но вынужден был молчать под страхом смерти. Но тот раб мог, по крайней мере, пойти на берег реки, выкопать во влажной земле ямку, лечь плашмя, прикрыть ямку ладонями с двух сторон и шептать: «У царя Мидаса ослиные уши! У царя Мидаса ослиные уши!» А куда пойдет Килон, если он на корабле? Десять шагов вправо — нос, семь шагов влево — корма. Не будет же он разговаривать с этим кормчим-ибером, который лишь за огромные деньги согласился взять его к себе на корабль! Правда, Килон мог подождать, пока прибудет триера из Рима, но ему не терпелось побыстрее получить свои деньги. Надо еще купить лесу и рабов для постройки новой триеры. Как он ее назовет?
Подобрать счастливое имя для корабля не легче, чем выбрать имя для сына или название для книги. Как назло, на память приходили самые избитые имена: «Быстрый», Легкий", «Неуловимый». Нет, все не то. А если посоветоваться с тем пассажиром, которого он видел мельком во время посадки? Было уже поздно, и он как следует не разглядел его лица. Но, судя по всему, это человек в летах и с опытом. Неужели он не имеет права поговорить с человеком, которого он больше никогда не увидит? Он только спросит у него, какое имя лучше звучит и сулит кораблю и его кормчему удачу: «Дельфин», «Чайка», «Мурена»? Но где этот пассажир? Он почему-то не выходит на палубу. Может быть, его мучает Нептунова болезнь? Тогда он ему посоветует тридцать три способа лечения. И прежде всего — взять в рот глоток вина и держать его там до тех пор, пока не почувствуешь облегчение. А если это не поможет...
Килон спустился в трюм. Ровно шумела вода, бежавшая где-то за бортом. Пахло сыростью и плесенью. По низкому потолку текли тоненькие ручьи. Холодная капля уколола в щеку Килона. Дверь каюты, где, как он полагал, находился незнакомец, была полуоткрыта, но там слышались голоса.
— Завтра мы будем в Неаполе, — послышался голос, принадлежащий, по всей видимости, кормчему.
— Не забудь, что ты должен меня высадить ночью.
— Тогда днем я пойду к Кумам и выкину этого грека, а когда стемнеет — тебя.
— Зачем ты его брал на гаулу? — недовольно сказал незнакомец.
— Он тебе не помешает. Сидит весь день на палубе, как воды в рот набрал, и что-то отсчитывает по пальцам. Наверно, решает, сколько бы он сэкономил денег, если бы не навязался ко мне на корабль. Прощай, до вечера.
Килон юркнул под лестницу. Ему не хотелось, чтобы его видели, но разбирало любопытство: кто же этот пассажир, прячущийся от людей и желающий почему-то высадиться на берег ночью?
Дверь открылась, и Килон увидел хорошо знакомое лицо своего преследователя. Оттопыренные уши, курчавая бородка. Конечно, это он. Килон затаил дыхание. Если еще раз его увидит этого карфагенский боров, на спасение нечего рассчитывать. Море не расступиться, как в заливе Нового Карфагена. Конечно, это лазутчик, направленный к Ганнибалу. А кормчий с ним заодно.
МЕТАВР
Килон, благополучно высадившийся в Неаполе, тотчас же предупредил римлян, кого привезла иберийская триера, и сообщил приметы своего преследователя. В Кумах лазутчика не удалось настигнуть. Видимо, кормчий высадил пуна не в гавани, а в какой-нибудь укромной бухточке Куманского залива. Вокруг лагеря Ганнибала была усилена охрана. Консул Клавдий Нерон, стоявший со своим войском рядом с этим лагерем, близ Канузия, приказал окружить его таким заслоном, чтобы к пунам не проникла и мышь. Усилия консула увенчались успехом. Лазутчик был схвачен часовыми. Переодетый в греческого торговца, он так ловко играл свою роль, что римляне готовы были его отпустить. Пуна выдал крошечный кусок папируса, вшитый в подкладку хитона. Это было письмо к Ганнибалу.
Газдрубал Барка сообщал, что вместе с войском и боевыми слонами движется в Италию и назначает местом встречи Фламиниеву дорогу, так, где к ней близко подходит речка Метавр.
Клавдий Нерон был достаточно умен и опытен, чтобы понять значение этого известия. Если Газдрубал прибудет в Италию со свежим войском и соединится с Ганнибалом, можно считать войну проигранной. Вновь восстанут галлы, и на этот раз ни одно из галльских племен не останется верным Риму. Нерону стало ясно, почему Ганнибал не покидает своего лагеря. Он ожидает письма от брата и будет его ждать в лагере у Канузия во что бы то ни стало. Нерон принял смелое решение.
Ближайшей ночью консул незаметно вывел большую часть своего войска из лагеря, выставив усиленные сторожевые посты. Оставшимся в римском лагере воинам было приказано шуметь и жечь костры, чтобы враги думали, будто в лагере целая армия. Сам консул Нерон шел на соединение со своим коллегой Марком Ливием к Метавру.
Блистал ослепительный день. Солнце вовсю сверкало в раскаленном добела небе. Холмы на берегах Метавра осенены силуэтами траурных пиний [95]. Высоко в небе парят коршуны. Кажется, они уже высматривают себе добычу. И, может быть, глаза, сейчас следящие за полетом птиц, сегодня или завтра будут их пищей.
Все эти годы Газдрубал мечтал о встрече с братом. Как он завидовал Магону, разделившему с Ганнибалом все опасности италийского похода и его славу! Газдрубал должен был соединиться с братьями уже во второе лето войны. Они вместе должны были осаждать Рим. Но в Иберии появились Сципионы, сначала братья Гней и Публий, а потом сын Публия — Публий Сципион! Есть что-то змеиное в этом имени. Отсечешь одну голову — появится другая. Отсечешь другую — шипя раздвоенным языком, высунется третья. А там в норе, называемой Римом, может быть, уже вылупился и ждет своей очереди какой-нибудь Сципионыш.
Сципионы — выводок змей! Они опутали всю Иберию, на брюхе проползли в Новый Карфаген. Но им не удалось помешать походу Газдрубала. Пока все шло удачно. Всего за два месяца войско перенеслось из Иберии в Италию. Перед ним расступились горы, отступили враждебные племена. Где же брат? О месте встречи он извещен лазутчиком, самым надежным из всех. Лазутчик отправился в Италию на корабле вскоре после падения Нового Карфагена. Кормчий, высадивший его близ Кум, вернулся в Иберию и сообщил, что поручение выполнено. Почему же вместо брата на той стороне дороги римляне?
Один за другим прогудели рожки во вражеском стане. Два рожка — две консульские армии. Где же тогда брат? Какой консул с ним воюет? Или римляне стали избирать трех консулов? Или брат погиб? Тогда зачем этот поход, к чему битва? Но этого сражения не избежать. Местность незнакомая, проводники еще вчера скрылись. При отступлении можно легче попасть в ловушку, да и воины слишком устали, чтобы отступать. Надо сражаться! Может быть, шум боя привлечет брата? Может быть, он уже спешит на помощь и торопит своих воинов: «Скорей! Скорей!»
Призывно загудели трубы. Бывало, стоило их лишь поднести к губам, наемники мчались, на бегу поправляя шлемы и латы. А теперь они с трудом поднимались с земли и, прихрамывая, шли в строй. Воины строились лицом к дороге, иберийцы — на правом, галлы — на левом фланге.
Эта дорога называется Фламиниевой. Она носит имя римского консула, разбитого братом во второе лето войны. Брат до своего похода в Италию часто говорил о Фламинии, римлянине, захватившем всю эту страну до Альпийских гор. Ганнибалу казалось, что, если он разобьет Фламиния, Рим падет. Ганнибал разгромил Фламиния, а после него многих других римских полководцев, а Рим стоит, как прежде. Десятки тысяч римлян пали у Тразименского озера, на равнине близ Канн, но их место в строю заняли неведомо откуда взявшиеся бойцы. Может быть, мы сражаемся не с людьми, а с призраками, которым нет числа? И теперь перед войском распласталась эта прямая дорога, словно мстительный дух римского консула поставил каменную преграду, какую не перейти.
Правый фланг строя уперся в покрытый кочками холм. Видимо, здесь раньше был виноградник. Остались подпорки для лоз.
Как не хватает конницы! Газдрубал поставил бы ее в засаде за этим холмом. В нужный момент всадники выскочили бы из-за холма, обтекая его справа и слева. Но конница теперь в Карфагене! Масинисса, так рвавшийся в Италию, стал вдруг к ней равнодушен. И это, как заметил Газдрубал, началось с того дня, когда нумидиец узнал об обмане Ганнона. Пришлось отправить Масиниссу в Ливию. Ненависть нумидийца к Сифаксу и жажда мести пересилили все и заставили нарушить данное слово. А впрочем, может быть, в Карфагене Масинисса сейчас нужнее, чем здесь.
Железными палками погонщики поднимали слонов. «Когда ты пришлешь слонов?», «Что с моими слонами?» — спрашивал Ганнибал в каждом письме. И Газдрубал привел слонов в Италию. Из Иберии вышло пятьдесят слонов, после Альп уцелело десять. Остались позади Альпы, пройдены могучие реки Родан и Падус, впереди лишь эта дорога, но она стала рубежом на пути войска, в жизни этих тысяч людей, в борьбе за Италию.
Слоны медленно шли проходом, образованным колоннами галлов и иберов. Топот их ног отзывался в ушах, как удары погребального колокола. Со спин ливийских гигантов свисали пестрые лохмотья выцветших и истрепавшихся попон. Какая безнадежность в наклоне их голов, в свисающих к земле хоботах! Казалось, слоны предчувствуют, чем кончится эта битва.
КОЖАНЫЙ МЕШОК
Вот уже второй месяц стоит войско Ганнибала под Канузием, оградившись валом и частоколом. Уже очищены все соседние селения, и скоро нечего будет есть. Давно пора перекочевать в другие, еще не опустошенные части Италии, а Ганнибал медлит. Чего он ждет? Может быть, он думает, что римляне выйдут из своего лагеря и дадут ему сражение? Но в последние недели римляне совсем не покидают своего стана. Они только поют песни и жгут костры. А чем питаются эти десять тысяч воинов? Что они намереваются делать дальше?
Ганнибал вызвал Дукариона. Кто, как не этот инсубр, бывший рабом у римлян, сможет проникнуть в лагерь Нерона и узнать, что там делается.
Ночью Дукарион незаметно подкрался к валу римского лагеря. Если протянуть руку, можно коснуться дерна, которым римляне обкладывают вал. Томительно медленно тянулось время, словно боги задержали его бег, чтобы испытать терпение Дукариона. Наконец над головой послышался шум шагов и голоса. «Часовые!» — подумал Дукарион и еще теснее прижался к земле. Высохшие травинки щекотали его лицо. Земля пахла горечью полыни и еще сохраняла дневное тепло. Напрягая слух, Дукарион старался разобрать, что говорят римляне. Может быть, удастся из их слов узнать, когда сменяют караул и приносят дощечку с паролем.
— Пора собирать виноград, — сказал один из часовых. — Видишь ту звезду? Ее называют Виноградарем. Когда она начинает всходить — готовь корзины и амфоры. В нашей местности виноград сажают возле деревьев. Лозы пускают побеги и вьются вокруг стволов.
— А у нас виноград не растет, — послышался другой голос, более звонкий, видимо, он принадлежал юноше. — Земля слишком жирная. Мы разводим капусту. Кочаны вырастают больше головы. В это время мы их везем в Рим...
Это был не разговор грозных римских легионеров, а беседа мирных людей, оторванных от привычных занятий, от виноградников и огородов, от дома и семьи. И, может быть, впервые за все эти годы Дукарион почувствовал всю бессмысленность дела, которому он отдал себя. Разве он родился воином? Если бы не римляне, он до сих пор пас бы коней на берегу Боденка. Как блестели их бока и спины, облитые луной! Хруст пережевываемых стеблей, тихое ржание сливались с говором волн и потрескиванием костра. Мог ли он тогда думать, что ему придется ночью ползти по заросшему сорняками полю для того, чтобы выполнить приказ какого-то чужеземца, убивать, брать в плен пахарей и виноградарей или быть убитым ими! Но у него, Дукариона, нет иного выхода. Он прикован к Ганнибалу, как раб-гребец — к борту корабля. Если ему удастся порвать цепь, все равно вокруг враждебное море, вздымающее злые волны. Бежать в Галлию? Но как уйти от римлян, стерегущих все дороги на север? Отдаться им в плен — все равно не избежать рабства, которое страшнее смерти.
Внезапно послышался отдаленный топот шагов, шум голосов. Видимо, к воротам, что на противоположной стороне римского лагеря, приближалось вражеское войско.
«Римляне готовятся к сражению, — решил Дукарион. — Наверно, подошел свежий легион».
— Наконец-то вернулись! — послышался голос старшего часового.
— Смотри, слонов привели! — воскликнул другой часовой. — Не за ними ли уходил Нерон?
Дукарион медленно отползал, стараясь держаться ближе к заросшей меже, видимо отделявшей владения двух хозяев. В небольшой рощице, уже не опасаясь, что его заметят, Дукарион встал и пустился бегом к своему лагерю.
Так стало известно, что консульское войско покидало лагерь, оставив в нем небольшое число воинов. Но куда оно уходило? Откуда у римлян появились слоны? Тревожные мысли овладели Ганнибалом.
На следующее утро Ганнибалу принесли кожаный мешок. Часовые обнаружили его у вала лагеря.
— Развяжи! — приказал Ганнибал часовому.
На траву упала окровавленная голова.
— Римская шутка? — презрительно сказал полководец, но тут же, охваченный внезапной догадкой, опустился на колени. — Вот мы и встретились, брат! — тихо произнес Ганнибал.
С какой-то необычной яркостью и отчетливостью в его потрясенной памяти всплыли детская, ковер на полу и эти щеки, раскрасневшиеся от борьбы. В ушах звенел торжествующий крик: «Рим победил!», и суровый оклик отца: «Оставьте эту игру, львята!» «Тогда Газдрубалу было шесть лет, мне девять, а Магону три года, — думал Ганнибал. — Тогда был еще жив отец, полный веры в будущее. Тогда в Карфаген прибыло двенадцать слонов, двенадцать индийцев, а Старик сомневался, что можно приручить ливийцев... Игра затянулась на долгие годы. Кончить ее труднее, чем начать».
Похоронив голову брата, Ганнибал повел свое войско на крайний юг Италии, в Бруттий.
В ХРАМЕ ГЕРЫ
Неподалеку от древнего Кротона [96] на покатом склоне обращенного к морю холма высился белокаменный храм Геры. Стройные кипарисы указывали мореходам место святилища. Здесь было прохладно даже в дни сияния Сириуса: зной июльского солнца не проникал через огромные глыбы, делавшие храм похожим на крепость. У подножия холма паслись стада одетых в шубы тарентийских овец [97], некогда принадлежавшие жрецам, а теперь ставшие собственностью войска, как и все, что вокруг. Здесь же, между двумя масличными рощами, вырос карфагенский лагерь. Во время бури брызги доходили до крайних шатров, и говор волн наполнял и шатры и внутренность храма.
Со ступеней святилища открывался вид на неоглядное море. Волны ряд за рядом бежали на скалистый берег. В их исхлестанных ветром гребнях угадывались причудливые очертания человеческих лиц и заломленных рук, виделось воинство, бросаемое в схватку с беспощадной стихией. Из-за узкой синей кромки, отделяющей море от неба, каждое утро вставал золотой шлем Мелькарта. Чем выше поднимал свою голову солнечный бог, тем яростнее и нестерпимее становился жар, из золотого шлем делался белым. Не так ли меняет окраску металл, когда его бросают в горн? Совершив по небу свой неизменный путь, Мелькарт в другой стороне моря сходил в волны, принимавшие цвет его шлема. И так день за днем.
Но ни шум волн, ни великолепное зрелище восхода и заката солнца не могли отвлечь полководца от мучительных мыслей. Он, для кого жизнь являлась схваткой, был обречен на бездействие, на ожидание вестей оттуда, куда перекинулась война. Казалось, о нем забыли и друзья и враги. Флот с продовольствием, посланный ему из Карфагена, уничтожен бурей у берегов Сардинии. Македонский царь Филипп V, обещавший ему помощь, заключил с Римом мир. Италия, терпевшая его, пока он побеждал, теперь окружила его молчаливой враждебностью. Стоило приблизиться ему к городу, ворота опускались. Пустели селения, их жители разбегались, сжигая посевы, уводя скот.
А его армия? Она состоит наполовину из уроженцев Италии: галлов, греков, кампанцев, самнитов. Он обещал, что поведет их на Рим. А вместо этого он увезет их в Ливию?! Нет, они не покинут Италии. Они могут сражаться только здесь, защищаясь от римлян и отстаивая свою свободу.
Все чаще и чаще Ганнибал думал о Сципионе, словно в имени и делах этого римлянина таилась разгадка судеб войны. Уже в том, что за годы пребывания в Италии, юный Сципион не только вырос и возмужал, но стал консулом, было что-то внушающее отчаяние. В кровавых схватках Ганнибал истребил целое поколение римских бойцов, но на смену погибшим пришли их сыновья, подрастают внуки. А где у него эта свежая, молодая поросль? Он и его ветераны — как сухие колючки, закинутые на землю Италии знойным ливийским ветром. У них нет корней, нет будущего. Почти полностью потеряна Иберия, страна, которую завоевали отец и Старик. Ганнибал ожидал, что после своих побед в Иберии Сципион высадится в Италии, чтобы встретиться с ним на поле боя и решить судьбу войны. Но римлянин направился в Сицилию. В этом было что-то оскорбительное, унижающее Ганнибала как человека и полководца. Сципион не удостаивал его вниманием, он не хотел его знать. Кровь приливала к голове Ганнибала. Он вспоминал сражения, в которых были разбиты римляне: Требия, Тразимен, Канны, — но и это не могло заглушить гложущую обиду. «Да, он прав, этот римлянин. Я уже больше не опасен, поэтому он повернулся ко мне спиной».
Из-за покрытого лесом мыса вынырнул корабль с крутым носом, прямым парусом и двумя рядами гребцов. По форме корабля и оснастке Ганнибал сразу узнал сторожевую гаулу. Такие суда охраняют берега Ливии и Иберии, но ими также пользуются для дальних плаваний, так как они имеют хороший ход. Какую весть принесет ему этот парус? Может, он порадует его победой в Иберии или гибелью римского флота, разбитого бурей?
Близ берега гаула спустила парус и вскинула стройные ряды весел. От ее кормы отделилась лодка. Двое сидели на веслах, третий, широкоплечий, коренастый, в синем плаще, стоял на носу. Он что-то кричал; видимо, торопил гребцов.
Ганнибал сбежал к берегу. Человек в плаще — это Магон. Видимо, что-то серьезное заставило его приехать из Карфагена, где он добывал денег для покупки слонов.
Спрыгнув на скользкие, покрытые водорослями камни, Магон молча обнял брата. Долго он не выпускал его из объятий, чтобы не видеть нетерпеливо ждущих глаз.
— Случилась беда, — сказал Магон, когда молчание стало невыносимым. — Гайя умер, а Масинисса нам изменил. Он объявил войну Сифаксу и перерезал рабби, добивавшихся примирения. В его лагере видели послов Сципиона.
Ганнибал опустил голову. Дано уже он думал об опасности, которой подвергался Карфаген, виляя между Сифаксом и Гайей. Ганнону хотелось иметь союзниками их обоих. Выдача Софонибы за Сифакса, по тонким расчетам Ганнона, не должна была ожесточить Гайю. Гайя сам был против брака своего сына с дочерью Ганнона. Но Гайя умер. Еще двадцать лет назад отец в предвидении этой смерти заботился о том, чтобы привязать Масиниссу к Карфагену. А Ганнон все разрушил. Его обещание выдать дочь за Масиниссу, если тот проявит храбрость в войне с римлянами, было продиктовано желанием удалить Масиниссу из Карфагена. Ганнон рассчитывал, что Масинисса погибнет в Иберии, но нумидиец вернулся в Ливию и силой занял царский престол. Он объявил нам войну. У Сципиона появился могущественный союзник.
Ганнибал выжидающе взглянул в глаза брату.
— Теперь нас только двое, — молвил он глухо. — Как хочется, чтобы ты всегда был со мной! Но никому другому я не могу этого поручить. Никому!
— Я слушаю тебя, Ганнибал, — коротко сказал Магон.
Так должен был ответить воин полководцу, но в нарочитой сухости этих слов, в твердости голоса сквозило желание успокоить брата, показать, что в эти тяжелые дни он по-прежнему полон веры в успех.
— Тебе придется отправиться в Лигурию, — сказал Ганнибал. — Я пошлю с тобою Дукариона и всех галлов. Сейчас нас может спасти лишь восстание против Рима на севере Италии. Я дам тебе все корабли.
— А ты? — Магон вопросительно взглянул на брата. — Если подойдут римляне, у тебя не будет кораблей. И разве я могу забрать у тебя галлов, когда из Ливии ты не получишь ни одного воина!
— Римляне сюда не подойдут. Их еще пугает моя тень, тень Ганнибала, победившего при Тразимене в Каннах. Мог бы решиться на сражение со мной один Сципион, но теперь, когда изменил Масинисса, Сципион не будет медлить ни одного дня. Клянусь Мелькартом, он уже на пути в Карфаген!
ГОЛУБЬ АФРОДИТЫ
Сципион шел проходом, разделяющим каменные скамьи. Вскоре должно начаться представление «Антигоны», и театр города Лилибея был уже полон. Наряду с горожанами на скамьях было немало римских воинов, привлеченных слухами о замечательной игре в роли Антигоны афинского актера Филарха. Достаточно бросить взгляд на публику, чтобы понять: эти люди пришли сюда не за минутным развлечением. Зрители не раз уже видели «Антигону» в постановке местных актеров, и их интересовала трактовка бессмертного произведения Софокла актерами из Афин.
Подобрав гиматий, Сципион сел на скамью рядом с орхестрой. Ему вспомнилась фраза из анонимного доноса, посланного в сенат и послужившего предлогом для посылки в Сицилию специальной сенатской комиссии: «Забыв о своем назначении, Сципион живет, как грек среди греков. Он променял тогу на гиматий. Он посещает театр. Он отдает все свое время чтению греческих философов».
«Вернее, как человек среди людей, — подумал Сципион. — Для тупицы, написавшего этот донос, и для трехсот тупиц, разбиравших его с серьезным видом, посещение театра несовместимо с подготовкой к вторжению. По их представлению, полководец должен безвыходно сидеть в претории или заниматься смотрами и парадами. Им кажется, что Софокл может задержать меня в Сицилии. А если бы они еще видели в театре воинов, они бы решили: армия развалилась».
— С тобой можно сесть? — послышался чей-то голос.
Сципион обернулся.
— Гней Невий? — воскликнул удивленно полководец. — Тебя ли я вижу? Как ты здесь оказался? Или ты специально приехал из Рима, чтобы увидеть и услышать Филарха?
— Я пришел, чтобы поговорить с тобою, — сказал поэт. — В Риме ходят слухи, что тебя легче встретить в театре, чем в лагере, и я поспешил в театр, тем более, что мы с тобой встречаемся в театре не впервые.
— Для меня большая честь видеть Гнея Невия, — сказал Сципион. — Тебя называют римским Гомером. Твои стихи у всех на устах.
— Бывает так, — взволнованно сказал Невий, — в погоне за героем истопчешь дюжину сандалий и доживешь до седых волос, а он рядом, только ты его не замечал. Он еще мальчишка, желторотый юнец. Он еще сам не знает, кто он такой. И не успеешь глазом моргнуть, как слава уже осенила его своим крылом. Ему уже завидуют. Его уже ненавидят. И тогда понимаешь, что тебе надо торопиться, чтобы не опоздать. И не будет тебе покоя, пока не встретишься с ним и не узнаешь, как его звали сверстники, с кем он дружил, кого любил. Я был в лагере Фабия и знаю, что его в детстве звали «Овечкой». Год я провел с Ганнибалом в Капуе и могу поклясться, что его единственная страсть — ненависть к Риму. А что мне известно о Публии Сципионе? Он спас отца при Требии. Захватил Новый Карфаген. Но это знает каждый. А как он нашел себя? Кто его учитель?..
— С моим учителем ты уже давно знаком, — перебил Сципион.
Поэт недоумевающе взглянул на своего собеседника.
— Военному делу меня учил Ганнибал, — сказал Сципион. — Я обязан ему больше, чем отцу. Я был самым прилежным учеником Ганнибала. Я изучал его военную мудрость, как охотник изучает повадки зверя. Я знаю его сильные и слабые стороны. Порой мне кажется, что я знаю его мысли.
На орхестру вышел хор фиванских старейшин в длинных белых одеждах. Зазвучала печальная песня. На сцене показались две женщины. И с первых слов Антигоны: «Сестра моя любимая, Исмена, не знаешь разве, Зевс до смерти нас обрек терпеть Эдиповы страданья», видно было, что у этой хрупкой женщины львиная душа. Легкий взмах ее руки передавал всю боль и всю любовь на свете.
— Публий Корнелий Сципион! — послышался голос ликтора.
Сципион с нетерпением взял протянутый ему клочок папируса. Он знал, что этот крошечный свиток доставил голубь. Много лет назад, когда пуны начали поклоняться Афродите Эриксинской, они стали посылать в Карфаген посвященных Афродите голубей. Голуби летели над морем, отделяющим Сицилию от Карфагена, и безошибочно находили храм Афродиты в Карфагене. Через девять дней голубей отправляли назад в Сицилию. Пуны верили, что вместе с белокрылыми храмовыми голубями на девять дней в Карфаген с горы Эрикс переселялась сама богиня. Этот обычай навел находчивого Килона на мысль: а нельзя ли воспользоваться храмовыми голубями как вестниками? Тем более, что город Лилибей, у стен которого находился лагерь Сципиона, был под горою Эрикс.
Сципион развернул записку. В ней всего лишь два слова. «Птичка клюнула». Но эту записку Сципион ждал почти год, терпеливо снося насмешки и оскорбления. Нет, он не «забыл о своем назначении», как писал анонимный доносчик. Он просто ждал. Этим тупицам война представляется по старинке схваткой героев на глазах у выстроившихся воинов или в лучшем случае — заранее предусмотренным и направляемым полководцем движением манипул. Им видно только то, что происходит на сцене. Что они знают о лазутчиках, проникающих во вражеские города и лагеря, о победе, подготавливаемой годами, о голубе Афродиты?
— Извини, сказал Сципион Невию. — Наш разговор останется незаконченным. Этой ночью я отплываю в Ливию [98].
ПОСЛЕДНЯЯ ХИТРОСТЬ
Поручив коня Килону, Сципион вступил в царский шатер. Рядом с Сифаксом сидела молодая женщина в белой, высоко подпоясанной тунике. Собранные в пучок волосы покрывала жемчужная диадема, оттенявшая их черноту. При виде Сципиона царица опустила глаза, и тень длинных ресниц легла на бледные щеки.
Много раз встречался Сципион с Сифаксом в своем или его лагере. Царь всегда был один. Даже старому знакомому Сципиона, Вермине, не разрешалось присутствовать при переговорах, решающих судьбы войны. Теперь же рядом с Сифаксом сама Софониба, дочь Ганнона. Ее появление в Цирте много лет назад, как это теперь известно Сципиону, было причиной неудачи посольства. Рим не получил нумидийских всадников. Что же сулит присутствие этой красавицы теперь? Может быть, отчаявшись в помощи богов войны, пуны решили прибегнуть к услугам Афродиты? Или сам Сифакс хочет показать, что он не намерен бросить в беде соотечественников Софонибы и согласен лишь на посредничество для заключения справедливого мира? Пусть так. «Мне сейчас важно оттянуть время», — думал Сципион.
— Тебе не помешает моя жена? — спросил царь вставая.
Сципион заметил, что на нем впервые корона из перьев, которую нумидиец носил в Цирте.
— У меня нет ни от кого секретов, — ответил Сципион. — Тем более их нет от дочери Ганнона. Мне известно, что в Карфагене один Ганнон искренне стремится к миру и дружбе с народом Рима.
Софониба сидела, не поднимая головы, словно речь шла не о ее отце. Только по напряженно вытянутым рукам Сципион понял, что царица внимательно его слушает.
— Тебе, человеку мудрому и беспристрастному, — продолжал Сципион, — будет нетрудно убедить пунов, что предложенные мною условия мира вовсе не суровы. Ты ведь знаешь, что Ганнибал четырнадцать лет опустошает Италию [99], и четыре тысячи талантов, которые должен заплатить за это Карфаген, — лишь малая доля наших убытков и потерь.
— Но ты же еще просишь корабли! — сказал Сифакс. — Все военные корабли, кроме двадцати.
— Ни один из кораблей я не увезу в Италию, — сказал Сципион. — Но Рим должен знать, что ему больше не угрожает вторжение.
— Ты говоришь так, будто уже одержал победу. Но Ганнибал и Магон еще в Италии. Ганнон стремится к миру, но многие не намерены отказаться от борьбы.
Пока Сципион вел переговоры с Сифаксом, хитрый грек не дремал. Он незаметно кольнул коня острием кинжала. Конь взвился на дыбы и, вырвав узду, поскакал к лагерным воротам.
— Размахивая руками, Килон неуклюже бежал за ним.
— Остановись, милый! — кричал он. — Куда ты бежишь?
Напуганный криком, конь мчался еще быстрее.
— Стой, шакалий корм! Стой! — вопил Килон, и в голосе его звучало отчаяние.
У лагерных ворот лошадь остановилась. Подбежавшему Килону оставалось лишь протянуть руку за уздой, но он за что-то зацепился и плашмя упал на землю.
Когда он, потирая ушибленное колено, встал, конь был уже далеко. Он скакал вдоль вала внутри лагеря.
— Ах, боги! — вопил исступленно грек. — Почему вы меня не создали черепахой! Тогда бы не страдала моя спина. Господин не простит мне, что я упустил его коня.
Килон сел на землю и заплакал, растирая слезы кулаком.
Услышав вопли и стенания, нумидийцы выскочили из своих шатров. Человек, упустивший коня, сначала вызвал у них смех. Их кони возвращались на свист, как собаки. Но вскоре воинам стало ясно, что конь принадлежит не этому крикуну. Это конь римского военачальника, упустил же его раб. Он боится гнева своего господина. Насмешки уступили место жалости и сочувствию. Услужливые руки поймали коня. Узда в руках у раба. Но какой же он бестолковый, этот чужеземец! Вместо того чтобы гнать коня к царскому шатру, где его может хватиться римлянин, раб долго кланяется и благодарит, словно люди, поймавшие коня, спасли ему жизнь. Рабу показывают ближайший путь к шатру, он тянет коня куда-то в сторону, словно стремясь уйти от расправы или хотя бы отдалить ее.
Сципион уже успел переговорить с Сифаксом и стоял у царского шатра, поджидая Килона. Он взял с собой грека в надежде, что тот сумеет воспользоваться посещением вражеского стана, чтобы узнать, как расположены в нем шатры и сколько в них воинов. Но мог ли он предполагать, что за время его короткой беседы Килон обойдет весь лагерь, побывает на всех его улицах.
Увидев приближающегося Килона и следовавших за ним нумидийцев, Сципион постарался придать лицу как можно более суровое выражение. Подняв с земли плеть, которую прихватил с собой предусмотрительный Килон, Сципион грозно шел навстречу греку. Сципион играл роль строго господина, но в то же время он был зрителем великолепной пантомимы. Раньше он мог судить об искусстве Килона лишь по его рассказам, но разве в состоянии слова передать игру, тонкую и неповторимую игру настоящего актера! Во всем — в неуверенной, пугливой походке, в повороте плеч, в заискивающем наклоне головы, в бегающих глазах — перед ним был раб, притом не изворотливый слуга греческих бытовых комедий, привыкший управлять своим господином, а настоящий римский раб, испытавший розги и колодку, невольник, знающий, что такое казнь на кресте. Втянутый в эту игру, Сципион сам не заметил, как занес плеть и хлестнул Килона по спине.
Когда лагерь Сифакса остался далеко позади, Сципион спешился и подошел к греку.
— Килон, — сказал он ему тихо, — сегодня ты превзошел самого себя. Сам Филарх позавидовал бы твоему искусству. Прости, что я поднял на тебя руку.
— Нет господина без плети, как раба — без рубцов, — сказал Килон, почесывая плечо. — Если бы не плеть, у них могло бы возникнуть подозрение. А ты сам говорил, что лучший план тот, о котором не подозревает враг. Жаль только, что мне не удалось взглянуть на Софонибу. Говорят, она прекрасна, как сама богиня Афродита, чей голубь доставил тебе письмо.
— Если бы не твоя болтливость, Килон, тебе бы не было цены, — сказал Сципион. — Лучше расскажи, что ты увидел в лагере.
— А ты еще говоришь о цене! Уверяют, что ты захватил в Новом Карфагене столько серебра, что оно не уместилось на трех кораблях. А взял бы ты Новый Карфаген без меня?
— Молчи, Килон! Забудь, что ты был в Новом Карфагене. За молчание я заплатил тебе отдельно.
— Молчу, молчу, — быстро проговорил грек. — Так слушай. У Сифакса две тысячи шатров, и в каждом — около тридцати воинов. Остальное высчитай сам [100]. Все шатры крыты камышом и сухой травой. Ворот в лагере двое. В них не разойдутся три коня.
— С этого и нужно было начать! — радостно молвил Сципион. — Ты получишь за каждый из этих шатров под одному сестерцию. Доволен?
— А что я получу за ворота и камышовые крыши?
— Если тебе платить отдельно за крыши, за стены, за ворота, за каждого воина, мне придется просить милостыню.
— Но ведь ты заплатил отдельно за молчание! — вставил Килон. — Почему тебе не заплатить за крыши?
Сципион развел руками:
— У тебя не язык, а меч. Ты получишь и за крыши и за ворота, если проникнешь в лагерь пунов. Последнее, что мне нужно знать, — сколько в лагере воинов.
— Последнее — протянул Килон. — А не говорил ли ты то же самое в Иберии?
ОГОНЬ
Эта ночь выдалась темной. Луна, на короткие мгновения выползая из-за туч, освещала узкую серебристую полоску реки и прямоугольник лагеря с белой царской палаткой в центре. Из шатров доносился храп. Воины крепко спали. С вечера купцы у ворот чуть ли не даром отдавали вино. Спали часовые с комьями, зажатыми между колен.
Спал и Сифакс, утомленный бесконечными переговорами с карфагенянами и римлянами. Нелегко быть посредником между двумя смертельными врагами. Карфагеняне, ставшие неподалеку лагерем, воображают, что если он женат на Софонибе, то может всем рисковать ради их интересов. Когда они начали войну с Римом, с ним не считались. Тогда они заигрывали с Гайей. А теперь Гайи нет, сын его Масинисса стал смертельным врагом Карфагена. Сципион ведет себя еще более странно. Он просит быть посредником, торгуется из-за каждого таланта, а мира не заключает. Никак не прибудет посланец сената! Можно подумать, что от Утики до Остии месяц пути.
В лагере Сифакса бодрствовала одна Софониба. Случайно во время переговоров Сципиона с мужем она узнала, что Масинисса жив, что он прибыл из Иберии и служит у римлян. Отец бессовестно обманул ее; он отдал ее этому лежащему с нею рядом, но далекому и чужому человеку. Что ее связывает с ним? Слово, которое она дала отцу? Но отец первым обманул ее! Эти тяжелые золотые кольца на пальцах? Софониба начала срывать их. Казалось, она попалась в ловушку. Ее не отпускает золотая цепь. Ее звенья вросли в тело. Софониба ломала пальцы и плакала от бессилия.
Со всех сторон подползли римляне к нумидийскому стану, бесшумно, как ужи, скользнули в ров и показались на гребне вала. Послышался негромкий свист, и на камышовые кровли упали тлеющие головни. Несколько мгновений, и шатры уже пылают, как факелы. Наружу выбегают полуголые люди, они трут кулаками заспанные глаза. Нумидийцы и не подозревают о близости врага. Пожар мог произойти из-за простой неосторожности. Огонь перекидывается от шалаша к шалашу, и вот уже пылает весь лагерь. Пламя вырастает, поднимается к небу, закрывая звезды.
Нумидийцы, толкая друг друга, бегут к воротам. У многих в руках ведра. Как назло, в лагере лишь двое ворот, и они узки. Слышатся проклятия, звон сталкивающихся ведер, плеск проливаемой на землю воды и заглушающий все глухой рев пламени.
Запели римские трубы. С земли поднимаются воины Сципиона. С гиком несутся всадники Масиниссы. Нумидийцы Сифакса мечутся, как крысы на тонущей гауле. Они гибнут в лагере от огня, за воротами — от ударов римских мечей, под копытами коней, они сами топчут друг друга.
Огненные языки сразу же были замечены в лагере карфагенян. Часовые пунов не спали. Но, если бы они и уснули, их разбудил бы вопль римского лазутчика, пойманного накануне и распятого, по карфагенскому обычаю, на кресте.
Обычно на кресте или молчат, или тихо и жалобно стонут, просят воды, или умоляют, чтобы добили. Этот же вражеский лазутчик, отказавшийся назвать свое имя и стойко перенесший пытку железом и огнем, на кресте кричал без умолку, за что и получил у часовых прозвище «Крикун». Сначала часовые прислушивались к его болтовне. Она им казалась забавной. Крикун обращался с мольбой к какому-то Публию и просил его, чтобы тот купил на все деньги вина для моряков.
— Не поскупись! Купи фалернского! — вопил бедняга.
Часовые покатывались от хохота:
— Его еще занимает сорт вина. Наверно, он знал в нем толк.
Нет, Крикун просто спятил. Он принял воронов, круживших над его головой, за голубей.
— Голуби Афродиты! — кричал он. — Чего вы от меня хотите? Я сделал вас вестниками Ареса, и вы почернели, как головешки.
Вскоре крики распятого начали утомлять. Кто-то из часовых швырнул камень, и Крикун затих. Но в то мгновение, когда над лагерем Сифакса показались красные языки, распятый ожил.
— Огонь! — кричал он и извивался всем телом так, словно его жгло пламя этого далекого пожара. — Это мой огонь, мой, ты слышишь меня, Публий!
Пуны решили, что лагерь Сифакса загорелся по неосторожности нумидийцев. Никому не пришло в голову, что это поджог. Ведь Сципион ведет переговоры о мире. С ведрами и топорами спешат карфагеняне на помощь своим союзникам и попадают в засаду. Римляне рубят безоружных, гонят из назад в лагерь. Главное оружие римлян теперь не меч, а горящие головни. Огонь проникает и в карфагенский лагерь.
Пылают шатры пунов. Треск пламени сливается с воплями и стонами обожженных людей, с ржанием лошадей, криками мулов. С ревом из горящего лагеря вырываются слоны, они топчут и давят бегущих, внося еще большее смятение и ужас.
Под утро у догорающего лагеря пунов появилось несколько всадников. По одетым поверх лат плащам и металлическим шлемам можно было узнать римлян. Что им здесь надо? Не хотят ли они вырвать у огня его добычу? Нет, римляне остановились у вкопанного в землю большого креста с неподвижной человеческой фигурой.
Сципион спешился и подошел к самому кресту. Руки и ноги Килона были прибиты к перекладинам железными гвоздями. Пуны были милосердны. Если бы они просто подвязали их кожаными ремнями, Килон дольше бы мучился. Голова Килона с выклеванными глазами свисала вниз, и странно было думать, что из этих уст не вырвется больше ни слова. Килон ушел в царство теней и унес с собою то, что не следует знать живым. Ему не надо давать серебро за молчание. Никто не узнает даже имени этого человека, которому Рим обязан величайшей победой.
Сорок тысяч погибших в огне и убитых, пять тысяч пленных — такой ценой заплатили враги за свою беспечность.
Сципион вытер лицо краем тоги.
— Дым, сказал он, показывая на догорающий лагерь. — У пунов шатры крыты кожей. Они не горят, а дымятся.
БЕГЛЯНКА
Несколько дней Софониба блуждала около римского лагеря в Долине Змей, прячась в заросших травой канавах и в камышах. В ее широко открытых глазах плясало пламя костров. Римляне сжигали трупы павших. Треск пламени заглушался конским топотом и звуками чужой речи.
Софонибе некуда идти. Дом отца далеко, возвращение туда невозможно, как к прошлому. Сифакс захвачен в плен во время схватки с римлянами, предательски напавшими на лагерь. А Масинисса — он был с римлянами, его всадники гнали и рубили безоружных людей. Где он теперь? В римском стане, охраняемом часовыми? Или в Цирте, которая теперь принадлежит ему? Захочет ли он ее видеть после того, что произошло?
Много раз Софониба подносила к губам перстень с ядом. Его дал ей Сифакс, когда они бежали из объятого пламенем лагеря. Это его последний дар. Перстень поможет избежать плена и рабства. Софонибе хорошо известно, как живется пленницам. В ее памяти всплыл далекий образ чернокожей Гелы. Почему отец бросил ее в клетку со львом? Как она кричала! «Нет, еще рано», — думала Софониба и отводила руку с перстнем. В глубине души теплилась надежда, что она встретит Масиниссу. Ей нужно лишь увидеть его, сказать, что она не виновата, что ее обманули.
Вечерело. Проглянул лик Танит и озарил своим печальным светом пустынную каменистую дорогу, ведущую к Цирте. Сзади уже не было зарева, но отчаяние и ужас по-прежнему владели беглянкой. Она прижималась лицом к земле, поруганной земле предков. Вдали послышался конский топот. Софониба подняла голову и прислушалась. Еще не видя его, она знала: это он. У кого есть еще такой конь? Освещенный луной, он казался Софонибе каким-то светлым видением.
Масинисса спешился. Он быстро шел ей навстречу. Когда-то, в Иберии, он встретил чужую безумную невесту, а теперь дорога свела его лицом к лицу со своей звездой. Но она ли это? Глаза ее померкли, а голос? Нет, это не ее голос, звенящий, как ручей в пустыне.
— Милый, — шептала Софониба, — милый, ты жив...
— В походе стерлись копыта Мерга, — грустно сказал Масинисса, опустив голову. — В горах и пустынях я искал звезду, а Сифакс не сделал ни шагу. Звезда упала в его шатер...
— Милый, меня обманули, я не знала...
— Обман и ложь, — продолжал Масинисса, — ложь и обман — столбы, на которых стоят твой дом и твой город. Рушится все, что держится на обмане, и нет ничего прочнее правды. Я знаю, тебя послал Ганнон. Ему не удалось добиться мира с помощью Сифакса, теперь ему нужен я.
— Нет, нет, — шептала Софониба, глаза ее были полны слез. — Отец не посылал меня. Я ждала тебя все эти годы, когда ты был далеко. Я приносила жертвы Ваал Амону и Мелькарту, и они уберегли тебя.
Масинисса скорбно молчал.
В сердце его не было ненависти к Софонибе. Да, она не виновата, ее обманули, как обманули и его. Ненависти и презрения достойны те, кто разбил их счастье, как амфору из сагунтийской глины.
— Дай мне твою руку, — сказал Масинисса. Голос его звучал мягко, почти ласково. — Пусть будет так, как решили боги.
Масинисса поднял Софонибу и вскочил на коня. Мерг тихо заржал, почувствовав щекочущее прикосновение тонких пальцев Софонибы. Свежий встречный ветер зашевелил распущенные волосы Софонибы и забросил их прядь к губам Масиниссы. Он ощутил запах земли и дыма, запах, близкий ему с детства. И ему стало так светло и радостно, словно не было этих долгих лет ожидания, словно возвратилось то время, когда они шли вдвоем из храма Танит.
СМЕРТЬ СОФОНИБЫ
Яростно стрекотали цикады, словно торопясь пропеть свою песню в эти короткие часы ночного спокойствия. Во мгле, окутавшей долину Змей, отчетливо выделялся силуэт Мерга. Масинисса до заката солнца прибыл в условленное место к римскому полководцу, чтобы договориться с ним обо всем.
После разгрома лагеря Сифакса и пунов Сципион заключил с Карфагеном перемирие. На этом настаивал римский народ, утомленный войной. Но пуны сами нарушили перемирие, разграбив севший на мель римский флот с продовольствием. Война возобновилась. Карфаген еще готовился к последней схватке, но Сципиону уже был виден исход борьбы, и он вместе со своим новым союзником распределял плоды победы. Объединятся царства массилов и массасилов. Нумидия будет единым государством. Престол займет Масинисса. Его владения увеличатся за счет соседних карфагенских земель. Могли ли об этом мечтать нумидийские царьки, вот уже двести лет находившиеся в тяжелой, унизительной зависимости от Карфагена! Нумидия будет свободна от дани, ей не надо будет поставлять в чье-либо войско своих всадников, истекать кровью во имя чуждых интересов. Он, Масинисса, преобразит свою родину, превратит кочевников в пахарей и садоводов. Нумидия будет иметь свой хлеб, свое масло, свои финики!
Сципион оттягивал самую щепетильную часть переговоров, касавшуюся личных дел будущего повелителя Нумидии. Сципиону было хорошо известно, что в Цирте, принадлежащей теперь Масиниссе, живет Софониба. Опять у него на пути эта женщина! Пять лет она держала в своих руках Сифакса, соединяя его с Карфагеном, теперь в ее власти Масинисса. И, пока Софониба в Цирте, нельзя быть уверенным в верности нумидийца. Прячась за обломками скал и стволами деревьев, к шатру Сципиона кралась женская фигура. Ее не заметил римский часовой, выставленный на таком расстоянии от шатра, которое не позволяло ему различать голоса внутри. Но чуткий слух Мерга уловил приближение Софонибы. Лошадь протянула к ней свою стройную голову и еле слышно заржала.
— Тихо, Мерг, тихо, милый, — прошептала Софониба, став рядом с животным и прижавшись лицом к его мокрому носу.
Мерг пропах мятой и полынью, запахами степи, от него исходило мягкое, успокаивающее тепло.
Из шатра донесся резкий голос Сципиона. Софониба вздрогнула и еще теснее прижалась к Мергу.
— Пойми, Масинисса, — сказал римлянин спокойно и жестко, — нам не безразлично, кто будет жить во дворце Цирты. Сенат не согласится передать тебе корону с перьями, если твоей женой будет Софониба. Лучше мы отдадим корону с перьями Вермине... В Риме помнят, — внушительно молвил Сципион после короткой паузы, — что ты воевал против нас в Иберии. Тебе надо доказать свою верность Риму.
Эти слова, произнесенные суровым и непреклонным голосом, все объяснили Софонибе. В последние дни Масинисса стал как-то молчаливее и суше. «Что с тобою, милый?» — много раз спрашивала Софониба. Но он молча опускал взгляд, словно опасаясь, что она прочтет в нем то, что ей пока нельзя знать. Теперь же она узнала все. Она стоит на пути у Масиниссы. Римляне лишат его царства, если она не уйдет. Устами этого римлянина говорит сама судьба.
Софониба резко поднесла к губам правую руку с блеснувшим на пальце кольцом.
Снаружи послышалось тревожное ржание Мерга. Конь звал своего господина и бил о землю копытом.
— Прости меня, Сципион, — сказал Масинисса, — я ненадолго тебя оставлю. Конь мой чем-то напуган...
Масинисса вышел из шатра и сразу же увидел Софонибу. Она лежала на спине, лицом к небу. Волосы ее запутались в траве. Нумидиец упал на колени и взглянул в широко открытые глаза с неподвижными зрачками.
— Софониба! Софониба! Ты меня слышишь? — страстно шептал Масинисса, прикасаясь губами к ее щекам. — Мне не надо короны с перьями. Мы пойдем в степи, поселимся в мапалии. Я буду охотиться на коз... Что же ты молчишь, Софониба?
Внезапно осветился край неба. Упала звезда, упала и сгорела, не долетев до земли.
Не ее ли искал Масинисса в вечернем и ночном небе над степями Ливии, над горами Иберии! И она сгорела дотла, звезда Софонибы!
СОН ГАННИБАЛА
Ганнибалу снилось, что за ним гнался слон. Чтобы уйти от погони, Ганнибал делал зигзаги, петлял, как заяц, настигаемый молосским псом. Но топот слона слышался все ближе и ближе. Ганнибал оглянулся и увидел сидящего на шее у слона Рихада. Значит, это не взбесившийся слон. Слон направлялся индийцем. Да, это Рихад, Рихад, погибший под Казилином. Но он жив, этот индиец. На голове у него повязка, напоминающая трубочки с кремом, какие выпекают в праздники, а в правой руке ломик.
«Убей слона, Рихад, — приказывал Ганнибал. — Ударь его своим ломом!»
Но Рихад зловеще улыбался и грозил Ганнибалу кулаком.
«Ри-хад! — кричал, надрываясь, Ганнибал. — Убей Сура! Я тебя больше не держу. Возвращайся в Индию! Ри-хад!»
Слон занес над Ганнибалом хобот и рванул вверх.
Ганнибал ударился затылком о переборку каюты и проснулся. Все лицо его было в холодном поту. Вытирая пот краем туники, Ганнибал думал о значении этого сна. «Если увидишь слона, тебя ждет удача», — говорили старые люди. Но почему этот слон гнался за ним? И слон ведь был не один, слона направлял Рихад. А видеть во сне покойника не к добру. Какая была у индийца зловещая улыбка!
Одевшись, Ганнибал вышел на палубу. Аквилон поднял края гиматия и зашевелил непокрытые волосы. Берег Италии растаял, скрылся за серой утренней пеленой. Ганнибал стоял в оцепенении. Горе и печаль переполняли его душу. Пятнадцать лет он пробыл в Италии. Он мог бы сказать, что знает ее больше, чем свою родину. Он мечтал завоевать ее и вернуться в Карфаген победителем римлян, героем великой войны. Но что он теперь везет с собой? Воспоминания об одержанных победах? Требия, Тразимен, Канны — в чьем сердце найдет отклик чуждое звучание этих варварских имен? Или все эти годы, все эти схватки были сном? О, если бы это было так! Хорошо бы сейчас проснуться в Иберии и ждать, когда явится Созил со своей табличкой для письма, когда соберутся братья. Хорошо бы услышать голос отца: «Учитесь, львята! Люди всегда учатся, учатся на своих или на чужих ошибках». Так ли это? К ошибкам отцов мы присоединили свои собственные. А теперь, когда мы понимаем, что ошибались, это нас не может спасти. Мы не можем вернуться к прошлому, а жизнь — это бесконечная смена волн. Даже боги, посылающие ветер и бури, не могут остановить их бег. А что могут сделать люди?
Набережная небольшого карфагенского города Гадрумета [101], где ожидали Ганнибала, была украшена разноцветными флажками. Звенели серебряные трубы. В толпе, заполнившей гавань, можно было различить пурпурные одежды рабби, прибывших из Карфагена. Вместе с дымом подожженного лагеря Сифакса развеялись надежды на непобедимую нумидийскую конницу, которой предстояло сбросить легионы Сципиона в море. План Ганнона, совсем недавно казавшийся верхом государственной мудрости, был признан преступным, а сам Ганнон едва избежал суда и смерти на кресте. Все теперь считали, что республику может спасти один Ганнибал. Имя Ганнибала повторялось всюду с любовью и надеждой. «Ганнибал не проиграл ни одного сражения! Только он может разбить Сципиона!» — слышалось и на заседании Большого Совета, и на базаре у Торговой гавани. Даже жрецы, затаившие на Ганнибала обиду за то, что он не присылал в храмы подарков, называли его «сыном Мелькарта» и призывали народ молиться за его духа-покровителя. Многие с чувством раскаяния вспоминали, какую мизерную помощь получал Ганнибал от республики в годы своего пребывания в Италии. И, несмотря на это, он громил римлян! Если же передать Ганнибалу все корабли, объявить набор в войско, — тогда республика будет спасена.
И только сам Ганнибал понимал, насколько обманчивы всеобщие надежды на быструю победу. Он привез с собой в Гадрумет лишь двенадцать тысяч воинов. Остальное войско — в Лигурии вместе с Магоном. Одни боги знают, удастся ли брату вернуться в Карфаген или его постигнет судьба Газдрубала. Новый набор может дать не более десяти-двенадцати тысяч новобранцев. Но, если оторвать этих людей от их повседневных дел, кто будет ковать оружие, строить корабли? Кто будет ловить сетями рыбу, заменяющую теперь и мясо и хлеб? Ведь из Сицилии и Иберии в Карфаген уже не будет гаулы с зерном и тучными овцами. В руках у римлян иберийские серебряные рудники, а города, подчиненные Карфагену, перестали платить дань.
У одного Сципиона тридцать пять тысяч испытанных бойцов, а сколько всадников у Масиниссы?!
СВОБОДА
Дукарион жадно пил, погрузив лицо в струи родной Адды. В прозрачной воде отражалось его заросшее лицо, шрам от меча через правую щеку и сбившиеся в космы волосы.
Пять дней Дукарион бежал лесами и болотами, прячась от людей. Он бежал, хотя за ним давно никто не гнался. Ему слышался звон сталкивающихся мечей, свист стрел, трубные крики слонов, ржание напуганных коней, волочащих по земле всадников. Перед глазами у него был Магон, пригвожденный к земле римским пилумом. От пилума Магона не спасли ни серебряные латы, отнятые им у римского консула, ни амулеты, которые он носил на груди.
Пусть будет свидетелем могучий Эзус [102] и другие бессмертные боги, что он, Дукарион, не изменник. Во время схватки с устроившими засаду римлянами он был рядом с Магоном и не уступал ему в храбрости. Когда же Магон упал, Дукарион бежал. За ним последовали многие воины из его отряда. Но, видимо, никому не удалось уйти от римских всадников. Пилум, сваливший Магона, освободил Дукариона от клятвы, которую взял с него Ганнибал перед посадкой на корабли. Дукарион поклялся и призвал в свидетели богов, что не покинет Магона. И он его не покинул, пока Магон был жив.
Местность, где находился Дукарион, была ровной и однообразной. Но глаз Дукариона различил полузасыпанные рвы на правом берегу реки. Там был лагерь Фламиния. Трава, когда-то вытоптанная римскими калигами, поднялась во весь рост.
Солнце садилось за горизонт. В прибрежных заводях квакали лягушки. Из камышей доносился легкий шелест: уползла потревоженная змея. На середине реки что-то плеснуло, на воде появились и разошлись круги. Это были звуки и голоса его юности. Когда-то, отталкиваясь от дна шестом, он плыл вдоль этих берегов на челне, пробирался сквозь упругие камыши и цепкие кусты, забрасывал сети в озерца с прозрачной и чистой водой. На его обожженном солнцем теле тогда были шрамы не от мечей, а от осоки, в мешке за спиной колотились не снятые с окостеневших пальцев золотые кольца, а лепешки, которые ему испекла мать.
Дукарион сбросил со спины мешок и, размахнувшись, швырнул его в реку. Дух Адды получил богатую жертву. Дукарион отдал ему всю свою военную добычу, все трофеи, добытые в битвах с римлянами за эти тринадцать лет.
Ночью Дукарион пришел в родное селение. Оно встретило его пламенем костров и громкими криками. Было время сбора винограда. Люди давили в огромных чанах ногами виноградные гроздья. Из открытого крана в деревянные ведра лился широкой струей виноградный сок. Его переносили при зажженных кострах в деревянные бочки и пифосы.
Дукариона никто не узнал, никто не бросился ему навстречу, никто не предложил ему кубка с молодым вином. Он был чужаком в своем родном селении. На том месте, где когда-то стоял его дом, сожженный римлянами, разбит молодой сад. Стариков, знавших Дукариона, давно нет в живых, а его сверстники погибли на полях сражений или томились в римском рабстве.
При виде пня близ ограды сада у Дукариона сжалось сердце. Когда-то здесь рос дуб. Дукарион любил играть под его раскидистым шатром. А потом римляне привязали его к стволу этого дуба и били прутьями. Дуб был свидетелем его позора. Дукарион стал рабом римлян. Как он тогда мечтал о свободе! Ему казалось, он обретет ее в войске Ганнибал, но там он стал тоже рабом, хотя и без цепи. Смерть Магона принесла ему свободу, но что ему делать с ней, с этой свободой?
БИТВА ГИГАНТОВ
Подобно стаям саранчи налетели римляне на цветущую долину Баграда. То, что враги не смогли съесть и унести, они сломали и разрушили. Чернели обезглавленные смоковницы и пальмы, дымились развалины вилл. Война, которая полыхала где-то в Иберии и Италии, подступила к стенам Карфагена. И еще страшнее, чем ярость римлян, была месть рабов. Они вышли из подземных тюрем в поместьях и рассеялись по всей стране. От них не укрыться нигде! И в любое мгновение могут восстать рабы в самом Карфагене.
«А чего же медлит Ганнибал? — возмущались рабби. — Он, похвалявшийся своими победами в Италии, оттягивает день решительной схватки. Он вступил в переговоры со Сципионом о мире. Но тот отверг его условия. Чего же медлит Ганнибал?»
К Ганнибалу были отправлены послы. Рабби требовали, чтобы полководец шел навстречу неприятелю и кончил войну одним сражением. Ганнибал с войском покинул окрестности Гадрумета, где он стоял несколько месяцев, собирая войско. Никогда еще Ганнибал не был так неуверен в своих силах. У него лишь тринадцать тысяч испытанных бойцов, закаленных в Италии ветеранов. Двенадцать тысяч он привел сам, а тысяча под командованием Магарбала возвратилась недавно из Лигурии. Магон не вернулся. Италия стала могилой братьев!
А остальные воины? Это были наемники, только что прибывшие из Галлии, Мавритании, с Балеарских островов. Они пригодны лишь на то, чтобы принять на себя первый натиск римских легионов. Из Карфагена прислали десять тысяч ополченцев. Это большей частью ремесленники, люди, понимавшие, какие беды угрожают их детям и женам в случае неудачного исхода войны. Но они были совершенно необученны. Они умели владеть молотами и клещами, но не мечами и копьями. Из «Маленькой Индии» в лагерь привели стадо в восемьдесят пять слонов. Никогда еще в войске Ганнибала не было так много слонов. Но этим животным было так же далеко до боевых слонов, как новобранцам до воинов. Недавно выловленные, они умели лишь бежать и поворачиваться. У них не было ярости, необходимой для боевого слона. Глядя на слонов, Ганнибал с грустью думал о Рихаде: «Да, отец был прав, этот индиец стоил целого войска!»
Но больше всего Ганнибала тревожила конница. У него было не больше тысячи всадников. Сын Сифакса, Вермина, обещал привести свою конницу, но Ганнибал не смог ее дождаться.
Всю ночь со стороны поля слышался невнятный шум передвигающегося огромного войска. Сципион, узнав, что войско пунов покинуло Гадрумет, двинулся ему навстречу к Заме. Когда первые лучи солнца осветили равнину, римляне уже построились. Легионы стояли в три линии: впереди — манипулы гастатов, за ними, на некотором расстоянии, — манипулы принцепсов, последними были поставлены триарии. Новым в этом построении было то, что принцепсы стояли не за промежутками в строю гастатов, как обычно, а непосредственно за ними, так что во всем римском строе были сплошные проходы. Ганнибал сразу оценил предусмотрительность Сципиона, опасавшегося, что слоны разрушат его боевой строй.
Впереди всего войска Ганнибал выставил слонов. Вожакам их, нумидийцам, которых, по привычке, называли индийцами было строго приказано пустить в ход свои железные ломики, если слоны выйдут из их повиновения, ибо нет ничего опаснее обезумевшего слона. За слонами стояли наемники-лигурийцы, балеарцы, мавры, галлы. Каждый отряд имел свое вооружение и возглавлялся соотечественниками этих наемников, давно служившими у Ганнибала. За наемниками были построены карфагенские ополченцы. Перед началом сражения полководец обратился к ним с речью, в которой исчислил и изобразил все беды, которые угрожают отечеству и их семьям, если они отступят хотя бы на шаг. Строй замыкали ветераны Ганнибала, уцелевшие воины его великой армии. Ослабли их глаза, ослепленные сверкающими льдами и снегами Альп, утомились их ноги, семнадцать лет топтавшие землю Италии, их руки устали рубить, их спины сгорбились под тяжестью солдатских мешков и оружия. Но только на них, на этих ветеранов, возлагал свои надежды полководец.
Сражение начали слоны. Для них это был первый бой. Огромное скопление людей, ржание коней, крики, звон оружия — все это пугало животных, но они шли, куда их направляли погонщики. Выбежавшие вперед легковооруженные римляне закидали слонов дротиками. Несколько слонов повернуло назад, но остальные продолжали идти вперед, нагнув защищенную медным щитом голову. Вот они уже бегут, но бегут не на римлян, а в проходы между римскими манипулами. Слонов не научили убивать людей, схватывать их хоботами и топтать ногами. Люди причинили слонам боль, и слоны бежали от людей. Вот они выбежали на открытую равнину, здесь их никто не преследовал, но им не давали покоя впившиеся в тело стрелы и дротики, им мешали привязанные к их спинам башенки и погонщики, сидевшие на шее. Слоны легли на землю и с ревом стали тереться о нее боками. С ловкостью, которую трудно было ожидать от этих на вид неповоротливых животных, они сбрасывали погонщиков. Это был бунт слонов, бунт Ливии, которую заставил себе служить Карфаген.
Слоны, привыкшие безропотно выполнять волю людей, слоны, которых можно было заставить делать все, что нужно людям, восстали. Сбывался сон, приснившийся Ганнибалу на корабле. И то же ощущение беспомощности и ужаса охватило его. Ему казалось, что слон сбросил его со спины и гонится за ним. В памяти снова звучали слова отца: «Слоны должны растоптать Рим, вы слышите, львята!», и, как ответ на этот страстный призыв, возглас юного Масиниссы: «Слоны лучше вас, они выросли свободными, вы и слонов хотите превратить в убийц!» С необычайной ясностью Ганнибал понял: в той большой и жестокой игре, которую называют войной, бита его последняя ставка, ставка на слонов.
В бой вступала нумидийская конница. Пригнувшись к шеям своих вороных коней, скакали черноголовые всадники. Впереди мчался всадник на белом коне, видимо, их предводитель. Навстречу нумидийцам выступила карфагенская конница. Возглавлял ее Магарбал, соратник отца, человек, обучавший Ганнибала верховой езде. Ганнибал вспомнил слова, произнесенные им сразу же после Каннской битвы: «Ганнибал, ты умеешь побеждать, а пользоваться победой не умеешь». Магарбал был прав. Он, Ганнибал, не умел воспользоваться своими победами в Италии и этим навлек страшные бедствия на отечество. Но что же делает Магарбал? Он, как бы в страхе перед нумидийцами, отступает. Он уводит грозную вражескую конницу, лишая Сципиона его главного преимущества. Но это же верная смерть: у него вдвое меньше всадников, чем у этого нумидийца на белом коне. Ганнибал мысленно прощался с Магарбалом, к горлу подступал комок, и он до боли стиснул зубы, чтобы сдержать рыдания.
Ганнибалу предстояло воспользоваться отсутствием нумидийцев и разгромить римскую пехоту. Но против плохо обученных наемников стояли грозные манипулы гастатов. Наемники не выдержали их яростного, но планомерного натиска и стали отходить. Отступление внесло замешательство во вторую линию карфагенской пехоты. Ополченцы бросились бежать. Наемники, будучи уверены, что они преданы, стали их рубить.
Все пространство, где стояли первые два ряда карфагенского войска, было загромождено наваленными друг на друга трупами, оружием, ранеными. В этом хаосе нельзя было понять, где свои, где враги. Сципион звуками трубы отозвал гастатов назад, предоставив вражеским наемникам и карфагенянам уничтожать друг друга.
Соединившись в две колонны, римляне обходили это загроможденное трупами и сражающимися пространство. Перед строем ветеранов Ганнибала римляне развернулись. Битва возобновилась с новой силой. Ветераны стойко выдерживали натиск римлян. Тело у них было защищено панцирем, голова покрыта медным шлемом; выставив огромные щиты, они легко отражали удары римских мечей и копий.
— Бейте их, братья! — воодушевлял Ганнибал своих ветеранов. — Разве вы не видите, что это потомки врагов, разбитых вами при Тразимене и Каннах и бежавших от одного звука вашего голоса!
Казалось, еще миг, и римляне обратятся в бегство. Но вот у оливковой рощи, справа, показалось облако пыли. Это, разгромив всадников Магарбала, возвращалась нумидийская конница.
Победа удесятерила силы нумидийцев. С торжествующим ревом они ударили в тыл ветеранам Ганнибала. От дротиков и мечей не спасали ни щиты, ни латы. Карфагеняне падали и снова вставали, истекая кровью, со вздыбленными волосами. Они пытались руками стащить нумидийцев с коней. Те, у кого не было оружия, вцеплялись в лица врагов ногтями, пускали в ход зубы. Никогда еще мир не знал такой ожесточенной схватки.
С остатками войска Ганнибал отступал к своему лагерю. Но нумидийцы, возглавляемые всадником на белом коне, рванули наперерез. Всадник на белом коне вырвался вперед. С его плеч спал плащ из леопардовой шкуры. Черная туника стягивала стройное худощавое тело. Вот уже видно искаженное от ярости лицо, крепко стиснутые губы, широко раскрытые глаза. Каким-то внутренним чутьем Ганнибал ощутил, что перед ним Масинисса. Нет, не юнец, которого он знал когда-то, а грозный воин, победитель в этой битве и в этой войне. Ибо кто мог сомневаться, что именно Масиниссе Сципион обязан своей победой. И сам Сципион публично это признал, подарив Масиниссе царство Сифакса и обещав земли Карфагена.
Масинисса занес назад руку с дротиком, никогда на дававшим промаха. Ганнибал не шевельнулся, чтобы избежать удара или защититься. В битве с римлянами он сделал все, что было в человеческих силах, и у него не осталось больше сил, чтобы продолжать борьбу. Он потерял все и жаждал смерти.
Но Масинисса опустил руку и на полном скаку повернул коня. Ганнибал молча смотрел ему вслед. Сама смерть отвернулась от него. Погибли братья, разгромлено войско, а судьба вновь пощадила его. Или правы эллины, считающие, что на долю каждого человека приходится поровну удач и бед, радости и горя, побед и поражений, и ему, сейчас пережившему Канны, еще предстоит испытать Требию и Тразимен и видеть торжествующего врага у ворот Карфагена.
Почему же дрогнула рука Масиниссы, не остановившегося перед изменой, перед истреблением людей в пылающем лагере? Кто знает? Может быть, он вспомнил тот далекий день, когда он рядом с Ганнибалом скакал по степи и высокие травы хлестали их ноги и пахло полынью и мятой. Или он сохранил где-то в глубине души благодарность к человеку, услышавшему исповедь его первой любви?
ВЫПАВШИЙ СТИЛЬ
Гней Невий плакал как ребенок. Слезы текли по его морщинистым щекам и капали на привязанную к шее восковую дощечку. Из атриума, через открытую дверь, он увидел смуглого человека в оковах. Его вели двое легионеров. Это был Сифакс, некогда могущественный царь, а теперь жалкий пленник.
Прикованный к постели недугом, Гней Невий мог наблюдать за всем, что делается вокруг, лишь через эту узкую дверь. Наблюдать и думать. Разговор со Сципионом остался незаконченным, не завершена и поэма. О победе Сципиона при Заме и заключении мира с пунами он услышал от ухаживавшего за ним раба. От него же он узнал трогательную историю гибели Софонибы. По рассказу раба, Софонибу отравил сам Масинисса, когда Сципион потребовал, чтобы тот удалил ее от себя. Гней Невий мотал головой (боги отняли у него и речь). Он не мог поверить в эту гнусную клевету. Масинисса скорее отказался бы от короны, чем убил ее, женщину, которой посвятил жизнь. Гней Невий плакал от бессилия.
Гомер, которого скульпторы изображают слепым, подсмотрел и горе Гекубы и прощание Андромахи с Гектором. А он, Гней Невий, римлянин, не нашел своей Андромахи. Героями его поэмы были полководцы и воины. Он рассказал о них правду, потому что видел их и в лагере перед сражением и на поле боя. Вместе с войском Медлителя он обошел пол-Италии. Пламя подожженных пунами селений и городов легло в горькие и тревожные строки гекзаметра. Ветер пыльной Апулии шевелил волосы Невия, и в песне «Канны» звенели сталкивающиеся мечи, слышался топот бегущих, ржание нумидийских коней и торжествующий хохот Ганнибала. В песне «Капуя» запечатлелись и радостные крики горожан, встречающих победителя римлян, и вопли стариков, уводимых в рабство. С неотвратимостью судьбы поэма следовала за событиями и казалась бронзовым зеркалом, отражающим все многообразие человеческих судеб. Но теперь, когда Невию мир виден лишь через щель этой двери, он понял, чего не хватало его произведению. Оно не освещено мягким светом женской любви. Если бы боги возвратили ему силы, Гней Невий написал бы о Софонибе. Наверно, Метеллы обвинили бы его в отстутствии патриотизма и снова бросили в тюрьму. "Как! — сказали бы они. — Римлянин Гней Невий пишет о какой-то пунийке, как будто у нас мало своего горя, своих вдов и сирот! Но рано или поздно народ оценил бы его поэму, как афиняне оценили трагедии Эврипида, осыпаемого при жизни насмешками. В горе Софонибы спаялись бы, как в огне, судьбы всех любящих и любимых, судьбы человеческих песчинок, растираемых жерновами войны. Может быть, юный воин, потрясенный стихами Гнея Невия, не откликнутся на зов глашатая, как некогда Сципион, а выбежит на форум и крикнет:
«Боги дали нам жизнь и разум не для того, чтобы убивать друг друга, не для того, чтобы разлучать любящих! Мы не рабы, привязанные к мельничному колесу судьбы. Мы свободны, как ветер!»
Гней Невий плакал навзрыд. Он плакал над тем, что ему не дано перенести на воск эти слишком поздно пришедшие к нему мысли. Рядом, на каменном полу атриума, поблескивал металлический стиль, а у Невия больше не было сил, чтобы его поднять.