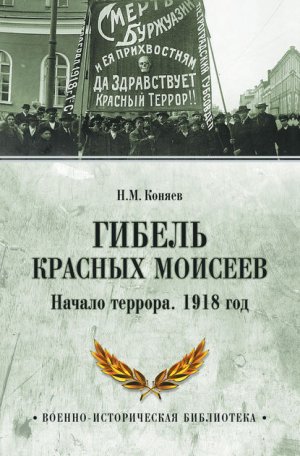
Когда надлежало соблюдать закон, они попирали его; а теперь, когда закон перестал действовать, они настаивают на том, чтобы соблюдать его. Что может быть жалче людей, которые раздражают Бога не только преступлением закона, но и соблюдением его?
Иоанн Златоуст
Глава первая.
ЛЕНИН, ТРОЦКИЙ И… ДЗЕРЖИНСКИЙ
Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму.
В.И. Ленин
Русский народ — дрова в топке мировой революции…
Л.Д. Троцкий
ВЧК — лучшее, что дала партия.
Ф.Э. Дзержинский
Широкие, чинные коридоры Смольного института благородных девиц как-то сразу сделались по-восточному тесными и неопрятными. Между похожих на биндюжников матросов с маузерами бегали черноволосые, юркие большевики с жуликоватыми глазами, звучали визгливые голоса.
И устраивалось все необыкновенно грязно, неудобно и бестолково.
Ленину отвели для отдыха комнату, в которой почему-то почти не было мебели, только в углу валялись брошенные на пол одеяла и подушки.
Но и прокуренные, заплеванные «страшными» и «веселыми чудовищами» коридоры, и мышиный, смешанный с чесноком, запах, которым пропитались подушки и одеяла, не вызывали отвращения.
Это был запах русской революции.
Широко раздувая ноздри, устраивался Ленин на своей первой смольнинской постели… Но только закрыл глаза, как вбежал в комнату Троцкий в потертом, засыпанном перхотью сюртуке.
— Устроились, Владимир Ильич? — спросил он, опускаясь рядом на одеяла.
— Да… — ответил Ленин. — Слишком резкий переход от подполья, от переверзенщины к власти… Es schwindelt…
— У меня тоже кружится голова… — признался Троцкий. Он не договорил — в двери заглянули:
— Дан[1] говорит, товарищ Троцкий, нужно отвечать! Троцкий убежал в зал, где шло заседание съезда Советов, ответил товарищу Дану и снова вернулся в комнату с одеялами. С порога заговорил, продолжая мысль, которая жила в нем, не прекращаясь, все последние дни…
— Да-да… Самое трудное теперь — не захлебнуться в событиях революции. Быстрый успех обезоруживает, как и поражение…
Ленин сбросил с себя одеяло и подошел к окну, за которым грязноватые октябрьские сумерки мешались с серыми солдатскими шинелями, со страшной ночною чернотою матросских бушлатов…
— Если это и авантюра, товарищ Троцкий, то в масштабе — всемирно-историческом! — сказал Ленин, чуть наклонившись вперед и заложив большие пальцы рук за вырезы жилета. — Это такая авантюра, которой не видывал мир!
Сколько раз видел Троцкий это движение, но до сих пор не мог привыкнуть к той поразительной метаморфозе, что происходила в такие мгновения с Ильичом. Голова сама по себе не казалась большой, но, когда Ленин наклонял ее вперед, огромными становились лоб и голые выпуклины черепа…
Троцкому казалось тогда, что Ленин пытается разглядеть нечто еще не видимое ни окружающим, ни ему самому. Как-то сами собой из-под могучего лобно-черепного навеса выступали ленинские глаза…
«Угловатые скулы освещались и смягчались в такие моменты крепко умной снисходительностью, за которой чувствовалось большое знание людей, отношений и обстановки — до самой что ни на есть глубокой подоплеки. Нижняя часть лица с рыжевато-сероватой растительностью как бы оставалась в тени»{1}.
Ленин заговорил быстро, без пауз, и картавый смысл его речи сводился к тому, что большевики смогут закрепить свою власть в стране, — голос Ленина смягчился, сделался гибче и по-лукавому вкрадчивей, — только разрушив ее!
Ленин восхищал Троцкого.
В этом хазарском вожде российского пролетариата почти не ощущалось еврейства…
Кажется, ни матьеврейка[2], ни годы, проведенные в революционных кругах, не оставили в Ленине никакого следа, кроме рыжины и картавой неспособности правильно выговаривать звуки русского языка.
Но при этом — интернационалист Троцкий это очень остро чувствовал! — Владимир Ильич был евреем гораздо большим, чем мать, чем сам Троцкий, чем все товарищи по партии…
Рожденный и выросший на Волге, каким-то немыслимым чудом проник Ленин в тысячелетнюю даль еще не сокрушенного русскими князьями каганата, напился злой и горючей хазарской мудрости и, потеряв почти все еврейские черты, стал евреем в вершинном смысле этого слова…
Он так необыкновенно развил в себе желание и способности лично воздействовать на историю, что всегда, пусть и подсознательно, воспринимал общественные отношения только в соотношении с самим собою, так, как будто всегда находился в их центре… Все, что не встраивалось в эту модель общественного устройства, отвергалось им, подлежало осмеянию и забвению…
Снова вспомнилось Троцкому то острое, подобное слепящему удару ножа, восхищение Лениным, которое испытал он на Апрельской конференции…
Что-то долго и скучно говорил Коба.
Сталин тогда приехал из Сибири, не скрывая своих претензий на руководство партией.
И вот в самый разгар его работы, которой Сталин придавал характер работы вождя, и появился Ленин. Он вошел на совещание, точно инспектор в классную комнату, и, схватив на лету несколько фраз, повернулся спиной к учителю и мокрой губкой стер с доски все его беспомощные каракули.
У делегатов чувства изумления и протеста растворились в чувстве восхищения. У самого Сталина, это было видно по его лицу, обиду теснила зависть, зависть — бессилие. Коба оказался посрамлен перед лицом всей партийной верхушки, но бороться было бесцельно, потому что и сам Сталин тоже увидел новые, распахнутые Лениным, горизонты, о которых он и не догадывался еще час назад.
Сейчас, когда совершился Октябрьский переворот, было так же…
Только теперь на месте Сталина оказался он, Троцкий…
1
К сожалению, кроме воспоминаний самого Л.Д. Троцкого, рассыпанных по томам его сочинений, никаких свидетельств о том, что происходило тогда в комнате с одеялами, не осталось.
«Биографическая хроника жизни В.И. Ленина», избегающая в числе многих сподвижников В.И. Ленина упоминания Л.Д. Троцкого, не говорит и об этой комнате…
В «Хронике» отмечены лишь разговор В.И. Ленина с рабочим А.С. Семеновым, беседа с инженером-технологом Козьминым, интервью корреспонденту «Рабочей газеты», отдых на квартире В.Д. Бонч-Бруевича, но никаких упоминаний о встречах и разговорах с видными работниками партии нет или они обезличены участием В.И. Ленина в различных заседаниях[3]…
Тем не менее мы склонны верить утверждениям Л.Д. Троцкого (косвенно они подтверждаются воспоминаниями других сподвижников В.И. Ленина), что именно в той комнате с одеялами и была выработана принципиально новая стратегия государственного строительства.
Тут надобно сделать пояснение.
Многие критики большевиков совершенно справедливо указывают на антинародный, антигосударственный характер их деятельности. Однако как только встает вопрос, а почему этим антирусским силам удалось захватить власть в России, разговор уходит в туманные рассуждения о масонском заговоре, о происках мировой закулисы, которые не столько отвечают на вопрос, сколько переформулируют его.
Спору нет, и заговор был, и мировая закулиса не дремала, но ведь не об этом речь, а о том, почему русское национальное и государственное сознание оказалось неспособным противостоять атаке злых сил, почему русское общество позволило захватить власть в стране жалкой кучке заговорщиков…
В воспоминаниях знаменитого террориста и военного генерал-губернатора Петрограда Б.В. Савинкова ответа на этот вопрос нет, но из них становится ясно, что в октябре 1917 года та часть русского общества, которая получала жалованье за то, чтобы оберегать страну, и не собиралась противостоять большевикам…
«25 октября 1917 года рано утром меня разбудил сильный звонок. Мой друг, юнкер Павловского училища Флегонт Клепиков, открыл дверь и впустил незнакомого мне офицера. Офицер был сильно взволнован.
— В городе восстание. Большевики выступили. Я пришел к Вам от имени офицеров Штаба округа за советом.
— Чем могу служить?
— Мы решили не защищать Временного правительства.
— Почему?
— Потому что мы не желаем защищать Керенского.
Я не успел ответить ему, как опять раздался звонок и в комнату вошел знакомый мне полковник Н.
— Я пришел к Вам от имени многих офицеров Петроградского гарнизона.
— В чем дело?
— Большевики выступили, но мы, офицеры, сражаться против большевиков не будем.
— Почему?
— Потому что мы не желаем защищать Керенского.
Я посмотрел сначала на одного офицера, потом на другого. Не шутят ли они? Понимают ли, что говорят? Но я вспомнил, что произошло накануне ночью в Совете казачьих войск, членом которого я состоял. Представители всех трех казачьих полков, стоявших в Петрограде (1, 4 и 14-го), заявили, что они не будут сражаться против большевиков. Свой отказ они объяснили тем, что уже однажды, в июле, подавили большевистское восстание, но что министр-председатель и верховный главнокомандующий Керенский “умеет только проливать казачью кровь, а бороться с большевиками не умеет” и что поэтому они Керенского защищать не желают.
— Но, господа, если никто не будет сражаться, то власть перейдет к большевикам.
— Конечно.
Я попытался доказать обоим офицерам, что каково бы ни было Временное правительство, оно все-таки неизмеримо лучше, чем правительство Ленина, Троцкого и Крыленки. Я указывал им, что победа большевиков означает проигранную войну и позор России. Но на все мои убеждения они отвечали одно:
— Керенского защищать мы не будем.
Я вышел из дому и направился в Мариинский дворец, во временный Совет республики (Предпарламент. — Н.К.).
На Миллионной я впервые встретил большевиков — солдат гвардии Павловского полка. Их было немного, человек полтораста. Они поодиночке, неуверенно и озираясь кругом, направлялись к площади Зимнего дворца.
Достаточно было одного пулемета, чтобы остановить их движение»{2}.
Пулемета, как мы знаем, не нашлось.
Зимний дворец вместе с Временным правительством защищали лишь мальчишки-юнкера да женский батальон.
Причины этого отказа Временному правительству в защите можно поискать и в том, как трусливо и подло «сдал» А.Ф. Керенский армию во время так называемого Корниловского мятежа, но во главе тут — конечно же откровенно антирусская политика Временного правительства.
Лидеры партий, пришедших к власти, не считали нужным скрывать, что Февральская революция была совершена во имя еврейских интересов.
«Я бесконечно благодарен вам за ваше приветствие, — отвечая председателю Еврейского политического бюро Н.М. Фридману, говорил глава Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов. — Вы совершенно правильно указали, что для Временного правительства явилось высокой честью снять с русского народа пятно бесправия евреев, населяющих Россию»{3}.
«В ряду великих моментов нынешней великой революции, — вторил ему не менее известный член Государственной Думы Н.С. Чхеидзе, — одним из самых замечательных является уничтожение главной цитадели самодержавия — угнетения евреев».
А Павел Николаевич Милюков, будучи министром иностранных дел, так рапортовал Якову Шиффу, директору банкирской фирмы в Америке «Кун, Лейб и К°», финансировавшей русскую революцию: «Мы едины с вами в деле ненависти и антипатии к старому режиму, ныне сверженному, позвольте сохранить наше единство и в деле осуществления новых идей равенства, свободы и согласия между народами, участвуя в мировой борьбе против средневековья, милитаризма и самодержавной власти, опирающейся на божественное право. Примите нашу живейшую благодарность за ваши поздравления, которые свидетельствуют о перемене, произведенной благодетельным переворотом во взаимных отношениях наших двух стран».
В.Д. Набоков изволил пошутить по этому поводу, что состоявшееся в октябре 1917 года совещание старшин Предпарламента можно было назвать синедрионом, ибо «подавляющая часть его состава были евреи»{4}.
А.И. Солженицын в книге «Двести лет вместе» достаточно убедительно показывает, что власть Временного правительства простым населением воспринималась как власть еврейская, и большевики, хотя, разумеется, и не поддерживали антисемитских настроений в обществе, но, «ведя своё движение под лозунгом “долой министров-капиталистов”, не только не глушили эту струю, а не гнушались раздувать:… мол, Исполнительный Комитет ведёт себя относительно правительства так чрезвычайно умеренно лишь потому, что всё захвачено капиталистами и евреями»{5}.
Много говорилось, насколько точно был выбран Лениным момент для производства переворота. Гениально точно рассчитал он, когда, свергнув Временное правительство (обладавшее, кстати сказать, нулевой легитимностью), большевики, пусть и на короткий момент, но будут восприняты русским народом не как захватчики, а как освободители от ненавистной власти А.Ф. Керенского.
Но эта победа — победа момента. Она могла уплыть из рук, растаять в руках, как будто ее и не было.
Гениальность Ленина не только в том, что он определил момент, когда можно захватить власть. В комнате с одеялами он совершил невозможное — нашел способ, как закрепить свою власть навсегда…
2
Первыми Декретами, принятыми съездом Советов сразу после переворота, были заложены основы для разрушения России как государства…
Сами по себе сформулированные в Декрете о мире предложения «начать немедленно переговоры о справедливом, демократическом мире, без аннексий… и контрибуций» никакого практического значения не имели и не могли иметь, потому что декрет не оговаривал, кто и с кем должен договариваться. Не определено было и то, как должны осуществляться переговоры. Предлагалось только вести переговоры открыто, ликвидировав все тайные соглашения и договоры.
Более того…
После обращения ко «всем воюющим народам и их правительствам» Ленин вычеркнул из декрета все упоминания о правительствах воюющих стран, и все предложения декрета адресовались нациям, воюющим народам и полномочным собраниям народных представителей, которыми, как это доказали сами большевики, могли стать любые авантюристы…
И предложения эти говорили не столько о мире, сколько об устройстве мировой революции: «Рабочие названных стран поймут лежащие на них теперь задачи… помогут нам успешно довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс от всякого рабства и всякой эксплуатации»{6}.
Разрушительная для России, как государства, сила этого декрета была значительно усилена редактурой Владимира Ильича Ленина. Несколько точных купюр, незначительные поправки, и — документы, задуманные как популистские декларации, обрели беспощадную силу грозного оружия. В ленинской редакции Декрет о мире превратился в декрет о гражданской мировой войне…
На наш взгляд, историки несколько преувеличивают роль соглашений, заключенных большевиками с немецким Генштабом. Интересы немцев и большевиков в конце 1917 года и так совпадали по многим пунктам…
В первую очередь — по вопросу о судьбе русской армии.
Германия стремилась уничтожить Восточный фронт, а большевики — демобилизовать еще не до конца разложившуюся действующую русскую армию, настроенную к ним не менее враждебно, чем к немцам.
Исходя из своих собственных интересов, советское правительство потребовало от главкома генерала Н.Н. Духонина «сделать формальное предложение перемирия всем воюющим странам».
Однако, по представлениям Николая Николаевича, подобные предложения могли исходить не от неведомо кем назначенных полномочных собраний народных представителей, а только от правительства, облеченного доверием страны, и он отказался исполнить приказ, за что и был растерзан латышами[4], а на его место назначен не отличавшийся излишней щепетильностью прапорщик Крыленко.
Интересно, что в самой армии прекрасно понимали, к чему могут привести такие переговоры о мире…
«Был целые сутки в карауле в бывшем Министерстве иностранных дел, — вспоминает очевидец тех событий С.В. Милицын. — Всего нас было 12 человек. Из нашего взвода я и Лукьянов. Разговор сразу завязался на политическую тему. Начал Аршанский:
— Слышали новость? Крыленко издал приказ о праве представителей полков заключать перемирие и представлять договоры на утверждение Советской власти.
— Что же! Значит, сколько полков, столько и мирных договоров? Украинский полк заключит один мир, Великорусский — другой и так далее. Да и действителен ли приказ Крыленко для украинских частей?
— Ему на это наплевать. Ему одного нужно — заключайте мир и расправляйтесь со своими начальниками. Вот прапорщику что нужно».
Но, кроме разговоров, никакого противодействия оказано не было.
В тех же воспоминаниях С.В. Милицына, пытающегося, как он говорит сам, понять, кто превратил в зверских людей, жадных к чужой собственности и жизни, тех, кто когда-то был чистыми детьми, верующими и любящими, разговор о прапорщике Крыленко так ничем и не кончается.
«Вот они тут крутят, а отвечать народу придется, — тихо, с ноткой грусти вставил Лукьянов.
— А ну их к черту. Давайте лучше чай пить. Чья очередь за кипятком?»{7}
Другое дело — действующая армия…
Когда предложения Ленина прекратить военные действия и самим выбирать уполномоченных для переговоров с германцами дошли до полков, начались стихийные братания. Заранее подготовившееся к подобному повороту событий германское командование бросило на «братания» сотрудников пропагандистских служб, и уже к 16 ноября двадцать русских дивизий, «заключив» перемирие, самовольно покинули окопы, а оставшиеся дивизии придерживались соглашения о прекращении огня. Германская армия при этом продолжала сохранять дисциплину и боевой порядок…
Л.Д. Троцкий самолично проверил, как выполнена в войсках ленинская директива о стихийном заключении мира. Еще когда он «первый раз проезжал через окопы на пути в Брест-Литовск, наши товарищи, несмотря на все предупреждения и понукания, оказались бессильны организовать сколько-нибудь значительную манифестацию против чрезмерных требований Германии: окопы были почти пусты, никто не отважился говорить даже условно о продолжении войны. Мир, мир во что бы то ни стало!.. Позже, во время приезда из Брест-Литовска, я уговаривал представителя военной группы во ВЦИК поддержать нашу делегацию “патриотической” речью. “Невозможно, — отвечал он, — совершенно невозможно; мы не сможем вернуться в окопы, нас не поймут; мы потеряем всякое влияние”»[5]…
Тем не менее, хотя большевистские и германские интересы совпадали, хотя большевики конечно же имели какие-то обязательства перед Германией, стратегия политики Ленина и Троцкого этими факторами не исчерпывалась и этими обстоятельствами не определялась.
Более того, надо признать, что названные нами политические сюжеты воспринимались Лениным и Троцким лишь как малозначительные эпизоды в грандиозном переходе от Русской революции к Мировой революции.
И можно с большой долей уверенности говорить, что ни Ленин, ни Троцкий, ни другие более или менее посвященные в дело большевики никаких долгов Германии возвращать не собирались, поскольку, по их замыслу, и Германию должна была постигнуть участь России…
Когда Троцкий в комнате с одеялами понял это, ему показалось, что еще никогда в жизни он не переживал подобного восторга.
И он был не одинок в своих ощущениях.
«В день 26 октября 1917 года, когда невысокий рыжеватый человек своим картавящим голосом читал с трибуны Декрет о мире, провозглашающий право всех народов на полное самоопределение, так верилось в близкое торжество, в скорый конец безумных грабительских войн, в близкое освобождение человечества!.. Неудержимый порыв охватил весь съезд, который поднялся с мест и запел песнь пролетарского освобождения. Звуки “Интернационала” смешивались с приветственными криками и с громовым “ура”; в воздух летели шапки, лица раскраснелись, глаза горели»{8}.
3
Точно так же Ленин поступил и с Декретом о земле.
Многих смутила, а кое-кого и возмутила бестолковость, что царила при подготовке этого важнейшего документа.
Куда-то потерялся текст с правками…
Даже сам Троцкий не сразу сообразил, почему вместо доклада по вопросу о земле Ленин зачитал на съезде напечатанную в «Известиях» эсеровскую программу земельных преобразований{9}.
И только потом, слушая возмущенный — дескать, это политический плагиат! — гул эсеров, Троцкий сообразил, что главное в ленинском Декрете о земле — не эсеровские обещания, а большевистская реализация этих обещаний.
Получалось, что декрет, отменяя навсегда частную собственность на землю, определял, как должна проходить конфискация земель у владельцев, а вот реализацию права всех граждан России на свободное пользование землей при условии собственного труда на ней декрет возлагал на Учредительное собрание.
Гениальность ленинского плана восхищала Троцкого и многие годы спустя.
Вместо свободы землепользования российское крестьянство и не могло получить по этому декрету ничего, кроме продотрядов военного коммунизма, кроме права на рабский труд в коммунах и колхозах во имя победы мировой революции.
И так во всем… В каждом, даже самом малозначительном распоряжении Ленина обнаруживался замысел, постигнуть который самостоятельно можно было, только обладая сильным интеллектом Троцкого.
И это и было боевым языком партии, позволяющим свободно, не опасаясь ни врагов, ни малоспособных сподвижников кавказского происхождения, говорить о наиболее важных проблемах партийной политики и укрепления своей власти.
Впрочем, и Троцкому тоже приходилось приподниматься над собой, выпрыгивать из себя, чтобы до конца уразуметь стратегическую линию ленинской политики: чтобы удержаться у власти, большевики должны не строить, а разрушать!
Руководствуясь этой мыслью, и составляли они с Лениным список первого правительства.
— Как назвать его? — спросил Ленин.
— Может быть, Совет министров? — предложил Троцкий.
— Нет! Только не министрами! — решительно отверг предложение Ленин. — Это гнусное, истрепанное название.
— Можно назвать комиссарами… — сказал Троцкий. — Совет верховных комиссаров…
— Нет! — Ленин покачал головой. — «Верховных» плохо звучит…
— Нельзя ли «народных»?
— Народные комиссары? — переспросил Ленин, как бы пробуя на вкус слово. — А что? Это, пожалуй, пойдет… Совет народных комиссаров… Превосходно! Это пахнет революцией…
Любопытно, что В.Д. Бонч-Бруевич, вспоминая о рождении Совнаркома, косвенно подтвердил факт этого разговора Троцкого и Ленина.
Он рассказывает, что название Совнаркома и его структура уже были определены В.И. Лениным и доведены им до сведения партийцев как решение, не нуждающееся в обсуждении. Но, естественно, В.Д. Бонч-Бруевич усмотрел в этом только еще одно проявление гениальности В.И. Ленина.
«Как только наступил первый момент после захвата власти, когда пришлось всем подумать об устройстве правительства, то, конечно, сейчас же поднялся вопрос о формах его, — вспоминал он. — Большинство определяло эту форму в старых формах: кабинет министров. Как сейчас помню, Владимир Ильич, заваленный крайне трудной работой с первых дней революции, услыхал этот разговор, переходя от телефона к телефону, и мимоходом бросил: “Зачем эти старые названия, они всем надоели. Надо устраивать комиссии по управлению страной, которые и будут комиссариатами. Председателей этих комиссий назовем народными комиссарами; коллегия председателей будет — Совет Народных Комиссаров, которому и принадлежит полнота власти, съезд Советов и Центральный Исполнительный Комитет контролируют его действия, им же принадлежит право смещения комиссаров».
Этот мимолетный разговор предопределил формы организации новой правительственной власти. Невольно обратило внимание всех, что Владимир Ильич, очевидно, за 21/2 десятка лет непрерывной революционной борьбы имел время обдумать все до мелочей и был готовым к тому судному дню, когда меч пролетарской революции отсечет голову буржуазной гидры, когда переход власти в руки трудящихся будет уже не сладостной мечтой, а суровой боевой действительностью. К этому дню ему, вождю величайшей в мире революции, надо было быть всегда готовым, и он, действительно, был готов»{10}.
Думается, что гениального экспромта в ленинской политике было больше, чем мудрой предусмотрительности, и идея создания Совнаркома родилась на ходу.
Другое дело, что додумал ее В.И. Ленин до конца…
По-ленински, не упуская ни единой мелочи, Владимир Ильич заявил Троцкому, что в охране Совета народных комиссаров нельзя полагаться на солдат и матросов и надобно срочно собрать охрану из латышей или китайцев.
— Они же по-русски не понимают, Владимир Ильич… — возразил Троцкий.
— И это правильно, Лев Давидович! Я думаю, чем меньше они будут понимать нас, тем лучше… Ведь у нас, батенька, и аппарат пестренький… — Ленин взглянул на лежащий перед ним список Совнаркома: — На 100 порядочных 90 мерзавцев!
4
Самое интересное и важное в революциях — это не сама революция и даже не причины, которые обусловили революционный взрыв, а то, как удается революционерам удержать власть…
Большевики победили, кажется, вопреки всем законам логики, вопреки здравому смыслу…
Секрет разгадки, как нам кажется, кроется в устроении головы Владимира Ильича Ленина, в характере его.
Будучи последовательным материалистом, Ленин произвольно, не соотносясь с реальной обстановкой, осуществлял свои действия так, как будто мир и управлялся из того центра, в котором находился он сам. Только такое устроение мира было правильным и разумным по его глубочайшему, не подвластному никакому анализу и критике убеждению, а любое другое — нелепым, ошибочным, иррациональным…
«Ленин, — писал А.В. Луначарский, — никогда не оглядывается на себя, никогда не смотрится в историческое зеркало, никогда не думает даже о том, что о нем скажет потомство, — он просто делает свое дело. Он делает это дело властно, и не потому, что власть для него сладостна, а потому что он уверен в своей правоте и не может терпеть, чтобы кто-нибудь портил его работу. Его властолюбие вытекает из его огромной уверенности в правильности своих принципов и, пожалуй, из неспособности (очень полезной для политического вождя) становиться на точку зрения противника» (выделено нами. — Н.К.){11}.
А.М. Горький приводит в своих воспоминаниях рассуждение В.И. Ленина об «эксцентризме» как особой форме театрального искусства.
«Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, — говорил он, — есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а — интересно!»
Сам Ленин тоже был эксцентриком.
Трезво и ясно анализируя информацию об общественных настроениях и реальном положении дел, он обладал настолько мощным интеллектом, что незаметно для сподвижников, а порою и для самого себя, деформировал реальную картину событий, так располагал поступающую информацию, что центр событий как бы смещался к точке, в которой находился он сам.
И это не было ни обманом, ни дезинформацией.
Сохранились любопытные воспоминания Л.Д. Троцкого: «Я приехал за границу с той мыслью, что ЦО (центральный орган, редакция газеты “Искра”. — Н.К.) должен «подчиняться» ЦК. Таково было настроение большинства «русских» искровцев, не очень, впрочем, настойчивое и определенное.
— Не выйдет, — возражал мне Владимир Ильич. — Не то соотношение сил. Ну, как они будут нами из России руководить? Не выйдет… Мы — устойчивый центр, и мы будем руководить отсюда.
— В одном из проектов говорилось, что ЦО обязан помещать статьи членов ЦК.
— Даже и против ЦО? — спрашивал Ленин.
— Конечно.
— К чему это? Ни к чему. Полемика двух членов ЦО могла бы еще при известных условиях быть полезной, но полемика “русских” цекистов против ЦО не допустима.
— Так это же получится полная диктатура ЦО? — спрашивал я.
— А что же плохого? — возражал Ленин. — Так оно при нынешнем положении и быть должно»{12} …
Абсурдно, когда пусть и центральный, но все же только орган печати Центрального комитета принимает функции управления и руководства самим Центральным комитетом. Но в ленинской логике эксцентрика, свободно преобразующего один вид движения в другой, это нормально и естественно, поскольку сам Ленин находится в центральном органе.
Так же эксцентрично относился В.И. Ленин к организациям и общественным институтам при подготовке Октябрьского переворота, этим определялось его отношение к Учредительному собранию после переворота…
С точки зрения Ленина, не было ничего более нелепого, чем соблюдать какие-то договоры, если соблюдение их могло привести к утрате власти.
Эта способность в любое мгновение ломать любые обычаи, наполнить противоположным содержанием любые правила и была, безусловно, самой сильной стороной Ленина-политика, если, конечно, можно назвать политикой ту перманентную ломку всего и вся, которой он занимался на протяжении своей государственной деятельности.
Говорят, что Ленин был широк.
Да… Он был широк в том смысле, что любая форма правления была хороша для него, пока гарантировала ему власть.
Сейчас уже редко вспоминают, что большевики, свергнув правительство Керенского, скомпрометировавшее себя полной неспособностью к управлению Россией, идею демократических выборов в Учредительное собрание, которое и должно было определить государственное устройство России, не отвергли.
И именно это и определило достаточно индифферентное отношение правых эсеров, меньшевиков и кадетов к Октябрьскому перевороту. Именно потому и не встретил Октябрьский переворот должного сопротивления, что был нужен не только большевикам, прорвавшимся к власти, но и их политическим оппонентам.
Мысль, при всей ее парадоксальности, отнюдь не абсурдная.
Запутавшись в интригах, в предательской, по отношению к России, политике, лидеры партий, входящих в состав самозваного Временного правительства — ни в одном своем составе оно не обладало достаточной легитимностью! — рады были свалить ответственность за развал страны, за собственные просчеты на авантюристов-большевиков.
Последствия же оппоненты большевиков по своему легкомыслию не склонны были драматизировать. Разношерстая толпа нацменов, окруженных, как их изображали карикатуристы, полупьяными матросами, не казалась прожженным политиканам слишком уж опасной. По их расчетам, большевики, не вписавшись в картину «цивилизованной» жизни, неизбежно должны были сойти с политической арены.
Политически все было верно в этих расчетах.
Кроме одного…
Прожженные политики не учли, что во главе их противников стоит Ленин, который считает соблюдение правил и договоров необходимым только до тех пор, пока эти правила работают на его власть.
Пока выборы в Учредительное собрание не состоялись, пока неизвестно было, к каким результатам они приведут, Ленин соглашался не вести борьбу с Учредительным собранием.
Но пришло 25 ноября 1917 года.
Выборы в Учредительное собрание состоялись, и большевики потерпели на них серьезное поражение. Они получили всего 25% голосов, которые гарантировали им лишь 175 мест в Учредительном собрании, в то время как эсеры, получившие 40,4% голосов, обеспечили себе более 300 мест.
Можно было утешиться, что кадеты набрали всего 4,7% голосов, но большевикам такое утешение не подходило. Ленину нужна была не социалистическая власть в России, а своя власть…
Реакция большевиков на результаты выборов в Учредительное собрание была мгновенной и совершенно неожиданной для их политических конкурентов.
25 ноября в Петроград прибыл выписанный Лениным 6-й Тукумский полк.
26 ноября сводная рота латышских стрелков взяла на себя охрану Смольного.
27 ноября большевики, закрепляя свою власть в городе, проводят Г.Е. Зиновьева на пост председателя Петросовета (взамен Л.Д. Троцкого) и уже на следующий день издают декрет о закрытии газет, «сеющих беспокойство в умах и публикующих заведомо ложную информацию».
Кроме этого, Ленин, Троцкий, Глебов, Стучка, Менжинский, Сталин, Петровский, Шлихтер, Дыбенко, Бонч-Бруевич тогда же подписали декрет «Об аресте вождей Гражданской войны против революции». В декрете говорилось, что «члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа, подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов».
В этот же день, после торжественной присяги на верность советскому правительству сводного батальона латышских стрелков, Петроградский ВРК начал аресты руководящих деятелей ЦК партии кадетов.
Насколько бесправны были арестанты, видно из того, что члены ЦК партии кадетов, депутаты Учредительного собрания Ф.Ф. Кокошкин и А.И. Шингарев вскоре после роспуска Учредительного собрания были убиты без суда и следствия.
3 декабря приказом №11 по Петроградскому военному округу было объявлено об упразднении всех «офицерских и классных чинов, званий и орденов», а 6 декабря, уже после роспуска Петроградского военно-революционного комитета, управляющий делами Совнаркома Владимир Бонч-Бруевич доложил Владимиру Ильичу Ленину о панике, царящей среди руководства партии, напуганного всеобщей забастовкой госслужащих.
— Неужели у нас не найдется своего Фукье-Тенвиля, который привел бы в порядок контрреволюцию? — гневно воскликнул тогда Ленин.
Такой человек в партии нашелся.
Это был завернутый в длинную шинель Феликс Эдмундович Дзержинский…
Как свидетельствовал Мартин Лацис, Дзержинский «сам напросился на работу по ВЧК». Ему и поручили «создать специальную комиссию для выяснения возможности борьбы с подобной забастовкой при помощи самых энергичных революционных мер».
На основании «исторического изучения прежних революционных эпох» Ф.Э. Дзержинский разработал проект организации Всероссийской чрезвычайной комиссии и уже на следующий день, 7 декабря, доложил его на заседании Совнаркома.
— Не думайте, что я ищу формы революционной справедливости. Нам не нужна сейчас справедливость… Я требую органа для революционного сведения счетов с контрреволюцией! — с сильным польским акцентом, путаясь в ударениях, говорил он, и глаза его лихорадочно блестели.
5
Биографы чекиста № 1 утверждают, что его отец имел двойное имя Эдмунд-Руфин, а отечество — Иосифович. И фамилию отец Дзержинского тоже носил двойную — Фрумкин-Дзержинский…
Откуда почерпнуты сведения насчет фамилии отца, биографы кровавого Феликса не сообщают, и поэтому доверять подобным сообщениям трудно.
Гораздо более определенно известно, что отец Дзержинского, Эдмунд-Руфим Дзержинский, окончил в 1863 году физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета.
Будучи студентом, он давал домашние уроки дочерям профессора Петербургского железнодорожного института Игнатия Янушевского и соблазнил 14-летнюю Елену Янушевскую.
С помощью тестя туберкулезный любитель несовершеннолетних девочек был пристроен учителем физики и математики в Таганрогскую гимназию, куда как раз в те годы поступил Антон Чехов. Если бы мы не стремились в нашем повествовании к документальной точности, вполне можно было бы предположить, что чахотку великий русский писатель подцепил именно от своего учителя физики и математики.
Впрочем, к судьбе чекиста № 1 это обстоятельство никакого отношения не имеет. Сам Феликс Эдмундович Дзержинский родился 11 сентября 1877 года уже в имении Дзержиново Вильненской губернии, когда отец его — туберкулез стремительно развивался, и пребывание Эдмунда Руфимовича в гимназии становилось небезопасным для учеников — вернулся на родину.
На формирование юного Феликса отец особого влияния не оказал, он умер, когда будущему чекисту было всего пять лет.
Другое дело мать…
«Я помню вечера в нашей маленькой усадьбе, когда мать при свете лампы рассказывала… о том, какие контрибуции налагались на население, каким оно подвергалось преследованиям, как его донимали налогами… И это… повлияло на то, что я впоследствии пошел по тому пути, по которому шел, что каждое насилие, о котором я узнавал, было как бы насилием надо мной лично»{13}.
Материальное положение 32-летней вдовы, оставшейся с восемью детьми на руках, было незавидным… 42 рубля в год приносило сданное в аренду имение, плюс к тому весьма скромная пенсия за мужа, и все. Чтобы свести концы с концами, приходилось постоянно клянчить подачки у родственников…
И остается только удивляться, что бедная, замученная нуждой женщина находила время, чтобы прививать детям ненависть к России, культивировать в них пафос национальной польской борьбы против России.
«Как множество детей интеллигентных семей, и Феликс Дзержинский пил ядовитый напиток воспоминаний… о подавлении польских восстаний. Злопамятное ожесточение накоплялось в нем. Легко воспламеняющийся будущий палач русского народа, фанатический Феликс Дзержинский… и тут перебросил свою страстную ненависть через предел: с русского правительства на Россию и русских»{14}.
Несколько отвлекаясь от основного повествования, все-таки обратим внимание на странное, никак не объяснимое с рационалистической точки зрения явление…
В одних и тех же местах, с разрывом в десятилетие, рождаются люди, сыгравшие огромную, можно сказать, ключевую роль в разрушении Российской империи.
10 (22) апреля 1870 года в Симбирске, в семье инспектора народных училищ Ильи Николаевича Ульянова и Марии Александровны, в девичестве Бланк, родился Владимир Ильич Ленин.
Директором гимназии, в которой учился В.И. Ленин, был Ф.И. Керенский, отец будущего главы Временного правительства.
Сам же Александр Федорович Керенский родился 22 апреля (4 мая) 1881 года в семье, как мы сказали, директора мужской классической гимназии Федора Михайловича Керенского и Надежды Александровны, в девичестве Адлер.
Если рожденный десятилетие спустя после В.И. Ленина А.Ф. Керенский по интеллекту и уступал своему гимназическому преемнику, то в ненависти к России вполне мог, на наш взгляд, соперничать с ним.
Ну а в Ошмянском уезде десятилетие спустя после Ф.Э. Дзержинского родился будущий маршал Польши — Иосиф Пилсудский. И они с палачом № 1 — тоже из одной гимназии…
И вот и спрашивается: откуда, не из сатанинской ли русофобии, обуревающей дворянство и «прогрессивную интеллигенцию» Российской империи, и явились на склоне XIX века эти двуединые враги России?
Нет…
Ленин и Керенский, Дзержинский и Пилсудский не дублировали друг друга, не дополняли, они перекрывали своей разнознаковой ненавистью все пространство русской общественной жизни.
В 1920 году, когда Пилсудский повел польские войска на Киев, его интересы столкнулись с интересами Дзержинского, назначенного главою будущей большевизированной Польши, однако столкновение это, как и столкновение Ленина с Керенским, чисто внешнее.
Подтверждая, что русофобия для него осталась выше классовой ненависти, Дзержинский отмечал: «Еще мальчиком я мечтал о шапке-невидимке и уничтожении всех москалей»…
Как раз в те годы, когда Дзержинского одолевали подобные мечты, умер отец, и мать начала учить Феликса читать по-еврейски.
Официальная научная биография Феликса Эдмундовича Дзержинского, выпущенная в 1977 году издательством политической литературы, никак не комментирует этот факт и вообще, кажется, даже и не упоминает о том, что Дзержинский при всех своих талантах владел еще и еврейским языком. Между тем факт этот важен не только для понимания некоторых моментов в чекистской биографии Феликса Эдмундовича, но и для представления, как шло духовное формирования «кровавого Феликса».
Надо сказать, что научиться читать по-еврейски тогда могли позволить себе далеко не все даже и ортодоксальные евреи. Карл Радек вспоминал потом: «Мы смеялись позже, что в правлении польской социал-демократии, в которой был целый ряд евреев, читать по-еврейски умел только Дзержинский, бывший польский дворянин и католик»{15}.
Будущему начальнику ВЧК, когда он начал укреплять в себе злопамятное ожесточение еврейской грамотой, было семь лет.
Видимо, эти занятия так увлекли юного Феликса, что на другие предметы у него просто не оставалось сил. За неуспеваемость по русскому языку Дзержинский был оставлен в первом классе Виленской гимназии на второй год.
Вообще надо сказать, что ни талантами, ни способностями Дзержинский в гимназии не блистал. Поступивший в гимназию после Дзержинского будущий маршал Польши Иосиф Пилсудский отзывался о своем предшественнике как о серости и посредственности[6].
Хорошо успевал Феликс только по Закону Божьему. Впрочем, и здесь он брал не столько знаниями, сколько чувствами.
«Бог в сердце… — писал он тогда брату. — Если бы я когда-нибудь пришел к выводу, что Бога нет, то пустил бы себе пулю в лоб».
Этого обещания Дзержинский — увы! — не исполнил, хотя вскоре «вдруг понял, что Бога нет!».
Душевный переворот совершился в юном Феликсе после того, как знакомый ксендз категорически воспротивился его карьере католического священника. Со свойственной порывистой натуре последовательностью Дзержинский рассердился не только на ксендза, не желающего помогать ему, но и на Бога. Хотя и ксендзу он тоже отомстил. Причем отомстил с такой изуверской изобретательностью, которую трудно было и предположить в столь юном существе.
Дзержинский, как будто ничего не произошло, по-прежнему подбегал к ксендзу, едва тот появлялся в гимназии. Но, испрашивая у него духовного совета, незаметно подкладывал в калоши духовника записочки своей подружке из женской гимназии, где ксендз также преподавал Закон Божий.
О том, что ксендз бегает у него на посылках, пылкий Феликс поведал своим друзьям, и это возмутило всю гимназию, но скандал замяли. Так и так выходило, что Дзержинский прав, и ксендз действительно был почтальоном юных любовников.
Впрочем, гимназию юный Феликс все равно не закончил. В 1896 году, осерчав на учителя немецкого языка, поставившего плохую отметку, Дзержинский прилюдно влепил ему пощечину[7].
Надо сказать, что не знающая моральных преград предприимчивость местечкового обитателя как-то странно совмещалась в Дзержинском с высокомерием польского шляхтича, не желающего задумываться о последствиях своих действий.
Политиздатовская биография Дзержинского, рассказывая об эпизоде исключения Дзержинского из гимназии, как раз и подчеркивает это свойство его характера.
«Твердо решив добровольно оставить гимназию, Феликс зашел однажды в учительскую и открыто выступил с резкой критикой одного из наиболее ненавистных, реакционных педагогов — шовиниста Мазикова по прозвищу Рак. Дзержинский смело высказал ошеломленным учителям свои взгляды на постановку воспитания, а вернувшись домой, поделился об этом с близкими, чувствуя удовлетворение от выполненного им долга»{16}.
Тетке Феликса, Софье Игнатьевне Пиляр, с трудом удалось упросить директора гимназии замять дело и выдать свидетельство, что ученик 8-го класса Феликс Дзержинский выбыл из гимназии согласно ее прошению.
Тем не менее Феликс со своей шляхетской гонорливостью не сумел ужиться у родственников после смерти матери.
Полученная в наследство тысяча рублей быстро растаяла, и Дзержинский оказался в трущобах на окраине Вильно, где обитало множество уголовников.
Однако Дзержинский не прижился и в этой среде. Возможно, жидковат оказался, чтобы пробиться в верхушку, а бегать в «шестерках» не позволяла все та же шляхетская гонорливость… Пришлось идти к польским революционерам, цели и методы которых тогда мало чем отличались от бандитских.
«Мне удалось стать агитатором, — писал Ф.Э. Дзержинский в автобиографии, — и проникать в совершенно нетронутые массы на вечеринки, в кабаки, там, где собирались рабочие»{17}.
В июле 1897 года в Ковенскую полицию поступило агентурное сообщение о появлении в городе молодого человека в черной шляпе, всегда низко надвинутой на глаза. Подозрительный молодой человек угощал в пивной рабочих с фабрики Тильманса, уговаривая их устроить на фабрике бунт, а в случае отказа грозил жестоко избить своих собутыльников.
При аресте молодой человек назвался Эдмунтом Жебровским. Это и был Дзержинский. Полиции не удалось доказать его личного участия в многочисленных кровавых разборках, и, продержав год в тюрьме, его сослали за подстрекательство к бунту на три года в Вятскую губернию.
Так и началась тюремная карьера Феликса Эдмундовича.
Здесь он быстро достиг того авторитета, которого ему не удавалось достичь среди уголовников на свободе.
Однажды на этапе начался бунт, арестанты потребовали пищи и табака. Начальник конвоя пригрозил, что прикажет стрелять. Дзержинский тогда разорвал на себе рубаху и зашелся, завизжал по-блатному:
— Стреляйте, если хотите быть палачами!
Начальник конвоя решил не связываться с приблатненным шляхтичем.
Считается, что подобно ворам в законе Дзержинский ни разу не провел на свободе более трех лет подряд. Всего он провел в тюрьме, в том числе и на каторге, одиннадцать лет, три раза был в ссылке и всегда бежал.
Дзержинского арестовывали в 1897, 1900, 1905, 1906, 1908 и 1912 годах, а 4 мая 1916 года Московская судебная палата накинула ему еще шесть лет каторжных работ.
Тюрьма стала для товарища Дзержинского родным домом. Здесь, в тюрьме, окончательно сформировался его характер.
«Когда я в сознании своем, в сердце своем взвешиваю то, чего лишила и что дала мне тюрьма, я твердо знаю, что не проклинаю ни судьбы моей, ни долгих лет тюрьмы… — писал он. — Это результат жажды свободы и тоски по красоте и справедливости».
Эту свою жажду свободы и тоски по красоте и справедливости Феликс Эдмундович выплеснул в дальнейшем в своей знаменитой инструкции по обыскам, допросам и правилам содержания граждан в тюрьмах.
«Обыск производить внезапно, сразу во всех камерах и так, чтобы находящиеся в одной не могли предупредить других. Забирать всю письменную литературу, главным образом небольшие листки на папиросной бумаге и в виде писем. Искать тщательно на местах, где стоят параши, в оконных рамах, в штукатурке».
Люди, не понаслышке знакомые с пенитенциарной системой, считают, что созданная Дзержинским инструкция является шедевром в своем жанре. Такой жестокой, перекрывающей все щелочки для послаблений системы тюремщики еще не знали.
Заключенные Бутырской тюрьмы, где перед Февральской революцией сидел Дзержинский, ничего не могли знать об инструкции, которую вынашивал для них каторжанин № 217… Но существует легенда, что однажды они так жестоко избили его, будто предвидели, что он сделает. Заключенные били тогда Дзержинского словно от имени всех будущих узников советских тюрем.
6
Сохранились воспоминания Л.Д. Троцкого, встретившего Дзержинского на пересылке еще в 1902 году.
«Весной, когда по Лене прошел лед, Дзержинский перед посадкой на паузок в Качуге, вечером у костра читал на память свою поэму на польском языке. Большинство слушателей не понимало поэмы. Но насквозь понятно было в свете костра одухотворенное лицо юноши, в котором не было ничего расплывчатого, незавершенного, бесформенного. Человек из одного куска, одухотворенный одной идеей, одной страстью, одной целью»{18} …
Что-то подобное происходило и на заседании Совнаркома 7 декабря 1917 года…
Слова Дзержинского со сбитыми ударениями звучали неясно, сливались, и мало кто из членов Совнаркома мог разобрать то переходящую в неясное бормотание, то срывающуюся на яростный крик речь сорокалетнего скелета в гимнастерке, мало кто догадывался, что сегодняшнее заседание во многом предопределяет успех революции.
— Революции всегда сопровождаются смертями, это дело самое обыкновенное! И мы должны применить сейчас все меры террора, отдать ему все силы! — бессвязно выкрикивал Дзержинский. — Не думайте, что я ищу форм революционной юстиции, юстиция нам не к лицу! У нас не должно быть долгих разговоров! Сейчас борьба грудь с грудью, не на жизнь, а на смерть, — чья возьмет?! И я требую одного — организации революционной расправы!
И как тогда, в Качуге, где на берегу Лены читал Дзержинский у костра свою поэму на польском языке, хотя и трудно было уловить смысл бессвязной речи, но насквозь понятна была ленинским народным комиссарам звериная жестокость и беспощадность, что дышала в каждой черточке лица докладчика.
Сам Владимир Ильич Ленин, искоса поглядывая на Дзержинского, удовлетворенно хмыкал и что-то быстро чиркал на листке.
Ленин знал, что его правительству придется столкнуться с внутренней и внешней оппозицией, но он не ожидал, что это случится так скоро.
Впрочем, это не пугало его.
Это столкновение позволяло без промедления приступить к созданию специальной системы организованного насилия и освободиться от безнадежно устаревших после Октябрьского переворота норм и ограничений «буржуазной» законности и морали.
В революции главное — не создать для трудового народа нормальные условия жизни, а удержать его от попыток вернуться к нормальной жизни.
Это и предлагал Дзержинский.
Это и восхитило в нем товарища Ленина.
В.И. Ленин объявил своим сподвижникам, что столкновение с внутренней и внешней оппозицией выгодно большевикам, ибо оно позволит предотвратить ошибки Парижской коммуны. Восставшие коммунары возлагали слишком много надежд на примирение и использовали слишком мало силы!
Владимир Ильич Ленин, как мы уже говорили, не просто превосходил своих подручных интеллектом. Он был настолько беспощадно умнее всех своих сподвижников, что они терялись рядом с ним. Они не только не способны были воспринять во всей глубине ленинские мысли, но зачастую даже и смысла их уловить не могли. Впрочем, это тоже нисколько не раздражало Ленина, потому что он вовсе не был уверен, что товарищи по партии поддержат его, если будут понимать все.
Ф.Э. Дзержинский не был исключением.
В присутствии Ленина он впадал в отупение и становился просто не способным к элементарной мыслительной работе.
— Зачем нациям самоопределяться от завоеванного счастья? — упорствовал он на Апрельской конференции, когда Ленин попытался разъяснить ему свой тезис о самоопределении наций. — Ведь мы же боремся, Владимир Ильич, за мировую революцию!
Но Владимиру Ильичу другой Дзержинский нужен не был.
Ленина вполне устраивал человек, компенсировавший недостаток умственных способностей тем, что, по свидетельству Вячеслава Рудольфовича Менжинского, «не был никогда расслабленно-человечен»…
Владимир Ильич и сам не страдал от расслабленной человечности…
«Я не встречал, не знаю человека, который с такой глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастиям, горю, страданию людей», — вспоминал А.М. Горький{19}.
Может быть, поэтому и ценил так Владимир Ильич патологическую, не желающую знать никаких ограничений законами или моральными нормами жестокость Дзержинского.
Ленин, как говорил A.M. Горький, обладал «воинствующим оптимизмом материалиста» и всегда поддерживал Феликса Эдмундовича, хотя при удобном случае не упускал возможности поставить его на место.
7
Известен эпизод, который еще произойдет на заседании Совнаркома, когда уже вовсю разбушуется красный террор.
Дзержинский, как это было принято у него, пришел на заседание в грязных сапогах, в измятой гимнастерке.
У него, как утверждают современники, уже выработалась неприятная манера смотреть — он как бы «забывал» свой взгляд на каком-нибудь человеке. Сидел и не сводил с человека своих стеклянных с расширенными зрачками глаз…
На том заседании Совнаркома обсуждался вопрос о снабжении продовольствием железнодорожников. Дзержинский заскучал и по растерянности «позабыл» взгляд своих стеклянных глаз на Владимире Ильиче.
Ленину это не понравилось. Дзержинский вообще после 30 августа сильно разонравился Ильичу.
Прищурившись, он чиркнул на листке: «Сколько, тов. Дзержинский, у нас в тюрьмах злостных контрреволюционеров?»
Заложников тогда числилось по Москве 150 человек… Дзержинский эту цифру и написал на ленинской записочке, но, поймав на себе немигающий ленинский взгляд, засуетился, растерялся и дрожащей рукой дописал еще нолик. Получилось 1500 — цифра вполне внушительная.
От Ленина, разумеется, заминка Феликса Эдмундовича не укрылась.
Он все понял.
Лукаво усмехнулся и, нарисовав возле цифры крест, перекинул записку назад. Сделано это было с чисто воспитательной целью — нечего врать главе государства.
Дзержинский посмотрел на крест возле цифры «1500», и на щеках его заходили скулы. Однако польский гонор заиграл в нем, и оправдываться Феликс Эдмундович не стал. Кивнув, он спрятал записку в карман, а потом встал и, ни на кого не глядя, вышел.
В.И. Ленин не стал торопить событий. Поставить начальника ВЧК на место можно было и на следующем заседании Совнаркома.
Каково же было удивление Ленина, когда он узнал, что ночью чекисты арестовали недостающих 1350 человек и всех, вместе с уже сидящими заложниками, расстреляли.
История эта стала известна членам Совнаркома.
— Произошло недоразумение, — говорила Л.А. Фотиева. — Владимир Ильич вовсе не хотел расстрела. Дзержинский его не понял. Владимир Ильич обычно ставит на записке крест, как знак того, что он прочел и принял, так сказать, к сведению[8].
На самом деле это Лидия Александровна не поняла ничего…
Шутить с Дзержинским, сросшимся, по словам В.Р. Менжинского, с ЧК, не следовало и товарищу Ленину…
Это понимали тогда в Совнаркоме все.
История эта произойдет год спустя, когда Ф.Э. Дзержинский уже срастется с ЧК, а тогда, 7 декабря 1917 года, только решался вопрос о назначении его во главе комиссии, и Ленин еще не мог знать, что из этого выйдет, но, как частенько бывало у Ленина, он сумел заглянуть в будущее.
Он усмехнулся и быстро написал на листке: «Назвать комиссию по борьбе с контрреволюцией — Всероссийской Чрезвычайной Комиссией при Совете Народных Комиссаров и утвердить ее в составе: — председатель т. Дзержинский»…
Как вспоминают очевидцы, обычно Ленин не стеснял себя на заседаниях Совнаркома никакими правилами.
«Прений никогда не слушал. Во время прений ходил. Уходил. Приходил. Подсаживался к кому-нибудь и, не стесняясь, громко разговаривал. И только к концу прений занимал свое обычное место и коротко говорил:
— Стало быть, товарищи, я полагаю, что этот вопрос надо решить так!
Далее следовало часто совершенно не связанное с прениями “ленинское” решение вопроса.
Оно всегда тут же без возражений и принималось»{20}.
Так было и 7 декабря 1917 года. СНК одобрил «проект» Ф.Э. Дзержинского и принял постановление об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, которой предписывалось:
«1. Расследовать и ликвидировать любые попытки или действия, связанные с контрреволюцией и саботажем, откуда бы они ни исходили на всей территории России.
2. Предавать на суд революционных трибуналов всех контрреволюционеров и саботажников и вырабатывать меры борьбы с ними».
Председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем был назначен Ф.Э. Дзержинский.
8
На следующий день, пощипывая пальцами свою маленькую бородку, Дзержинский появился на Гороховой, 2, в помещении, ранее принадлежавшем петроградскому градоначальнику.
Сопровождал его казначей, латыш Якоб Петерс с вдавленным носом и тяжелой бульдожьей челюстью.
Первым делом осмотрели подвалы, где будет осуществляться главная работа комиссии… Потом, чуть сгорбившись, Дзержинский долго сидел за столом градоначальника и, щурясь от света лампы, о чем-то думал.
Рассказывают, что первый владелец здания на Гороховой, 2, президент медицинской коллегии барон Фитингоф увлекался магией и дружил с графом Калиостро, а дочь барона, в замужестве Юлия Крюденер, обладала способностью видеть будущее.
Однажды, находясь в полуобморочном состоянии, она увидела, как по стенам ее комнаты течет кровь. В ужасе сбежала Юлия на первый этаж и увидела, что там, на полу, стоят лужи крови.
Кое-кто из новейших исследователей высказывает предположение, что Феликс Эдмундович знал об этом видении Юлии Крюденер и именно это и определило его выбор:
«Он долго рассматривал устройство дома, расположение его комнат, пристально вглядывался в интерьеры — будто что-то вспоминал…
А ему действительно было что вспомнить… Его отец увлекался трудами Юлии Крюденер. И юный Феликс не раз заглядывал в эти труды, роясь в книгах домашней библиотеки…
После долгой паузы он сказал Ворошилову:
— Здесь будет ВЧК. Лучше места не придумаешь…
И в этот момент сбылось пророчество: дом на Гороховой становился местом допросов, пыток и казней»{21}.
Думается, однако, что все было проще…
Удобным и одновременно символичным было расположение.
Колоннада портиков дома на углу Гороховой и Адмиралтейского проспекта как бы повторяла портики на здании Генерального штаба, включая здание Чрезвычайной комиссии в имперский ансамбль Дворцовой площади…
Дзержинскому понравилась и планировка подвалов.
Смущало только, что подвалы были невелики, а ведь сколько человек требовалось втиснуть сюда!
Может быть, всю Россию…
Было о чем подумать.
Звероподобный Якоб Петерс стоял рядом, и из мутных глаз его сочился сырой холод подвалов[9].
Очень скоро на Гороховую потянулись первые сотрудники ВЧК.
Как остроумно заметил новейший биограф «железного Феликса» И. Кузнецов, Дзержинский взломал общественную преисподнюю, выпустив в ВЧК армию патологических и уголовных субъектов, с помощью которых он и превратил Россию в подвал ЧК…
Действительно…
Чего стоил уже упомянутый нами Якоб (Екабс) Петерс! Расстрелы были его увлечением. Однажды за ночь Петерс расстрелял 90 человек. В 1920-е годы, когда подрос его сынишка, Петерс брал иногда мальчугана на расстрелы, и тот все время приставал к нему: «Папа, дай я»… Добрый папаша никогда не отказывал Игорьку и позволял ему немножко пострелять…
А Янис Судрабс, латыш, прогремевший по России под псевдонимом Мартин Лацис?
Это он поучал своих подручных: «Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал словом и делом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого образования, воспитания, происхождения или профессии. Эти вопросы должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора».
А белесоглазый латыш Александр Эйдук, который говорил, что массовые расстрелы полируют кровь?
Очень скоро все эти имена набухнут такой кровью, что затмят имена палачей былых времен.
Менее известны имена других сотрудников Дзержинского — целой армии набранных им тайных осведомителей и провокаторов…
Вот лишь один из них — Алексей Фролович Филиппов.
Алексей Фролович до революции не гнушался участием в проектах, связанных с деятельностью «Союза русского народа», а кроме того, владел «Банкирским домом народного труда». Октябрьский переворот, и в частности декрет об аннулировании дивидендных бумаг, разорили Филиппова, и, чтобы спасти дело, он и пошел работать в ЧК.
«Мы сошлись с Дзержинским, который пригласил меня помогать ему, — рассказывал Филиппов все на той же Гороховой улице, только уже на допросе. — Дело было при самом основании Чрезвычайной комиссии на Гороховой, когда там было всего четверо работников. Я согласился и при этом безвозмездно, не получая платы, давал все те сведения, которые приходилось слышать в кругах промышленников, банковских и отчасти консервативных, ибо тогда боялись выступлений против революции со стороны черносотенства»{22}.
Взамен за безвозмездные сведения Алексей Фролович становится по-настоящему влиятельным в стране человеком. На основании его докладных записок готовится декрет о национализации банков, при участии Филиппова распродавался русский торговый флот.
Какие неофициальные доходы имел Алексей Фролович от своего сердечного сочувствия большевикам, неведомо, но известно, что у него была большая квартира в Москве и огромная квартира — часть ее он сдавал шведской фирме — в Петрограде на Садовой улице. Кроме того, вопреки национализации банков, продолжал работать и банк Филиппова.
Любопытно, что эти признания Алексей Фролович Филиппов сделал, будучи уже арестованным Моисеем Соломоновичем Урицким.
Причем не сразу-Дольше, чем тайну своего секретного сотрудничества с Дзержинским, Филиппов хранил только секрет своей национальности. Сотрудники Моисея Соломоновича Урицкого считали Филиппова черносотенцем, а он был евреем-выкрестом…
Впрочем, об этом мы еще расскажем, когда будем говорить об убийстве Володарского.
Разумеется, далеко не все сексоты Дзержинского обладали скромностью Филиппова, не все столь же успешно выдерживали испытание безграничной чекистской властью.
Известно, например, что самозваный князь Эболи де Триколи, ссылаясь на свое сотрудничество с ЧК, открыто грабил посетителей ресторанов.
Но Феликс Эдмундович — надо отдать ему должное! — жестоко расправлялся с такими ослушниками.
«В последнее время количество трупов повысилось до крайности, — писал в те дни Исаак Бабель[10]. — Если кто, от нечего делать, задает вопрос — милиционеры отвечают: “убит при грабеже”.
В сопровождении сторожа я иду в мертвецкую. Он приподнимает покрывала и показывает мне лица людей, умерших три недели тому назад, залитые черной кровью. Все они молоды, крепкого сложения. Торчат ноги в сапогах, портянках, босые восковые ноги. Видны желтые животы, склеенные кровью волосы. На одном из тел лежит записка:
«Князь Константин Эболи де Триколи».
Сторож отдергивает простыню. Я вижу стройное сухощавое тело, маленькое, оскаленное, дерзкое, ужасное лицо. На князе английский костюм, лаковые ботинки с верхом из черной замши. Он единственный аристократ в молчаливых стенах.
На другом столе я нахожу его подругу-дворянку, Франциску Бритти. Она после расстрела прожила еще в больнице два часа. (Здесь и далее выделено нами. — Н.К.). Стройное багровое ее тело забинтовано. Она так же тонка и высока, как князь. Рот ее раскрыт. Голова приподнята — в яростном быстром стремлении. Длинные белые зубы хищно сверкают. Мертвая, она хранит печать красоты и дерзости. Она рыдает, она презрительно хохочет над убийцами…
— Теперь ничего, — повествует сторож, — пущай лежат, погода держит, а как теплота вдарит, тогда всей больницей беги…
— Вы били, — с ожесточением доказывает фельдшер, — вы и убирайте. Сваливать ума хватает… Ведь их, битых-то, что ни день — десятки. То расстрел, то грабеж… Уж сколько бумаг написали»{23} …
Считается, что князь Константин Эболи де Триколи был первой жертвой ЧК.
Это не совсем верно.
Некоторые исследователи считают, что князь Эболи был первым секретным сотрудником, расстрелянным чекистами за то, что он не оправдал доверия.
9
В заключение этой главы хотелось бы сказать о принципах кадровой политики Ф.Э. Дзержинского.
Некоторые исследователи утверждают, что подбор членов коллегии ВЧК, начальников особых отделов Дзержинский вел сам, «пользуясь безошибочным чутьем опытного арестанта. Первый принцип — брать низовых партийных и иных товарищей (это для личной преданности) и из них уже — по моральным качествам (точнее, по их отсутствию)».
С этим можно согласиться только отчасти…
Точно так же, как и с утверждением, что Дзержинский комплектовал ЧК исключительно по национальному признаку…
«Часто можно столкнуться с утверждениями, что ВЧК и, затем, ГПУ вообще, мол, “еврейское” дело, — писал Вадим Кожинов. — Однако до середины 1920-х годов на самых высоких постах в этих “учреждениях” (постах председателя ВЧК — ОПТУ и его заместителей) евреев не было; главную роль в “органах” играли тогда поляки и прибалты (Дзержинский, Петерс, Менжинский, Уншлихт и др.), — то есть, по существу “иностранцы”. Только в 1924 году еврей Ягода становится 2-м заместителем председателя ОПТУ, в 1926-м возвышается до 1-го зама, а 2-м замом назначается тогда еврей Трилиссер. А вот в середине 1930-х годов и глава НКВД, и его 1-й зам (Агранов) — евреи».
В полемическом задоре Вадим Валерианович несколько упростил ситуацию. Мы уже говорили, что хотя семья Дзержинского и числилась по польскому дворянству, но тем не менее еврейский язык в этой семье изучали с детства, что хотя само по себе и замечательно, но не вполне характерно для обычаев польской аристократии.
Кроме того, В.В. Кожинов для складности мысли несколько упрощает устройство ВЧК, «выводя» из состава высшего руководства таких руководителей, как Моисей Соломонович Урицкий. Между тем очевидно, что на первоначальном этапе централизованное руководство не играло доминирующей роли в работе ЧК, местные чрезвычайные комиссии были достаточно самостоятельны, и забывать их руководителей нельзя даже и для улучшения статистики.
Но в целом я готов согласиться с Кожиновым.
В ЧК при Ф.Э. Дзержинском служили и неевреи…
Более того, рискуя навлечь на себя многочисленные упреки, я берусь оспорить утверждение А. Авторханова, что «при Ленине и в первые годы при Сталине считались решающими признаками, определяющими карьеру работника аппарата партии, — социальное происхождение (из трудовой “пролетарской” семьи), “партийный стаж” (давность пребывания в партии), “национальное меньшинство” (из бывших угнетенных наций России)».
Социальное происхождение, если судить по высшему эшелону, абсолютно никакого влияния на карьеру не оказывало. За исключением нескольких функционеров, не обладающих большой властью, партийные сановники никакого отношения к пролетариату не имели.
Очень относительно влиял на карьеру и партийный стаж. Это касается и тех партийных бонз, что состояли до революции в различных социал-демократических организациях, и тех, кто сумел вовремя выпрыгнуть из эсеровских вагонов уже после Октябрьского переворота.
Труднее опровергнуть третий пункт авторхановского перечня о преимуществах «национальных меньшинств», о предпочтительности для карьерного роста принадлежности к бывшим угнетенным нациям России.
И все же, хотя наиболее угнетенной нацией в России и были, как они сами об этом говорили, евреи, рискну утверждать, что для Ф.Э. Дзержинского в сотрудниках ненависть к России была важнее, чем их еврейскость или хотя бы нерусскость. Чекистом при Дзержинском мог стать не только еврей, поляк, латыш или эстонец, но и русский человек, если, конечно, он мог доказать Феликсу Эдмундовичу, что искренне ненавидит Россию.
И это было не прихотью Феликса Эдмундовича, а жестокой необходимостью. Без обжигающей ненависти к России большевикам не удалось бы разрушить страну, а значит, и не удалось бы и удержаться у власти. Поэтому русофобия была для большевиков, в отличие от современной так называемой продвинутой интеллигенции, не просто паролем, по которому они узнают и друг друга, и мысли друг друга, но еще и структурной составляющей всей их политики.
Глава вторая.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Прошу считать меня выбранным от армии и флота Финляндии.
В.И. Ленин
…На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!»
Старушка убивается — плачет,
Никак не поймет, чту значит,
На что такой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок
для ребят…
Александр Блок
Даже «Новое время» нельзя было закрыть так быстро, как закрыли Русь.
Василий Розанов
Как утверждают очевидцы{24}, в ноябре 1917 года, когда большевики захватили власть в Петрограде, несколько дней в городе невозможно было объясниться с телефонистами, если вы не говорили по-немецки.
Возможно, в этом свидетельстве и есть доля преувеличения[11], но в первые месяцы после Октябрьского переворота большевики и немцы выступали как союзники, и немецкое командование оказывало большевикам всемерную поддержку. Иначе и быть не могло, потому что цели у них, по крайней мере на ближайшее время, совпадали по всем пунктам.
Это касалось и полной демобилизации действующей русской армии, и разрушения всех государственных институтов Российской империи, опираясь на которые она могла бы возродиться для сопротивления Германии.
Другое дело, что хотя это совпадение интересов и не противоречило, но отнюдь не вытекало из тех соглашений, которые были заключены Лениным с немецким Генштабом еще до Октябрьского переворота.
Этот момент принципиально важен для понимания событий 1918 года.
Русская революция была для большевиков, по словам Ленина, лишь «этапом» революции, в результате которой возникнет мировое «коммунистическое государство».
И если на данном этапе революции Ленин и мог выступать как немецкий агент, то в дальнейшем проекте он становился главой «мирового коммунистического государства», которое должно было поглотить и саму Германию.
1
«Сама по себе перспектива, — вспоминал потом Л.Д. Троцкий, — переговоров с бароном Кюльманом и генералом Гофманом была мало привлекательна, но “чтобы затягивать переговоры, нужен затягиватель”, как выразился Ленин. Мы кратко обменялись в Смольном мнениями относительно общей линии переговоров. Вопрос о том, будем ли подписывать или нет, пока отодвинули: нельзя было знать, как пойдут переговоры, как отразятся в Европе, какая создастся обстановка. А мы не отказывались, разумеется, от надежд на быстрое революционное развитие.
То, что мы не можем воевать, было для меня совершенно очевидно.
Таким образом, насчет невозможности революционной войны у меня не было и тени разногласия с Владимиром Ильичом»{25}.
Попытаемся, опираясь на воспоминания Л.Д. Троцкого, реконструировать его беседу с Лениным, состоявшуюся перед отъездом делегации…
— Это еще вопрос: смогут ли воевать немцы, смогут ли они наступать на революцию, которая заявит о прекращении войны… — сказал тогда Лев Давидович.
— Возможно… — согласился Ленин. — Но как узнать, как прощупать, товарищ Троцкий, настроение германской солдатской массы? Какое действие произвела на нее Октябрьская революция? Если сдвиг начался, какова глубина сдвига?
— Может быть, нам, Владимир Ильич, просто поставить немецкий рабочий класс и немецкую армию перед испытанием: с одной стороны, рабочая революция, объявляющая войну прекращенной; с другой стороны, гогенцоллернское правительство, приказывающее на эту революцию наступать?
— Конечно, это очень заманчиво, — проговорил Ленин. — Это чертовски заманчиво, товарищ Троцкий, и несомненно, такое испытание не пройдет бесследно! Но пока это рискованно, очень рискованно. А если германский милитаризм, что весьма вероятно, окажется достаточно силен, чтобы открыть против нас наступление, — что тогда?
— Сейчас немцы перебрасывают все свои силы на Западный фронт… Едва ли они рискнут вести наступление на нашем фронте…
— Я опасаюсь не немцев… — сказал Ленин. — Нет! Нельзя рисковать: сейчас нет на свете ничего важнее нашей революции!
9 декабря в Брест-Литовске начались переговоры.
В советскую делегацию входили члены ЦК РСДРП(б) А.А. Иоффе, Л.Б. Каменев, К.Б. Радек и Л.Д. Троцкий. Германию представляли статс-секретарь фон Кюльман и генерал Гофман, Австрию — министр иностранных дел Отгокар Чернин.
Советская делегация под влиянием Троцкого не столько защищала интересы России, сколько, жертвуя ими, пыталась дискредитировать воюющие страны и с завидной невменяемостью требовала заключения мира без аннексий и репараций, с соблюдением права народов распоряжаться своей судьбой.
«После обеда я имел свой первый продолжительный разговор с господином Иоффе, —: писал в своих мемуарах Оттокар Чернин. — Вся его теория основывается на том, что надо ввести во всем мире самоопределение народов на возможно более широкой основе и затем побудить эти освобожденные народы взаимно полюбить друг друга. Что это прежде всего приведет к Гражданской войне во всем мире, этого господин Иоффе не отрицает, но полагает, что такая война, которая осуществит идеалы человечества, — война справедливая и оправдывающаяся своей целью. Я ограничился тем, что указал господину Иоффе, что надо было бы раньше на России доказать, что большевизм начинает новую счастливую эпоху, и лишь затем завоевывать мир своими идеями. Прежде чем, однако, доказательство на этом примере не будет сделано, Ленину будет довольно трудно принудить мир разделить его воззрения.
Мы готовы заключить всеобщий мир без аннексий и контрибуций и ничего не имеем против того, чтобы вслед за тем русские порядки развивались так, как это кажется правильным русскому правительству. Мы также готовы научиться чему-либо у России, и если ее революция будет сопровождаться успехом, то она принудит Европу примкнуть к ее образу мыслей, хотим ли мы этого или нет. Но пока уместен самый большой скептицизм, и я указал ему, что мы не собираемся подражать русским порядкам и категорически запрещаем всякое вмешательство в наши внутренние дела. Если же он и дальше будет исходить из своей утопической точки зрения возможности пересадить свои идеи к нам, то было бы лучше, если бы он немедленно, с первым же поездом уехал обратно, ибо в таком случае нет никакой возможности заключить мир. Господин Иоффе смотрел на меня удивленно своими мягкими глазами. Он помолчал немного и затем сказал навсегда оставшимся у меня в памяти дружественным, я бы сказал, почти просящим тоном: я все же надеюсь, что нам удастся и у вас устроить революцию… (Здесь и далее выделено нами. — Н.К.)
Удивительные люди эти большевики. Они говорят о свободе и примирении народов, о мире и согласии, и вместе с тем они являются жесточайшими тиранами, которых только знала история, — они просто искореняют буржуазию, и их аргументами являются пулеметы и виселицы. Сегодняшний разговор с Иоффе доказал мне, что эти люди бесчестны и в лживости своей превосходят все, в чем обвиняют цеховых дипломатов, ибо так подавлять буржуазию и одновременно с этим говорить об осчастливливающей мир свободе — это ложь»{26}.
Фон Кюльмана и генерала Гофмана страдания русской буржуазии интересовали не так сильно.
Немцев вполне устраивало, что Российская империя разваливается, и только одно смущало их, почему советские делегаты так легко готовы пожертвовать своими государственными интересами в обмен на декларативные, ничего не значащие заявления. Немцы не могли представить себе, что можно так бескорыстно ненавидеть свою родину, как ее ненавидели русские большевики, и, не понимая, опасались какого-то маневра с их стороны, смысла которого они не могли постигнуть.
Кроме того, они опасались, что подобное соглашение вызовет взрыв патриотического негодования в Учредительном собрании, и в результате договор будет отвергнут, и война на Восточном фронте вспыхнет с новой силой, как раз в тот момент, когда Германии необходимо сконцентрировать свои силы на Западном фронте.
Так и получалось, что и в вопросе роспуска Учредительного собрания интересы большевиков совпали с интересами германского командования.
Впрочем, не будем забегать вперед…
2
Самое удивительное в революциях не то, что они происходят, а то, что, когда революции происходят, подавляющая масса населения продолжает думать, будто ничего не случилось, а то, что случилось, как-нибудь вернется на круги своя…
Мы уже говорили, что Октябрьский переворот отчасти потому и удался, потому и не встретил никакого сопротивления, что был нужен не только большевикам, рвавшимся к власти, но и их политическим оппонентам, запутавшимся в интригах своей антирусской политики.
Вот два письма, разысканные мною в архиве Санкт-Петербургской ФСК, которые вполне могут претендовать на роль своеобразных памятников русской общественной мысли — так великолепно обрисовывают они героев Февраля, тех самых политиков, которые практически добровольно уступили в Октябре власть большевикам…
Под первым письмом стоит имя Павла Николаевича Милюкова.
«В ответ на поставленный Вами вопрос, как я смотрю теперь на совершенный нами переворот, чего я жду от будущего и как оцениваю роль и влияние существующих партий и организаций, пишу Вам это письмо, признаюсь, с тяжелым сердцем. Того, что случилось, мы не хотели. (Здесь и далее выделено нами. — Н.К.) Вы знаете, что цель наша ограничивалась достижением республики или же монархии с императором, имеющим лишь номинальную власть; преобладающего в стране влияния интеллигенции и равные права евреев.
Полной разрухи мы не хотели, хотя и знали, что на войне переворот во всяком случае отразится неблагоприятно. Мы полагали, что власть сосредоточится и останется в руках первого кабинета министров, что временную разруху в армии и стране мы остановим быстро и если не своими руками, то руками союзников добьемся победы над Германией, заплатив за свержение царя некоторой отсрочкой этой победы.
Надо признаться, что некоторые даже из нашей партии указывали нам на возможность того, что и произошло потом. Да мы и сами не без некоторой тревоги следили за ходом организации рабочих масс и пропаганды в армии.
Что же делать: ошиблись в 1905 году в одну сторону — теперь ошиблись опять, но в другую. Тогда недооценили сил крайне правых, теперь не предусмотрели ловкости и бессовестности социалистов.
Результаты Вы видите сами.
Само собою разумеется, что вожаки Совета рабочих депутатов ведут нас к поражению и финансовому экономическому краху вполне сознательно. Возмутительная постановка вопроса о мире без аннексий и контрибуций помимо полной своей бессмысленности уже теперь в корне испортила отношения наши с союзниками и подорвала наш кредит. Конечно, это не было сюрпризом для изобретателей.
Не буду излагать Вам, зачем все это было им нужно, кратко скажу, что здесь играла роль частью сознательная измена, частью желание половить рыбу в мутной воде, частью страсть к популярности. Но, конечно, мы должны признать, что нравственная ответственность за совершившееся лежит на нас, то есть на блоке партий Государственной Думы.
Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войною для производства переворота было принято нами вскоре после начала этой войны. Заметьте также, что ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования.
Вы понимаете теперь, почему я в последнюю минуту колебался дать согласие на производство переворота, понимаете также, каково должно быть в настоящее время мое внутреннее состояние. История проклянет вождей наших, так называемых пролетариев, но проклянет и нас, вызвавших бурю.
Что же делать теперь, спрашиваете Вы…
Не знаю. То есть внутри мы оба знаем, что спасение России в возвращении к монархии, знаем, что все события последних двух месяцев ясно доказали, что народ не способен был воспринять свободу, что масса населения, не участвующая в митингах и съездах, настроена монархически, что многие и многие агитирующие за республику делают это из страха.
Все это ясно, но признать этого мы просто не можем.
Признание есть крах всего дела всей нашей жизни, крах всего мировоззрения, которого мы являемся представителями. Признать не можем, противодействовать не можем, не можем и соединиться с теми правыми, подчиниться тем правым, с которыми так долго и с таким успехом боролись.
Вот все, что могу сейчас сказать.
Конечно, письмо это строго конфиденциально. Можете показать его лишь членам известного Вам кружка»{27}.
Павел Николаевич Милюков, безусловно, был выдающимся политиком. Вклад его в разрушение Российской империи трудно переоценить… А по этому письму мы видим, что Милюков еще умел и предвидеть результаты своих политических поступков.
Ради преобладающего в стране влияния интеллигенции и равных прав евреев он пошел на прямое предательство Родины, ибо обостренным чутьем политика ясно ощущал, что победа России в этой войне становится неизбежной, а значит, и столь дорогим «либеральным» мечтаниям подходит конец.
Но даже и после Октябрьского переворота, когда Милюков сам вместе со своими друзьями оказался среди жертв, когда он уже готов признаться в ошибке, по-прежнему не желает он пойти на союз с правыми. По-прежнему, более чем большевики, страшат его патриоты-государственники.
Подобно Павлу Николаевичу Милюкову рассуждали многие лидеры партий, входящих в состав самозваного Временного правительства, все они рады были свалить ответственность за развал страны на авантюристов-большевиков, сами же большевики, не вписавшись в картину «цивилизованной» жизни, неизбежно должны были, по их расчетам, сойти с политической арены.
Эту уверенность — увы! — разделяли и деятели правого крыла российских политиков. Вот еще одно письмо, разысканное мною в бумагах арестованного Петроградской ЧК видного деятеля «Союза русского народа» И.В. Ревенко…
«Многоуважаемый Иосиф Васильевич!
По поручению моего дяди Ал. Ал. Римского-Корсакова, звонила вам неоднократно, но мне сообщили, что звонок у Вас не действует. Дело в том, что дядя не получил своего жалованья за октябрь месяц, а другие сенаторы его получили. Ал. Ал. очень просит Вас узнать, в чем тут дело, и, если возможно, это жалованье получить и переслать ему. 28 ноября 1917»{28}.
Самое поразительное в этой записке — дата.
Можно долго говорить о предательстве и соглашательстве людей, стоящих у кормила власти при отречении государя, но что говорить, если и теперь, после «десяти дней, которые потрясли мир», господин сенатор, у которого некогда собирался неформальный кружок правых государственных деятелей, продолжает хлопотать о задержке выплаты сенаторского жалованья.
Насколько же несокрушимыми должны были казаться ему основы российской государственности, которые компания милюковых, гучковых, черновых, керенских столько лет трудолюбиво разрушала на его глазах, коли и разразившаяся катастрофа не поколебала убежденности, что и дальше сенаторское жалованье будет исправно выплачиваться?!
Эти два письма — П.Н. Милюкова и АЛ. Римского-Корсакова — замечательны тем, что гниловатая сущность как либерально-буржуазных российских прогрессистов, так и монархистов-консерваторов проступает в этих посланиях в самом неприкрытом виде.
Нет, не об интеллигенции думали Милюковы и Гучковы, воруя у России победу в войне, и даже не о евреях, права которых столь ревностно защищали. Думали они лишь о себе, только о своих выгодах и амбициях и ради этого готовы были пожертвовать чем угодно.
Точно так же и монархисты-консерваторы только думали, что они думают о спасении монархии и благе русского народа…
И большевики прекрасно понимали это, а если не понимали, то чувствовали…
«В период этой обостряющейся классовой схватки обывательский элемент еще беспечно посещал кинематографы и театры, плакался на дороговизну и ждал конца большевиков. Он оставался пассивен. Мелкобуржуазная демократия, чиновники, кооператоры, представители так называемых свободных профессий — интеллигенция саботажем боролись с Советской властью. Выбитые из колеи, совершенно потерявшие опору в массах, меньшевики и эсеры, обанкротившиеся политически, бессильные и жалкие, жили платоническим упованием на Учредительное собрание, — так, с центробанковской простотой, которую не способны были омрачить никакие должности, писал П.Е. Дыбенко о событиях, предшествовавших разгону Учредительного собрания. — Эти чудаки еще верили, что в пролетарском центре, в Петрограде, возможно существование и возрождение власти из суррогата трудовых масс, из всех живых (фактически мертвых) прослоек страны. Они ждали момента, когда их пророк займет трибуну и, томно вращая глазами, начнет произносить бесконечные слащавые речи. Они наивно верили в непогрешимость лозунга: “Вся власть — Учредительному собранию”.
Но не менее наивны были и некоторые большевики, которые не без боязни ожидали приближающегося момента, когда воссядут на свои депутатские кресла столь давно жданные представители Всероссийского Учредительного собрания. Тревога жила во многих сердцах. А день “суда над большевиками живых сил страны” все приближался. Наконец страна оповещена Советом Народных Комиссаров о дне созыва Учредительного собрания. Наивные кадеты, меньшевики, эсеры, представители буржуазной демократии через баррикады спешили на званый вечер. Им, очевидно, снился сладкий сон: покаявшиеся в своих заблуждениях и в пролитии гражданской крови большевики сойдут со сцены истории с опущенными головами и скажут: “Вы — законная власть всей Руси, ключи ее вручаем вам. Берите и правьте”»{29}.
Разумеется, большевики не собирались совершать такой глупости.
После организации Чрезвычайной комиссии и начала переговоров с немцами в Брест-Литовске события в Петрограде шли своим большевистским чередом…
В.И. Ленин объявил, что крестьянство, составляющее большинство населения России, «не могло еще знать правды о земле и о мире, не могло отличить своих друзей от врагов, от волков, одетых в овечьи шкуры».
Слова эти, если учесть, что человек, произносящий их, всего через три месяца разошлет по деревням продотряды, чтобы ограбить крестьян, можно считать недосягаемым образцом политического цинизма. Тем не менее противопоставляя выбранным крестьянством делегатам Учредительного собрания набранных среди революционных солдат Петрограда «делегатов» II Всероссийского съезда крестьянских депутатов, Ленин приказал разогнать Всероссийскую комиссию по выборам в Учредительное собрание, которая так мало насчитала большевикам голосов избирателей. Ведать подготовкой Учредительного собрания В.И. Ленин назначил Моисея Соломоновича Урицкого.
12 декабря Совет народных комиссаров предусмотрительно создал Главное управление местами заключения.
14 декабря В.И. Ленин утвердил давно вынашиваемое Яковом Михайловичем Свердловым решение ВЦИК «О ревизии стальных ящиков», и большевики приступили к национализации банков и частных сейфов, хранящихся в них. В этот же день был издан первый декрет о национализации промышленных предприятий.
После стремительной «красногвардейской атаки на капитал» большевики сосредоточили в своих руках контроль над фабриками, заводами, банками, железными дорогами и принялись доламывать государственный аппарат[12].
15 декабря они законодательно оформили организацию «преторианской» гвардии — латышских стрелков, предназначенных исключительно для охраны Смольного и вождей революции.
Латышские стрелки получили в этот день отличительные знаки — красные звезды, которые, как было объявлено, символизируют интернациональную пролетарскую решимость.
— Мужик может колебнуться в случае чего! — сказал тогда Ленин. — А эти будут стоять.
Он не стал объяснять, что мужиками он считает русских солдат, это было понятно и без объяснений. Верных латышей Владимир Ильич мужиками не считал. Латыши и были латышами. Латыши и китайцы, по замыслу Ленина, должны были заменить революционных солдат и матросов.
В этот краснозвездный день, демонстрируя пример пролетарской решимости, Владимир Ильич провел решение об исключении кадетов из Учредительного собрания.
Начались аресты.
Между тем преторианцам-латышам надо было платить, а служащие Госбанка отказались передать большевикам ключи от банковского хранилища золотых запасов, и тогда комиссия, в которую входили Г. Грифтлих, А. Рогов, А. Розенштейн, А. Плат, провела схожую с грабежом конфискацию банковских ценностей. Считается, что только из Русско-Азиатского банка неведомо куда исчезло тогда десять пудов золота…
— Посмотрите на них: разве это правительство?.. — говорил нарком путей сообщения Марк Тимофеевич Елизаров[13]. — Это просто случайные налетчики, захватили Россию и сами не знают, что с ней делать… Ломать, так уж ломать все! И Володя теперь лелеет мечту свести на нет и Учредительное собрание! Он, не обинуясь, называет эту заветную мечту всех революционеров просто «благоглупостью»{30}.
Экспроприация 27 декабря ознаменовала начало разрушения русской финансовой системы[14], но это побочный результат; главным для большевиков было то, что им удалось решить свои текущие финансовые проблемы.
Нет-нет… Мы не разделяем мнения, что все изъятые ценности были поделены непосредственно между большевистской верхушкой. Хотя никакого учета изъятому золоту не велось, вожди большевиков, как нам кажется, присвоили себе только часть его. Остальные средства была пущены на финансирование «дополнительной революции», как назвал Л.Д. Троцкий роспуск Учредительного собрания.
Первоначальный план «дополнительной революции» строился на некоем подобии соблюдения законности.
20 декабря вышло постановление Совнаркома, согласно которому Учредительное собрание должно было открыться 5 января 1918 года при наличии кворума из 400 депутатов.
Напомним, что из 700 депутатов 175 были большевиками, 91 депутатское место принадлежало кадетам и правым партиям, исключенным пять дней назад из Учредительного собрания. Итого — для «законного» закрытия Учредительного собрания недоставало 35 голосов.
На подкуп этих депутатов большевикам тоже требовались средства…
Как происходила перевербовка левых эсеров, видно на примере 68-летнего Марка Андреевича Натансона.
«Нас, однако, очень утешил старик Натансон, — вспоминал Троцкий. — Он зашел к нам “посоветоваться” и с первых же слов сказал:
— А ведь придется, пожалуй, разогнать Учредительное собрание силой.
— Браво! — воскликнул Ленин. — Что верно, то верно! А пойдут ли на это ваши?
— У нас некоторые колеблются, но я думаю, что в конце концов согласятся, — ответил Натансон»{31}.
Отметим туг, что сам Л.Д. Троцкий непосредственного участия в «дополнительной революции» не принимал, поскольку вел в это время переговоры с немцами в Брест-Литовске, а это значит, что воспроизведенный им разговор Ленина с Марком Натансоном происходил ранее, еще до отъезда самого Троцкого…
«Подготовку он (Ленин. — Н.К.) вел со всей тщательностью, продумывал все детали и подвергал на этот счет пристрастному допросу Урицкого, назначенного, к великому его прискорбию, комиссаром Учредительного собрания. (Выделено нами. — Н.К.) Ленин распорядился, между прочим, о доставке в Петроград одного из латышских полков»{32}.
Вот так…
Похоже, что слова Троцкого — это не столько описание «дополнительной революции», сколько рецепт ее.
И трудно, трудно отделаться от ощущения, что именно этим ленинско-троцкистским рецептом и руководствовалась «семья» Б.Н. Ельцина, когда производила свою «дополнительную революцию» в 1993 году.
Та же псевдозаконность, тот же обман, тот же подкуп депутатов и военных частей, готовых за деньги на любое преступление…
Ну а то, что называлось это «семья», а не партия большевиков, — значения не имеет. Главное, что результат был достигнут. Как и большевикам, «семье» удалось разрушить и разворовать нашу страну.
3
«Россия исчезает… — с грустной иронией писали в те дни в петроградских газетах, — как исчезает теперь все. Каждый день мы узнаем о каком-либо новом исчезновении: исчезло золото, исчез хлеб, исчез Керенский. Похоже на то, что забавляется какой-то фокусник».
Фокус действительно получился отменный.
Противоестественный на первый взгляд союз картавящих большевиков с полупьяными матросами оказался весьма живучим и агрессивным.
Хотя В.И. Ленин и решил уже опереться на латышей, но «дополнительную революцию» он все же поручил матросам, доверил им исполнить свою лебединую песню на революционной сцене…
И еще плотнее пошли события, почти впритирку друг к другу…
1 января была устроена инсценировка покушения на В.И. Ленина.
Автомобиль Владимира Ильича обстреляли на Симеоновском мосту через Фонтанку, но обстреляли так удачно, что сам Ленин не пострадал, а сопровождавший его Фриц Платген почему-то оказался раненным в руку.
Видимо, этой рукой «швейцарский товарищ» и заслонил вождя, когда, по выражению Марии Ильиничны Ульяновой, «первым делом схватил голову Владимира Ильича»…
Тем не менее легкое ранение «швейцарского товарища» дало повод товарищу Г.Е. Зиновьеву провести 3 января 1918 года на заседании Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов грозную резолюцию:
«Рабочая и крестьянская революция до сих пор не прибегала к методам террористической борьбы против представителей контрреволюции. Но мы заявляем всем врагам рабочей и социалистической революции: рабочие, солдаты и крестьяне сумеют сохранить неприкосновенность своих товарищей и лучших борцов за социализм. За каждую жизнь нашего товарища господа буржуа и их прислужники — правые эсеры — ответят рабочему классу.
Петроградский совет делает настоящее предупреждение во всеуслышание. Вы предупреждены, господа вожди контрреволюции».
Резолюция была опубликована в тот день, когда большевики ввели в Петроград верные матросские части.
Депутаты Учредительного собрания тоже не теряли времени, но матросских частей у них не было…
«Памятен последний митинг накануне открытия Учредительного собрания, — вспоминает преображенец С.В. Милицын. — Ждали Чернова, но он не приехал. Меня поразила речь сибирского депутата, на другой день убитого красногвардейцами на Марсовом поле. Он каким-то зловещим, проникновенным шепотом закончил свою речь словами:
“Сегодня страшная ночь, преображенцы, от вас русский народ многого ждет”; я заметил по некоторым лицам, что эти слова произвели впечатление.
Напрасно большевик Шубин пытался вышутить этого оратора, сравнив его с Керенским, который тоже все пугал и даже несколько раз предлагал стреляться и перейти через его труп, а сам в критическую минуту преспокойно удрал.
Впечатление не рассеялось.
Я и сейчас помню это лицо — большое, серо-бледное, с длинными прямыми волосами и большой русой бородой. Лицо, склоненно протянутое к слушателям с застывшим жестом правой руки, и этот предсмертный шепот.
Что чувствовал в ту минуту этот трагически погибший за свободу народа человек? Может быть, уже видел веяние смерти над своей головой и гибель великого освобождения. Была полная тишина. Все как-то сразу насторожились. Что, если бы тогда они знали, что завтра эта голова будет раздроблена винтовочным залпом и мозги будут валяться растоптанными, смешанными с грязью на Марсовом поле? Не дрогнули бы их сердца еще более и не зажглись бы желанием подвига и служения великому делу? И как знать! Не пошли бы ли они за ним?»{33}
Нет, не пошли бы…
Это ведь только говорится, что предчувствовали, а не знали ничего в ту страшную ночь… Предчувствия и есть та безусловная и безошибочная форма знания, которую не исказить никакими ухищрениями и обманами…
И этим и интересны воспоминания преображенца С.В. Милицына.
В них ясно и точно показано, почему солдаты петроградских полков, не выступившие в октябре 1917 года на защиту Временного правительства, и сейчас, в страшную январскую ночь, не выступили на защиту Учредительного собрания.
«Я шел по пустынным, вымершим улицам столицы. Зима была вовсю. По новому стилю уже январь. Стояли светлые лунные ночи. Слегка морозило, сыро-противно морозило. Ветерок всюду загонял холодок…
На углу Фонтанки меня кто-то окликнул. Смотрю, бежит за мной какая-то серая шинель.
— Фу, черт, устал. Ты откуда?
— С митинга.
— Ну, что, опять товарищи грызлись? И когда эта сволочь замолчит…
Я вспомнил уверения К. относительно полка и решил проверить.
— Как у вас в батальоне?
— Хочешь знать — выступят ли завтра?
— Нет, не то, мне вообще интересно настроение батальона.
— А, понимаю… У нас много дельных солдат, но они скоро разбе1угся по домам. Вот если им платить…
— Ах, опять деньги…
— Да-да, без денег ничего не выйдет. Уж время такое. Или деньги, или такое… явное сочувствие. Общий крик: вы наши спасители, и цветы, улыбки…
Я засмеялся.
— Что ты? Я правду говорю. Большевики этим и берут. Посмотри на Прилипина. Откуда у него деньги, бриллиантовое кольцо? (Здесь и дальше выделено нами. — Н.К.) От свиней наших немного нажил. Или у Спицына… Вот этот поганый трус теперь делами вертит, а перед первым боем сумасшедшим представился. Его в обоз отправили. Расстрелять бы гадину надо. Все миндальничали. Так вот у них деньги. Придут они в Смольный или куда в другое место к большевикам — свои люди, к ним внимательны, ласковы. Товарищи… И коммунистки руки жмут. А у нас? Куда мы можем, к кому пойти? Мы все еще в черном теле. Все еще должны для кого-то работать. Опротивели мне наши высшие классы. Гроша медного не хотят собрать для общего дела. И настоящего, искреннего сочувствия нет, единения настоящего. Так, использовать хотят. А потом опять на черную работу. В околоточные ступай. Ты знаешь, я в Москве был околоточным. Я тогда то же чувствовал, что теперь. Служишь, жертвуешь собой, чтобы этим хорошо и безопасно жилось, — он показал рукой на большой дом, мимо которого мы проходили, — а они тебя презирают, считают осквернением руку подать, да что… тебя же травят, мол, свободе мешаешь. Вот я сегодня был у нашего рыжего в клубе. Сидят, едят, пьют, в карты играют и ждут, когда мы большевиков свергнем. А чтобы…
Он вдруг резким движением схватил меня за плечо…
Мимо нас тихо проезжали простые дровни…
— Разве не видишь? — шептал над моим ухом Войцек.
Я испугался его лица — побледневшее, с остановившимися, расширенными, полными ужаса глазами. Луна бросала свет прямо на него.
— Не видишь? Да ведь это ноги торчат из-под рогожи. Он трупы везет. Расстрелянные»{34}.
Тут интересно сравнить, как готовилась к разгону Учредительного собрания другая сторона…
П.Е. Дыбенко рассказал, как матросы обеспечивали проведение «дополнительной революции», отсекая депутатов от поддержки своих избирателей.
«Накануне открытия Учредилки прибывает в Петроград отряд моряков, спаянный и дисциплинированный…
С раннего утра, пока обыватель еще мирно спал, на главных улицах Петрограда заняли свои посты верные часовые Советской власти — отряды моряков. Им дан был строгий приказ: следить за порядком в городе. Начальники отрядов — все боевые, испытанные еще в июле и октябре товарищи…
В 3 часа дня, проверив с т. Мясниковым караулы, спешу в Таврический. Входы в него охраняются матросами. В коридоре Таврического встречаю Бонч-Бруевича.
— Ну как? Все спокойно в городе? Демонстрантов много? Куда направляются? Есть сведения, будто направляются прямо к Таврическому?
На лице его заметны нервность и некоторая растерянность.
— Только что объехал караулы. Все на местах. Никакие демонстранты не движутся к Таврическому, а если и двинутся, матросы не пропустят. Им строго приказано.
— Все это прекрасно, но говорят, будто вместе с демонстрантами выступили петроградские полки.
— Товарищ Бонч-Бруевич, все это — ерунда. Что теперь петроградские полки? Из них нет ни одного боеспособного. В город же втянуто 5 тысяч моряков.
Бонч-Бруевич, несколько успокоенный, уходит на совещание. Около пяти часов Бонч-Бруевич снова подходит и растерянным, взволнованным голосом сообщает:
— Вы говорили, что в городе все спокойно; между тем сейчас получены сведения, что на углу Кирочной и Литейного проспекта движется демонстрация около 10 тысяч, вместе с солдатами. Направляются прямо к Таврическому. Какие приняты меры?
— На углу Литейного стоит отряд в 500 человек под командой товарища Ховрина. Демонстранты к Таврическому не проникнут.
— Все же поезжайте сейчас сами. Посмотрите всюду и немедленно сообщите. Товарищ Ленин беспокоится.
На автомобиле объезжаю караулы. К углу Литейного действительно подошла довольно внушительная демонстрация, требовала пропустить ее к Таврическому дворцу. Матросы не пропускали. Был момент, когда казалось, что демонстранты бросятся на матросский отряд. Было произведено несколько выстрелов в автомобиль. Взвод матросов дал залп в воздух. Толпа рассыпалась во все стороны. Но еще до позднего вечера отдельные незначительные группы демонстрировали по городу, пытаясь пробраться к Таврическому. Доступ был твердо прегражден»{35}.
Существуют свидетельства, что столкновения демонстрантов с матросами носили более кровопролитный характер. Впрочем, цитировать их нет нужды… Уличные события «дополнительной» революции достаточно точно описаны в поэме Александра Блока «Двенадцать», созданной сразу по следам событий…
4
Современники поэмы вспоминают, что ее «взахлеб» читали и в Белой, и — кто мог — в Красной армии. Современники услышали голос поэта, когда в уличной разноголосице, в бесовском вое ветра рвались и комкались, путались и сникали голоса профессиональных «витий»; услышали не звон отточенных лозунгов, а судорожные, как предсмертная мука, стихи…
«Двенадцать» — это русская поэма о России, русскому человеку адресованная… Русскому человеку на улице «дополнительной» — сколько их еще будет? — революции…
Сосредоточенность, духовная ясность и покой трехстопного анапеста сразу же сминаются бесовской веселостью пушкинского хорея: «Тятя! Тятя! Наши сети притянули мертвеца…»
Этот хорей у Блока и возникает как бы из ветра, завивающего «белый снежок, под снежком — ледок. Скользко…» И когда человек поскользнется на льду, это сразу же, с документальной бесстрастностью будет зафиксировано в нервном ритме паузника, вмещающего и крики, и лязганье затворов, и истерический смех, и завывания вьюги, и выкрики частушек…
Все это — черное, белое, кумачовое — обрушивается на путника, «заблудившегося в сумрачном лесу» родного города, родной — до боли — страны.
Ветер выдувает душу, высушивает ее, поскольку это ветер революции — смертный ветер…
Стихи в поэме «Двенадцать» существуют как бы по отдельности.
Каждый стих звучит со своей интонацией. Связь между ними нарушена:
Впрочем, как же иначе, если из России, в которой и «невозможное возможно, дорога долгая легка, когда блеснет в пыли дорожной мгновенный взор из-под платка», Блок выводит читателя на петроградскую пропитанную блуждающими — «Кругом — огни, огни, огни…» — огнями улицу, где из бесформенной черноты звуковой какофонии с трудом прорываются злые голоса:
И ведь не просто «пульнуть», а с присвистом, с неприличными телодвижениями:
Судя по дневниковым записям, Александр Блок не был горячим сторонником Учредительного собрания…
«Почему “учредилка”? — записал он в дневнике 5 января. — Потому что — как выбираю я, как все? Втемную выбираем, не понимаем. И почему другой может за меня быть? Я один за себя. Ложь выборная (не говоря о подкупах на выборах, которыми прогремели все их американцы и французы)…
Инстинктивная ненависть к парламентам, учредительным собраниям и пр. Потому, что рано или поздно некий Милюков произнесет: “Законопроект в третьем чтении отвергнут большинством”.
Это — ватерклозет, грязный снег, старуха в автомобиле, Мережковский в Таврическом саду, собака подняла ногу на тумбу, m-le Врангель тренькает на рояле (б… буржуазная), и все кончено».
Некоторые из этих впечатлений, как и мучительные размышления о судьбе России и русского народа, навеянные состоявшимся в те первые дни 1918 года разговором с Есениным, почти цитатами вошли в поэму «Двенадцать»…
Только в отличие от дневника, в поэме Александр Блок перешагнул через бесплодное резонерство и силою своего гения сумел постигнуть и запечатлеть в ярких художественных образах мистическую суть происходящих событий.
Герои поэмы «Двенадцать» — революционные матросы, вызванные большевиками утишать «буржуазию», когда будут разгонять Учредительное собрание. Город отдан в их полную власть, и они вершат скорый суд и расправу тут же, на улице.
Наверное, можно сказать, что поэма «Двенадцать» — это попытка понять, что же все-таки объединяет картавящих большевиков с плохо знакомыми с грамотой, полупьяными веселыми чудовищами, как называл матросов сам В.И. Ленин.
Содержание поэмы этим, разумеется, не исчерпывается, но это важный и в каком-то смысле сюжетообразующий мотив.
Как ни странно, но общим между большевиками и матросами было именно отношение к России, к ее традициям, к ее культуре…
Этому сближению со стороны большевиков помогало их чисто местечковое пренебрежение к интересам любой другой национальности, кроме своей собственной, а со стороны матросов — та полупьяная русская удаль, что не желает знать о завтрашнем дне, та столь знакомая всем хамоватость пьяного человека…
При достаточно высокоразвитом интеллекте можно допустить возможность существования и попытаться смоделировать любую, даже самую глумливую систему. Даже если это — глумление над Родиной, которую любишь каждой клеточкой своего тела.
И, допустив, можно попытаться понять логику глумления, разглядеть чужой и страшный смысл. Желание, хотя и доступное лишь чрезвычайно высокой душе, но вполне естественное, потому что глумящиеся — вот она самая горькая правда русской жизни! — тоже были частью ее, частью России, а значит, и твоей собственной души.
Так возникает в поэме тема «Двенадцати».
Символика предельно откровенна.
«Двенадцать» — это двенадцать апостолов еще неведомого Слова…
Тринадцатый апостол — Ванька. С его появлением и завязывается сюжетная линия поэмы.
С появлением Иуды-Ваньки символика сразу отягощается бытовыми реалиями, которые раскрывают ужасающий смысл происходящего.
Новые апостолы вооружены, их слова — пули, их поступки — смерть, соответственно обставлена и встреча с предателем:
И сразу «трах-тарарахи», и снова лязганье затворов и ненужное: «Еще разок! Взводи курок!..»
Поворот происходит в сюжете, когда выясняется, в кого стрелял апостол Петька… Оказывается, он стрелял не в Иуду, не в Ваньку…
Петькиной пулей убита Катька, которая для Петьки всё — весь мир и еще он, Петька, впридачу. Пуля, отрикошетив, летит назад:
Подмена местоимения междометием весьма загадочна.
Ее? Но, простите! Нельзя же ее загубить из-за ее родинки пунцовой возле ее плеча? Тут надобно подставить другое местоимение: не её, а себя…
Финал неожиданный, но закономерный.
Задействованная на протяжении всего текста евангельская символика легко перемещает всю «двенадцатку» из бытового текста в то «надпространство», что открывается духовному зрению поэта.
Цепь замкнулась.
Глумление над матерью-Родиной — не она ли и явилась в поэме в образе старушки под плакатом «Учредительное Собрание»? — оборачивается глумлением над собой.
И гаснет, гаснет апостольский ореол. Апостолы превращаются в паяцев.
Такое ощущение, что сейчас вот-вот вывалится пружинка. Такое ощущение, что не люди идут, а мертвь, «…и вьюга пылит им в очи».
И в конце снова о Христе, что идет «Нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной…»
Конечно, «если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь… женственный призрак».
Однако есть у Блока и другая, датированная 20 февраля 1918 года, запись: «Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красногвардейцы “не достойны” Иисуса, который идет с ними сейчас, а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой».
Запись жутковатая. В ней слышны завывания того ветра, что — словно когтями чудовище — разрывал грудь поэта.
Из недобрых предчувствий, из сжимающего сердце страха, из робко и бережно согреваемых надежд поэт вышел на революционную улицу — в поэму? — и побрел, качаясь от ветра колючего и царапающего, словно когтями, лицо.
Пройти эту улицу, без дантовского поводыря, без защиты, увидеть смертное — подвиг безоговорочный и столь же бесповоротный, это подвиг-гибель, подвиг-жертва.
Есть определенная закономерность, согласно которой страна деградирует и самоуничтожается, если количество революций и переворотов в ней превышает допустимый уровень.
Так произошло с Российской империей в 1917 году.
Это же пережил в 1991 году СССР.
При этом совсем необязательно, чтобы революции и перевороты были богаты на кровь. Кровь часто сопутствует революции, но сама революция вполне может обойтись и без крови.
Революция — это перемена для всей страны привычного уклада жизни, кардинальное изменение нравственных ценностей[15].
В этом смысле церковные реформы царя Алексея Михайловича и Петра I — несомненные революции. И они обусловили из-за своей частоты деградацию управления страной, затянувшийся почти на столетие династический кризис, выход из которого пришлось искать многим русским императорам.
Постперестроечные интриги Горбачева, когда он перестраивал страну под собственное президентство, ГКЧП и сросшийся с ним ельцинский переворот 1991 года, события 1993 года — все они сокрушили СССР, разрушили экономику России, ее государственную мощь и нравственность…
Февральская революция, Октябрьский переворот и «дополнительная революция» обусловили разрушение Российской империи, затянувшуюся на десятилетия кровавую вакханалию владычества «чуда-партии»…
Иначе, но все-таки именно это и прозревал в снежном вихре, обрушившемся на улицы Петрограда, Александр Блок.
Увидевшему все уже не будет возврата, и если парадоксы материальной жизни стремятся разрушить духовную логику или, по крайней мере, смутить ясность, то поэтическое бытие устраняет эти несообразности — после «Двенадцати», после пройденной улицы дополнительной революции Блок и не писал ничего стихами…
5
«Под широким стеклянным куполом Таврического дворца в этот ясный, морозный январский день с раннего утра оживленно суетились люди. Моисей Соломонович Урицкий, невысокий, бритый, с добрыми глазами, поправляя спадающее с носа пенсне с длинным заправленным за ухо черным шнурком и переваливаясь с боку на бок, неторопливо ходил по длинным коридорам и светлым залам дворца, хриплым голосом отдавая последние приказы.
Через железную калитку, возле которой проверяет билеты отряд моряков в черных бушлатах, окаймленных крест-накрест пулеметными лентами, я вхожу в погребенный под сугробами снега небольшой сквер Таврического дворца…»{36}
Это воспоминания Федора Раскольникова — другого героя того памятного для России дня, 5 января 1918 года…
Учредительное собрание должен был открыть старейший депутат земец С.П. Шевцов, но тридцатитрехлетний Я.М. Свердлов буквально вырвал у него колокольчик и, завладев трибуной, произвел «большевистское переоткрытие Собрания». Разумеется, одной только наглостью Якова Михайловича, так лихо подзаработавшего на «ревизии стальных ящиков», этот отвратительный инцидент объяснить нельзя. Совершенно очевидно, что он был частью большевистского сценария.
«Вся процедура открытия и выборов президиума Учредительного собрания носила шутовской, несерьезный характер, — вспоминал П.Е. Дыбенко. — Осыпали друг друга остротами, заполняли пикировкой праздное время. Для общего смеха и увеселения окарауливающих матросов мною была послана в президиум Учредилки записка с предложением избрать Керенского и Корнилова секретарями. Чернов на это только руками развел и несколько умиленно заявил: “Ведь Корнилова и Керенского здесь нет”.
Президиум выбран. Чернов в полуторачасовой речи излил все горести и обиды, нанесенные большевиками многострадальной демократии. Выступают и другие живые тени канувшего в вечность Временного правительства. Около часа ночи большевики покидают Учредительное собрание. Левые эсеры еще остаются».
«Конечно, — признавался потом В.И. Ленин, — было очень рискованно с нашей стороны, что мы не отложили созыва. Очень, очень неосторожно. Но в конце концов, вышло лучше. Разгон Учредительного собрания Советской властью есть полная и открытая ликвидация формальной демократии во имя революционной диктатуры. Теперь урок будет твердый».
Приводя эти слова Ленина, Л.Д. Троцкий добавил:
«Так теоретическое обобщение шло рука об руку с применением латышского стрелкового полка»{37}.
Никакой иронии, а тем более самоиронии в словах Троцкого нет. Он действительно воспринимал латышских стрелков и чекистов Дзержинского как часть ленинской революционной теории и в принципе был абсолютно прав. Матросы, латышские стрелки и чекисты и были идеологообразующей частью ленинской теории, ее аргументами, ее движущей силой.
Учредительное собрание, на которое возлагалось столько надежд не только кадетами и прочими «либералами», но и всей Россией, проработало всего 12 часов 40 минут.
6 января в пять часов утра Федор Раскольников зачитал с трибуны Таврического дворца декларацию об уходе большевистской фракции с Учредительного собрания.
«Объяснив, что нам не по пути с Учредительным собранием, отражающим вчерашний день революции, я заявляю о нашем уходе и спускаюсь с высокой трибуны. Публика… радостно неистовствует на хорах, дружно и оглушительно бьет в ладоши, от восторга топает ногами и кричит не то “браво”, не то “ура”.
Кто-то из караула берет винтовку на изготовку и прицеливается в лысого Минора, сидящего на правых скамьях. Другой караульный матрос с гневом хватает его за винтовку и говорит:
— Бро-о-о-сь, дурной!»
А потом наступила трагикомическая развязка…
«Урицкий наливает мне чай, с мягкой, застенчивой улыбкой протягивает тарелку с тонко нарезанными кусками лимона, и, помешивая в стаканах ложечками, мы предаемся задушевному разговору. Вдруг в нашу комнату быстрым и твердым шагом входит рослый, широкоплечий Дыбенко… Давясь от хохота, он звучным раскатистым басом рассказывает нам, что матрос Железняков только что подошел к председательскому креслу, положил свою широкую ладонь на плечо оцепеневшего от неожиданности Чернова и повелительным тоном заявил ему:
— Караул устал. Предлагаю закрыть заседание и разойтись по домам.
Дрожащими руками Чернов поспешно сложил бумаги и объявил заседание закрытым»{38}.
Как заметил Л.Д. Троцкий, «в лице эсеровской учредилки февральская республика получила оказию умереть вторично».
Если вспомнить, что днем раньше, 6 января 1918 года, была учреждена Тюремная коллегия, а 7 января, во втором часу ночи, чекисты ворвались в Мариинскую больницу и убили находящихся там депутатов Учредительного собрания, бывших министров Временного правительства Ф.Ф. Кокошкина (ему выстрелили в рот) и А.И. Шингарева (в него стреляли целых семь раз), то слова Льва Давидовича приобретают особенно зловещий смысл…
Любопытно и то, что именно 7 января 1918 года генерал Лавр Георгиевич Корнилов принял на Дону командование Добровольческой армией…
Но было уже поздно.
Среди донских казаков стали распространяться большевистские настроения, и генерал Корнилов со своей армией, которая насчитывала всего четыре тысячи человек, вынужден был уйти на Кубань.
8 января патриарх Тихон предал советскую власть анафеме, а 10 января III Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов в Петрограде принял Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Россия была объявлена Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
6
«Разгон Учредительного собрания на первых порах чрезвычайно ухудшил наше международное положение, — вспоминал Л.Д. Троцкий. — Немцы все же опасались вначале, что мы сговоримся с “патриотическим” Учредительным собранием и что это может привести к попытке продолжения воины. Такого рода безрассудная попытка окончательно погубила бы революцию и страну, но это обнаружилось бы только позже и потребовало бы нового напряжения от немцев. Разгон же Учредительного собрания означал для немцев нашу очевидную готовность к прекращению войны какой угодно ценой. Тон Кюльмана сразу стал наглее»{39}.
Троцкий не пишет, а может быть, находясь в Брест-Литовске, он и не знал, что уже на следующий день после ликвидации Учредительного собрания они получили от немцев, как принято сейчас говорить, «очередной транш».
Как сообщают новейшие исследователи, «8 января 1918 года Народный комиссариат иностранных дел Российской Федерации получил сообщение Рейхсбанка за подписью фон Шанца о том, что из Стокгольма переведено 50 миллионов рублей золотом на содержание Красной гвардии с требованием “необходимо послать повсюду опытных людей для установления однообразной власти”»{40}.
А может быть, Троцкий и знал…
И нет никакого противоречия его рассказа о переговорах в Брест-Литовске с получением большевиками денег от немцев на содержание собственной охраны. Ведь если перечитать его воспоминания внимательней, то становится понятно, что, сетуя на ухудшение международного положения, Лев Давидович имеет в виду международное положение не России, а мировой революции, которую они с Владимиром Ильичом затеяли.
Действительно…
Посетовав на тон Кюльмана, Троцкий, даже не выделяя эти рассуждения отдельным абзацем, начинает говорить о перспективах мировой революции после разгона Учредительного собрания…
«Какое впечатление разгон Учредительного собрания мог произвести на пролетариат стран Антанты? На это нетрудно было ответить себе: антантовская печать изображала советский режим не иначе как агентуру Гогенцоллернов. И вот большевики разгоняют “демократическое” Учредительное собрание, чтобы заключить с Гогенцоллерном кабальный мир, в то время как Бельгия и Северная Франция заняты немецкими войсками. Было ясно, что антантовской буржуазии удастся посеять в рабочих массах величайшую смуту. А это могло облегчить, в свою очередь, военную интервенцию против нас. Известно, что даже в Германии, среди социал-демократической оппозиции, ходили настойчивые слухи о том, что большевики подкуплены германским правительством и что в Брест-Литовске происходит сейчас комедия с заранее распределенными ролями. Еще более вероподобной эта версия должна была казаться во Франции и Англии. Я считал, что до подписания мира необходимо во что бы то ни стало дать рабочим Европы яркое доказательство смертельной враждебности между нами и правящей Германией. Именно под влиянием этих соображений я пришел в Брест-Литовске к мысли о той “педагогической* демонстрации, которая выражалась формулой: войну прекращаем, но мира не подписываем. Я посоветовался с другими членами делегации, встретил с их стороны сочувствие и написал Владимиру Ильичу. Он ответил: когда приедете, поговорим»…
Как известно, 11 января на заседании ЦК РСДРП(б) мнения насчет переговоров с немцами разделились. «Левые коммунисты» во главе с Бухариным выступили за продолжение революционной войны; Троцкий предложил прекратить военные действия, не заключая мира, но, как всегда, прошло предложение В.И. Ленина, приказавшего всячески затягивать подписание мира в Брест-Литовске.
Есть совершенно определенные свидетельства, что и Ленина, как и Троцкого, все угрозы со стороны немцев волновали только в плане угрозы мировой революции, и никак иначе.
— Допустим, — говорил в эти дни В.И. Ленин Л.Д. Троцкому. — Допустим, что принят ваш план. Мы отказались подписать мир. А немцы после этого переходят в наступление. Что вы тогда делаете?
— Подписываем мир под штыками! — ответил Троцкий. — Тогда картина ясна рабочему классу всего мира.
— А вы не поддержите тогда лозунг революционной войны?
— Ни в коем случае.
— При такой постановке опыт может оказаться не столь уж опасным… — сказал Ленин. — Очень будет жаль пожертвовать социалистической Эстонией, но уж придется, пожалуй, для доброго мира пойти на этот компромисс.
Лев Троцкий в своих воспоминаниях достаточно подробно описывает, как развивался «опыт», поставленный Владимиром Ильичом по его совету.
«Немецкая делегация реагировала на наше заявление так, как если бы Германия не предполагала ответить возобновлением военных действий. С этим выводом мы вернулись в Москву.
— А не обманут они нас? — спрашивал Ленин. Мы разводили руками. Как будто непохоже.
— Ну что ж, — сказал Ленин. — Если так, тем лучше: и аппарансы (видимость. — Н.К.) соблюдены, и из войны вышли.
Однако за два дня до истечения срока мы получили от остававшегося в Бресте генерала Самойло телеграфное извещение о том, что немцы, по заявлению генерала Гофмана, считают себя с 12 часов 18 февраля в состоянии войны с нами и потому предложили ему удалиться из Брест-Литовска. Телеграмму эту первым получил Владимир Ильич. Я был у него в кабинете. Шел разговор с Карелиным и еще с кем-то из левых эсеров. Получив телеграмму, Ленин молча передал ее мне. Помню его взгляд, сразу заставивший меня почувствовать, что телеграмма принесла большое и недоброе известие. Ленин поспешил закончить разговор с эсерами, чтобы обсудить создавшееся положение.
— Значит, все-таки обманули. Выгадали 5 дней… Этот зверь ничего не упускает. Теперь уж, значит, ничего не остается, как подписать старые условия, если только немцы согласятся сохранить их.
Я возражал в том смысле, что нужно дать Гофману перейти в фактическое наступление.
— Но ведь это значит сдать Двинск, потерять много артиллерии и пр.
— Конечно, это означает новые жертвы. Но нужно, чтобы немецкий солдат фактически, с боем вступил на советскую территорию. Нужно, чтобы об этом узнали немецкий рабочий, с одной стороны, французский и английский — с другой.
— Нет, — возразил Ленин. — Дело, конечно, не в Двинске, но сейчас нельзя терять ни одного часу. Испытание проделано. Гофман хочет и может воевать. Откладывать нельзя: и так у нас уже отняли 5 дней, на которые я рассчитывал. А этот зверь прыгает быстро.
Центральным Комитетом было вынесено решение о посылке телеграммы с выражением немедленного согласия на подписание Брест-Литовского договора. Соответственная телеграмма была отправлена»{41}.
Исследование взаимоотношений большевиков с германским командованием не является задачей нашей книги, и мы коснулись этой темы лишь для того, чтобы показать, что, в принципе, ситуация советско-германских взаимоотношений контролировалась большевиками. И если они все же использовали германское наступление для объяснения своих действий, то это было всего лишь ленинским соблюдением «аппаранса», и ничем более…
7
Видимо, к 15 января 50 миллионов рублей золотом на содержание Красной гвардии пришли из Стокгольма, потому что именно этим числом помечен декрет «Об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА)».
Заметим тут, что первые месяцы РККА формировалась на добровольных началах и только из рабочих и крестьян. Менее известно, что преимущество при приеме в РККА отдавалось иностранцам — латышам, китайцам, австрийцам.
Создание такой армии позволило большевикам дистанцироваться от не желающей знать никакого удержу революционной матросни. Это оказалось тем более важным, что в ближайшие дни были проведены три принципиально важных декрета.
20 января вышел декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». Этот декрет, помимо всего прочего, лишил Церковь прав юридического лица и всего имущества.
21 января декрет ВЦИК аннулировал государственные внутренние и внешние займы, заключенные царским и Временным правительствами. Долг этот составлял более 50 миллиардов рублей, и три четверти его приходилось на внутренние займы.
Хотя прежние исследователи и не обходили вниманием декреты от 15, 20 и 21 января 1918 года, но рассматривали их отдельно друг от друга. Между тем очевидно, что особое значение эти декреты приобретают как раз в комплексе, и совсем не случайно почти одновременно они и были изданы большевиками.
Вспомним, что до 1917 года «властвующая идея» для подавляющего большинства населения Российской империи так или иначе выражалась в известной уваровской формуле «самодержавие, православие, народность».
Нетрудно заметить, что декреты от 15, 20 и 21 января 1918 года преследовали последовательное разрушение этой триады.
Создание армии из иноплеменников подрывало саму основу самодержавия — независимость страны… Декрет от 20 января аннулировал православие как духовный стержень русского государства. Ну а отмена государственных обязательств по внутренним займам разоряла не столько банкиров, сколько интеллигенцию, высокооплачиваемых рабочих и зажиточных крестьян, то есть средний класс России, ядро русского народа.
Тут надо сказать, что, критикуя политику современных нам «реформаторов», отдельные представители патриотической интеллигенции попали в ложное положение. Защищая принципы государственности, в пику своим политическим оппонентам из реформаторского лагеря, они зачем-то приняли на себя обязательство защищать Ленина и большевиков от «демократических» нападок…
«Победа Октября над Временным правительством и над возглавляемой “людьми Февраля” Белой армией была неизбежна, — запальчиво доказывал Вадим Кожинов, — в частности, потому, что большевики создавали именно идеократическую государственность, и это в конечном счете соответствовало тысячелетнему историческому пути России. Ясно, что большевики вначале и не помышляли о подобном “соответствии”, и что их “властвующая идея” не имела ничего общего с предшествующей. И для сторонников прежнего порядка была, разумеется, абсолютно неприемлема “замена” Православия верой в Коммунизм, самодержавия — диктатурой ЦК и ВЧК, народности, которая (как осознавали наиболее глубокие идеологи) включала в себя дух “всечеловечности”, — интернационализмом, то есть чем-то пребывающим между (интер) нациями. Однако “идеократизм” большевиков все же являл собой, так сказать, менее утопическую программу, чем проект героев Февраля, предполагавший переделку России — то есть и самого русского народа — по западноевропейскому образцу».
Разумеется, в этих остроумных рассуждениях непосредственной критики современного нам строя больше, чем анализа ситуации, сложившейся после Октябрьской революции.
Ну а что касается сравнения уваровской формулы «православие, самодержавие и народность» с кожиновской «верой в Коммунизм, диктатурой ЦК и ВЧК, интернационализмом», то отчего же подобная «замена» абсолютно неприемлема{42}. Если Уваров, к примеру, умудрялся вкладывать в понятие «народности» еще и крепостное право, отчего же государственникам иных времен не сделать было следующий шаг и не подменить православие — коммунизмом, а самодержавие — диктатурой ЦК и ВЧК?
Но это, так сказать, попутное замечание.
Для нас существенно, что декреты от 15, 20 и 21 января 1918 года основы большевистской идеократической государственности и закладывали.
И как символично, что завершаются они государственной реформой по переходу с юлианского на григорианский календарь. Декретом СНК от 24 января было объявлено, что уснувшие 31 января россияне должны будут проснуться уже 14 февраля.
Идеократическая государственность большевиков должна была осуществиться в самый короткий в мире год.
В большевистском 1918 году всего 352 дня…
На сколько русских жизней короче этот год, не может сосчитать никто.
И снова только удивляешься, как плотно подбираются события…
25 января, на следующий день после публикации декрета о переходе на григорианский календарь, в Киеве, возле Печерской лавры, неизвестными лицами был убит митрополит Владимир (Богоявленский) — первый при советской власти святой новомученик из числа русских иерархов.
8
В конце прежнего календарного стиля успели завязаться многие сюжеты наступающей большевистско-чекистской эпохи.
26 января. Германия ультимативно потребовала от Советской России подписания грабительских условий мира. Л.Д. Троцкий, как и было у него договорено с В.И. Лениным, от имени СНК огласил декларацию: «Отказываемся от подписания аннексионистского договора. Россия со своей стороны объявляет состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией прекращенным. Российским войскам отдается одновременно приказ о полной демобилизации по всему фронту».
Еще в этот день командование Чехословацкого корпуса, опасаясь, что их выдадут Австро-Венгрии и все они предстанут перед судом как изменники, объявили корпус частью французской армии.
И сделали это чехи вовремя. Уже на следующий день представители Украинской рады (чехословацкий корпус базировался на территории Украины) подписали в Брест-Литовске сепаратный мир с Германией и Австро-Венгрией…
Дальше начинаются даты нового стиля…
18 февраля. Прервав перемирие, германские войска начали широкомасштабное наступление от Риги в направлении на Псков и Нарву. В 14.00 группа фельдмаршала Эйхгорна двинулась на Ревель, и к исходу дня, нигде не встречая сопротивления, немцы заняли Двинск.
19 февраля. 4.00. В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий подписали телеграмму: «Совет Народных Комиссаров видит себя вынужденным при создавшемся положении заявить о своем согласии подписать мир на тех условиях, которые были предложены делегациями Четверного союза в Брест-Литовске».
20 февраля. Совет народных комиссаров принял решение о переезде в Москву.
21 февраля. Издан декрет СНК «Социалистическое Отечество в опасности!». «Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления… В батальоны (для рытья окопов) должны быть включены все работоспособные члены буржуазного класса, мужчины и женщины, под надзором красногвардейцев; сопротивляющихся расстреливать».
Одновременно была разослана циркулярная телеграмма ВЧК:
«Всех: 1) неприятельских агентов-шпионов; 2) контрреволюционных агитаторов; 3) спекулянтов; 4) организаторов сопротивления и участников в подготовке последнего для свержения советской власти; 5) бегущих на Дон для поступления в контрреволюционные войска калединско-корниловской банды и польские контрреволюционные легионы; 6) продавцов и скупщиков оружия для вооружения контрреволюционной буржуазии, национальной, российской, иностранной и ее войск, — беспощадно расстреливать на месте преступления».
22 февраля в Петрограде ввели военное положение.
23 февраля Германия ответила на телеграмму советского правительства, выдвинув еще более жесткие условия мира.
Обсудив новый германский ультиматум, ЦК РСДРП(б) постановил:
1. Немедленно принять германские предложения.
2. Немедленно начать подготовку к революционной войне.
За первый пункт проголосовало семь членов ЦК, четверо — против, четверо — воздержались. Второй пункт был принят единогласно.
В этой шестидневке, полностью исчерпывающей сюжет последнего германского наступления, главное событие конечно же — не это наступление.
Выше мы процитировали воспоминания Л.Д. Троцкого, показывающие, что хотя большевики и рисковали, проводя свой революционный опыт с немцами, но тем не менее ситуация была полностью под контролем большевистской верхушки. Поэтому смело можно говорить, что самое главное событие в шестидневном «эксперименте» В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого — решение о переезде правительства в Москву.
Большевики мотивировали это решение тем, что в Балтийском море появился германский флот (как это в январе немцы пробились бы через замерзший залив?), а на границе сосредотачивались контрреволюционные войска. Говорилось: дескать, связь с другими районами и городами республики могла нарушиться в любой момент. Дескать, над Петроградом нависла угроза вражеского вторжения…
Поразительно, но это объяснение прижилось и у историков, хотя трудно придумать более нелепую причину для эвакуации правительства и переноса столицы в Москву.
Ведь только в приступе коллективного помешательства немецкое командование стало бы захватывать Петроград и свергать большевистское правительство, которое в тот момент работало именно в интересах Германии — демобилизовывало остатки царской армии и старательно разрушало экономику России. Чтобы компенсировать Германии потерю в России этого правительства, потребовались бы сотни немецких дивизий, а их у Германии не было.
Во-вторых, неувязка получается и с датами.
Большевистское правительство переехало в Москву 11 марта, когда уже прошла целая неделя с тех пор, как был подписан мирный договор с Германией.
От какой же опасности бежали в Москву большевики, если не от немцев?
Ответ прост.
Большевики бежали в Москву от рабочих, от солдат и от матросов Петрограда, которых они так жестоко обманули…
Предвижу возражение, что большевики точно так же, как петроградских, обманули рабочих и в Москве, и во всей России.
Это верно.
Вся разница только в том, что рабочих Москвы и всей России они просто обманули, и все…
А с рабочими и матросами Петрограда большевики осуществляли и Октябрьский переворот, и Дополнительную январскую революцию… Рабочие и матросы Петрограда психологически были готовы, чтобы осуществить еще один переворот, теперь уже против большевиков. Во всяком случае, они знали, как это делать, и знали, что это делается очень просто…
9
Любопытно, что 20 февраля, когда Совет народных комиссаров принял решение о переезде в Москву, было опубликовано другое стихотворение А.А. Блока:
Стихотворение названо «Скифы», хотя, быть может, ему подошло бы и другое название — «Хазары»… И про кого это сказано?
Впрочем, это стихотворение Блока только напечатано было в новую эпоху, а закончено оно еще в прежнем календарном стиле — 30 января.
В минувшей эпохе написана и поэма «Двенадцать» — последнее поэтическое произведение Александра Блока.
Герои этой поэмы — революционные матросы…
Те самые матросы, с которыми, убегая из Петрограда, так решительно рвали сейчас большевики.
Александр Блок, как можно судить по его дневнику, разрыва этого не предвидел, даже не задумывался о нем, но в поэме «Двенадцать» рассказал об этом разрыве как о событии, уже случившемся…
Не так уж и трудно разглядеть за блоковской вьюгой и Кронштадт 1921 года, и наведенные на матросский остров жерла орудий…
Мы уже говорили, что большевики на сто процентов сумели использовать в своих целях матросскую вольницу, эту полупьяную русскую удаль, что не желает знать о завтрашнем дне, эту столь знакомую всем хамоватость пьяного человека…
Но большевики понимали и то, сколь ненадежна полупьяная вольница. Матросы не знали и не хотели знать своего места, и кто мог гарантировать, что, напившись в очередной раз, они не разгонят самих большевиков. Хотя охрана наиболее важных большевистских учреждений и была передана латышским стрелкам, уверенности, что они смогут противостоять матросам, пока не возникло.
Большевикам надо было срочно избавляться от своих союзников по Октябрьскому перевороту и «дополнительной революции». Проще всего можно было сделать это, перебравшись в Москву, где матросам не положено было находиться, ввиду полного отсутствия там какого-либо, в том числе и революционного, моря.
Большевикам надо было ставить точку в своих отношениях с недавними союзниками.
И точку эту поставил Феликс Эдмундович Дзержинский.
И поставил так, как и положено начальнику ВЧК…
Именно в эти дни Феликс Эдмундович сделал замечание одному из матросов, а тот в ответ послал Феликса Эдмундовича к такой-разэтакой, революционной матери.
«Дзержинский, — вспоминал Л.Д. Троцкий, — был человеком взрывчатой страсти. Его энергия поддерживалась в напряжении постоянными электрическими разрядками. По каждому вопросу, даже второстепенному, он загорался, тонкие ноздри дрожали, глаза искрились, голос напрягался, нередко доходя до срыва».
Должно быть, подобный припадок случился с Дзержинским и сейчас. Руки его тряслись, ноздри дрожали, Феликс Эдмундович не успокоился, пока не всадил в непочтительного балтийца всю обойму. Не зря Ленин сравнивал Дзержинского с горячим конем…
Случай этот рассматривался 26 февраля 1918 года на заседании ВЧК. «Слушали: о поступке т. Дзержинского. Постановили: ответственность за поступок несет сам и он один, Дзержинский. Впредь же все решения вопросов о расстрелах решаются в ВЧК, причем решения считаются положительными при половинном составе членов комиссии, а не персонально, как это имело место при поступке Дзержинского».
Вспомним, как всего несколько недель назад, в дни «дополнительной революции», П.Е. Дыбенко требовал от В.И. Ленина: «А вы дадите подписку, Владимир Ильич, что завтра не падет ни одна матросская голова на улицах Петрограда?» — и товарищу Ленину пришлось тогда прибегнуть к содействию тов. Коллонтай, чтобы посредством ее чар заставить Дыбенко отменить его приказ…
Вспомним, и нам станет ясно, какая пропасть разделила теперь матросов и большевиков.
Совпало (совпало?), что именно в этот день, 26 февраля 1918 года, В.И. Ленин набросал проект постановления об эвакуации советского правительства в Москву…
Глава третья.
РОЖДЕНИЕ ПЕТРОЧЕКА
Диктатура пролетариата — слишком серьезная вещь, чтобы ее можно было доверить самому пролетариату…
В.И. Ленин
Механики, чекисты, рыбоводы,
Я ваш товарищ, мы одной породы…
Эдуард Багрицкий
«Известия» сообщили, что Совет народных комиссаров предполагает выехать в Москву в понедельник, 11 марта, вечером…
Это был отвлекающий маневр.
Открыто с Николаевского вокзала отправлялись технические сотрудники наркоматов и члены ВЦИК с обслуживающим персоналом. Все, что касалось поезда с народными комиссарами и В.И. Лениным, было окружено строжайшей тайной.
Сам Яков Михайлович Свердлов, притворившись, что сел во вциковскии поезд, тут же трусливо выскользнул на другую сторону состава и перебрался в неприметный поезд № 4001, который, стараясь не привлекать ничьего внимания, отошел в 22 часа 00 минут. Когда наступило 11 марта, этот поезд мчался уже далеко от Петрограда…
Ну а меры предосторожности, предпринятые В.Д. Бонч-Бруевичем, на которого Ленин возложил организацию эвакуации Совнаркома, были не лишними.
Обстановка в Петрограде стремительно накалялась…
1
«Мясники проносят дымящиеся туши, кони падают на каменные полы и умирают без стона…
Я узнаю страшную статистику. Против 30—40 лошадей, шедших на убой в прежнее время, — теперь ежедневно на скотный двор поступает 500—600 лошадей. Январь дал 5 тысяч убитых лошадей, март даст 10 тысяч. Причины — нет корма…
Я вышел из места лошадиного успокоения и отправился в трактир “Хуторок”, что находится напротив скотобоен. Настало обеденное время. Трактир был наполнен татарами — бойцами и торговцами. От них пахло кровью, силой, довольством. За окном сияло солнце, растапливая грязный снег, играя на хмурых стеклах. Солнце лило лучи на тощий петроградский рынок — на мороженых рыбешек, на мороженую капусту, на папиросы “Ю-ю” и на восточную “гузинаки”…
Солнце светит. У меня странная мысль: всем худо, все мы оскудели. Только татарам хорошо, веселым могильщикам благополучия. Потом мысль уходит. Какие там татары?.. Все — могильщики»{43}.
Эти зарисовки петроградской жизни сделаны Исааком Бабелем прямо с натуры, и тогда же, в марте 1918 года, и опубликованы. Острым и верным взглядом подмечает писатель-чекист страшные приметы наступающего на город умирания…
«Не видно Фонтанки, скудной лужей расползшейся по липкой низине. Не видно тяжелого кружева набережной, захлестнутой вспухшими кучами нечистот из рыхлого черного снежного месива.
По высоким теплым комнатам бесшумно снуют женщины в платьях серых или темных. Вдоль стен — в глубине металлических ванночек лежат с раскрытыми серьезными глазами молчащие уродцы — чахлые плоды изъеденных, бездушных низкорослых женщин, женщин деревянных предместий, погруженных в туман.
Недоноски, когда их доставляют, имеют весу фунт-полтора. У каждой ванночки висит табличка — кривая жизни младенца. Нынче это уж не кривая. Линия выпрямляется. Жизнь в фунтовых телах теплится уныло и призрачно.
Еще одна неприметная грань замирания нашего: женщины, кормящие грудью, все меньше дают молока…
Они стоят вокруг меня, грудастые, но тонкие — все пятеро — в монашеских своих одеждах и говорят:
— Докторша высказывает — молока мало даете, дети в весе не растут… Душой бы рады, кровь, чувствуем, сосут… К извозчикам бы приравняли… В управе сказывали: не рабочие… Пошли вон мы нынче вдвоем в лавку, ходим, ноги гнутся, стали мы, смотрим друг дружке в глаза, падать хотим, не можем двинуться…
Они просят меня о карточках, о дополнениях, кланяются, стоят вдоль стен, и лица их краснеют и становятся напряженными и жалкими, как у просительниц в канцелярии»{44}.
Зарисовки Исаака Бабеля — чрезвычайно ценный материал для исследователя. Самое замечательное в них — это не совсем человеческая бесстрастность, умение отключиться от чужого страдания и боли, чтобы сочувствие не затуманивало глаза, не нарушало точности писательского зрения.
Перечитывая публицистику писателя, запечатлевшую самые различные проявления человеческого горя, я обнаружил только один сбой. Кажется, лишь в описании погромов еврейских местечек: «Недорезанные собаки испустили свой хриплый лай. Недобитые убийцы вылезли из гробов. Добейте их, бойцы Конармии! Заколотите крепче приподнявшиеся крышки их смердящих могил!» — и срывается на крик писательский голос. Но этот сбой относится к 1920 году и прямого отношения к петроградским событиям не имеет…
В резолюциях, принимавшихся тогда на петроградских фабриках и заводах, бесстрастности гораздо меньше.
Вот заявление, с которым в марте 1918 года уполномоченные рабочих петроградских фабрик и заводов обратились к IV Всероссийскому съезду Советов…
«Нам обещали свободу. А что мы видим на самом деле? Всё растоптано полицейскими каблуками, всё раздавлено вооруженной рукой… Мы дошли до позора бессудных расстрелов, до кровавого ужаса смертных казней, совершаемых людьми, которые являются одновременно и доносчиками, и сыщиками, и провокаторами, и следователями, и обвинителями, и судьями, и палачами…
Но нет! Довольно кровавого обмана и позора, ведущих революционную Россию к гибели и расчищающих путь новому деспоту на место свергнутого старого. Довольно лжи и предательства. Довольно преступлений, совершаемых нашим именем, именем рабочего класса…
Мы, рабочие петроградских фабрик и заводов, требуем от съезда постановления об отставке Совета народных комиссаров»{45}.
Этот отчаянный призыв рабочих Петрограда услышан не был.
Открывшийся 14 марта IV Чрезвычайный съезд Советов ратифицировал Брестский мирный договор и принял постановление, объявившее Москву столицей Советской республики.
Именно с этого момента начался принципиально новый этап в деятельности советского правительства. Как отметил В.И. Ленин, две первых задачи — «завоевать политическую власть и подавить сопротивление эксплуататоров» — были выполнены большевиками еще в Петрограде, ну а теперь на повестку дня встала проблема управления завоеванной Россией.
Любопытно, что статья В.И. Ленина «Главная задача наших дней» написана как раз 11 марта, в поезде, когда советское правительство ехало в Москву.
Еще интереснее, что именно в этой статье Ленин начинает требовать от рабочих, чтобы они почувствовали себя хозяевами заводов и фабрик, чтобы прекратили лодырничать и воровать, чтобы соблюдали строжайшую дисциплину в труде, чтобы экономно хозяйничали и аккуратно и добросовестно вели счет деньгам.
Именно эти лозунги три года спустя будут воплощены в новой экономической политике. И именно эти лозунги еще полгода назад Ленин активно высмеивал.
Впрочем, что такое для Владимира Ильича лозунги и принципы?
«Мне кажется, что Троцкий несравненно более ортодоксален, чем Ленин… — писал Анатолий Васильевич Луначарский. — Троцкий всегда руководился, можно сказать, буквою революционного марксизма. Ленин чувствует себя творцом и хозяином в области политической мысли и очень часто давал совершенно новые лозунги, которые нас всех ошарашивали, которые казались нам дикостью и которые потом давали богатейшие результаты. Троцкий такою смелостью мысли не отличается: он берет революционный марксизм, делает из него все выводы, применительные к данной ситуации; он бесконечно смел в своем суждении против либерализма, против полусоциализма, но не в каком-нибудь новаторстве.
Ленин в то же время гораздо более оппортунист в самом глубоком смысле этого слова. Опять странно, разве Троцкий не был в лагере меньшевиков, этих заведомых оппортунистов? Но оппортунизм меньшевиков — это просто политическая дряблость мелкобуржуазной партии. Я говорю не о нем, я говорю о том чувстве действительности, которая заставляет порою менять тактику, о той огромной чуткости к запросу времени, которая побуждает Ленина то заострять оба лезвия своего меча, то вложить его в ножны».
В принципе, это объяснение дает ответ, почему, выдвинув 11 марта 1918 года лозунги, сходные с лозунгами 1921 года, Ленин повел страну не к НЭПу, а к военному коммунизму.
Дело тут действительно в огромной чуткости к запросу времени, которой обладал Ленин. И слова о строжайшей дисциплине в труде, об экономном хозяйствовании, о добросовестном счете денег, призывы учиться у немца в статье «Главная задача наших дней» — это еще не призывы и не лозунги, а лишь мотивировка ленинского постулата о том, что русский человек — плохой работник по сравнению с работником передовых наций.
Согласно В.И. Ленину, это и не могло быть иначе при режиме царизма и живучести остатков крепостного права. А значит, следует вывод: русского человека надо учить работать. И это и является самой главной задачей наших дней.
Ну а поскольку — это не оговаривалось, но подразумевалось! — работники таких передовых наций, как английская, немецкая, французская, были заняты войной и им недосуг было учить работать русского человека, следовало поискать передовую нацию внутри самой России.
Ю. Ларин, этот, по словам А.И. Солженицына, «скорый экономики военного коммунизма», прямо писал потом, что в еврейских рабочих наблюдается «особое развитие некоторых черт психологического уклада, необходимых для роли вожаков», которые еще только развиваются в русских рабочих, — исключительная энергия, культурность, солидарность и систематичность{46}.
Любопытно, что этот большевистский постулат был практически без редактуры заимствован ельцинскими реформаторами для того, чтобы обосновать изъятие общенародной собственности в пользу малочисленной группы, так называемой семьи, преимущественно нерусской по своему национальному составу.
Учить работать русского человека — плохого работника должна была столь схожая с ельцинской семьей партийная верхушка, то ядро партии, которое товарищ Г.Л. Пятаков назовет в дальнейшем «чудо-партией».
И тут, конечно, самое время еще раз вернуться к вопросу о национальности самого В.И. Ленина.
Тот же А.И. Солженицын пишет, что «…если же говорить об этническом происхождении Ленина, то не изменит дела, что он был метис, самых разных кровей: дед его по отцу, Николай Васильевич, был крови калмыцкой и чувашской, бабка — Анна Алексеевна Смирнова, калмычка; другой дед — Израиль (в крещении Александр) Давидович Бланк, еврей, другая бабка — Анна Иоганновна (Ивановна) Гросшопф, дочь немца и шведки Анны Беаты Эстедт. Но всё это не даёт права отвергать его от России. Мы должны принять его как порождение не только вполне российское, — ибо все народности, давшие ему жизнь, вплелись в историю Российской империи, — но и как порождение русское (выделено нами. — Н.К.)».
Более того…
По А.И. Солженицыну, «это мы, русские, создали ту среду, в которой Ленин вырос, вырос с ненавистью. Это в нас ослабла та православная вера, в которой он мог бы вырасти, а не уничтожать её»{47}.
Вроде бы с этим невозможно не согласиться.
Все справедливо насчет православной веры, которая «в нас ослабла»…
Другое дело, что великий «правдолюбец» и тут лукаво заводит читателя в западню и как будто искренне забывает, что сама Российская империя была устроена первыми Романовыми не совсем на русский лад, вернее же, совсем не на русский… В этой империи огромная часть самих русских (в отличие от множества других народов, населяющих империю) находилась в подневольном, крепостном состоянии…
И это лукавое устроение Российской империи и привело к тому, что хотя мы, русские, и говорим на одном языке, хотя и думаем одинаково, но наше мышление проистекает как бы в разных измерениях… Мы не сходимся в мыслях друг с другом, а если пересечемся невзначай, то только для того, чтобы навсегда разругаться.
Поэтому и не объяснить сейчас пожилым русским людям, что Ленин, которого защищают они, скорее бы сошелся с их врагами — Чубайсом и Ельциным, а не с ними. Их, нынешних русских коммунистов, Владимир Ильич конечно немедленно отправил бы на расстрел. А Ельцина с Чубайсом — нет, с ними Владимир Ильич сумел бы работать на благо семьи или чудо-партии и в режиме военного коммунизма, и в условиях НЭПа…
И конечно же если мы желаем возрождения России, нам необходимо преодолеть не только разрыв между интересами народа и ельцинской семьи, но и изжить ленинское наследие…
Как сделать это?
Как перепрыгнуть через 13 потерянных дней 1918 года?
Очень просто…
Для этого достаточно освободиться от собственных иллюзий и обольщений, от чрезвычайно вредных и опасных для страны, но таких дорогих для наших сердец мифов…
Но мы отвлеклись…
Объявляя, что русский человек — плохой работник по сравнению с работником передовых наций, В.И. Ленин определял стратегическую задачу управления страной — большевики должны были опираться отныне уже не на русский пролетариат, а на класс тех инонациональных учителей, которые будут вселены в Москву, Петроград и другие русские города, как это делалось и ранее при Петре I и Екатерине II.
Одновременно В.И. Ленин решал этим и некоторые тактические вопросы… Он пытался привить своим недавним союзникам рабочим чувство некоей неполноценности, ущербности, он надеялся, что, осознавая, какие они «плохие работники», рабочие постесняются выдвигать столь наглые, как рабочие Петрограда, требования.
В соответствии с новой задачей В.И. Ленин производит и кадровые перестановки.
Л.Д. Троцкий, покинувший пост наркома иностранных дел, сразу, как только ему удалось завершить Брестским миром иностранные дела России, возглавляет теперь Высший военный совет и становится наркомвоенмором, сосредотачивая в своих руках все управление армией и флотом.
Ну а прапорщика Н.В. Крыленко, исполнившего свое матросско-солдатское дело и расстрелявшего генерала Духонина, Совнарком от забот по «управлению Россией» освободил.
2
Рабочий класс большевики пытались привести в сознание голодом и постоянным напоминанием ему, что русский человек — плохой работник.
С матросами они расправлялись круче.
Мы уже рассказывали о пуле, которую товарищ Дзержинский влепил недостаточно почтительному матросу. В Москве Феликс Эдмундович предпринял еще более жесткую акцию.
В ночь на 12 апреля было совершено, как сообщил Ф.Э. Дзержинский сотруднику «Известий», очищение города.
Чекисты штурмом взяли в Москве 25 особняков, занятых анархистами. Бои развернулись на Донской и Поварской улицах, отчаянно сопротивлялись обитатели дома «Анархия» на Малой Дмитровке. Этот дом чекистам пришлось расстреливать из пушек. Более сотни анархистов убиты, около полутысячи — арестованы.
В многочисленных обращениях к населению города настойчиво подчеркивалась мысль, что ВЧК борется против бандитов, хулиганов и обыкновенного жулья, «осмелившихся скрываться и выдавать себя за анархистов, красногвардейцев и членов других революционных организаций»{48}.
— Я должен заявить, — сказал Ф.Э. Дзержинский корреспонденту «Известий», — и при этом категорически, что слухи в печати о том, что Чрезвычайная комиссия входила в Совет Народных Комиссаров с ходатайством о предоставлении ей полномочий для борьбы с анархистами, совершенно не верны. Мы ни в коем случае не имели в виду и не желали вести борьбу с идейными анархистами, и в настоящее время всех идейных анархистов, задержанных в ночь на 12 апреля, мы освобождаем, и если, быть может, некоторые из них бу-дут привлечены к ответственности, то только за прикрытие преступлений, совершенных уголовными элементами, проникшими в анархические организации. Идейных анархистов среди лиц, задержанных нами, очень мало, среди сотен — единицы{49}.
Тут надо пояснить, что идейными Дзержинский называл анархистов, которые готовы были и далее помогать большевикам в развале Российского государства, ну а всех, кто намеревался выступать против большевиков, он относил к уголовным элементам…
К этому времени Феликс Эдмундович Дзержинский уже занял под свое ведомство дом страхового общества «Якорь» на Большой Лубянке с подвалами, настолько обширными, что в них легко было затеряться многим тысячам заключенных…
И конечно же нашлось здесь место и матросам, которые начали прибывать следом за правительством в Москву и размещаться в захваченных анархистами московских особняках…
Рассказывать корреспонденту «Известий» об этих матросах Дзержинский не посчитал нужным.
— Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов, — любил повторять он, — является методом выработки коммунистического человека из материала капиталистической эпохи.
Ну а после того, как из матросов было выработано то, что нужно, можно было вздохнуть спокойно и пригласить в Москву германского посла Мирбаха.
Теперь советское правительство переехало в Москву окончательно.
3
Итак… Правительство переехало в Москву…
«Вынужденный уехать, — вспоминал потом А.В. Луначарский, — Совет Народных Комиссаров возложил ответственность за находящийся в почти отчаянном положении Петроград на товарища Зиновьева.
“Вам будет очень трудно, — говорил Ленин остающимся, — но остается Урицкий”. И это успокаивало»{50}.
Такими словами не бросаются.
Тем более такие люди, как В.И. Ленин.
И мы могли бы с полным основанием говорить, что Владимир Ильич всецело доверял Моисею Соломоновичу Урицкому, если бы в воспоминаниях современников то тут, то там не мелькали свидетельства, что как раз к Урицкому-то или, по крайней мере, к его способностям Ленин не испытывал никакого доверия.
Любопытны в этом смысле воспоминания Георгия Александровича Соломона, ярко рисующего не только самого Моисея Соломоновича Урицкого, но и его взаимоотношения с В.И. Лениным.
«Я решил возвратиться в Стокгольм и с благословения Ленина начать там организовывать торговлю нашими винными запасами. Мне пришлось еще раза три беседовать на эту тему с Лениным. Все было условлено, налажено, и я распростился с ним.
Нужно было получить заграничный паспорт. Меня направили к заведовавшему тогда этим делом Урицкому… Я спросил Бонч-Бруевича, который был управделами Совнаркома, указать мне, где я могу увидеть Урицкого. Бонч-Бруевич был в курсе наших переговоров об организации вывоза вина в Швецию.
— Так что же, вы уезжаете все-таки? — спросил он меня. — Жаль… Ну, да надеюсь, это ненадолго… Право, напрасно вы отклоняете все предложения, которые вам делают у нас… А Урицкий как раз находится здесь… — Он оглянулся по сторонам. — Да вот он, видите, там, разговаривает с Шлихтером… Пойдемте к нему, я ему скажу, что и как, чтобы выдали паспорт без волынки…
Мы подошли к невысокого роста человеку с маленькими неприятными глазками.
— Товарищ Урицкий, — обратился к нему Бонч-Бруевич, — позвольте вас познакомить… товарищ Соломон…
Урицкий оглядел меня недружелюбным колючим взглядом.
— А, товарищ Соломон… Я уже имею понятие о нем, — небрежно обратился он к Бонч-Бруевичу, — имею понятие… Вы прибыли из Стокгольма? — спросил он, повернувшись ко мне. — Не так ли?.. Я все знаю…
Бонч-Бруевич изложил ему, в чем дело, упомянул о вине, решении Ленина…
Урицкий нетерпеливо слушал его, все время враждебно поглядывая на меня.
— Так, так, — поддакивал он Бонч-Бруевичу, — так, так… понимаю… — И вдруг, резко повернувшись ко мне, в упор бросил: — Знаю я все эти штуки… знаю… и я вам не дам разрешения на выезд за границу… не дам! — как-то взвизгнул он.
— То есть как это вы не дадите мне разрешения? — в сильном изумлении спросил я.
— Так и не дам! — повторил он крикливо. — Я вас слишком хорошо знаю, и мы вас из России не выпустим! У меня есть сведения, что вы действуете в интересах немцев…
Тут произошла безобразная сцена. Я вышел из себя. Стал кричать на него. Ко мне бросились А.М. Коллонтай, Елизаров и другие и стали успокаивать меня.
Другие в чем-то убеждали Урицкого… Словом, произошел форменный скандал.
Я кричал:
— Позовите мне сию же минуту Ильича… Ильича… Укажу на то, что вся эта сцена разыгралась в Большом зале
Смольного института, находившемся перед помещением, где происходили заседания Совнаркома и где находился кабинет Ленина.
Около меня метались разные товарищи, старались успокоить меня… Бонч-Бруевич побежал к Ленину, все ему рассказал. Вышел Ленин. Он подошел ко мне и стал расспрашивать, в чем дело. Путаясь и сбиваясь, я ему рассказал. Он подозвал Урицкого.
— Вот что, товарищ Урицкий, — сказал он, — если вы имеете какие-нибудь данные подозревать товарища Соломона, но серьезные данные, а не взгляд и нечто, так изложите ваши основания. А так, ни с того ни с сего, заводить всю эту истерику не годится… Изложите, мы рассмотрим в Совнаркоме… Ну-с…
— Я базируюсь, — начал Урицкий, — на вполне определенном мнении нашего уважаемого товарища Воровского…
— А, что там “базируюсь”, — резко прервал его Ленин. — Какие такие мнения “уважаемых” товарищей и прочее? Нужны объективные факты. А так, ни с того ни с сего, здорово живешь опорочивать старого и тоже уважаемого товарища, это не дело… Вы его не знаете, товарища Соломона, а мы все его знаем… Ну да мне некогда, сейчас заседание Совнаркома, — и Ленин торопливо убежал к себе»{51}.
Георгий Александрович Соломон — личность весьма скользкая.
Занимаясь дипломатической работой (он работал первым секретарем посольства в Берлине, консулом в Гамбурге, торговым представителем в Лондоне), товарищ Соломон исполнял весьма щекотливые поручения большевистской верхушки, связанные как с финансированием коммунистического движения, так и с наполнением заграничных счетов самих вождей Советской России.
И конечно неспроста, узнав о неизлечимой болезни Ленина, Георгий Александрович отказался в 1923 году возвращаться в Россию. Отношения с Владимиром Ильичом у него были особые, и без Ленина в России ему было нечего делать.
Но для нас сейчас интересны отношения Владимира Ильича не с товарищем Соломоном, а с товарищем Моисеем Соломоновичем Урицким.
Эк как он заартачился, не желая выполнять просьбу товарища Ленина!
До визга, до истерики, почти до открытых пререканий дело дошло! И как беспощадно отбрил Владимир Ильич Моисея Соломоновича, прямо на глазах у всех!
А как издевался Владимир Ильич над корявой речью Моисея Соломоновича на VII съезде РКП(б)?!
«Но было другое выступление — Урицкого. Что там было, кроме Каноссы, “предательства”, “отступили”, “приспособились”?.. Касаясь речи тов. Бухарина, я отмечаю, что, когда у него не хватает аргументов, он выдвигает нечто от Урицкого»{52}.
Нет…
Как-то не вяжется эта ленинская готовность в любую минуту превратить Моисея Соломоновича Урицкого в нарицательный персонаж, воплощающий косноязычие и бестолковость, со словами «Вам будет очень трудно, но остается Урицкий».
Но коли Ленин сказал, значит, он знал, что говорил…
Просто, по-видимому, он вкладывал в свои слова не совсем тот смысл, который привиделся А.В. Луначарскому.
4
Как явствует из официальной, созданной в 1919 году биографии{53}, будущий председатель Петроградской ЧК Моисей Соломонович Урицкий родился 2 января 1873 года в уездном городе Черкассах Киевской губернии, на берегу реки Днепра.
Родители его занимались торговлей.
Моисею было всего три года, когда утонул в реке отец и Моисей остался на попечении своей матери и старшей сестры. До 13 лет он изощрялся в изучении Талмуда, а потом, воспротивившись матери, начал учить еще и русский язык. В результате, вместо того чтобы постигать премудрости, необходимые раввину, он поступает в Черкасскую прогимназию…
Тут возникает любопытная параллель.
Феликс Эдмундович Дзержинский и Моисей Соломонович Урицкий…
Один в детстве собирался стать ксендзом, другой — раввином.
Но поскольку оба они рано и почти одновременно остались без отцов, один из них стал начальником ВЧК, другой — начальником Петроградской ЧК.
Никаких других ЧК тогда еще не было…
Значит, и начальников ЧК тогда тоже было только двое, вернее — всего двое.
И вот ведь что любопытно. Оба начальника знают еврейский язык, оба умеют читать и писать по-еврейски…
Когда-то языком дипломатии считался французский язык. По-французски писались официальные письма, на французском составлялись межгосударственные договоры.
Если судить по первым председателям ЧК, возникает впечатление, что большевики и планировали сделать еврейский язык официальным языком всех чрезвычаек.
На первый взгляд, предположение это звучит достаточно дико. Но думаешь: а что еще кроме знания еврейского языка и ненависти к России объединяло главных чекистов — Дзержинского и Урицкого? И не можешь найти ответа…
Опять-таки, как сулил товарищ Зиновьев, ЧК будут открыты не только в губернских центрах России, но и в Германии, в Англии, во Франции, в Италии…
Так почему бы и не подумать было с самого начала о едином языке и для Ливерпульской ЧК, и для Парижской ЧК? Не на русском же языке объясняться в Ливерпуле и Париже чекистам!
Но вернемся к биографии Моисея Соломоновича…
Еще в ранней молодости становится он членом социал-демократической партии и «всецело отдается партийной работе». Заметную роль играл Урицкий в событиях 1905 года в Красноярске. Тем не менее в 1906 году ссылку ему заменили принудительным отъездом за границу, где в августе 1912 года, на конференции меньшевиков в Вене, Урицкого избрали членом оргкомитета как представителя «группы Троцкого».
Избрание это, как пишет Марк Алданов, произошло при следующих обстоятельствах.
«В августе 1912 года в Вене была созвана конференция членов РСДРП с участием представителей целого ряда социал-демократических организаций (преимущественно — но не исключительно — меньшевистских). Это была одна из очередных попыток освободить партию от диктатуры Ленина, который незадолго до того создал в Праге чисто большевистский Центральный Комитет. В конференции приняли участие почти все выдающиеся деятели социал-демократической партии небольшевистского толка: Аксельрод, Мартов, Абрамович, Медем, Либер, Троцкий, Горев, Семковский, Ларин и др. Цель заключалась в том, чтобы объединить все организации РСДРП, кроме чистых ленинцев, и объявить Ленина узурпатором.
Попала, однако, в Вену и небольшая группа лиц, которая ставила себе противоположную задачу: сорвать конференцию или, по крайней мере, помешать объединению и сохранить ленинский Центральный Комитет…
Разногласия обнаружились существенные, и это само по себе не могло не отразиться на составе избранного Организационного Комитета. Нельзя было выбрать никого из вождей, занимавших слишком определенные и непримиримые позиции.
Часть вождей, кроме того, в Россию ехать не желала, предпочитая редактировать партийные газеты за границей. Но вместо себя эти вожди выдвигали кандидатуры своих людей.
В Комитет попали малоизвестные и приемлемые для каждого “работники”, — в их числе ни разу не выступавший Урицкий. Он был избран как представитель “группы Троцкого”. В эту группу входило во всей вселенной человек пять или шесть».
Так и вышел в большие социал-демократические фигуры утковатоподобный Моисей Соломонович Урицкий.
Война застала его в Германии.
Сближение Моисея Соломоновича с большевистской верхушкой началось только в середине 1915 года, когда Израиль Лазаревич Гельфанд (Парвус) начал формировать команду революционеров для исполнения подряда, выданного русским революционерам немецким Генштабом.
Израиль Лазаревич обратился тогда к германскому послу в Константинополе фон Вангенхайму со специальным посланием, в котором, в частности, говорилось: «Интересы германского правительства вполне совпадают с интересами русских революционеров. Русские социал-демократы могут достичь своей цели только в результате полного уничтожения царизма. С другой стороны, Германия не сможет выйти победительницей из этой войны, если до этого не вызовет революцию в России. Но и после нее Россия будет представлять большую опасность для Германии, если она не будет расчленена на ряд самостоятельных государств…».
Германские власти благожелательно отнеслись к этой инициативе.
Израилю Лазаревичу Гельфанду (Парвусу) был выдан аванс в сумме одного миллиона немецких марок, и он начал формировать бригаду, в которую вместе с Яковом Ганецким, Георгием Скларцем, Евгением Суменсоном, Григорием Чудновским вошел и Моисей Урицкий.
Облеченный высоким доверием Израиля Лазаревича Парвуса, Моисей Соломонович Урицкий переезжает из Германии в Стокгольм, потом — в Копенгаген, а после Февральской революции — в Россию.
Здесь его приписали к так называемой межрайонной группе РСДРП, куда входил и товарищ Троцкий, верность которому Моисей Соломонович пронес через всю жизнь.
Льва Давидовича Троцкого, как и Израиля Лазаревича Парвуса, Моисей Соломонович Урицкий боготворил до такой степени, что глупел прямо на глазах, едва только заводил речь о них. А.В. Луначарский вспоминает, что однажды Урицкий сказал ему: «Вот пришла великая революция, и чувствуется, что как ни умен Ленин, а начинает тускнеть рядом с гением Троцкого»{54}.
Вместе с В. Лениным, Г. Зиновьевым, Л. Каменевым, Л. Троцким, И. Сталиным, Г. Сокольниковым и А. Бубновым Моисей Соломонович Урицкий участвовал 10 (23) октября в том историческом заседании ЦК РСДРП(б) на квартире Гиммера и Флаксерман на Карповке, где была принята резолюция «о постановке вооруженного восстания в порядок дня», а в дни Октябрьского переворота входил в состав Военно-революционного комитета. Затем он был приписан комиссаром к Учредительному собранию.
На этой должности от Урицкого требовалось с «улыбающейся невозмутимостью» ходить по Таврическому дворцу, «одной своей трезвой улыбкой разгоняя все их иллюзии»… И хотя, прохаживаясь по Таврическому дворцу, Урицкий сумел вызвать неудовольствие Ленина, но Троцкому удалось все-таки добиться назначения Моисея Соломоновича главным палачом Петрограда.
После переезда в Москву правительства Урицкий первым делом запретил всем, кроме большевиков и чекистов, ездить в Петрограде на автомобилях. Но этим его деятельность на посту начальника Петроградской ЧК конечно же не ограничилась…
5
В третий том дела «Каморры народной расправы»{55} вшит весьма любопытный циркуляр. Это не сам документ, а его копия, сделанная, как видно по пометке, 17 мая 1918 года.
«СЕКРЕТНО.
Председателям отделов “Всемирного Израильского Союза”.
Сыны Израиля!
Час нашей окончательной победы близок.
Мы стоим на пути достижения нашего всемирного могущества и власти. То, о чем раньше мы только тайно мечтали, уже находится почти в наших руках. Те твердыни, перед которыми мы раньше стояли, униженные и оскорбленные, теперь пали под напором наших сплоченных любовью к своей вере национальных сил.
Но нам необходимо соблюдать осторожность, ибо мы твердо и неуклонно должны идти по пути разрушения чужих алтарей и тронов. Мы оскверняем чужие святыни, мы уничтожаем чужие религии, устраняя их от служения государству и народу, мы лишаем чужих священнослужителей авторитета и уважения, высмеивая их в своих глазах и на публичных собраниях.
Мы делаем все, чтобы возвеличить еврейский народ и заставить все племена преклоняться перед ним, признать его могущество и избранность. И мы уже достигли цели, но нам необходимо соблюдать осторожность, ибо вековечный наш враг рабская Россия, униженная, оплеванная, опозоренная самим же русским племенем, гениально руководимым представителями сынов Израиля, может восстать против нас самих…
Наша священная месть унижавшему нас и содержавшему нас в позорном гетто государству не должна знать ни жалости, ни пощады.
Мы заставим плакать Россию слезами горя, нищеты и национального унижения… Врагам нашим не должно быть пощады, мы без жалости должны уничтожить всех лучших и талантливейших из них, дабы лишить рабскую Россию ее просвещенных руководителей, этим мы устраним возможность восстания против нашей власти.
Мы должны проповедовать и возбуждать среди темной массы крестьян и рабочих партийную вражду и ненависть, побуждая к междоусобице классовой борьбы, к истреблению культурных ценностей, созданных христианскими народами, заставим их слепо идти за нашими преданными еврейскому народу вождями.
Но нам необходимо соблюдать осторожность и не увлекаться безмерно жаждою мести.
Сыны Израиля!
Торжество наше близко, ибо политическая власть и финансовое могущество все более и более сосредоточивается в наших руках…
Мы скупили за бесценок бумаги займа свободы, аннулированные нашим правительством и затем объявленные им как имеющие ценность и хождение наравне с кредитными билетами. Золото и власть в наших руках, но соблюдайте осторожность и не злоупотребляйте колеблющимся доверием к вам темных масс.
Троцкий-Бронштейн, Зиновьев-Радомысльский, Урицкий, Иоффе, Каменев-Розенфельд, Штемберг — все они так же, как и десятки других верных сынов Израиля, захватили высшие места в государстве… Мы не будем говорить о городских самоуправлениях, комиссариатах, продовольственных управах, кооперативах, домовых комитетах и общественных самоуправлениях — все это в наших руках, и представители нашего народа играют там руководящую роль, но не упивайтесь властью и могуществом и будьте осторожны, ибо защитить нас кроме нас самих некому, а созданная из несознательных рабочих Красная Армия ненадежна и может повернуться против нас самих.
Сыны Израиля!
Сомкните теснее ряды, проведите твердо и последовательно нашу национальную политику, отстаивайте наши вековечные идеалы.
Строго соблюдайте древние заветы, завещанные нам нашим великим прошлым. Победа близка, но сдерживайте себя, не увлекайтесь раньше времени, будьте осторожны, дабы не давать врагам нашим поводов к возмущению против нас, пусть наш разум и выкованная веками осторожность и умение избегать опасностей — служат нам руководителями.
Центральный Комитет Петроградского отдела Всемирного Израильского Союза».
Вот такой документ…
Прежде чем разбираться, как он попал в дело «Каморры народной расправы», отметим, что велось расследование дела «Каморры» — об этом у нас разговор впереди! — весьма легкомысленно и, если, конечно, изъять многочисленные постановления о расстрелах, почти шутливо.
Небрежно, кое-как, словно не о жизнях десятков человек шла речь, сшивались бумаги. Прежде чем оказаться в архиве, документы многие месяцы пылились на столах чекистов…
Только так можно объяснить, почему, например, в дело расстрелянного в сентябре 1918 года Леонида Николаевича Боброва попало объяснение артельщика Комарова{56}, сделанное в 1920 году.
Памятуя об этом, вернемся к процитированному нами письму…
Поскольку копия Циркулярного письма находится среди бумаг, приобщенных к делу Иосифа Васильевича Ревенко, видного деятеля «Союза русского народа», расстрелянного 2 сентября 1918 года, естественно предположить, что у него и был изъят этот документ.
Но вот что странно…
Следователь Байковский, тщательно выяснявший все аспекты отношений Иосифа Васильевича к евреям вообще и к антисемитизму в частности, по поводу циркуляра, адресованного председателям отделов «Всемирного Израильского Союза», не задал ни одного вопроса.
Объяснение тут одно — к бумагам Иосифа Ревенко письмо не имеет никакого отношения, точно так же, как объяснение артельщика Комарова — к делу Леонида Николаевича Боброва.
Не упоминалось письмо и на допросах других подследственных, и этот факт позволяет сделать вывод, что, скорее всего, оно и не имеет никакого отношения к делу «Каморры народной расправы»…
Можно предположить, что Циркулярное письмо просто было распространено среди следователей Петроградской ЧК как некая служебная инструкция, а после, перепутавшись по небрежности с бумагами дела, попало на хранение в чекистский архив…
Обратите внимание на дату!
Копия была снята 17 мая 1918 года.
Документ распространили еще до событий, связанных с чехословацким мятежом и началом Гражданской войны, и тезисы о «возбуждении среди темной массы крестьян и рабочих партийной вражды» и о «побуждении к междоусобице классовой борьбы» предваряют процесс «настоящей революционной кристаллизации», который еще только вызовет в дальнейшем своими умелыми действиями Лев Давидович Троцкий.
Даже известная угроза Якова Михайловича Свердлова: «Мы до сих пор не занимались судьбой Николая Романова, но вскоре мы поставим этот вопрос на очередь и он будет так или иначе разрешен», — и то последовала после появления Циркулярного письма.
Так что, даже оставляя в стороне вопрос о подлинности документа, мы вынуждены признать: директивные указания «Всемирного Израильского Союза» большевиками были исполнены.
Это касается и указания «без жалости… уничтожить всех лучших и талантливейших… дабы лишить рабскую Россию ее просвещенных руководителей»…
Архивные материалы неопровержимо свидетельствуют, что весной 1918 года большевики бросили все свои силы именно на решение этой проблемы…
Как происходила эта борьба, как уничтожались действительно талантливейшие русские люди, мы расскажем на примере судьбы капитана Щастного.
6
В начале 1918 года под видом корреспондента российской газеты в Гельсингфорсе работал тайный агент Ф.Э. Дзержинского Алексей Фролович Филиппов, о котором мы уже упоминали в нашей книге.
«Германские войска планируют приступить к захвату Балтийского флота, базирующегося в финских портах. Без этого даже взятие Петрограда не даст им желанной победы… Немцы боятся только флота…»
«Положение здесь отчаянное. Команды ждут весны, чтобы уйти домой. Матросы требуют доплат, началось брожение, появляются анархисты, которые продают на месте имущество казны. Балтийский флот почти не ремонтировался из-за нехватки необходимых для этого материалов (красителей, стали, свинца, железа, смазочных материалов). В то же время эта продукция практически открыто направляется путем преступных сделок из Петрограда в Финляндию с последующей переотправкой через финские порты в Германию».
Сообщения Филиппова из Гельсингфорса, или, как их называли тогда, «разведки», могут служить примером толковой и профессиональной агентурной работы. Они рисуют реальное положение дел на Балтийском флоте в начале самого короткого в мире года.
Другое дело, что с этими «разведками» делали Дзержинский и Троцкий…
В.И. Ленин, как известно, назвал Брестский мир похабным.
В полном соответствии с ленинским определением и вел себя ставший наркомвоенмором творец этого мира.
Хотя Германия и настаивала на срочной передаче Балтийского флота, но Троцкий не спешил исполнять это положение договора — он вел неофициальные переговоры с прибывшим в Москву бывшим генеральным консулом Великобритании Робертом Брюсом Локкартом…
Англичане, опасавшиеся усиления немцев на Балтике, готовы были, как сообщил Локкарт, открыть крупные банковские счета на имя Троцкого, если господин нарком прикажет подорвать русские корабли.
И, видимо, так бы и произошло, и счета Троцкого в западных банках существенно возросли, но начальник морских сил Балтийского моря, капитан 1-го ранга Алексей Михайлович Щастный помешал осуществить эту гениальную комбинацию.
Согласовав свое решение с Центробалтом, «наморси» Щастный организовал 12 марта выход из Гельсингфорса первого отряда кораблей — четырех линкоров «Севастополь», «Гангут», «Петропавловск», «Полтава» и трех крейсеров — «Богатырь», «Рюрик», «Адмирал Макаров». 4 апреля по его приказу линкор «Андрей Первозванный» повел в Кронштадт второй отряд кораблей.
Сам Алексей Михайлович ушел из Гельсингфорса 7 апреля вместе с третьим отрядом, насчитывавшим 167 боевых кораблей и транспортов.
Всего было спасено 236 кораблей — костяк Балтийского флота[16].
За сорванный гешефт Лев Давидович Троцкий отомстит морякам в 1921 году, когда прикажет Тухачевскому расстреливать каждого десятого взятого в плен участника Кронштадтского восстания.
Ну а капитана Щастного покарали, не дожидаясь удобного случая, поскольку, во-первых, Лев Давидович просто обязан был без жалости уничтожать всех лучших и талантливейших из русских людей, дабы лишить рабскую Россию ее просвещенных руководителей, и тем самым устранить возможность восстания против советской власти, а во-вторых, Алексей Михайлович Щастный и далее собирался руководствоваться лишь интересами флота, не желая ничего знать о высшей политике большевиков, согласно которой следовало пожертвовать и интересами флота, и самим флотом.
Демаркационную линию после Брестского мира не определяли, поскольку грядущая мировая революция должна была уничтожить все границы, да и на зарубежные счета Троцкого она тоже никак не влияла…
Поэтому когда Щастный сообщил из Кронштадта об угрожавшей форту Ино опасности со стороны внезапно появившегося немецкого флота, Троцкий ответил, что никаких боевых действий предпринимать нельзя, но, если создавшаяся обстановка окажется безвыходной, необходимо взорвать форт.
Настоящие революционные товарищи, как, например, товарищ Раскольников или товарищ Крыленко, не задумываясь, исполнили бы приказ Льва Давидовича, приняв на себя всю ответственность…
А что сделал Щастный?
Он передал «условную директиву» Троцкого в форме его прямого приказа адмиралу Зеленому, и в Петрограде началась паника. По всему городу заговорили о тайном обязательстве со стороны советской власти перед немцами совершить взрыв форта Ино.
Да, это было провокацией, нацеленной не только против советской власти, но и против самого Льва Давидовича.
К тому же Алексей Михайлович усугубил свою вину, не пожелав, несмотря на прямой приказ Троцкого, вступить в переговоры с немцами.
А ведь, вступив в переговоры, Щастный бы спас себя.
Не столько нужно было Троцкому устанавливать демаркационную линию, сколько скомпрометировать капитана в глазах флота.
«Я формулировал приказ в письменном виде, — сообщил Л.Д. Троцкий 4 июня 1918 года следователю Виктору Кингисеппу. — Я особенно напирал на необходимость немедленно в тот же день приступить к переговорам с немецким командованием. Однако прошло несколько дней, а сведений Щастный по этому поводу не давал. На вторично поступившие запросы он приблизительно на шестой или седьмой день ответил, что Зеленый, находившийся в Гельсингфорсе, считает несвоевременным поднятие вопроса о демаркационной линии. И только. При этом Щастный не отзывал Зеленого, не предавал его суду, не начинал переговоров сам, а совершенно объективно, как если бы это было в порядке вещей, оповещал нас о том, что срочный приказ Высшего Военного Совета в течение недели не выполняется, потому что подчиненный Щастного считает это несвоевременным. Мое первоначальное впечатление, что Щастный отталкивает все, что может внести определенность в положение флота, сделать положение менее безвыходным, укреплялось»{57}.
Да-да… Капитан Щастный отталкивал все, что может внести определенность в положение флота и сделать его менее безвыходным. А представители английского Адмиралтейства снова сделали запрос Троцкому, почему не приняты необходимые меры для уничтожения Балтийского флота, хотя английское правительство и открыло, как это было договорено, счета на имя господина наркомвоенмора.
Щастный мог бы войти в положение своего непосредственного начальника, но не захотел. Когда Троцкий приказал создать на каждом корабле группу моряков-ударников, которые будут готовы уничтожить корабль, Щастный и тут начал перечить.
Чтобы поощрить матросов, Троцкий объявил, что Англия настолько заинтересована, чтобы суда не попались в руки немцев, что готова щедро заплатить тем морякам, которые возьмут на себя обязательство в роковую минуту взорвать суда. Он поручил сообщить по прямому проводу Щастному, что на имя моряков-ударников правительство вносит определенную сумму.
Троцкому казалось, что капитан наконец-то обрадуется его предложению и корабли будут благополучно, к общему удовольствию, взорваны, но Алексей Михайлович опять самым подлым образом обманул Льва Давидовича, переслав его предложение в совет флагманов и в Совкомбалт (Совет комиссаров Балтийского флота), «очень случайный, как считал Лев Давидович, по своему составу».
От себя Алексей Михайлович Щастный заявил, что считает антиморальным «подкуп» моряков для уничтожения родного флота.
Это особенно возмутило Льва Давидовича, и он даже не преминул сказать об этом в обвинительной речи. Не было сил молчать, ведь тогда по всему Балтийскому флоту пошли слухи о предложении советской власти расплатиться немецким золотом за уничтожение русских кораблей, хотя в действительности дело обстояло наоборот, и золото за уничтожение кораблей предлагали англичане!
Начальник морских сил Балтфлота А.М. Щастный был вызван в Москву и арестован 27 мая 1918 года по постановлению наркомвоена товарища Троцкого.
«Ввиду того, что бывший начальник морских сил Щастный вел двойную игру, с одной стороны, докладывая правительству о деморализованном состоянии личного состава флота, а с другой стороны, стремился в глазах того же самого личного состава сделать ответственным за трагическое положение флота правительство; ввиду того, что бывший начальник морских сил попустительствовал разлагающей флот контрреволюционной агитации преступных элементов командного состава, покрывал их, уклонялся от выполнения прямых распоряжении об увольнении и принимал явное участие в контрреволюционной агитации, вводя ее в такие рамки, в которых она казалась ему юридически неуязвимой; ввиду того, что бывший начальник морских сил не считался с положением об управлении морскими силами Балтики, беря на себя чисто политические функции, нарушая приказы и постановления Советской власти, — считаю необходимым подвергнуть бывшего начальника морских сил аресту и преданию его чрезвычайному суду, который должен будет рассмотреть все преступные действия бывшего начальника морских сил, имевшие место в условиях исключительно тяжких для флота и страны и поэтому тем более отягчающих вину лица, которому был вверен один из наиболее ответственных постов».
На следующий день Президиум ВЦИК вынес решение: «Одобрить действия Народного Комиссара по военным делам тов. Троцкого и поручить тов. Кингисеппу в срочном порядке произвести следствие и представить свое заключение в Президиум ВЦИК».
Дело Алексея Михайловича Щастного слушалось в Верховном трибунале республики 20 и 21 июня.
20 июня 1918 года на заседании немедленно созданного Верховного революционного трибунала Лев Давидович Троцкий одновременно выступал и свидетелем, и обвинителем.
«Товарищи судьи! — грозно сверкая очками, говорил он. — Я впервые увидел гражданина Щастного на заседании Высшего Военного Совета в конце апреля, после искусного и энергичного проведения Щастным нашего флота из Гельсингфорса в Кронштадт. Отношение Высшего Военного Совета и мое личное к адмиралу Щастному было в тот момент самое благоприятное, именно благодаря удачному выполнению им этой задачи.
Но впечатление, произведенное всем поведением Щастного на заседании Военного Совета, было прямо противоположное. В своем докладе, прочитанном на этом заседании, Щастныq рисовал внутреннее состояние флота крайне мрачными, безнадежными красками… (Какой ужас! Если бы об этом узнали англичане, они могли бы задаться вопросом, зачем им переводить деньги на счета товарища Троцкого за взрыв русского флота, если русский флот и так не представляет никакой опасности! — Н.К.)
Было совершенно очевидно, что Щастный сильно cueofk краски. В первый момент я объяснял его преувеличения желанием повысить свои заслуги. Это было не очень приятно, но не столь уж важно. (Деньги англичане все равно уже перевели. — Н.К.)
Когда же впоследствии оказалось, что Щастный всемерно пытался очертить столь же мрачно состоящие центральной Советской власти в глазах самого флота, то стало ясно, что дело серьезнее…
По вопросу об уничтожении судов Щастный держал себя еще более уклончиво, я бы сказал, загадочно, если бы разгадка его поведения не стала вскоре совершенно очевидной. Щастный не мог не понимать необходимости подготовительных к уничтожению мер, так как именно он — с явным преувеличением — называл флот железным ломом.
Но Щастный не только не предпринимал никаких подготовительных мер, — более того, он пользовался этим вопросом для терроризирования моряков и восстановления их против Советской власти…
Вы знаете, товарищи судьи, что Щастный, приехавший в Москву по нашему вызову, вышел из вагона не на пассажирском вокзале, а за его пределами, в глухом месте, как и полагается конспиратору? (Это единственное преступление, которое было доказано на следствии. — Н.К.)
После того как Щастный был задержан, во время объяснения с ним я спросил его: известно ли ему о контрреволюционной агитации во флоте? Щастный вяло ответил: “Да, известно”, но при этом ни одним словом не обмолвился о лежавших в его портфеле документах, которые должны были свидетельствовать о тайной связи Советской власти с немецким штабом. Грубость фальсификации не могла не быть ясна адмиралу Щастному.
Как начальник флота Советской России, Щастный обязан был немедленно и сурово выступить против изменнической клеветы. Но, на самом деле, он, как мы видели, всем своим поведением обосновывал эту фальсификацию и питал ее. Не может быть никакого сомнения в том, что документы были сфабрикованы офицерами Балтийского флота. Достаточно сказать, что один из этих документов — обращение мифического оперативного немецкого штаба к Ленину — написан в тоне выговора за назначение главным комиссаром флота Блохина, как противодействующего-де видам немцев.
Нужно сказать, что Блохин, совершенно случайный человек, был креатурой самого Щастного. (Так ведь немцы за это и выговаривали В.И. Ленину, что поставили не того человека. — Н.К.) Несостоятельность Блохина была совершенно очевидна, в том числе и для него самого. Но Блохин был нужен Щастному. И вот заранее создается такая обстановка, чтобы смещение Блохина было истолковано, как продиктованное немцами.
У меня нет данных утверждать, что эти документы составил сам Щастный; возможно, что они были составлены его подчиненными. Достаточно того, что Щастный знал эти документы, имел их в своем портфеле и не только не докладывал о них Советской власти, но, наоборот, умело пользовался ими против нее.
Тем временем, события во флоте приняли более решительный характер. В минной дивизии два офицера, по имени, кажется, Засимук и Лисиневич, стали открыто призывать к восстанию против Советской власти, желающей, якобы в угоду немцам, уничтожить Балтийский флот. Они составили резолюцию о свержении Советской власти и установлении “диктатуры Балтийского флота”, что должно было означать, конечно, диктатуру…»{58}
Лев Давидович на секунду прервал свое темпераментное выступление, обвел глазами членов трибунала и, остановив взгляд на капитане Щастном, врубил, как смертный приговор:
— Диктатуру адмирала Щастного!
Адмирал Алексей Михайлович Щастный, — очевидно, единственный в мире военачальник, которому было присвоено очередное звание в зале суда и за несколько мгновений до вынесения смертного приговора.
Подумал ли Троцкий об этом?
Едва ли… Просто он импровизировал перед революционным трибуналом, и ему показалось, что с точки зрения революционной целесообразности лучше расстрелять за контрреволюционные действия адмирала Щастного.
Это как-то солиднее звучало…
«В бумагах Щастного, — продолжал Троцкий, — найден конспект политического реферата, который он, по его собственным словам, собирался прочесть на упомянутом уже съезде морских делегатов. Реферат должен был иметь чисто политический характер с ярко выраженной контрреволюционной тенденцией.
Если перед лицом власти Щастный называл Балтийский флот железным ломом, то перед лицом представителей этого “железного лома” Щастный говорит о намерении Советской власти уничтожить флот в таком тоне, как если бы дело шло об измене Советской власти, а не о принятии меры, диктуемой в известных условиях трагической необходимостью.
Весь конспект с начала до конца, несмотря на всю внешнюю осторожность, есть неоспоримый документ контрреволюционного заговора. Щастный прочитал свой доклад в совете съезда, который постановил не допускать прочтения доклада на самом съезде.
На мой вопрос Щастному, кто же, собственно, просил его прочесть политический реферат (что никак не входит в обязанности командующего флотом), Щастный ответил уклончиво: он-де не упомнит, кто именно просил. Равным образом, Щастный не дал ответа на вопрос, какие собственно практические цели преследовал он, намереваясь читать такой доклад на съезде Балтийского флота.
Но эти цели ясны сами по себе. Щастный настойчиво и неуклонно углублял пропасть между флотом и Советской властью. Сея панику, он неизменно выдвигал свою кандидатуру на роль спасителя. Авангард заговора — офицерство минной дивизии — открыто выкинуло лозунг “диктатуры Балтийского флота”.
Это была определенная политическая игра — большая игра, с целью захвата власти. Когда же гг. адмиралы или генералы начинают во время революции вести свою персональную политическую игру, они всегда должны быть готовы нести за эту игру ответственность, если она сорвется. Игра адмирала Щастного сорвалась!»
Обвинение в подготовке контрреволюционного переворота было признано доказанным, и Алексей Михайлович Щастный был приговорен к расстрелу.
«Защитник Щастного присяжный поверенный В.А. Жданов, — писала газета “Знамя труда”, — десять лет назад защищал революционера Галкина. Тогда смертную казнь заменили Галкину каторгой. Вчера они встретились снова… Жданов защищал Щастного. Галкин сидел в кресле члена верховного трибунала. Щастного трибунал приговорил к смертной казни».
Это была первая смертная казнь по приговору при большевиках.
Первая ласточка грядущих судилищ.
До сих пор расстреливали только без суда, на месте преступления, под горячую руку…
Один из членов суда задал по этому поводу вопрос официальному обвинителю.
— Как же так? — сказал он. — Смертная казнь отменена…
— А мы не казним — мы расстреливаем! — ответил Крыленко.
Эсеры попытались собрать экстренное заседание ВЦИК, чтобы отменить приговор, но Яков Михайлович Свердлов воспротивился, и 22 июня 1918 года в шесть часов утра, не откладывая дела в долгий ящик, китайцы расстреляли 37-летнего «адмирала» во дворе Александровского юнкерского училища.
По слухам, Лев Давидович Троцкий лично присутствовал при расстреле, а когда Алексей Михайлович Щастный упал, приказал завернуть тело в брезент и закопать у дверей в своем рабочем кабинете в училище, чтобы и он сам, и любой его гость могли наступить ногою на непокорного адмирала.
Если это так, то несомненно, что и в убийстве, и захоронении Алексея Михайловича Щастного ритуала больше, чем революционной целесообразности.
Впрочем, может быть, это только слухи.
7
Принимала ли Петроградская ЧК участие в подготовке «разоблачения» и ликвидации капитана 1-го ранга Алексея Михайловича Щастного?
Ответить на этот вопрос не просто…
Хотя и понятно, что враг товарища Троцкого автоматически становился врагом Урицкого, хотя само собою разумеется, что не мог Моисей Соломонович не пособить своему гениальному благодетелю, но мы никакими свидетельствами об участии петроградских чекистов в «разработке» Щастного не располагаем…
Как явствует из документов, весь март и апрель 1918 года Моисей Соломонович был в основном озабочен укреплением собственного положения в городе, перешедшем под единоличное управление Григория Евсеевича Зиновьева[17].
Григорий Евсеевич, чтобы хоть как-то снять напряжение в отношениях с революционными моряками и матросами, стремился расширить представительство в своем правительстве левых эсеров и передал им несколько комиссариатов, в том числе и комиссариат внутренних дел, который возглавлял Моисей Соломонович Урицкий. Эсеры хотели получить под контроль и Петроградскую ЧК, так что Урицкому приходилось смотреть в оба — за эсерами и за товарищем Зиновьевым.
Еще Урицкий занимался реорганизацией на свой лад Чрезвычайной комиссии и подбором чекистских кадров… Все дела, которые вела Петроградская ЧК в эти недели, были связаны, так сказать, с самообслуживанием и становлением этой организации…
Тем не менее дело капитана Щастного, разумеется, не могло пройти мимо внимания Моисея Соломоновича…
Это надо же, как распоясался обнаглевший капитан!
Балтийский флот спас!
Если не пресечь со всей революционной строгостью подобного безобразия, русские, глядишь, возмечтают и Россию спасти!
Ну а этого — тут большевики были единомысленны! — допустить было никак нельзя.
Так или примерно так и рассуждал Моисей Соломонович Урицкий, готовя к защите дела революции весной 1918 года вверенную ему тт. Троцким и Дзержинским организацию.
И без особого риска ошибиться можно предположить, что, хотя Петроградская ЧК и не принимала прямого участия в «разработке» Щастного, именно это дело во многом и определило характер и специфику ее деятельности.
Во всяком случае, первое большое дело, так называемой «Каморры народной расправы», которое начал раскручивать Урицкий в мае 1918 года, как раз и ставило задачей очистить город от остатков русских национальных патриотических организаций.
Большие аресты среди деятелей «Союза русского народа» были произведены еще Александром Федоровичем Керенским, в бытность его вначале министром юстиции, а потом и главой кабинета министров, но Моисей Соломонович Урицкий собирался подойти к делу более радикально…
Для этого и налаживал он работу Петроградской ЧК. Заметим сразу, что начинать Моисею Соломоновичу Урицкому приходилось в условиях жесткого цейтнота.
Как, впрочем, и Григорию Евсеевичу Зиновьеву.
Они не могли не замечать, что антибольшевистская агитация, развернувшаяся среди оголодавших рабочих Петрограда, приобретает все более неприятный и отчасти даже антисемитский характер.
В марте в Петрограде было образовано «бюро по организации беспартийных рабочих». В своих воззваниях бюро обвиняло большевиков в разрушении экономики страны и 13 марта открыло первое собрание уполномоченных фабрик и заводов города. Это собрание приняло обращение к IV съезду Советов с требованием отстранить большевиков от власти…[18]
Собрание (правильнее было бы называть его конференцией) работало около месяца и выбрало организационный комитет для созыва всероссийского съезда уполномоченных от беспартийных рабочих и для подготовки всеобщей стачки, назначенной на 2 июля.
В Москве подобное мероприятие провести не удалось, потому что Феликс Эдмундович Дзержинский вовремя озаботился, чтобы для совещания уполномоченным фабрик и заводов были предоставлены помещения в подвалах на Лубянке.
В Петрограде Моисей Соломонович Урицкий повторить этот маневр не мог, в отличие от Москвы здесь не удалось пока «укоротить» матросов и солдат, и они явно склонялись сейчас на сторону протестующих рабочих.
Ссылаясь на протест, который был опубликован 18 июня 1918 года в газете «Возрождение», советские историки издевательски отмечают, что из 12 подписавшихся арестантов — трое (М.С. Камермахер-Кефали, А.Л. Трояновский, Г.Д. Кучин) входили в руководящие органы партии меньшевиков, Б.Я. Малкин — в организацию «Единство», а А.Д. Бородулин — в партию эсеров…
Можно было бы напомнить этим историкам, что и большинство большевиков, хотя они и говорили от лица пролетариев, тоже за станками никогда не стояли, но важнее тут другое. Большевиков и чекистов, в руки которых попали московские представители фабрик и заводов, наличие среди них профессиональных революционеров не позабавило, а напугало. Из-под них выдергивали опору — рабочий класс, на интересы которого и ссылались большевики в своей политике.
Видимо, в этом контексте и надо рассматривать так называемую эвакуацию, развернувшуюся в те недели в Москве и Петрограде. Считается, что весной 1918 года из Москвы и Петрограда выехало более полутора миллионов рабочих с семьями.
«Эвакуацию» подстегивал чудовищный голод.
К весне в Петрограде хлеба выдавали уже по 50 граммов на человека. Рабочие получали больше, но все равно — крайне недостаточно. Спасая от голодной смерти детей, они и покидали город.
Наверное, и Григория Евсеевича Зиновьева, и Моисея Соломоновича Урицкого печалил этот исход, но с другой стороны, они-то понимали, что среди миллиона эвакуированных было не так уж и много рабочих, которые бы ясно понимали, что главная задача советской власти заключается не в заботе о трудящихся, а исключительно в укреплении власти большевиков.
А может быть, в этом миллионе таких сознательных рабочих и вообще не было, потому что тот, кто понимал эту задачу, и хлеба получал не 50 граммов…
Так что не очень и жалко было этих… «эвакуированных»…
Очень точно описал равнодушие большевистских властей к судьбе эвакуированных рабочих Исаак Бабель…
«Несколько дней тому назад происходила “эвакуация” с Балтийского завода.
Всунули в вагон четыре рабочих семьи. Вагон поставили на паром и — пустили. Не знаю — хорошо ли, худо ли был прикреплен вагон к парому.
Говорят — совсем почти не был прикреплен.
Вчера я видел эти четыре «эвакуированных» семьи. Они рядышком лежат в мертвецкой. Двадцать пять трупов. Пятнадцать из них дети. Фамилии все подходящие для скучных катастроф — Кузьмины, Куликовы, Ивановы. Старше сорока пяти лет никого.
Целый день в мертвецкой толкутся между белыми гробами женщины с Васильевского, с Выборгской. Лица у них совсем такие, как у утопленников — серые»{59}.
Любопытно сопоставить эту зарисовку Исаака Эммануиловича Бабеля с его рассказом «Дорога», в котором он рассказывает о том, как ехал он в Петроград, как устраивался сюда на службу в Петроградскую ЧК.
«Наутро Калугин повел меня в ЧК, на Гороховую, 2. Он поговорил с Урицким. Я стоял за драпировкой, падавшей на пол суконными волнами. До меня долетали обрывки слов.
— Парень свой, — говорил Калугин, — отец лавочник, торгует, да он отбился от них… Языки знает…
Комиссар внутренних дел коммуны Северной области вышел из кабинета раскачивающейся своей походкой. За стеклами пенсне вываливались обожженные бессонницей, разрыхленные, запухшие веки…
Не прошло и дня, как все у меня было, — одежда, еда, работа и товарищи, верные в дружбе и смерти, товарищи, каких нет нигде в мире, кроме как в нашей стране…» (Выделено нами. — Н.К.){60}
8
Надо сказать, что служба писателя Исаака Эммануиловича Бабеля в Петроградской ЧК у Моисея Соломоновича Урицкого до сих пор вызывает некоторое замешательство у его биографов.
Поскольку до сих пор якобы не найдена первая тетрадь его дневника (вторая, с записями, касающимися службы Бабеля в Конармии, давно уже опубликована), биографы или вообще обходят вниманием этот период жизни писателя, или обозначают его запутанноторопливой скороговоркой: «Был солдатом на румынском фронте, потом служил в ЧК, в наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, репортером в Петербурге и Тифлисе».
Но как ни запутывай, а отмазать Бабеля от службы в Петроградской ЧК трудно, и прежде всего потому, что сам Н.Э. Бабель не только не скрывал своей службы у Моисея Соломоновича Урицкого, но гордился ею и даже описал ее.
«Не найти» этот рассказ не удалось, и сейчас предпринимаются попытки объявить его, а также другие литературные материалы Бабеля, так сказать, игрой фантазии, своеобразной мистификацией. Заголовок интервью со вдовой Бабеля, опубликованного в январе 1998 года, гласил: «Великий мистификатор Исаак Бабель».
К чести серьезных исследователей творчества Бабеля, нужно отметить, они сразу отвергли этот путь, заявив, что писатель «никогда не допускал мысли о возможности мистификации в реалистическом произведении. Действительно, он часто надевал маску чудака, но не мистификатора»{61}.
С этим надобно согласиться.
Если допустить, что в творчестве писателя содержатся элементы мистификации, многие его произведения потеряют обаяние подлинности, и что тогда останется, кроме «Одесских рассказов», сказать трудно.
Бабель всегда придавал особое значение точности деталей, и это значит, что и слова его о товарищах, каких нет нигде в мире, в рассказе «Дорога» никакая не мистификация, не для красоты стиля приведены, а заключают вполне определенный и конкретный смысл…
На первый взгляд это странно, конечно…
Ведь когда знакомишься с оригиналами следственных дел Петроградской ЧК, возникает ощущение, будто все подобранные Моисеем Соломоновичем Урицким сотрудники были отъявленными мерзавцами.
Но перечитываешь еще раз слова Бабеля, и ощущение странности развеивается.
Действительно, а в чем дело?
Ведь писатель не называет своих товарищей по ЧК какими-то гуманистами, не говорит, что сердца их наполнены благородством и человеколюбием, он не называет их даже добрыми и отзывчивыми на чужое страдание людьми, он говорит только, что они верны в дружбе и смерти.
Кроме этого, не совсем верно называть этих товарищей Бабеля по Петроградской ЧК мерзавцами и негодяями. Дело в том, что таковыми они были только в глазах петроградцев, которых они пытали и расстреливали, с которыми они «работали»… Сами же себя сотрудники Моисея Соломоновича Урицкого мерзавцами не считали.
Более того…
И сам Моисей Соломонович Урицкий, и его заместитель Глеб Иванович Бокий, и Владислав Александрович Байковский, и Иосиф Наумович Шейкман-Стодолин, и Иосиф Фомич Борисенок, и Иван Францевич Юссис, и Николай Кириллович Антипов, и Александр Соломонович Иоселевич — все они чувствовали в себе даже нечто рыцарское, благородное.
Как это совмещалось в них с палаческой подлостью, понять трудно, однако попытаемся сделать это на примере того же рассказа Исаака Эммануиловича Бабеля «Дорога».
Рассказ начинается сценой погрома поезда, в котором местечковые евреи спешат в Петроград.
«Трое суток прошло, прежде чем ушел первый поезд. Вначале он останавливался через каждую версту, потом разошелся, колеса застучали горячей, запели сильную песню. В нашей теплушке это сделало всех счастливыми. Быстрая езда делала людей счастливыми в восемнадцатом году. Ночью поезд вздрогнул и остановился. Дверь теплушки разошлась, зеленое сияние снегов открылось нам. В вагон вошел станционный телеграфист в дохе, стянутой ремешком, и мягких кавказских сапогах. Телеграфист протянул руку и пристукнул пальцем по раскрытой ладони.
— Документы об это место…
Первой у двери лежала на тюках неслышная, свернувшаяся старуха. Она ехала в Любань к сыну железнодорожнику. Рядом со мной дремали, сидя, учитель Иегуда Вейнберг с женой. Учитель женился несколько дней тому назад и увозил молодую в Петербург. Всю дорогу они шептались о комплексном методе преподавания, потом заснули. Руки их и во сне были сцеплены, вдеты одна в другую.
Телеграфист прочитал их мандат, подписанный Луначарским, вытащил из-под дохи маузер с узким и грязным дулом и выстрелил учителю в лицо.
У женщины вздулась мягкая шея. Она молчала. Поезд стоял в степи. Волнистые снега роились полярным блеском. Из вагонов на полотно выбрасывали евреев. Выстрелы звучали неровно, как возгласы. Мужик с развязавшимся треухом отвел меня за обледеневшую поленницу дров и стал обыскивать. На нас, затмеваясь, светила луна. Лиловая стена леса курилась. Чурбаки негнувшихся мороженых пальцев ползли по моему телу. Телеграфист крикнул с площадки вагона:
— Жид или русский?
— Русский, — роясь во мне, пробормотал мужик, — хучь в раббины отдавай…
Он приблизил ко мне мятое озабоченное лицо, — отодрал от кальсон четыре золотых десятирублевки, зашитых матерью на дорогу, снял с меня сапоги и пальто, потом, повернув спиной, стукнул ребром ладони по затылку и сказал по-еврейски:
— Анклойф, Хаим…
Я пошел, ставя босые ноги в снег. Мишень зажглась на моей спине, точка мишени проходила сквозь ребра. Мужик не выстрелил. В колоннах сосен, в накрытом подземелье леса качался огонек в венце багрового дыма. Я добежал до сторожки. Она курилась в кизяковом дыму. Лесник застонал, когда я ворвался в будку. Обмотанный полосами, нарезанными из шуб и шинелей, он сидел в бамбуковом бархатном креслице и крошил табак у себя на коленях. Растягиваемый дымом, лесник стонал, потом, поднявшись, он поклонился мне в пояс:
— Уходи, отец родной… Уходи, родной гражданин…
Он вывел меня на тропинку и дал тряпку, чтобы обмотать ноги. Я добрел до местечка поздним утром. В больнице не оказалось доктора, чтобы отрезать отмороженные мои ноги; палатой заведовал фельдшер. Каждое утро он подлетал к больнице на вороном коротком жеребце, привязывал его к коновязи и входил к нам воспламененный, с ярким блеском в глазах.
— Фридрих Энгельс, — светясь углями зрачков, фельдшер склонялся к моему изголовью, — учит вашего брата, что нации не должны существовать, а мы обратно говорим, — нация обязана существовать…
Срывая повязки с моих ног, он выпрямлялся и, скрипя зубами, спрашивал негромко:
— Куда? Куда вас носит… Зачем она едет, ваша нация?.. Зачем мутит, турбуется…
Совет вывез нас ночью на телеге — больных, не поладивших с фельдшером, и старых евреек в париках, матерей местечковых комиссаров.
Ноги мои зажили. Я двинулся дальше по нищему пути на Жлобин, Оршу, Витебск»…
Это начало рассказа, а заканчивается рассказ «Дорога» словами: «Так начиналась тринадцать лет назад превосходная моя жизнь, полная мысли и веселья».
Под рассказом «Дорога» дата: «1931 год». Бабель был тогда известным советским писателем — Троцкий, к примеру, назвал его единственным писателем, чьи произведения он читает с удовольствием…
И хотя Троцкий был тогда уже в эмиграции, партия берегла талант Бабеля.
Оставив в московской квартире 23-летнюю любовницу Тоню Пирожкову, Исаак Эммануилович едет в Париж посмотреть, как подрастает его дочь Наташа, по пути заскакивает в Берлин и Брюссель навестить маму Фейгу и сестру Мэри с мужем, потом отправляется на морской курорт.
С одной стороны, вроде бы надо порадоваться за такую красивую жизнь советского писателя Бабеля, но вспоминаешь, что происходило это в страшном 1933 году, когда голод косил в России и на Украине одну деревню за другой, когда люди вымирали целыми районами и областями, и становится жутковато от цены, которой оплачивалась превосходная, полная мысли и веселья жизнь…
И в 1935 году Исаак Эммануилович тоже провел лето за границей, рассказывая о счастливой жизни советских колхозников.
Но не одними только рассказами о счастливой колхозной жизни отрабатывал Исаак Эммануилович превосходную свою жизнь, полную мысли и веселья.
Однажды он поделился замыслом будущего романа с Дмитрием Фурмановым.
Секретарь Фурманова Александр Исбах так описывает этот эпизод:
«В тот день Бабель говорил Фурманову о планах своего романа “Чека”…
— Не знаю, — говорил Бабель, — справлюсь ли, очень уж я однобоко думаю о ЧК. И это оттого, что чекисты, которых знаю, ну… ну просто святые люди… И я опасаюсь, не получилось бы приторно. А с другой стороны не знаю. Да и не знаю вовсе настроений тех, кто населяет камеры, это меня как-то даже и не интересует. Все-таки возьмусь!..»{62}
Не в этих ли словах Бабеля и следует искать разгадку совмещения несовместимого в чекистских кадрах, выкованных Дзержинским и Урицким?
Ведь товарищами, да и просто людьми чекисты были лишь между собой.
А настроения тех, кто населял застенки, их просто не интересовали, потому что они этих людей и не считали за людей…
Повторяю, что Н.Э. Бабель не любил придумывать своих произведений, а в деталях и речевых характеристиках героев был реалистом высшей пробы. И уж если он считал, что можно писать роман о ЧК, даже не зная настроений «тех, кто населяет камеры», то, значит, и не было нужды в этом для правдивого описания работы чекистов.
Чекисты ведь работали не с людьми, а с «человеческим материалом», который для них уже не был людьми, как не были для него людьми и миллионы умирающих от голода русских и украинских крестьян, о счастливой жизни которых рассказывал Бабель в Париже.
Считается, что его роман «Чека» был изъят и уничтожен помощниками Лаврентия Павловича Берия, когда самого автора романа арестовали как любовника врага народа Евгении Соломоновны Хаютиной, жены бывшего генерального комиссара безопасности Ежова.
27 января 1940 года в превосходной, полной мысли и веселья жизни Исаака Эммануиловича была поставлена точка.
О страшном, но логическом финале жизни Исаака Эммануиловича Бабеля, когда его арестовали в Переделкино и когда он понял, что всевластные друзья, «товарищи, каких нет нигде в мире», уже не помогут ему, потому что сами превращены в «человеческий материал», с которым будут теперь работать другие, конечно, еще будет написано…
Ведь это не только Бабеля судьба.
Тот же Владислав Александрович Байковский, которому поручит Моисей Соломонович Урицкий вести дело «Каморры народной расправы», в 1923 году за принадлежность к троцкистской оппозиции из органов будет уволен.
Долгое время он работал в Барановичах управляющим отделением Госбанка и жаловался на здоровье — мучил заработанный на расстрелах в сырых подвалах ревматизм, расшатались нервы…
«За бюрократизм и нетактичность» в марте 1928 года Байковского понизили в должности, но потом — помогли, видно, «товарищи, каких нет нигде в мире», — он снова начал подниматься по служебной лестнице и в 1931 году попытался даже, как и его сотоварищ Бабель, выехать на загранработу.
Однако улизнуть Владиславу Александровичу не удалось.
В конце 1934 года НКВД затребовал характеристику на него. В характеристике было упомянуто и о троцкистской оппозиции, а также, между прочим, отмечено: пока не выявлено, участвовал ли В.А. Байковский в зиновьевской оппозиции. Поскольку характеристика эта — последний документ в личном деле сотрудника ВЧК—ОГПУ Владислава Александровича Байковского, без риска ошибиться можно предположить, что и этого ученика Моисея Соломоновича Урицкого постигла невеселая участь других чекистских палачей{63}…
Бабель называл чекистов святыми людьми.
Он очень хорошо описал эту «превосходную», «полную веселья» жизнь, которую устраивали «святые люди» из Петроградской ЧК в 1918 году. С затаенным, сосущим любопытством вглядывался он в лица расстреливаемых, пытаясь уловить тот момент, когда «человеческий материал» превращается в ничто, в неодушевленный предмет, называемый трупом.
И, конечно, представить не мог, что пройдет всего два десятка лет и новые исааки бабели и Владиславы байковские с затаенным, сосущим любопытством будут вглядываться уже в его лицо, потому что уже и он сам для них будет только «человеческим материалом»…
Не догадывался…
Эта мысль сильно бы омрачила его «полную веселья» жизнь…
Но — в этом и счастье их и беда! — такого сорта люди никогда почему-то не могут даже вообразить себе, что по правилам, заведенным ими для других людей, будут поступать и с ними самими.
9
Н.Э. Бабель, — безусловно, талантливый писатель, но все-таки сила его отчетов-зарисовок не только в писательском таланте.
Перечитываешь его зарисовку о «эвакуированных» семьях и понимаешь, что это не зарисовка, не отчет… В этих назывных предложениях ощущается тот мерный шаг смерти, который слышал Александр Блок в поступи двенадцати…
И вот…
Закрываешь глаза и видишь, как сотни тысяч петроградских и московских рабочих, учителей, инженеров, служащих движутся в поисках хлеба на юг, на Украину, а навстречу им идут, едут в теплушках обитатели черты оседлости с Украины, из Белоруссии, Польши, Молдавии, Прибалтики…
Как справедливо отметил Александр Кац: «Февральская революция дала евреям гражданские права, а Октябрьская их как бы подтвердила. Евреи со свойственной им энергией и деловитостью ринулись в советские учебные заведения, госучреждения, торговлю и промышленность».
«Еврей, человек заведомо не из дворян, не из попов, не из чиновников, сразу попадал в перспективную прослойку нового клана»{64} …
Эту тему конкретизирует А.И. Солженицын{65}:
«Особенно заметна роль евреев в продовольственных органах РСФСР, жизненном нерве тех лет — Военного Коммунизма. Посмотрим лишь на ключевых постах скольких-то.
Моисей Фрумкин в 1918—1922 — член коллегии наркомпрода РСФСР, с 1921, в самый голод, — зам. наркома продовольствия, он же — и председатель правления Главпродукта, где у него управделами И. Рафаилов.
Яков Брандербургский-Гольдзинский (вернулся из Парижа в 1917): сразу же — в петроградском продкомитете, с 1918 — в наркомпроде; в годы Гражданской войны — чрезвычайный уполномоченный ВЦИК по проведению продразвёрстки в ряде губерний.
Исаак Зеленский: в 1918—1920 в продотделе Моссовета, затем и член коллегии наркомпрода РСФСР. (Позже — в секретариате ЦК и секретарь Средазбюро ЦК.)
Семён Восков (в 1917 приехал из Америки, участник Октябрьского переворота в Петрограде): с 1918 — комиссар продовольствия обширной Северной области.
Мирон Владимиров-Шейнфинкель: с октября 1917 возглавил петроградскую продовольственную управу, затем — член коллегии наркомата продовольствия РСФСР; с 1921 — нарком продовольствия Украины, затем ее наркомзем.
Григорий Зусманович в 1918 — комиссар продармии на Украине.
Моисей Калманович — с конца 1917 комиссар продовольствия Западного фронта, в 1919—1920 — нарком продовольствия БССР, потом — Литовско-Белорусской ССР и председатель особой продовольственной комиссии Западного фронта. (На своей вершине — председатель правления Госбанка СССР)».
Своеобразной иллюстрацией отмеченной А.И. Солженицыным интервенции евреев в большие и малые продовольственные распределители может служить так называемое «Солдатское дело», которое расследовала Петроградская ЧК в марте 1918 года.
Случай был вопиющим.
Ведавший продовольствием помощник комиссара Нарвского района товарищ Бломберг воровал положенные красноармейцам продукты и кормил их гнилыми селедками.
Солдатам это не понравилось. В караулах они постоянно толковали, что «еврея Бломберга, помощника комиссара, команда ненавидела за его грубость и за постоянные угрозы. На пост помощника комиссара он выбираем никем не был»{66}.
Пресекая эти антисемитские разговоры, Бломберг в сопровождении пятидесяти верных людей явился в караул Варшавского вокзала и, обезоружив разговорившихся красноармейцев, отправил их в следственную комиссию. Сам же с помощниками остался в караульном помещении, чтобы отпраздновать победу, и потребовал прислать из казарм шесть женщин-красноармейцев, которые должны были быть у него вестовыми.
Узнав об этом, солдаты решили арестовать Бломберга. Собрание поручило взводному Ивану Разгонову произвести арест. Разгонов это поручение исполнил с превеликим удовольствием.
Каково же было его удивление, когда через несколько дней Бломберг, как ни в чем не бывало, снова появился в части.
«Многие говорили, что он появился, чтобы подорвать правильную жизнь команды, — показывал на допросе Иван Разгонов. — Я направился в канцелярию штаба, где он, Бломберг, находился. На мой вопрос, судили ли его, он ответил, что присудили его к 1 месяцу или 500 рублям штрафу. Я его спросил, почему не были вызваны из команды, он ответил, что свидетелями были две женщины Красной армии».
Иван Разгонов посоветовал тогда Бломбергу поскорее покинуть часть, поскольку вся команда возмущается.
Сопровождавший Бломберга чекист начал тогда расспрашивать, подчиняется ли товарищ Разгонов советской власти, и солдату-правдолюбцу пришлось оставить Бломберга в покое.
Впрочем, это ему не помогло.
На следующий день он был арестован. Вместе с ним арестовали Александра Ветрова, Петра Лункевича и еще шестерых красноармейцев.
Из показаний «председателя Красной армии Нарвского района» тов. А.И. Тойво видно, что в штабе придавали серьезное значение этому инциденту и не склонны были спускать его на тормозах.
«Разгонов состоял в Красной армии Нарвского района взводным 2-го взвода. В противовес Штабу был избран комитет, председателем коего первое время был Разгонов. За Разгоновым я замечал, что, когда он приходил к нам в штаб, то говорил одно, а придя в Штаб людям говорил совершенно другое. На одном из митингов мной был поставлен вопрос о признании советской власти, при чем при голосовании против этого был Разгонов и его товарищ Ветров.
Вообще Разгонов при каждом удобном случае играл на инстинктах массы и возбуждал таковую против Штаба, будучи постоянно пьяным.
19-го марта с.г. был в помещении Красной армии инцидент с Разгоновым, о котором мне доложил Шакура, член штаба. Я, получив заявление от Шакура, как председатель Штаба, созвал заседание Президиума, на котором, обсудив вопрос о действиях Разгонова, постановили его арестовать. Когда он был арестован и находился в комнате, занимаемой Президиумом, то в нее ворвались красногвардейцы в количестве шести человек с винтовками в руках и требовали от меня немедленно освободить Разгонова. Им в этом было отказано, и они были обезоружены и арестованы.
Вся деятельность Разгонова во время его нахождения в рядах Красной армии была направлена в дезорганизацию подчиненных ему масс, заключающейся отчасти в игре в карты, пьянстве, неподчинении и аготации (орфография протокола — Н.К.) против советской власти»{67}.
Следствие установило, что «аготация» против советской власти действительно имела место.
«На собрании Ветров произнес речь, в которой указал, что члены Штаба должны выбираться самой командой, кроме того он говорил о том, что пока в Штабе евреи, ничего хорошего нельзя будет добиться»{68}.
Аготация эта привела к тому, что некоторые солдаты отказывали евреям из штаба в праве на власть и заявляли, что будут подчиняться лишь власти, «являющейся представительницей беднейших классов».
Сколь бы незначителен ни был эпизод волнений, связанный с воровством Бломбергом солдатских продуктов, он как капелька воды отражает в себе все сложности и противоречия социальной обстановки того времени.
К весне 1918 года даже полупьяные красноармейцы начали соображать, кого они привели к власти. Постепенно открывалось им, что советская власть, представляемая Лениным, Троцким и другими большевиками, не является властью рабочих и крестьян, не защищает беднейшее население…
И то, что советская власть опирается теперь не на рабочих и крестьян, солдаты тоже понимали…
По ходу нашей книги мы будем приводить и другие примеры этой местечковой экспансии в управленческие и распределительные органы. Сейчас же скажем просто, что и в Петрограде, и в Москве, куда после 1917 года шел основной приток местечкового населения, евреи заняли практически все должности в городской администрации[19].
«Из обстоятельного справочника “Население Москвы”, составленного демографом Морицем Яковлевичем Выдро, — пишет Вадим Кожинов, — можно узнать, что если в 1912 году в Москве проживали 6,4 тысячи евреев, то всего через два десятилетия, в 1933 году, — 241,7 тысячи, то есть почти в сорок раз больше! Причем население Москвы в целом выросло за эти двадцать лет всего только в два с небольшим раза (с 1 млн. 618 тыс. до 3 млн. 663 тыс.)».
Любопытные данные приводит в своей книге Михаэль Бейзер. Он утверждает, что уже в сентябре 1918 года удельный вес евреев в петроградской организации РСДРП(б) составлял 2,6%, что соответствовало их доле в населении города, а вот среди членов горкома РКП(б) евреев было тогда 45%{69}.
Подчеркнем при этом, что речь идет только о евреях, официально объявивших себя евреями.
Что это значит?
Большевистская власть не сумела найти надежную опору ни в революционных солдатах и матросах, ни в петроградском и московском пролетариате.
Тогда большевики решили создать класс, на который будут опираться…
И они создали его…
И только этот класс местечковой администрации Москвы и Петрограда и мог поддержать их в том, что они собирались делать далее[20]…
Глава четвертая.
НАКАНУНЕ
Я уже несколько раз указывал антисемитам, что если некоторые евреи умеют занять в жизни наиболее выгодные и сытые позиции, это объясняется… экстазом, который они вносят в процесс труда…
Максим Горький
Мы больше… набили и наломали, чем успели подсчитать.
В.И. Ленин
В мае 1918 года большевики уже шесть месяцев находились у власти, а Гражданская война все еще не начиналась…
Нет-нет!
Уже возникли донские, кубанские, терские, астраханские правительства. Уже зазвучали имена Дутова и Краснова, а 13 апреля при неудачном штурме Екатеринодара осколком снаряда был убит генерал Лавр Георгиевич Корнилов, и тогда страна услышала имя Антона Ивановича Деникина. Он встал во главе Добровольческой армии…
8 мая добровольцы двинулись на Кубань. Пройдя форсированным маршем более сотни километров, бригады Богаевского, Маркова и Эрдели взяли на рассвете станции Крыловская, Сосыка и Ново-Леушковская. Взорвав бронепоезда, белогвардейские части отошли на Дон, уводя обозы с трофеями…
Но какими бы успешными (или неуспешными) ни были операции, проводимые Добровольческой армией, пока они происходили на крохотном пространстве и не оказывали серьезного влияния на общий ход событий.
1
Чтобы яснее представить мотивы, которыми руководствовались большевики весной 1918 года, нужно вспомнить, что, хотя Германия, перебросив на Западный фронт все освободившиеся на Восточном фронте дивизии, и достигла временного успеха, выдвинувшись к Марне, силы немцев были истощены и в конечном исходе войны мало кто сомневался…
Временное правительство сделало все, чтобы украсть у России победу, но все же именно большевики, разрушая русскую армию, сдали уже практически побежденной Германии Украину и гигантские территории России. Это именно большевики добились, чтобы Россия и Украина выплачивали немцам немыслимую контрибуцию.
Считается, что до падения кайзеровской Германии в ноябре 1918 года немцы успели вывезти из России 2 миллиона пудов сахара, 9132 вагона хлеба, 841 вагон лесоматериалов, 2 миллиона пудов льноволокна, 1218 вагонов мяса. Большевики компенсировали все убытки частных лиц немецкого подданства, выплатив Германии 2,5 миллиарда золотых рублей по курсу 1913 года…
Потери России от капитуляции в войне с Германией многократно увеличивались за счет той удивительной бесхозяйственности и разрухи, в которую обращали большевики все, к чему только прикасались.
Та малообразованная и малоспособная местечковщина, которую привлекли большевики, чтобы опереться на нее, для управления страной не годилась.
Очень точно деловые качества этого класса управленцев определил нарком Л. Красин, жалуясь Г. Соломону{70}:
— Насчет благородства здесь не спрашивай… Все у нас грызутся друг с другом, все боятся друг друга, все следят один за другим, как бы другой не опередил, не выдвинулся… Здесь нет и тени понимания общих задач и необходимой в общем деле солидарности… Нет, они грызутся. И, поверишь ли мне, если у одного и того же дела работает, скажем, десять человек, это вовсе не означает, что работа будет производиться совокупными усилиями десяти человек, нет, это значит только то, что все эти десять человек будут работать друг против друга, стараясь один другого подвести, вставить один другому палки в колеса, и, таким образом, в конечном счете данная работа не только не движется вперед, нет, она идет назад или в лучшем случае стоит на месте, ибо наши советские деятели взаимно уничтожают продуктивность работы друг друга…
Воровство как среди большевистской верхушки, так и на уровне местечковых управленцев царило невообразимое.
Но если еще в 1917 году что-то можно было списать на войну, то теперь, когда капитуляция Германии была не за горами, в сознании миллионов россиян неизбежно вставал вопрос: во имя чего отказалась Россия от своей победы?
За что она заплатила своей победой?
За разруху и голод, в который погрузили страну большевики?
Фронтовики-дезертиры успели позабыть, что сильнее большевистской агитации действовало на них желание спасти свои шкуры. Теперь, когда война завершалась, уже нетрудно было убедить вчерашних дезертиров, что они покинули фронт исключительно по вине немецких шпионов-большевиков.
В Петрограде чрезвычайную популярность в солдатской и матросской среде приобрели листовки, рассказывающие о сговоре большевиков с немцами. Опасность усиливалась тем, что эти слухи имели реальное подтверждение.
Со свойственным ему цинизмом Ленин выворачивал обвинения, доказывая, что не большевики, а русская буржуазия готова переменить свою политическую веру и от союза с английскими бандитами перейти к союзу с бандитами германскими против советской власти.
«Бушующие волны империалистической реакции… — говорил Ленин 14 мая на объединенном заседании ВЦИК и Московского совета, — бросаются на маленький остров социалистической Советской республики… готовы, кажется, вот-вот затопить его, но оказывается, что эти волны сплошь и рядом разбиваются одна о другую… Наша задача заключается в выдержке и осторожности, мы должны лавировать и отступать». (Выделено нами. — Н.К.).
И все же никакая изворотливость не способна была обеспечить выход из кризисной ситуации. У большевиков, собственно говоря, и не оставалось иного пути. Надо было утопить в крови Гражданской войны саму память о войне с Германией, о революции…
Многое было в эти дни сделано большевиками, чтобы перенести огонь классовой борьбы из противостояния трудящихся эксплуататорам в массы самих трудящихся, в противостояние городских жителей деревенским, рабочих — крестьянам.
15 мая 1918 года Всероссийский центральный исполнительный комитет издал декрет, который обязывал каждого владельца хлеба сдать весь излишек. Утаившие собственный хлеб объявлялись врагами народа. Для проведения декрета в жизнь в деревнях создавались комитеты деревенской бедноты, а в городах — продотряды.
И все равно, хотя страна, распавшаяся на множество республик и коммун, и погружалась под руководством большевиков в хаос, Гражданская война так еще и не начиналась.
Вот тогда «мирбаховский приказчик» — так называли Ленина — и сумел совместно с товарищем Троцким придумать воистину гениальный ход, чтобы, не откладывая, разжечь Гражданскую войну сразу по всей стране.
«Хотя у власти везде уже стояли большевики, но рыхлость провинции была еще очень велика. И немудрено. По-настоящему Октябрьская революция, как и Февральская, совершалась по телеграфу. Одни приходили, другие уходили, потому что это уже произошло в столице. Рыхлость общественной среды, отсутствие сопротивления вчерашних властителей имели своим последствием рыхлость и на стороне революции. Появление на сцене чехословацких частей изменило обстановку — сперва против нас, но в конечном счете в нашу пользу. Белые получили военный стержень для кристаллизации. В ответ началась настоящая революционная кристаллизация красных. Можно сказать, что только с появлением чехословаков Поволжье совершило свою Октябрьскую революцию…»
На это признание Лев Давидович Троцкий отважился, когда Иосиф Виссарионович Сталин лишил его места не только в партийном руководстве, но и в истории партии и СССР.
Такого поругания Троцкий с его гипертрофированным самолюбием перенести не смог, вот он и проговорился сгоряча, вот и разболтал то, о чем большевику-ленинцу положено было молчать…
2
Сейчас уже совершенно определенно можно утверждать, что чехословацкий мятеж фактически был спровоцирован самими большевиками…
Как известно, чехословаки были самыми ненадежными солдатами Австро-Венгрии и при первой возможности сдавались в плен, поскольку считали Россию более дружественной страной, нежели Австро-Венгрию, в состав которой входили.
Формирование чехословацких легионов началось в 1916 году, но на фронте трехдивизионный корпус появился уже после Февральской революции. Корпус отлично сражался во время летнего наступления Юго-Западного фронта в 1917 году.
Октябрьский переворот чехословацкие полки встретили достаточно индифферентно, но когда начались переговоры о мире, встревожились. Мирный договор предусматривал размен военнопленных, а в Австро-Венгрии солдаты и офицеры корпуса автоматически попадали за измену на виселицу[21].
Положение чехословаков усугублялось тем, что, пока Ленин и Троцкий вели в Брест-Литовске свою революционную игру, Украина, на территории которой размещался корпус, заключила сепаратный мир и признала все требования Германии и Австрии.
Через Киев чехословаки отошли в Россию и сосредоточились в Пензе.
Немедленно были форсированы переговоры со странами Антанты, и вскоре находящийся в Париже Чехословацкий национальный совет (председатель Томаш Масарик) принял решение о переброске корпуса во Францию.
Поначалу советское правительство поддержало это решение, и 21 марта — уже после заключения Брестского мира! — заявило о готовности вывезти 40-тысячный Чехословацкий корпус на Дальний Восток, откуда на пароходах стран Антанты можно было переправить чехословаков в Западную Европу.
Решение везти их во Владивосток, а не в Архангельск или Мурманск настораживало. Советское правительство явно пыталось затянуть эвакуацию корпуса. И можно было, конечно, объяснять это попыткой умиротворить немцев, заинтересованных, чтобы чехословаки попали на фронт как можно позже, но все же правильнее поискать тут чисто большевистский интерес…
Как бы то ни было, в середине мая чехословацкие эшелоны растянулись по всей длине сквозной железнодорожной магистрали от Пензы до Владивостока. Навстречу же им двигались эшелоны с военнопленными немцами и венграми. По замыслу стратегов, встретиться они должны были, обогнув весь земной шар, где-нибудь на Марне, но зачем же ждать так долго?
14 мая в Челябинске произошла первая крупная драка между чехословаками, пробирающимися во Владивосток, и венграми. Местный Совдеп, контролируемый австрийскими военнопленными, арестовал чехов, участвовавших в драке. Им грозил расстрел. Тогда весь чехословацкий эшелон взялся за оружие и силой освободил товарищей.
Они собирались двинуться дальше, но по приказу Льва Давидовича Троцкого эшелон был остановлен.
«Все Советы депутатов обязаны под страхом ответственности разоружить чехословаков. Каждый чехословак, найденный вооруженным на железнодорожной линии, должен быть расстрелян на месте. Каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный солдат, должен быть выгружен из вагонов и заключен в концлагерь…»
Мотивировался приказ тем, что Владивосток занят японцами, которые могут помешать погрузке чехословаков на корабли.
Объяснение подчеркнуто нелепое.
Непонятно, с какой стати японцы стали бы препятствовать, а главное — как сумели бы малочисленные японские подразделения остановить мощный (40 тысяч штыков) корпус регулярной, хорошо обученной армии, да к тому же составленной из людей, стремящихся избежать виселицы? Право же, если бы японцам и пришла в голову такая безумная идея, их просто смели бы в Японское море…
И мы уже не говорим о том, что даже если бы японцы и сумели остановить чехословаков, что за беда для большевиков? Там, на Дальнем Востоке, открылся бы еще один небольшой театр войны, на котором столкнулись бы между собой две чужеземные армии…
Видимо, и самим чехословакам забота, проявленная большевиками, показалась весьма подозрительной.
Оружие сдать они отказались.
Первая попытка насильно разоружить их была сделана в Пензе. Чехословаки ответили огнем, потом сами перешли в контратаку и нечаянно свергли в Пензе советскую власть.
Как огонек по бикфордову шнуру, вдоль железнодорожного пути, прорезавшего вдоль всю Россию, побежало восстание.
Утром 25 мая чешские части военфельдшера капитана Гайды взяли Мариинск, а вечером вступили в бой за станцию Марьяновка в 40 километрах от Омска. На следующий день бригада полковника С. Войцеховского заняла Челябинск и Новониколаевск, а еще через два дня капитан С. Чечек захватил Пензу и Саратов.
Это и был чехословацкий мятеж.
Но и этот открытый мятеж ничем еще не угрожал ни России, ни советской власти — чехословаки продолжали двигаться на восток.
7 июня С. Войцеховский взял Омск и через три дня соединился с эшелонами Гайды.
Большевикам, если бы они не хотели Гражданской войны, достаточно было ничего не предпринимать — восставшие чехословаки продолжали уходить к Владивостоку. Но Гражданская война была необходима, необходимо было начать ее сразу по всей территории России еще до капитуляции Германии, и большевики не упустили свой шанс.
С приближением чехословаков вспыхнуло вооруженное восстание в Самаре. Когда части С. Чечека захватили мост через реку Самару и входили в город, сами жители ловили на улицах большевиков и убивали их.
8 июня в Самаре, занятой белочехами, образовалось прави-тельство Поволжья — Комитет членов Учредительного собрания (КОМУЧ), а уже на следующий день, 9 июня 1918 года, советское правительство объявило об обязательной воинской службе[22].
Тогда же был образован Восточный фронт, задача которого заключалась на первых порах лишь в противодействии продвижению чехов к Владивостоку. Чехословацкие части оказались, таким образом, втянутыми в Гражданскую войну. Началась, как метко заметил Лев Давидович Троцкий, настоящая, революционная кристаллизация.
И это, когда дьявольский азарт революции постепенно стал стихать в народе…
3
«Настоящий момент русской истории… — звучали тогда голоса здравомыслящих, не равнодушных к судьбе России людей, — представляется куда более страшным, чем массовые убийства, грабежи и разбои, более страшным даже, чем Брестский мир. Ради Бога, тише!»
Петроградский митрополит Вениамин, прославленный сейчас Русской православной церковью как священномученик, сделал тогда распоряжение, чтобы во всех церквах в канун Великого поста было совершено особое моление с всенародным прощением друг друга.
А в ночь на саму Пасху Петроград стал свидетелем небывалого церковного торжества — ночного крестного хода. Ровно в полночь крестный ход вышел из Покровской церкви и двинулся по Коломне (район города). Тысячи людей с зажженными свечами шли следом по пустынным улицам. И навстречу вспыхивали окна в погруженных в темноту домах, и в ночном воздухе, словно вздох облегчения, издаваемый всем городом, звучали повторяемые тысячами голосов слова: «Христос Воскресе!»
Только под утро крестный ход возвратился в Покровскую церковь…
Возможно, что Церковь и теперь, в 1918 году, как и во времена Смуты, могла примирить страну. Еще бы немного времени, месяц-другой, и страна опомнилась бы от революционного дурмана, очнулась бы, стряхнула бы с себя хаос…
Увы…
История не знает сослагательного наклонения.
Все темные силы были употреблены тогда, чтобы не случилось того, что могло случиться…
На протяжении этой книги мы не раз цитировали отчеты-зарисовки чекиста Исаака Бабеля и отмечали их информационную точность. Отчет о визите в Петроград святителя Тихона в этом смысле стоит особняком.
А ведь вначале вроде бы отчет как отчет…
«Две недели тому назад Тихон, патриарх московский, принимал делегации от приходских советов, духовной академии и религиозно-просветительных обществ.
Представителями делегации — монахами, священнослужителями и мирянами — были произнесены речи. Я записал эти речи и воспроизведу их здесь:
— Социализм есть религия свиньи, приверженной земле.
— Темные люди рыщут по городам и селам, дымятся пожарища, льется кровь убиенных за веру. Нам сказывают — социализм. Мы ответим: грабеж, разорение земли русской, вызов святой непреходящей церкви.
— Темные люди возвысили лозунги братства и равенства. Они украли эти лозунги у христианства и злобно извратили до последнего постыдного предела»…
В принципе, тут можно было бы и остановиться. Материала вполне достаточно, чтобы идти и брать и самого святителя Тихона, и его петроградскую паству.
Но Бабель на этом не останавливается…
«Быстрой вереницей проходят кудреватые батюшки, чернобородые церковные старосты, короткие задыхающиеся генералы и девочки в белых платьицах.
Они падают ниц, тянутся губами к милому сапогу, скрытому колеблющимся шелком лиловой рясы (выделено нами. — Н.К.), припадают к старческой руке, не находя в себе сил оторваться от синеватых упавших пальцев…
Люди поднимают кверху дрожащие шеи. Схваченные тисками распаренных тел, тяжко дышащих жаром — они, стоя, затягивают гимны…
Золотое кресло скрыто круглыми поповскими спинами. Давнишняя усталость лежит на тонких морщинах патриарха. Она осветляет желтизну тихо шевелящихся щек, скупо поросших серебряным волосом»{71}.
И не в том беда, что писательская объективность изменяет тут Исааку Эммануиловичу и он путает святейшего патриарха с папой римским (это у него принято целовать туфлю), и не в том, что излишняя чекистская пристрастность делает Бабеля глуховатым к языку, одни только поднятые кверху дрожащие шеи чего стоят…
Но не это главное… Едва только начинают звучать «нетерпеливые» слова о возможности спасения России, которые «язвят слух» писателя-чекиста, так сразу мертвеет чекистский взгляд Бабеля.
Все, на что устремляется он, обращается в мертвь…
…Патриарх слушает «с бесстрастием и внимательностью обреченного»… А «за углом, протянув к небу четыре прямые ноги, лежит издохшая лошадь»… А на паперти «сморщенный чиновник жует овсяную лепешку… слюна закипает в углах лиловых губ»…
Был ли Бабель чекистом?
Вопрос вроде бы праздный, поскольку сам Бабель, как мы уже говорили, описал в рассказе «Дорога» свое устройство на службу к Урицкому…
И хотя никаких документов, подтверждающих работу Н.Э. Бабеля в Петроградской ЧК, найти пока не удается, это ни о чем не говорит, ибо работа первых чекистов документирована чрезвычайно плохо.
Многие документы в дальнейшем безжалостно изымались из архивов, а чекисты еврейской национальности к тому же настолько часто меняли свои имена и фамилии (тот же Исаак Бабель работал во время польского похода, записавшись Кириллом Лютовым), что проследить многие чекистские судьбы просто не представляется возможным.
Другое дело — сотрудничество Бабеля с либеральной «Новой жизнью».
Судя по публикациям, это Сотрудничество приходится на первую половину 1918 года…
В самом рассказе «Дорога» дата появления героя в Петрограде размыта.
Если герой рассказа «Дорога» приехал в Киев, чтобы оттуда отправиться в Петроград «накануне того дня, когда Муравьев начал бомбардировку городу», значит, отсчет его «дороге» следует вести с 25 января 1918 года, как раз с того дня, когда в Киеве у Печерской лавры неизвестными лицами был убит митрополит Владимир (Богоявленский).
Путь героя рассказа со всеми погромами и лазаретами занял от силы полтора месяца, и в марте он уже был в Петрограде, где сразу отправился в ЧК.
Даже если между приездом в Петроград и началом службы и оставался зазор, то небольшой. В любом случае Бабель начал работать в Петроградской ЧК при Урицком, то есть в промежутке между мартом и августом 1918 года, одновременно сотрудничая в либеральной газете.
Вот такое противоречие…
Или же никакого противоречия нет, а просто так и устраивалась ЧК, что и пропаганда, и карательные функции осуществлялись одновременно и одинаково провокационными методами.
Об этом свидетельствует «отношение председателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского в президиум Московского областного совета от 8 мая 1918 года», в котором Феликс Эдмундович ходатайствует о передаче в ВЧК всего дела борьбы с контрреволюционной печатью.
Точно так же было и в Петрограде.
Здесь главный комиссар по делам печати, пропаганды и агитации Северной коммуны Моисей Маркович Володарский и главный чекист Северной коммуны Моисей Соломонович Урицкий тоже делали одно дело.
Судя по отчету о святителе Тихоне, Исаак Эммануилович Бабель на них и равнялся, и в дальнейшем он, судя по воспоминаниям, сумел-таки стать настоящим чекистом, достойным Моисея Марковича Володарского и Моисея Соломоновича Урицкого, с которыми и начинал свою работу в органах.
4
Словно бы предваряя события организованного большевиками чехословацкого мятежа, 21 мая в Смольном прошло совещание, на котором комиссар по делам печати, пропаганды и агитации Моисей Маркович Гольдштейн, более известный под псевдонимом В. Володарский, докладывал о подготовке показательного процесса над оппозиционными газетами.
Добыть доказательства их контрреволюционности товарищ Зиновьев поручил Моисею Соломоновичу Урицкому.
Однако борьбой с контрреволюцией, как объяснил товарищ Зиновьев, задача Петроградской ЧК на данном этапе не должна была ограничиться…
Мы знаем, что Циркулярное письмо «Всемирного Израильского Союза» считало приоритетной задачей всех задействованных во властных структурах евреев сохранение единства российского еврейства.
Хотя Григорий Евсеевич Зиновьев, подобно товарищу Троцкому, евреем себя не считал, но проигнорировать предписание «Всемирного Израильского Союза» не мог. Перед гражданской войной, в крови которой должна была потонуть сама память о Первой мировой войне, необходимо было срочно найти путь объединения евреев, принадлежавших зачастую к враждебным партиям, дабы они не пострадали в гигантской, запускаемой большевиками мясорубке.
Как ни горько было признавать это Григорию Евсеевичу Зиновьеву, но Петроград тут явно отставал. Совет народных комиссаров города Москвы и Московской области еще в апреле опубликовал циркуляр «по вопросу об антисемитской погромной агитации» и «имеющихся фактах еврейского погрома в некоторых городах Московской области»{72}.
Циркуляр этот указывал на необходимость принять «самые решительные меры борьбы» с черносотенной антисемитской агитацией духовенства, и, хотя необходимость создания особой боевой еврейской организации и была отвергнута, Комиссариату по еврейским делам вместе с Военным комиссариатом было указано принять «предупредительные меры по борьбе с еврейскими погромами».
Разумеется, кое-что было сделано и в Петрограде.
Надо сказать, что Моисей Маркович Гольдштейн по указанию товарища Зиновьева уже начал нагнетать на страницах своей «Красной газеты» «антипогромную» истерию.
Еще 9 мая здесь была опубликована программная статья «Провокаторы работают»:
«За последнее время они вылезли наружу. Они всегда были, но теперь чего-то ожили… за последнее время они занялись евреями. Говорят, врут небылицы и, уличенные в одном, перескакивают на другое… Товарищи, вылавливайте подобных предателей! Для них не должно быть пощады».
А на следующий день «Красная газета» напечатала постановление Петросовета «О продовольственном кризисе и погромной агитации»:
«Совет предостерегает рабочих от тех господ, которые, пользуясь продовольственными затруднениями, призывают к погромам и эксцессам, натравливая голодное население на неповинную еврейскую бедноту».
Это по поводу колпинских событий, когда большевики впервые отдали приказ солдатам стрелять в голодных рабочих…
Но виноватыми были объявлены конечно же черносотенцы.
Об этом и возвестила 12 мая «Красная газета», вышедшая с шапкой на первой полосе: ЧЕРНОСОТЕНЦЫ, ПОДНЯВШИЕ ГОЛОВЫ… ПЫТАЮТСЯ ВЫЗВАТЬ ГОЛОДНЫЕ БУНТЫ…
Несведущему читателю может показаться нелепым пафос обличений Моисея Марковича Гольдштейна. Возмущение воровством и бездарностью чиновников из правительства Северной коммуны и продовольственной управы товарищ Володарский приравнивает к «натравливанию населения на еврейскую бедноту».
Однако, если вспомнить, что и в правительстве Северной коммуны, и в продовольственной управе, как это показано в работах А. Солженицына, М. Бейзера и других исследователей, основные должности занимали представители этой самой местечковой бедноты, тревога Моисея Марковича выглядит вполне обоснованной.
И по-своему, по-местечковому, товарищ Володарский был прав.
Любые сомнения в компетентности властей тогда действительно были обязательно направлены против евреев, и вполне могли быть приравнены к проявлениям махрового антисемитизма[23].
Повторим, что эта кампания «Красной газеты» осуществлялась с ведома Григория Евсеевича Зиновьева.
Выступая на митингах, он каждый раз подчеркивал, что «черносотенные банды, потерявшие надежду сломить Советскую власть в открытом бою, принялись за свой излюбленный конек» (выделено нами. — Н.К.).
Правда, тогда, в апреле, Григорий Евсеевич еще не терял надежду, что все можно уладить, и «наш товарищ Троцкий будет гораздо ближе русскому рабочему, чем русские — Корнилов и Романов»{73} …
Однако к 20-м числам мая и миролюбивому Григорию Евсеевичу стало совершенно ясно, что эти глупые русские отнюдь не собираются восторгаться новой властью только потому, что она составлена из евреев.
И все-таки, признавая приоритет московских товарищей, Григорий Евсеевич решил не останавливаться на одной только профилактике антисемитизма. Что толку от этой профилактики, если в Петрограде и некоторые евреи уже начинали роптать на большевистскую власть?
Хотя они и принадлежали к враждебным большевикам партиям, но они ведь были евреями и не должны были, как считал Григорий Евсеевич, использовать в политических целях промашки, которые допускали большевики, стремясь защищать привлеченных ими для распределения продовольствия местечковых жителей.
Эти тревожные мысли Григория Евсеевича довольно точно выразил В. Володарский в своей статье «Погромщики», опубликованной в «Красной газете» 12 мая…
«Я бросаю всем меньшевикам и с-рам обвинение:
Вы, господа, погромщики!
И обвиняю я вас на основании следующего факта:
На собрании Путиловского завода 8 мая выступавший от вашего имени Измайлов, занимающий у вас видное место, предлагавший резолюцию об Учредительном собрании и тому подобных хороших вещах, заявил во всеуслышание:
— Этих жидов (членов правительства и продовольственной управы) надо бросить в Неву, выбрать стачечный комитет и немедленно объявить забастовку.
Это слышали многие рабочие. Назову в качестве свидетелей четырех: Тахтаева, Алъберга, Гутермана и Богданова…
Я три дня ждал, что вы выкинете этого погромщика из ваших рядов. Вместо этого он продолжает свою погромную агитацию».
Увы!..
Евреи, стоящие у руководства меньшевиками и эсерами, не выкинули из своих рядов объявленного товарищем Володарским погромщика.
Вот тогда-то товарищу Зиновьеву и стало ясно, что одной профилактики антисемитизма уже мало. Надобно было встряхнуть разнопартийную массу соплеменников.
Особо Григорий Евсеевич не мудрствовал.
Еврейское единство он решил укреплять по испытанному рецепту, с помощью страха погромов… Поскольку погром организовывать было некогда, а идти на прямой подлог (что это за имеющиеся факты еврейского погрома в некоторых городах Московской области?) было недейственно, решено было организовать хотя бы процесс над погромщиками…
Поручение Григория Евсеевича Зиновьева не застало Моисея Соломоновича Урицкого врасплох.
Как раз накануне совещания, 20 мая, он отдал приказ об аресте руководителей бывшего «Союза русского народа» и других патриотических организаций, которых решил провести по делу «Каморры народной расправы»…
5
Моисей Соломонович Урицкий, как утверждалось в официальной биографии, «был человек своеобразной романтической мягкости и добродушия. Этого не отрицают даже враги его».
Еще биографы утверждают, что у Урицкого было врожденное чувство юмора…
Никаких сведений, подтверждающих мягкость и добродушие петроградского палача, мне не удалось обнаружить ни в воспоминаниях, ни в архивных документах. А вот насчет юмора, пожалуй, стоит согласиться с биографами. Моисей Соломонович действительно обладал тонким, неповторимым юмором.
В понедельник, 20 мая 1918 года, он нацарапал на клочке бумаги:
«Обыск и арест:
1. Соколова В.П.,
2. Боброва Л.Н.,
3. Солодова Г.И. М. Урицкий»{74}.
Несмотря на краткость сего произведения, оно немало способно рассказать как о самом Моисее Соломоновиче, так и о методах работы возглавляемого им учреждения.
Начнем с того, что записка, нацарапанная на клочке бумаги, собственно говоря, не только начинает все дело «Каморры народной расправы», но и содержит весь сценарий этого дела.
В списке подлежащих аресту лиц — три фамилии.
Леонид Николаевич Бобров — статистик Казанской районной управы, в прошлом председатель «Общества русских патриотов», кандидат в члены главного совета «Союза русского народа».
Виктор Павлович Соколов — председатель районного комитета Василеостровского союза домовладельцев, в прошлом — товарищ председателя «Союза русского народа», ближайший помощник А.И. Дубровина.
И, наконец, Георгий Иванович Солодов…
Не монархист, не член «Союза русского народа», но владелец квартиры, в которой проживал член «Союза русского народа», кандидат в члены Главной Палаты Русского Народного Союза имени Михаила Архангела Лука Тимофеевич Злотников.
Если бы фамилия Солодова в списке Урицкого была заменена на фамилию Злотникова, по сути дела, перед нами была бы структура будущей организации, так сказать, вновь возрожденного «Союза русского народа».
В.П. Соколов — руководитель, Л.Т. Злотников — идеолог, Л.Н. Бобров — заместитель по организационной работе…
Разумеется, речь идет не о существующей организации, а об организации, которая, по мнению Моисея Соломоновича, могла бы существовать.
А почему бы и нет?
Главное, что все трое очень подходили для подпольной погромной организации. Как сказал один из свидетелей по делу «Каморры народной расправы», Злотников «не скрывает своих взглядов настолько, что мне это даже казалось подозрительным, провокаторским»…
Разумеется, все сказанное — только предположение.
Но предположение, которое позволяет объяснить ход мысли Моисея Соломоновича Урицкого, набрасывавшего на клочке бумаги не просто план арестов, а сценарий будущего дела.
Отказываясь же от этого предположения, мы погружаемся в полнейшую бессмысленность. Совершенно необъяснимо, почему появляется под пером Моисея Соломоновича Урицкого фамилия Виктора Павловича Соколова, — ведь ни 20 мая, ни в ходе дальнейшего следствия не появилось даже намека на его причастность к изготовлению предписания, которое было главной уликой дела «Каморры народной расправы»…
Ну а как же, спросите вы, Солодов?
Ведь в списке стоит именно его фамилия, а не Злотникова…
О!
Вы-таки забыли о тонком и неповторимом юморе, которым так щедро был одарен Моисей Соломонович.
Замена фамилии Злотникова — чрезвычайно остроумная находка Моисея Соломоновича, и она лишний раз убеждает нас, что записка его — действительно сценарий будущего дела.
Дело в том, что кроме евреев в Петроградской ЧК работало немало поляков, латышей и эстонцев, которых Урицкий во все тонкости своего плана посвящать не собирался. У рядовых чекистов и сомнения не должно было возникать, что дело фальсифицировано.
Поэтому-то — отличным был педагогом Моисей Соломонович! — он доверил своим молодым подручным самим найти Злотникова.
В ордере № 96, выписанном в семь часов вечера 21 мая, Моисей Соломонович поручил товарищу Юргенсону провести обыск в квартире Солодова и произвести там «арест всех мужчин».
Злотникова, таким образом, Юргенсон все равно бы арестовал, но сделал бы это как бы и без указания Моисея Соломоновича…
Да…
Не напрасно Исаак Эммануилович Бабель так восхищался Моисеем Соломоновичем Урицким.
Вот, нацарапав на бумажке фамилии Соколова и Боброва, Моисей Соломонович поправил спадающее пенсне, заправил за ухо черный засалившийся шнурок, а потом встал и, переваливаясь с боку на бок на кривых ногах, подошел к окну…
Как писал Марк Алданов, который лично знал председателя Петроградской ЧК, Урицкий походил на комиссионера гостиницы, уже скопившего порядочные деньги и подумывающего о собственных номерах для приезжающих…
«Вид у него был чрезвычайно интеллигентный; сразу становилось совершенно ясно, что все вопросы, существующие, существовавшие и возможные в жизни, давно разрешены Урицким по самым передовым и интеллигентным брошюрам; вследствие этого и повисло раз и навсегда на его лице тупо-ироническое самодовольное выражение».
С этим тупо-ироническим самодовольным выражением и вглядывался Урицкий в исхудавшие лица петроградцев, стремящихся побыстрее прошмыгнуть мимо нацеленных на них из подъезда Петроградской ЧК станковых пулеметов.
Если бы не этот добрый взгляд, трудно было бы понять, чем промышляет Моисей Соломонович…
Но такими добрыми глазами смотрел на прохожих Урицкий, так мудро усмехался, представляя, как, волнуясь, будет докладывать ему товарищ Юргенсон о своей удаче — «случайном» аресте матерого погромщика Злотникова, что жутковато стало бы человеку, заглянувшему в это мгновение в кабинет председателя Петроградской ЧК, морозом пробирало бы по спине…
— А что? — Моисей Соломонович стащил с угреватого носа пенсне и пальцами помассировал распухшие веки. — А почему бы и нет? Почему не поощрить молодого товарища? Пусть он сам почувствует радость, которая охватывает чекиста, когда удается найти антисемитскую сволочь… Почему бы и нет?
И, вернувшись к столу, заваленному бумагами, Урицкий снова водрузил на угреватый нос пенсне и вписал вместо фамилии Злотникова фамилию Солодова.
Правда, подумав еще чуть-чуть, Моисей Соломонович приказал кликнуть секретного агента Г.И. Снежкова-Якубинского и наказал ему быть у Злотникова в день ареста, чтобы тот не улизнул куда-нибудь…
Г.И. Снежков-Якубинский приказ Моисея Соломоновича добросовестно выполнил. Согласно показаниям Л.Т. Злотникова, за четверть часа до обыска он явился к нему и «купил на четыреста рублей картин, деньги за которые, конечно, не заплатил».
Обыски и аресты в соответствии со сценарием, набросанным Моисеем Соломоновичем, начались в тот же день.
В одиннадцать часов вечера был выписан ордер на арест Виктора Павловича Соколова. На Средний проспект Васильевского острова чекисты приехали уже ночью и — первый сбой в сценарии! — Виктора Павловича не застали дома. Еще днем он уехал в Царское Село.
Чекисты арестовали его брата — Николая, а также сослуживца Николая Павловича, солдата Мусина, недавно демобилизованного по болезни из армии. Самого же Виктора Павловича чекисты так и не смогли найти…
Любопытно, что в этот день в «Красной газете» появилась такая статья:
«Нами получен любопытный документ оголтелой кучки черносотенцев…»
Далее полностью приводился текст «Предписания Главного штаба “КАМОРРЫ НАРОДНОЙ РАСПРАВЫ”…
6
Это было первое большое дело петроградских чекистов.
Следствие по делу этой «организации», которой никогда не существовало, хотя участники ее и заполнили городские тюрьмы, затянулось на долгие месяцы.
Более того…
Очень скоро дело «Каморры народной расправы» начало сплетаться с другими, гораздо более громкими и значимыми событиями.
Нет-нет…
Следствие по этому делу напрямую не связано ни с эсеровским мятежом в Москве, ни с так называемым заговором в Михайловском артиллерийском училище, ни тем более с расстрелом царской семьи в Екатеринбурге.
Но вместе с тем совершенно очевидно, что дело «Каморры народной расправы» повлияло на события летних месяцев 1918 года, и более того — именно оно и определило судьбу Моисея Володарского и Моисея Урицкого, с убийства которого и начинает официально отмеряться большая кровь красного террора.
Опираясь на документы следствия по делу «Каморры народной расправы», и попробуем мы рассказать, что же на самом деле обусловило введение красного террора в Советской России, о тех ужасах, которые породил он.
В предыдущей главе мы высказали предположение, что Циркулярное письмо «Всемирного Израильского Союза», копия с которого была обнаружена нами в материалах дела «Каморры народной расправы», распространялось среди следователей Петроградской ЧК как некая служебная инструкция, а после, перепутавшись по небрежности с бумагами следственных дел, попало на хранение в чекистский архив…
В пользу этого предположения свидетельствует и совпадение дат.
Копия с циркуляра, требующего «без жалости… уничтожить всех лучших и талантливейших… дабы лишить рабскую Россию ее просвещенных руководителей…», была снята 17 мая 1918 года. Материалы дела «Каморры народной расправы» неопровержимо свидетельствуют, что с 20-х чисел мая Моисей Соломонович Урицкий все силы Петроградской ЧК бросил именно на раскрутку дела, по которому предполагалось пропустить и по возможности ликвидировать все патриотически настроенное русское население Петрограда.
Задача была не простая, но Моисей Соломонович верил, что сумеет справиться с нею.
Фабула дела «Каморры народной расправы» несложна.
Считается, что 14 мая 1918 года, во вторник, Лука Тимофеевич Злотников якобы получил в фотоцинкографии Дворянчикова (Гороховая, 68) изготовленное по его заказу клише печати с восьмиконечным крестом в центре и надписью по обводу — «КАМОРРА НАРОДНОЙ РАСПРАВЫ…»
На адрес фотоцинкографии, которая находилась на одной с Петроградской ЧК стороне улицы, мы обращаем внимание, ибо показания владельца мастерской — едва ли не единственное свидетельство против Злотникова.
Получив печать, Лука Тимофеевич Злотников, как утверждало следствие, отпечатал на пишущей машинке несколько экземпляров прокламации такого содержания:
«ПРЕДПИСАНИЕ
ГЛАВНОГО ШТАБА “КАМОРРЫ НАРОДНОЙ РАСПРАВЫ”
ВСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ДОМОВЫХ КОМИТЕТОВ.
Милостивый государь!
В доме, в котором вы проживаете, наверное, есть несколько большевиков и жидов, которых вы знаете по имени, отчеству и фамилии.
Знаете также и №№ квартир, где эти большевики и жиды поселились, и №№ телефонов, по которым они ведут переговоры.
Знаете также, может быть, когда они обычно бывают дома, когда и куда уходят, кто у них бывает и т.д.
Если вы ничего этого не знаете или знаете, но не все, то “Каморра народной расправы” предписывает вам немедленно собрать соответствующие справки и вручить их тому лицу, которое явится к вам с документами от имени Главного штаба “Каморры народной расправы”.
Справки эти соберите в самом непродолжительном времени, дабы все враги русского народа были на учете, и чтобы их всех в один заранее назначенный день и час можно было перерезать.
За себя не беспокойтесь, ибо ваша неприкосновенность обеспечена, если вы, конечно, не являетесь тайным или явным соучастником большевиков или не принадлежите к иудиному племени.
Все сведения, которые вы должны дать, будут нами проверены, и если окажется, что вы утаили что-либо или сообщили неверные сведения, то за это вы несете ответственность перед “Каморрой народной расправы”.
Имейте это в виду»{75}.
Эту прокламацию, проштемпелеванную печатью «Каморры народной расправы», Л.Т. Злотников якобы раздал своим знакомым, а частично разослал по газетам.
Отметим, что предпочтение он отдавал большевистским, наиболее непримиримым к любому антисемитизму изданиям. В этих газетах и была — с соответствующими комментариями! — опубликована прокламация.
22 мая Л.Т. Злотникова арестовали, а в начале сентября расстреляли вместе с «подельниками»…
Вот, пожалуй, и все описание фабулы «дела» — как-то и язык не поворачивается назвать это делом! — «Каморры народной расправы».
Тем не менее дело «золотой» страницей вошло в историю органов ВЧК-ОГПУ-НКВД.
«Три дня потребовалось чекистам, чтобы установить автора этого гнусного документа. Им оказался Л.Т. Злотников, известный черносотенец-погромщик, бывший сотрудник газеты “Русское знамя” — органа помещичье-монархической партии “Союз русского народа” — и других правых газет. Духовный брат и последователь Пуришкевича, Злотников и был главным организатором “Каморры народной расправы”.
Финансировал погромную организацию миллионер B.C. Мухин. 22 мая по ордеру, подписанному Урицким, Мухин и другие контрреволюционеры были арестованы. На следствии выяснилось, что многие из них одновременно являлись членами монархического “Союза спасения Родины”, созданного под лозунгом восстановления “великой, единой и неделимой России”… Последнее обстоятельство наводит на мысль, что “Каморра народной расправы” была попросту одним из филиалов “Союза спасения Родины”»{76}.
Оставим на совести авторов включение «Каморры» в структуру беспартийного «Союза спасения Родины», который распался еще до Октябрьского переворота… Не будем обращать внимания и на то, что «Союз русского народа» никогда не был помещичьей партией, a B.C. Мухин — миллионером…
Важнее понять другое…
Ведь даже если мы и допустим, что автором прокламаций действительно был Л.Т. Злотников, a B.C. Мухин финансировал рассылку их, то все равно состав преступления вызывающе ничтожен.
И тем не менее делом «Каморры народной расправы» чекисты гордились.
В 1918 году, когда новый шеф Петроградской ЧК Глеб Бокий докладывал о нем на конференции чекистов, товарищ Зиновьев изволил даже пошутить по этому поводу.
— Товарищу Бокию, — сказал он, — придется ездить в Берлин, давать уроки по организации Чрезвычайной комиссии и созывать конференцию в мировом масштабе. Это вопрос будущего{77}.
Хотя, кто знает, может, и не шутил Григорий Евсеевич, может, и всерьез считал, что провокации, подобные этой, очень скоро будут проворачиваться не только в России, но и по всему миру…
7
Так кто же такой был Злотников, расстрел которого чекисты считали своей большой победой в деле охраны завоеваний Октября?
Лука Тимофеевич Злотников, художник, «тридцати девяти лет отроду, жительствующий по Николаевской улице» (нынешняя Марата), был человеком в Петрограде известным.
Он сотрудничал с газетами «Земщина» и «Вече», а еще до войны издавал журнал «Паук», выходивший под девизом «Антисемиты всех стран, соединяйтесь», провозглашая, что «Россия гибнет от двух главных причин: еврея и алкоголя»…
Понятно, что журнал такого направления создавал Луке Тимофеевичу известность определенного рода.
«Злотникова я знаю лишь по газетным сведениям, т.к. являюсь редактором-издателем газеты “Вечерняя почта”, — показывал Владимир Иосифович Шульзингер. — Могу сказать, что он является членом черносотенной организации “Союз русского народа” и к нам в редакцию его, как черносотенца, даже не впустили бы, если бы он пришел»{78}.
Но и в «черносотенных» организациях отношение к Злотникову не было однозначным. Членом Главной Палаты Русского Народного Союза им. Михаила Архангела Лев Алексеевич Балицкий, по сути дела, повторил слова В.И. Шульзингера, давая характеристику своему товарищу по движению:
«Злотникова кто не знает в Петрограде, это художник-антисемит, автор карикатур и открыток против евреев. Юдофобство — его стихия, и я думаю, что более широкие политические вопросы его не интересуют. Он не скрывает своих взглядов настолько, что мне это даже казалось подозрительным, провокаторским»{79}.
«За обедом у Лариных я встретилась с каким-то Злотниковым, которого мне представили как известного художника»{80}, — сообщила на допросе Анна Селивестровна Алексеева.
Из документов, приобщенных к делу, можно установить, что вырос Лука Тимофеевич Злотников в крестьянской старообрядческой семье, проживавшей в Витебской губернии. В девятнадцать лет поступил в Художественно-промышленную школу Общества поощрения художников. Закончив ее, уехал в Париж, где учился в Сорбонне, одновременно прирабатывая в парижских газетах.
Старообрядческое воспитание и учеба в Сорбонне — сочетание не самое привычное, а если добавить сюда еще очевидный талант и специфическую направленность интересов, то коктейль получится совсем чудной…
И понятно, что далеко не всем он был по вкусу.
Многих Злотников просто пугал…
«Что касается Злотникова, то живет он в одной со мной и Солодовым квартире и занимается тем, что рисует акварельные картины: пишет ли он что-нибудь — этого я не знаю, т.к. с ним совсем не разговариваю. В плохих отношениях с ним живет и Солодов»{81}.
«Злотникова я знаю лишь как квартиранта, ничего общего я с ним не имею, но могу сообщить кое-что о его деятельности. Когда он снял у меня комнату, которая была сдана ему прислугой, я, придя домой, счел необходимым с ним познакомиться, чтобы узнать, кто у меня живет. Когда я спросил о его деятельности, он ответил, что пишет картины, а кроме того сотрудничает в одной из газет. На мой вопрос, в какой именно, Злотников ответил, что это меня не касается. Из его разговоров по телефону мне удалось узнать, что Злотников работает в “Земщине”, а также в “Русском знамени” и “Грозе”. Присутствие Злотникова в моей квартире мне было нежелательно. Тем более что после убийства Распутина он поместил в “Новом времени” объявление, что в моей квартире продается портрет Распутина, и указал номер моего телефона…
Я просил Злотникова освободить комнату, но он не сделал этого, и я даже дважды подавал в суде иски о выселении его, но и это не увенчалось успехом, так как иски о выселении в военное время не всегда удовлетворялись»{82}.
Замешательство и отчуждение незнакомых людей, легко переходящее во враждебность, — психологически объяснимы.
Злотников был слишком опасным соседом…
Ведь и сейчас, перелистывая номера «Паука», порою ёжишься — так откровенны помещенные там статьи.
Наше воспитание таково, что любой человек, открыто объявивший себя антисемитом, сразу оказывается беззащитным для любой, даже и несправедливой критики, а любая попытка объективно разобраться в этом человеке тоже воспринимается как проявление антисемитизма…
Тем не менее рискнем это сделать.
Антисемитская направленность «Паука» очевидна.
Уже в пробном номере Л.Т. Злотников заявил:
«Недремлющее око Антисемита, изображенного на первой странице, будет вечно, беспристрастно и не отрываясь следить за всеми поползновениями, за всеми поступками, мыслями и преступлениями иудейского племени… Око Антисемита не закроется ни перед какими угрозами, ни перед какими проявлениями иудейского человеконенавистничества»{83} …
Установить путь, которым пришел Л.Т. Злотников к таким убеждениям, и как укрепился в них, трудно. Но то, что он сам был убежден в своей правоте, — очевидно. Он очень любил изображать в карикатурах «угнетенного» толстосумаеврея и «угнетателя» — нищего русского мужика.
Вероятно, именно с этого, еще с детских лет — Л.Т. Злот-ников родился в Витебской губернии — вынесенного ощущения и вырос его антисемитизм. Образование же не только не заглушило детских впечатлений, но, напротив, кажется, еще более укрепило их.
Как и многим, впервые столкнувшимся с «русско-еврейской» проблемой, Злотникову казалось, что именно ему и суждено указать на способ ее разрешения.
«Конечно, мы победим… — писал он в своем журнале. — Они сильны только нашей слабостью, а мы слабы только потому, что недостаточно объединены»{84}.
Можно спорить, насколько верно поставлен диагноз, но едва ли это имеет смысл. Прописанным Злотниковым рецептом никто, кажется, до сих пор и не воспользовался.
В том числе и сам Злотников.
На допросах в ЧК он откровенно признавался в этом:
«Ни в какой политической партии не состою, ибо считаю, что всякая партийная программа связывает свободу суждений того, кто в этой партии состоит…
Как урожденный крестьянин, чувствовавший на своей спине все тяготы, не могу сочувствовать тому строю, который существовал до революции или вернее до 1905 года, и разделяю мнение партий, стоящих ближе к народу, то есть демократических. Хотя по некоторым вопросам (аграрному и национальному) несколько отступаюсь и присоединяюсь к мнению партий более правых»{85}.
Показания даны в застенке ЧК, и у нас нет оснований подозревать Злотникова в сознательной корректировке своих политических воззрений — ведь именно такая позиция вызывала, как мы увидим, наибольшую неприязнь Урицкого и его подручных.
На первый взгляд уклончивость Злотникова даже раздражает.
Ишь ты… И демократии ему, видите ли, хочется, и политика предательства интересов русского народа в демократах тоже не устраивает…
Нет… Вы уж, батенька, определитесь, пожалуйста, чего вам желается. А то ведь, как у Гоголя получается: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича…»
Но несомненно и другое.
Только у нас в стране почему-то (айв самом деле — почему?) невозможно совмещение демократии с национальными интересами. Это только у нас, в России, уже второй раз на протяжении столетия с помощью так называемого общественного мнения удалось по разные стороны баррикады развести патриотизм и демократию…
Ни в Англии, ни во Франции такого произойти не могло…
Так что позиция Злотникова, не вмещающаяся в прокрустово ложе партийных программ, не только не страдает расплывчатостью, а, напротив, выглядит единственно возможной, поскольку она — естественна…
Все это важно для понимания того, что думал и чувствовал Лука Тимофеевич Злотников в мае 1918 года.
Мы видим, он был довольно умным, бесстрашным, но при этом по-своему очень совестливым человеком.
Открыто провозглашаемый им антисемитизм базировался на неприятии мифа об угнетении евреев, которым многие представители еврейской национальности довольно ловко пользовались в собственных интересах. Можно не соглашаться с категоричностью постановки проблем в «Пауке», но при всем желании нигде не найдешь там призывов к погромам, к уничтожению евреев, тем более физическому.
И вот теперь: «Предписание Главного штаба “Каморры народной расправы”…
Эта фраза: «…чтобы их всех в один заранее назначенный день и час можно было перерезать»…
Даже и не соглашаясь с позицией, из номера в номер заявляемой в «Пауке», все же трудно представить, что текст прокламации составлен тем же человеком, который редактировал этот журнал. Злотников не был столь кровожадным, а главное — столь неумным…
Редактируя журнал, он довольно отчетливо представлял себе своего читателя и очень точно адресовался к нему.
А кому адресована прокламация? Домовым комитетам, куда она почему-то не поступала?
Совершенно неясна и цель прокламации. Запугать евреев? Но едва ли человек, занимавшийся таким сложным производством, как выпуск журнала, не понимал, что сделать это с помощью нескольких листовок в огромном городе невозможно.
И опять-таки Злотников не мог не понимать, что такая прокламация выгодна прежде всего той большевистско-местечковой команде, против которой она и была направлена. Злотников не мог не знать, что эта листовка немедленно будет с соответствующими комментариями опубликована в большевистских газетах, куда, как установило следствие, он якобы и разослал большую часть «предписаний».
В чем же дело?
Неужели Л.Т. Злотников так поглупел, что не понимал элементарного?
Неужели так ослепила ненависть к евреям, что разум совсем покинул его?
Нет… Читаешь показания Злотникова и видишь: это по-прежнему умный и гораздо более, чем раньше, осторожный человек…
Безусловно, кому-то очень нужно было, чтобы Л.Т. Злотников и был автором прокламации. Он очень уж всей своей прежней деятельностью подходил для этой роли…
Но вот был ли он автором на самом деле?
Понимаю, что даже постановка вопроса кажется нелепой.
Уже на втором допросе Злотников сознался в авторстве. Кроме того, его уличают показания В.И. Дворянчикова, в фотоцинкографии которого он якобы заказывал печать «Каморры». Косвенно свидетельствуют против Злотникова и показания Л.Н. Боброва. Наконец, при втором обыске в комнате Л.Т. Злотникова нашли и печать «Каморры народной расправы».
Но эти доказательства только на первый взгляд кажутся бесспорными.
При более внимательном рассмотрении неопровержимость их становится эфемерной.
Начнем с признания…
Мы не случайно подчеркнули, что Злотников признался в авторстве только на втором допросе, 12 июня 1918 года, проведя в чекистском застенке уже три недели.
В руках чекистов «раскалывались», как известно из мемуарной литературы, и более мужественные люди. И трех дней было достаточно, чтобы выбить из бравого генерала признание в попытке прорыть туннель в Японию или, на худой случай, — на Мадагаскар.
Признание обвиняемого, данное в ходе следствия, не является бесспорным свидетельством вины. Это аксиома. Но особенно осторожно нужно относиться к признаниям, полученным в застенках ЧК.
Теперь о других доказательствах…
Итак, во вторник, 14 мая, Л.Т. Злотников получил в фотоцинкографии В.И. Дворянчикова изготовленное для него клише печати.
Факт подтверждается показаниями самого Василия Илларионовича Дворянчикова, который на допросе 8 июня заявил: «Относительно того, для какой цели он заказывал это клише, я не знаю и даже не поинтересовался этим при заказе»…
Странно, конечно, что Василий Илларионович даже не спросил, что это за организация, печать которой он изготовляет… Ведь все-таки в мае 1918 года борьба с контрреволюцией шла уже вовсю, и изготовлять печать для организации с названием «Каморра народной расправы», даже не поинтересовавшись, что это за организация, было, по меньшей мере, неосторожно. Едва ли Дворянчикова, как хозяина мастерской, могла прельстить лишь — кстати, весьма скромная — оплата заказа.
Видимо, следователь Байковский почувствовал, что этот момент надо как-то пояснить.
«Скорее можно было предположить, что Злотников хочет что-либо издать из эпохи Французской революции…»{86}, — ответил ему В.И. Дворянчиков.
Странно…
В центре печати был изображен восьмиконечный крест, который распространен у русских христиан и встречается, как правило, только в православном обиходе.
Конечно, В.И. Дворянчиков мог не разбираться в тонкостях церковных обрядов, но и вспомнить по ассоциации с православным крестом эпоху революции в католической Франции он тоже не мог. Ведь Василий Илларионович учился не в советской атеистической школе, а в прежней, где уроки Закона Божьего были обязательными для всех. Едва ли итальянское слово «Каморра» могло сбить его с толку.
Еще более странно само предположение, что Злотников хочет что-либо издать… Как это можно издать что-то с помощью печати?
Остается предположить только, что Василий Илларионович, говоря об «эпохе Французской революции», тонко пошутил.
Увы…
Подобное предположение еще более фантастично, поскольку оно не очень-то вяжется с человеком, облик которого обрисовывается по мере знакомства с материалами дела.
Среди бумаг, изъятых при обыске фотоцинкографии, есть замечательный рецепт:
«На одну с половиной бутылки воды — 1 фунт изюма, 14 кубиков дрожжей, 5 шт. гвоздики, 5 чайных ложек сахарного песку. Всё влить в бутылку, закупорить дырявой пробкой. Держать в теплом месте, пока не забродит и на дне не получится осадок. Потом слить и профильтровать».
Право же, этот рецепт, сохраненный чекистами в деле, более реалистично обрисовывает круг интересов владельца фотоцинкографии, нежели гипотеза о его бесстрашном и тонком юморе.
Нет…
Складывается впечатление, что Дворянчиков просто не видел никогда ни эскиза печати, ни изготовленного клише, только слышал с чьих-то — не следователя ли Байковского? — слов про текст, размещенный на печати. Вот тогда-то у не слишком образованного владельца цинкографии и могла возникнуть по ассоциации со словом «каморра» — Французская революция.
То, что Дворянчиков как-то был связан с ЧК, подтверждается и его дальнейшей судьбой.
По делу «Каморры народной расправы» было расстреляно семь человек, и все они, не считая Злотникова, за провинность — мы исходим сейчас из официальной, чекистской версии — куда меньшую, чем та, что совершил Дворянчиков, изготовив печать «погромной» организации. Леонида Николаевича Боброва расстреляли, например, всего за один экземпляр прокламации, якобы взятый у Злотникова. Дворянчикова же освободили, и даже мастерскую, где изготовлялись документы «погромщиков», не закрыли.
Эти два факта — незнание, как выглядит печать, и такое не по-чекистски гуманное разрешение судьбы обвиняемого — и заставляют нас усомниться в показаниях владельца фотоцинкографии, позволяют предположить, что говорил он не о том, что было на самом деле, а о том, что хотели услышать от него чекисты, о том, что нужно было им услышать.
Но пойдем дальше…
Получив печать в фотоцинкографии, Злотников — мы продолжаем излагать чекистскую версию! — отпечатал на пишущей машинке предписание.
Своей машинки у Злотникова не было, и машинку чекисты тоже пытались найти.
Однако и тут у них что-то не получилось.
Единственное показание на сей счет дал Ричард Робертович Гроссман, как и Злотников, квартировавший у Солодова:
«Месяцев около трех тому назад Злотников брал однажды пишущую машинку у жившей в той же квартире гр. Некрасовой и пользовался этой машинкой два дня»{87}.
Некрасова уже выехала из Петрограда; разыскать ее пишущую машинку не удалось, но следователя Байковского вполне устроил вариант, по которому получалось, что Злотников отпечатал свое предписание еще в феврале 1918 года и только ждал, пока будет изготовлена печать, чтобы, проштамповав прокламации, разослать их по редакциям большевистских газет.
Интересно, что некоторые «исследователи» обратили внимание на эту неувязку следствия и по-своему решили заполнить пробел:
«Было установлено, что текст воззваний и предписаний “Каморры народной расправы” отпечатан на пишущей машинке, принадлежащей статистическому отделу продовольственной управы 2-го городского района, находящейся на Казанской улице, 50»{88}.
Не будем обращать внимания на множественное число, не слишком удачно употребленное авторами исследования. Из материалов дела явствует, что группой Злотникова было выпущено одно-единственное предписание и никаких иных «воззваний и предписаний» следствию обнаружить не удалось.
Не так уж важно и то, что предположение о перепечатке прокламации на машинке, принадлежащей продовольственной управе, никакими документами не подкреплено.
Существеннее другое…
Трудно придумать себе что-либо более нелепое, чем перепечатка листовки откровенно антисемитского содержания в учреждении, где большинство сотрудников были евреями.
Следствие утверждало, что отпечатанные прокламации Л.Т. Злотников разослал по редакциям, а несколько штук раздал знакомым. Одну прокламацию вручил Л.Н. Боброву, а другую — его спутнику, Г.И. Снежкову-Якубинскому.
«Возвращаясь с обеда в ресторане, куда я был приглашен Г. Снежковым, мы были остановлены возгласом Злотникова, который знал нас обоих: “Здравствуйте, товарищи!” По происшедшем разговоре Злотников дал нам по экземпляру прокламации о Каморре народной расправы, совпадающей по содержанию с теми, которые были в газетах» (показания Л.Н. Боброва).
Леонид Николаевич Бобров, судя по тому, как держался он на допросах, производит впечатление исключительно честного и благородного человека. И его свидетельство, на наш взгляд, изобличало бы причастность Л.Т. Злотникова к прокламации гораздо убедительнее, чем выбитые на допросах признания самого Злотникова.
Но Леонид Николаевич действительно очень порядочный человек, и, будучи вынужденным дать показания, он делает это со свойственной ему щепетильностью. Он добавляет, что взял прокламацию, «не желая сконфузить» Злотникова.
«Я не раскрыл даже и не посмотрел данный экземпляр. Такой же экземпляр получил мой спутник Г.И. Снежков-Якубинский, который пересказал его содержание»{89}.
Читателю может показаться, что я совершаю ошибку — торможу повествование, задерживаясь на несущественных деталях.
Это не так.
Детали, о которых мы говорим сейчас, — единственные улики против Злотникова. И оценить их достоверность необходимо…
Итак, из показаний Л.Н. Боброва мы узнаем, что в воскресенье, 19 мая 1918 года (в день 50-летия Николая II), Лука Тимофеевич Злотников вручил Боброву и его спутнику Г.И. Снежкову-Якубинскому какие-то прокламации. Бобров засунул свой экземпляр в карман, а затем, даже не ознакомившись с содержанием прокламации, выбросил ее. О содержании предписания он узнал от Снежкова-Якубинского.
Этот Снежков-Якубинский, как явствует из ряда показаний, был секретным сотрудником Петроградской ЧК. Кстати, об этом свидетельствует и тот факт, что, в отличие от Боброва, Снежков не только не был расстрелян, но его и не арестовали, и даже не допрашивали.
Значит, Леонид Николаевич Бобров узнал, что врученная ему прокламация является опубликованным во всех большевистских газетах предписанием «Каморры народной расправы», со слов сотрудника ЧК. И узнал тогда, когда уже выбросил прокламацию и не мог сверить тексты… Вот об этом, и ни о чем ином, припертый «признанием» самого Злотникова, и сообщил Бобров следователю Байковскому на допросе.
Отметим также, что чрезвычайно странен сам факт распространения антисемитской и антибольшевистской прокламации таким — из рук в руки! — образом. Особенно странно то, что Злотников совершает это явно самоубийственное деяние 19 мая, когда прокламация эта уже была напечатана в газетах «Петроградская правда» и «Вечер Петрограда».
«Вечер Петрограда» опубликовал прокламацию под заголовком «Каморра народной расправы» подготавливает еврейский погром»:
«За последние дни в связи с усилившейся антисемитской агитацией в Петрограде председателям домовых комитетов рассылаются особые предписания Главного штаба “Каморры народной расправы”… Под этим предписанием имеется круглая печать с надписью “Каморра народной расправы”. В центре — большой семиконечный крест (выделено нами. — Н.К.).
К предписанию приложен особый листок следующего содержания:
“От Главного штаба Каморры народной расправы. Презренный сын Иуды, дни твои сочтены. За квартирой твоей нами ведется неустанное наблюдение. Каждый твой шаг известен нам. Прислуга твоя, дворники и швейцары дома, в котором ты живешь, состоят членами Каморры народной расправы и поэтому все, что бы ты ни делал, известно нам. Все твои знакомые и родственники, у которых ты бываешь или которые у тебя бывают и с которыми ты разговариваешь по телефону, известны нам, и их постигнет такая же участь, какая постигнет и тебя, т.е. они будут безжалостно уничтожены.
Презренный сын Иуды, дни твои сочтены и скоро грязная душа твоя вылетит из смрадного своего обиталища. Беги без оглядки, пока не поздно, и не оскверняй воздух своим дыханием. Дни твои сочтены”».
Точно такой же текст «Петроградская правда» поместила под заголовком «Черная сотня за работой»…
Вот и возникает вопрос: зачем нужно было Злотникову распространять уже опубликованные прокламации?
И, наконец, последняя улика — печать «Каморры народной расправы», которую при втором обыске нашли в комнате Л.Т. Злотникова… Печати, естественно, в архиве нет, нет и контрольных оттисков с нее. Сохранилось изображение печати лишь на единственном, подшитом к делу тексте предписания…
Но это попутные замечания.
Главное заключается в том, что печать нашли в комнате Злотникова не при аресте его, хотя тогда и производился обыск комнаты, а неделю спустя, когда в комнате Злотникова успело побывать несколько секретных и несекретных сотрудников Петроградской ЧК, которые, как нам представляется, и подложили ее…
Вот и все улики, на которых строилось доказательство вины Л.Т. Злотникова. Улики, которые в любом суде были бы сразу поставлены под сомнение…
Мы с вами, дорогие читатели, не судьи, и послать «дело» Злотникова на доследование у нас нет возможности. Тем не менее, хотя по-прежнему тяготеет над Лукой Тимофеевичем Злотниковым, и после расстрела, это обвинение, мы должны признать, что доказанным оно считаться не может.
8
Вернувшись с совещания в Смольном, Моисей Соломонович Урицкий в три часа дня выдал Иосифу Наумовичу Шейкману (Стодолину) ордер на обыск в письменном столе статистика Казанской продовольственной управы Леонида Николаевича Боброва.
Одновременно Шейкман должен был и арестовать Боброва.
Леонида Николаевича на работе не оказалось, и обыск сделали без него.
Точной описи изъятого Шейкман не составлял.
Среди бумаг, найденных у Боброва, — письма, программа беспартийного «Союза спасения Родины», стихи…
Так и видишь, как по-доброму щурился Моисей Соломонович Урицкий, перечитывая эти стихи, — он не ошибся в выборе организатора погромщиков.
Передав бумаги Леонида Николаевича следователю Владиславу Александровичу Байковскому — двадцатитрехлетнему поляку, накануне, 20 мая, принятому в Петроградскую ЧК, Моисей Соломонович с легким сердцем и «добрыми глазами» подписал ордер на арест «всех мужчин» в квартире Солодова и в конторе по продаже недвижимости, где также подрабатывал Бобров.
На Николаевскую улицу — в квартиру Солодова — поехал товарищ Юргенсон, а на Невский проспект — товарищ Апанасевич.
Было восемь часов вечера…
Как мы уже говорили, сотрудник ЧК, загадочный Г.И. Снежков-Якубинский, который выдавал себя иногда за члена Совета рабочих и солдатских депутатов, иногда за директора фабрики, а то так и за владельца шоколадной, выполняя поручение Моисея Соломоновича Урицкого, добросовестно пас Л.Т. Злотникова перед арестом.
Он отобрал у Злотникова на четыреста рублей картин, но главного поручения — подложить печать «Каморры народной расправы» — выполнить не сумел. То ли замешкался, рассматривая картины, то ли Злотников что-то почувствовал и уже не отходил от «директора двух фабрик и шоколадной», но товарищ Юргенсон, производивший обыск в комнате Злотникова, так ничего и не обнаружил.
Забрав всю переписку Злотникова, он начал оформлять «арест всех мужчин». И вот тут-то и начались совсем уж чудные происшествия, никак не вмещающиеся в реалистическое повествование.
Как явствует из протокола обыска, «на основании ордера № 96 от 21 мая задержаны граждане: Злотников, Гроссман, Раковский, Рабинов…»
Однако из показаний Ричарда Робертовича Гроссмана мы узнаем, что его арестовали в другой день и в другом месте: «Когда был арестован мой хороший знакомый и приятель Солодов, я зашел на Гороховую, чтобы справиться о положении дел Солодова, и, совершенно ничего не зная, был арестован и посажен в число хулиганов и взломщиков, не чувствуя за собой никакой вины»{91}.
Что же получается? Или протокол обыска товарищем Юргенсоном составлялся на следующий день после обыска, или вместо Гроссмана был арестован кто-то другой, назвавшийся соседом Злотникова — Гроссманом…
Еще более любопытны обстоятельства ареста Леонида Петровича Раковского.
Раковский — человек весьма темный и загадочный.
До революции он совмещал журналистскую деятельность с работой осведомителя, не гнушаясь при этом и шантажом.
Чекистам о сотрудничестве Раковского с охранкой стало известно из показаний З.П. Жданова, но на судьбе Леонида Петровича это разоблачение никак не отразилось. Вскоре он был отпущен с миром, хотя и Злотников подтвердил в своем «признании», что Раковский знал о «Каморре», знал, где находится печать, и т.п.
Это, конечно, наводит на размышления…
Казалось бы — секретный сотрудник охранки, посвященный в дела тайной погромной организации… Это ли не находка для чекистов?
И вот такого человека отпускают на свободу.
Объяснить это можно только тем, что Леонид Петрович Раковский сотрудничал и с Петроградской ЧК…
Но понятно и другое — товарищ Юргенсон, проводивший обыск, об этом не знал, как не знал и о том, что все дело «Каморры народной расправы» сочинено Моисеем Соломоновичем…
Судьба товарища Юргенсона печальна.
Использовав его «втемную» на провокации с «Каморрой народной расправы», через несколько недель Урицкий перебросит товарища Юргенсона на организацию убийства своего друга, Моисея Марковича Гольдштейна (Володарского).
В этом деле товарищ Юргенсон будет действовать еще более неуклюже, чем при обыске у Злотникова, за это вскоре и будет расстрелян по приказу кривоногого шутника из Петроградской ЧК…
Впрочем, это произойдет потом, а пока, выяснив, что товарищ Юргенсон не только не сумел отыскать печать «Каморры», но еще сумел и арестовать двух сексотов, Моисей Соломонович сильно огорчился.
Он понял, что немножко перемудрил со Злотниковым.
Ну да и что ж?
Как говорится у этих русских, первый блин-таки комом…
Засучив рукава, товарищ Урицкий принялся наверстывать упущенное.
Алексей Максимович Горький, выдающийся борец за права евреев, не мог не откликнуться на публикацию в газетах листовки «Каморры народной расправы».
В своей статье, посвященной «Каморре», он писал: «Я уже несколько раз указывал антисемитам, что если некоторые евреи умеют занять в жизни наиболее выгодные и сытые позиции, это объясняется их умением работать, экстазом, который они вносят в процесс труда…»
Очень точные слова нашел Алексей Максимович.
Только так и можно объяснить бурную деятельность, которую развил в тот вечер Моисей Соломонович.
В 22 часа 45 минут он направил товарища Апанасевича произвести «арест всех мужчин в квартире гр. Аненкова». Номер этого ордера — 102{92}.
Товарищу Юргенсону, напомним, был выдан ордер № 96.
Семь ордеров на аресты за три часа сорок пять минут!
Воистину, это, как сказал бы товарищ Горький, экстаз, привносимый в процесс труда!
Для справки отметим, что 20 и 21 мая налетчиками только в Петрограде, как утверждала газета «Знамя борьбы», было украдено полтора миллиона рублей, а налеты на квартиры стали в городе обычным делом…
На следующий день, как мы и говорили, прокламация «Каморры народной расправы» с соответствующими комментариями Моисея Марковича Володарского была напечатана в «Красной газете».
Моисей Соломонович в этот день появился на Гороховой уже после обеда.
Ордер № 108, выданный в 12.30, подписывал заместитель Урицкого — Бокий, а ордер на арест Леонида Николаевича Боброва и конечно же «всех мужчин, находящихся в его квартире», выданный в 13.00, — уже сам Моисей Соломонович.
Где он пропадал с утра, станет понятно, если мы вспомним, что этот день, 23 мая, был объявлен днем национального траура евреев. И хотя в Петрограде еврейских погромов еще не было, но и здесь скорбели широко и торжественно…
«Во всех еврейских общественных учреждениях, школах, частных предприятиях работы были прекращены, — сообщает “Вечер Петрограда”. — В синагогах были совершены панихиды по невиновным жертвам погромов. Состоялись также собрания, митинги, на которых произносились речи и принимались резолюции протеста против погромов»{93}.
И хотя Петроградскую ЧК вполне можно было считать «еврейским общественным учреждением», но все же Моисей Соломонович не мог позволить себе прервать ее работу. Поскорбев на панихиде, он вернулся в свой кабинет на Гороховой, чтобы попытаться «остановить торжество надвигающейся реакции» не словами, а делом.
Кроме Боброва в этот день арестовали и председателя Казанской районной продовольственной управы, где работал Бобров, Иосифа Васильевича Ревенко. А поздно вечером арестовали и «миллионера» В.П. Мухина.
Так получилось, что практически все арестованные 23 мая, в том числе и Бобров, и Ревенко, и Мухин, были потом расстреляны, но, видимо, с днем национального траура евреев это уже никак не связано…
А Моисей Соломонович Урицкий, разумеется, спешил.
Должно быть, он считал, что костяк «погромной» организации полностью сформирован им, потому что 24 мая аресты по делу «Каморры народной расправы» уже не проводились.
24 мая следователь Байковский приступил к допросам.
Это было первое дело двадцатитрехлетнего поляка.
В дальнейшем он сделает блестящую чекистскую карьеру, станет членом коллегии Саратовской ГубЧК, отличится в особом отделе 15-й армии, на расстрелах в Витебске, станет помощником Иосифа Станиславовича Уншлихта…
Но тогда, 24 мая, когда в его кабинет ввели Леонида Николаевича Боброва, чекистское счастье явно отступило от Владислава Александровича…
9
Леониду Николаевичу Боброву было шестьдесят лет. Родился он в дворянской семье, получил высшее юридическое образование, работал присяжным поверенным.
Он был организатором Общества русских патриотов и членом Союза русских людей…
14 декабря 1905 года в составе делегации Союза русских людей Леонид Николаевич был представлен государю и произнес краткую речь. Бобров участвовал практически во всех монархических съездах и совещаниях, а на IV Всероссийском съезде объединенного русского народа в Москве сделал доклад «Новый способ разрешения еврейского вопроса».
Всю жизнь Леонид Николаевич прожил в Москве, но во время войны организовывал работу госпиталей и их снабжение, долгое время жил в Одессе и Кишиневе, а перед революцией оказался в Петрограде.
Здесь он жил с семнадцатилетней дочерью Лидией и работал на скромной должности статистика в Казанской продовольственной управе с окладом в 800 рублей.
Шестьдесят лет — возраст, когда многое остается позади.
В 1918 году для Леонида Николаевича позади остались не только молодость, богатство, любовь, но и страна, в которой он вырос и которую так горячо любил…
«Многоуважаемая Дарья Александровна!
Я так долго не писал Вам, что за это время, может быть, во второй раз был у Вас похоронен, так что второй раз приходится вставать из гроба и Вам напоминать о своем существовании.
Много воды утекло с тех пор, как я получил Ваше последнее вообще и первое в Петроград милое, премилое письмо. Оно было так просто и так ясно написано. Я долго жил под его впечатлением, и мне вновь захотелось побеседовать с Вами…
Я, правда, немного опасаюсь, как бы не ошибиться. Я так далек теперь от всякой политики, что совершенно не знаю, к какому государству принадлежит теперь Кишинев. Может быть, Вы вошли в состав Украинской Рады, может быть, у Вас вывешено на видных местах: “ПРОСЯТ ПО-РУССКИ НЕ РАЗГОВАРИВАТЬ”, и мое послание Вы сочтете за дерзкое обращение, правда Вам знакомого, но все же представителя государства, состоящего во вражде с Вашим государством»{94}.
Спасительная ирония — это последнее прибежище порядочного человека, живущего в разворованной проходимцами стране, уже не спасает. Явственно прорывается в строках письма горечь, и, может, поэтому Леонид Николаевич и не отправил адресату своего послания…
Самообладание и чувство собственного достоинства Леониду Николаевичу Боброву удается сохранить и в застенке Урицкого.
При всем желании не найти в протоколах его допросов ни страха, ни угодничества. Нет здесь и той бравады, которая возникает, когда человек пытается перебороть страх.
Спокойно и уверенно звучит голос…
«Что касается моей политической жизни… то до отречения Государя от престола я был монархистом, кроме того, состоял членом общества “Союза русского народа”… “Союз русского народа” ставил своей задачей поддержание в жизни трех основных принципов: православие, самодержавие и русскую национальность»{95}.
И сейчас-то нелегко признаться в стремлении поддерживать русскую национальность, но какое же мужество требовалось от человека, чтобы произнести эти слова в Петроградской ЧК!
Известно, что монархист чтит Божественное начало в душе государя и через любовь к нему возвышается до рыцарства.
Это мы видим и на примере Леонида Николаевича.
«После отречения… — говорил он на допросе, — партия монархистов потеряла свое значение, я остался беспартийным и за последнее время перестал совершенно работать на политическом поприще, так как проводить в жизнь свои взгляды при теперешних обстоятельствах считал бесполезным».
Мысль философа Ивана Ильина о монархе, который живет в скрещении духовных лучей, посылаемых его подданными, и является центром единства народа, выражением его правовой воли и государственного духа, может быть, никогда и не формулировалась Бобровым так четко, но была близка ему, осуществлялась им в самой жизни.
Он обладал развитым иррационально-интуитивным монархическим самосознанием и считал Судьбу и Историю делом Провидения.
«По моему мнению, все политические партии, старающиеся свергнуть Советскую власть, бессильны порознь что-либо сделать без внешней помощи и все их попытки напрасны…» — отвечал он следователю. По сути дела, Бобров повторял высказывание Владимира Митрофановича Пуришкевича: «Большевики в настоящее время представляют собою в России единственную твердую власть».
Совпадение поразительное…
И к Боброву, и к Пуришкевичу советская власть была настроена особенно непримиримо и, признавая несокрушимость большевизма, они, разумеется, не рассчитывали на смягчение участи. Нет, слова эти — свидетельство ясности ума, умения отказаться от иллюзий, ясно и трезво взглянуть в глаза беде.
Суета игры в партии и партийки не способна была преодолеть духовный кризис общества, с преодоления которого и следовало начинать возрождение монархии, а значит, и государственности России…
Чтобы точнее представить душевное состояние Леонида Николаевича в мае восемнадцатого года, нужно вспомнить: миновало немногим более года с того дня, когда, окруженный толпою продавшихся, запутавшихся в собственных интригах сановников и самовлюбленных политиков, государь подписал отречение.
Травля этого последнего российского государя, длившаяся все годы его правления, привела к тому, что, стремясь избежать Гражданской войны, он согласился на отречение, и в результате народ вел Гражданскую войну без государя и не за государя.
И тут нельзя не вспомнить и другую мысль Ивана Ильина о «жертвенности совестного сознания»…
В мае 1918 года за спиной у 50-летнего Николая II осталась тобольская ссылка, бесконечные унижения от хамоватых комиссаров, а впереди была страшная ночь в Ипатьевском доме…
Когда начались допросы Леонида Николаевича Боброва, государь, искупая роковую минутную слабость, еще только проходил крестный путь к своей Голгофе — подвалу дома Ипатьева.
И памятуя о том, что судьбы людей и История — дело Провидения, зададимся вопросом: не этот ли крестный путь, превративший государя в святого мученика, и закладывает основу христианского, нравственного возрождения, а вместе с ним, если уж кризисы монархии и христианства шли рука об руку, не отсюда ли начинается восстановление России, возрождение которой без монархии, как полагал вместе с Иваном Ильиным и наш герой, неосуществимо?
И еще раз вспомним о скрещении духовных лучей, посылаемых монарху его подданными. Именно здесь, по Ильину, осуществляется правовая идея монархии, подвиг служения народу монарха.
Но в этом же перекрестье осуществлялся и великомученический подвиг государя…
И мог ли он быть совершен без духовной, реализуемой лишь в иррационально-интуитивном монархическом сознании поддержки таких, как Леонид Николаевич Бобров, преданных монархистов, десятками и сотнями погибавших в те дни в большевистских застенках…
Среди отобранных при обыске у Л.Н. Боброва бумаг — немало стихов.
Предельно точно сформулировано здесь, как нам кажется, то, что думал и чувствовал Леонид Николаевич в мае 1918 года.
Он считал «бесполезным проводить в жизнь свои взгляды при теперешних обстоятельствах», но тем самым он никоим образом не снимал с себя ответственности за судьбу страны, как конечно же не снимал ее с себя и низвергнутый в подвал Ипатьевского дома государь. Просто сейчас эта ответственность свелась для них к пути, который им предстояло пройти до конца.
Николай II прошел этот путь.
Прошел его и монархист Леонид Николаевич Бобров.
Со спокойствием сильного, уверенного в своей правоте человека отметает он вздорные обвинения следователя.
Ни пытками, ни посулами Байковскому не удалось склонить Боброва к исполнению роли, предназначенной ему по сценарию Моисея Соломоновича Урицкого.
Высокой порядочностью истинно русского интеллигента отмечены его показания на «подельников»:
«О Ревенко могу сказать, что он является председателем Казанской районной управы и опытным в своем деле работником…
Что касается его политической жизни, то я совершенно ничего не могу указать ввиду того, что в служебное время я с ним никаких бесед на политические темы не вел»{97}.
Столь же «существенные» сведения удалось получить от Боброва и на других подозреваемых в причастности к «Каморре» лиц. Почти месяц Байковский продержал шестидесятилетнего старика в камере на голодном пайке и только 20 июня снова вызвал на допрос, уличая выбитыми из Злотникова показаниями…
Леонид Николаевич спокойно объяснил, что взял прокламацию, не желая «сконфузить» Злотникова.
— А почему вы сразу не признались в этом? — торжествующе спросил Байковский. — Почему пытались скрыть это?
— Об этом обстоятельстве раньше не говорил, так как об этом не был спрошен, а сам с доносом выступать не умею.
Бесспорно, Бобров понимал, что бессмысленно объяснять правила поведения, принятые среди порядочных людей, чекисту, самозабвенно окунувшемуся в палаческую стихию, но, может, не для него он и произносил эти слова, как не для Урицкого и писал с больничной койки:
«Я никогда не сочувствовал еврейским погромам и ни один человек не может доказать, что я имею хотя бы какое-нибудь самое отдаленное отношение к какому-нибудь погрому…
Итак, я получил один экземпляр воззвания и не сделал из него никакого употребления, между тем в тот же день это воззвание было распространено в тысячах экземпляров различных газет, в том числе и в “Красной газете”, продававшихся на всех улицах Петрограда, и никто из редакторов не привлечен к ответственности»{98}.
Разумеется, не о том хлопотал больной, истощенный голодом Леонид Николаевич, чтобы Урицкий засадил в тюрьму своего дружка, провокатора Володарского… И не о том, чтобы занять, как выразился писатель Максим Горький, наиболее выгодную и сытую позицию…
Нет, он объяснял, что все это дело — чистой воды провокация, и объяснял это не следователю, а нам, живущим уже в другом веке и другом тысячелетии, когда — увы! увы! — снова актуальными стали сказанные в восемнадцатом году слова Алексея Ремизова:
«Зашаталась русская земля — смутен час. Госпожа Великая Россия, это кровью твоей заалели белые поля твои — темное пробирается, тайком ползет по лесам, по зарослям горе злокручинное»…
А Леонида Николаевича Боброва расстреляли в страшную ночь на 2 сентября 1918 года, когда по всей России по команде из Кремля загремели в чекистских подвалах выстрелы…
Через четыре месяца, 23 декабря, было составлено в экстазе чекистской работы и постановление о его расстреле:
«Леонид Николаевич Бобров арестован был по делу “Каморры народной расправы”. Обвинение было доказано и Боброва по постановлению ЧК от 2 сентября с. г. — расстрелять, на основании чего настоящее дело прекратить»{99}.
Вот так, просто и без затей…
Глава пятая.
В ПОДВАЛАХ ЧК
Революция — суровая школа. Она не жалеет позвоночников, ни физических, ни моральных.
Л.Д. Троцкий
Вы вот пишете — нельзя связанного человека убивать, а я этого не понимаю. Как, почему нельзя? Иногда нельзя, иногда можно…
В. В. Боровский
Со следственными делами ЧК за 1918 год можно знакомиться, изучая их в архивах, можно просто читать изложение этих дел в «Красной книге ВЧК» или сборниках «Из истории ВЧК» — результат не меняется.
Разумеется, из архивных дел в разные стороны торчат живые человеческие судьбы, которые подручные Феликса Дзержинского и Моисея Урицкого обламывали и коверкали, втискивая в придуманные ими контрреволюционные заговоры, а в сборниках те же самые сюжеты палачи-сочинители попытались представить уже в готовом виде…
Тем не менее счистить запекшуюся кровь они не сумели, и эта кровь и сейчас проступает на чекистских «сочинениях».
1
В конце мая, когда чекисты Петрограда взялись за титаническую работу по «перебору людишек» в городе, Феликс Эдмундович Дзержинский со своими подручными решил «раскрыть» в Москве контрреволюционный заговор «Союза защиты Родины и свободы».
Союз такой действительно создал (пытался создать? рассказывал, что создал?) знаменитый террорист Борис Савинков[24], но сам Савинков был великим фантазером и не столько организовывал, сколько фантазировал на темы организации, а ловить его самого было хлопотно, и Дзержинский решил пойти по другому пути.
В середине мая «одна из сестер милосердия» Покровской общины поведала командиру Латышского стрелкового полка в Кремле, что скоро латышских стрелков ожидает беда, потому что влюбленный в нее юнкер Иванов собирается поднять в Москве восстание. Насмерть перепуганный командир латышских стрелков отправил девушку в ВЧК к товарищу Дзержинскому…
И хотя все это — и сестра милосердия, и влюбленный юнкер Иванов, и восстание, которое он собирался поднять в Москве, поскольку сестра милосердия изменяла ему с командиром полка латышских стрелков, — более подходило для жалостливого городского романса, Феликс Эдмундович Дзержинский приказал арестовать юнкера Иванова.
Влюбленного юнкера чекисты схватили в квартире № 9 дома № 3 по Малому Левшинскому переулку.
В квартире во время обыска было обнаружено еще 13 человек, которые сразу были объявлены заговорщиками, поскольку чекисты нашли бумаги, «неопровержимо» доказывающие их контрреволюционные замыслы.
Вот перечень этих бумаг: «набросок схемы построения пехотного полка», перепечатанная на машинке «программа «Союза защиты Родины и свободы», «картонный треугольник, вырезанный из визитной карточки с буквами О. К.», «пароль и адреса» в городе Казани{100}.
Самая роковая здесь улика — перепечатанная на машинке «программа “Союза защиты Родины и свободы”», которую, по-видимому, чекисты и принесли в квартиру № 9 дома № 3 по Малому Левшинскому переулку.
Другие улики, вроде наброска схемы построения пехотного полка или картонного треугольника, вырезанного из визитной карточки с буквами О. К., можно найти в любой мусорной корзине…
Ну а такая улика, как «пароль и адреса» в городе Казани…
Пароль этот на крышке стола, что ли, был вырезан? Или, может, вырублен над входом, чтобы его можно было найти при обыске?
Тем не менее под давлением сих «неопровержимых» улик и воздействием чекистских кулаков влюбленный юнкер Иванов сознался, что был введен в «Союз защиты Родины и свободы» Сидоровым, а в самом Союзе состоят офицеры — Парфенов, Сидоров, Пинки, Висчинский, Никитин, Литвиненко, Виленкин, Олейник с отцом, Коротаев и Шингарев. Организатором же, как сообщил избитый чекистами юнкер, был Альфред Пинки[25].
Альфреда Пинки арестовали, когда тот вернулся из деревни.
На допросе он согласился выдать всю организацию, если ему будет сохранена жизнь. Показания Пинки настолько дики и нелепы, что вполне могли бы быть приняты за пародию на чекистский роман, если бы не являлись документом.
«Ввел меня в организацию Гоппер Карл Иванович, — рассказывал Альфред Пинки. — Наша организация придерживается союзнической ориентации, но существует еще и немецкая ориентация, с которой мы хотели установить контакт, но пока еще не удавалось. Эта немецкая ориентация самая опасная для Советской власти. Она имеет много чиновников в рядах советской организации.
Во главе этой организации стоит от боевой группы генерал Довгерт. В курсе дела инженер Жилинский.
По данным, исходящим из этой ориентации, Германия должна была оккупировать Москву в течение двух недель (к 15 июня).
В этой же организации работает князь Кропоткин, ротмистр, и полковник генерального штаба Шкот. Эта организация имеет связь с Мирбахом… Цель этой организации — установить неограниченную монархию»{101}.
Рассуждать, зачем руководителю подпольной организации, ставившей своей целью продолжение войны с Германией, устанавливать связь с организацией немецкой ориентации, имеющей связь с Мирбахом, Альфред Пинки не стал, а Феликс Эдмундович Дзержинский не переспрашивал. Некогда было обращать внимание на подобные мелочи, надо было записывать адреса и приметы, которыми так и сыпал Пинки.
«Наша организация называлась “Союзом защиты родины и свободы”. Цель — установить порядок и продолжать войну с Германией. Во главе нашей организации стоит Савинков. Он побрился, ходит в красных гетрах и в костюме защитного цвета.
Начальник нашего штаба Перхуров. Савинков ходит в пальто защитного цвета и во френче, роста невысокого, брюнет, стриженые усики, без бороды, морщинистый лоб, лицо темное.
Сильное пособие мы получали от союзников. Пособие мы получали в деньгах, но была обещана и реальная сила»…
Любопытно, но и в чекистской записи получается, что вся антисоветская деятельность «Союза защиты Родины и свободы» относилась его организаторами на тот момент, когда власть большевиков будет ликвидирована, после оккупации немцами Москвы:
«Наши планы были таковы: при оккупации Москвы немцами уехать в Казань и ожидать там помощи союзников. Но союзники ожидали, чтобы мы создали правительство, от лица которого бы их пригласили официально. Правительство было уже намечено во главе с Савинковым. Цель — установить военную диктатуру».
Хотя в раскрытом Дзержинским «Союзе защиты Родины и свободы» все было устроено строго конспиративно, и один человек должен был знать только четырех, сам Пинки знал всех заговорщиков и в Москве, и в Казани…
«Казанская организация насчитывает 500 человек и имеет много оружия. 29 числа (мая) отправились в Казань квартирьеры. Явиться они должны по адресу — Северные номера, спросить Якобсена, отрекомендоваться от Виктора Ивановича для связи с местной организацией.
Из политических партий к нашей организации принадлежат: народные социалисты, социал-революционеры и левые кадеты, а сочувствовали даже меньшевики, но оказывали помощь только агитацией, избегая активного участия в вооруженной борьбе.
По Милютинской, д. 10, живет фон дер Лауниц, он служит в Красной Армии начальником эскадрона. Он тоже состоит в организации.
Торгово-промышленные круги принадлежат к немецкой ориентации.
Наш главный штаб имеет связь с Дутовым и Деникиным, ставшим на место Корнилова. Новое Донское правительство — работа Деникина.
Из адресов я знаю Виленкина, присяжного поверенного: Скатертный пер., д. 5а, кв. 1. С ним связь поддерживал Парфенов. Он — заведующий кавалерийскими частями.
На Левшинском, д. 3, был штаб полка. Право заходить туда имели только начальники и командиры батальона.
Один человек должен был знать только четырех. Все устроено строго конспиративно. Все идет только через несколько рук.
Адрес главного штаба — Остоженка, Молочный пер., д. 2, кв. 7, лечебница (между 12—2). Троицкий пер., д. 33, кв. 7, Филипповский, полковник (спросить поручика Попова, где живет Филипповский), рекомендация от Арнольдова.
Начальник продовольственной милиции Веденников тоже состоял в организации. Через него получались оружие и документы.
Цель вступления в продовольственную милицию — получить легальное существование, вооружение и документы…
Пока в составе дружины были только офицеры. В пехоте нашей числилось в Москве 400 офицеров. Сколько было кавалерии — не знаю.
Из наших людей часть работает в Кремле. По фамилии не знаю. Один из них по виду высокого роста, брюнет, георгиевская петлица на шинели, лет 23—24, стриженые усы, без бороды.
В гостинице “Малый Париж”, Остоженка, д. 43, можно встретить начальника штаба и тех, кто с докладом приходил. Там живет Шрейдер, офицер, принимает между 4—5, спросить Петра Михайловича»{102} …
Сообразив, видимо, что одного только намерения создать правительство для приглашения в Казань союзников, да и то лишь после захвата Москвы немцами, маловато для контрреволюционного заговора, чекисты попросили Пинки вспомнить о непосредственной боевой работе «Союза».
Альфред Пинки вспомнил:
«В 19 верстах от Москвы по Нижегородской жел. дор. имеется дача, в которую недавно переселилась одна парочка. Недалеко от дачи на железной дороге два моста, под которыми подложен динамит в целях взрыва советского поезда при эвакуации из Москвы.
Бол. Николаевская, д. 5, кв. 7, спросить Гусева. В его ведении состоят все склады оружия в Москве. Прием от 1—3»{103}.
Чрезвычайно трогательны эти заминированные «недалеко от дачи» железнодорожные мосты. Пинки помнил даже цвет гетр Савинкова, но при этом координаты железнодорожных мостов исчисляет от дачи, в которую недавно переселилась одна парочка.
Хотя и насчет Гусева, в ведении которого состоят все склады оружия в Москве и который «принимает от 1—3», тоже неплохо сказано. Сразу чувствуется настоящий конспиратор-заговорщик…
Рассказал Пинки и о стратегических планах организации.
Он настолько полно осведомлен о планах японцев, англичан, французов и американцев, что у чекистов вполне бы могло возникнуть подозрение, а не он ли, Адьфред Пинки, и составлял планы английского, французского, американского и японского Генштабов:
«Наши организации имеются в Ярославле, Рязани, Челябинске и приволжских городах. Было условлено, что японцы и союзники дойдут до линии Волги и тут укрепятся, потом продолжат войну с немцами, которые, по данным нашей разведки, в ближайшем будущем займут Москву. Отряды союзников составлялись смешанные, чтоб ни одна сторона не имела перевеса. Участие должны были принимать американцы. Семеновские отряды пока действовали самостоятельно, но связь все же хотели установить»{104}.
Сценарий «раскрытого» Дзержинским дела «Союза защиты Родины и свободы» вполне мог соперничать по своей нелепости с таким же высосанным из пальца Урицкого делом «Каморры народной расправы»…
Но поразительно…
По мере ликвидации этого придуманного Дзержинским «Союза», «Союз» как бы материализуется. Самому Борису Савинкову начало казаться тогда, что это его людей и арестовывают чекисты…
«…Опасность началась с приездом в Москву германского посла графа Мирбаха, — пишет он в воспоминаниях. — С его приездом начались и аресты.
Уже в середине мая полковник Бреде предупредил меня, что в германском посольстве сильно интересуются “Союзом”, и в частности мною. Он сообщил мне, что, по сведениям графа Мирбаха, я в этот день вечером должен быть в Денежном переулке на заседании “Союза” и что поэтому Денежный переулок будет оцеплен. Сведения графа Мирбаха были ложны… На всякий случай я послал офицера проверить сообщение полковника Бреде.
Офицер действительно был остановлен заставой. Когда его обыскивали большевики, он заметил, что они говорят между собой по-немецки. Тогда он по-немецки же обратился к ним. Старший из них, унтер-офицер, услышав немецкую речь, вытянулся во фронт и сказал: “Zu Befehl, Негг Leutnant” (слушаюсь, господин лейтенант).
Не оставалось сомнения в том, что немцы работают вместе с большевиками»{105}.
Обратите внимание, что Савинков, хотя и говорит, что сведения графа Мирбаха были ложны и значит никакого заседания «Союза», который организовывал он, Савинков, в Денежном переулке не будет, но все же он посылает офицера посмотреть на этих неведомых ему заговорщиков. Он как бы считает их своими людьми, потому что они могли бы состоять в его организации.
Происходит сложение двух фантазий.
Фантазии Савинкова, который был готов считать арестованных членами своего «Союза», потому что они действительно могли быть ими, соединялись с фантазиями Дзержинского, который арестовывал людей, потому что они могли быть членами савинковского «Союза».
В своих воспоминаниях «Борьба с большевиками» Б. Савинков приводит список высшего руководства «Союза защиты Родины и свободы». Со списком руководства «Союза», опубликованным чекистами, в нем совпадает только фамилия начальника штаба, полковника артиллерии Перхурова. Но Перхуров, как и Савинков, был известен чекистам и без показаний А. Пинки.
Савинков говорит в воспоминаниях, что у него не оставалось сомнения в совместной работе немцев с большевиками. Но ведь никакого сомнения нет и в том, что Дзержинский только для того и придумывал дело ликвидированного им «Союза защиты Родины и свободы», чтобы создать у немцев видимость успешной работы…
Так что и тут происходила самая настоящая материализация фантома…
Точно так же было и в ходе расследования дела «Каморры народной расправы»…
Несмотря на многочисленные огрехи, замысел Моисея Соломоновича Урицкого полностью удался.
В это невозможно поверить, но читаешь показания свидетелей и видишь, что для многих уже в начале июня 1918 года придуманная Урицким «Каморра народной расправы» начала становиться реальностью…
«В субботу (18 мая. — Н.К.) или в пятницу был у нас один красноармеец и сказал, что к ним приходил один и говорил о прокламациях “Каморры народной расправы”. Его не поддержали…” (Показания Моисея Александровича Рачковского.)
“О “Союзе русского народа” знаю, что существовал он при старом строе и задачи его были исключительно погромные, антисемитские. Что касается “Каморры народной расправы”, то она существует еще, кажется, с 1905 года, ею был убит Герцен-штейн. Эмблемой ее был какой-то крест…»{106} (Показания Семена Абрамовича Рабинова.)
Можно иронизировать, что авторы этих показаний знают о «Каморре» больше, нежели сами «каморрцы», но ведь обилие даже фантастических подробностей только подтверждает, что «Каморра» осознавалась ими как неопровержимая реальность…
Слухи о «Каморре народной расправы», размноженные в десятках тысяч экземпляров петроградских газет, подтвержденные именами В. Володарского, М. Горького и других достаточно известных борцов за права евреев, усиленные многочисленными арестами, мобилизовали многих евреев на борьбу с «погромщиками».
Следственное дело пестрит доносами на еще не выявленных чекистами антисемитов.
«Быстрицкий у нас в доме живет года два и известен мне лично и многим другим жителям дома как человек безусловно правых убеждений и притом антисемит»{107}.
Разумеется, после этого Семен Дмитриевич Быстрицкий, служащий Всероссийского комитета помощи семьям убитых офицеров, немедленно был арестован, и его племяннице пришлось развить бурную деятельность, чтобы доказать, что ее дядя не антисемит и не погромщик.
Собранное по ее просьбе общее собрание жильцов дома № 15/14 по Коломенской улице постановило: «о принадлежности жильца дома Быстрицкого к “Каморре народной расправы” никому из присутствующих не известно», тем не менее «что касается неуживчивого характера господина Быстрицкого, то у него выходили конфликты с жильцами».
Всероссийский комитет помощи семьям убитых офицеров удостоверил следователя Байковского на официальном бланке, что сотрудники Быстрицкого «от него никогда не слыхали никакой ни погромной, ни контрреволюционной агитации».
По такому же навету был арестован и псаломщик церкви при морском госпитале Григорий Иванович Селиванов. Его брат, юрисконсульт Всероссийского военно-хозяйственного комитета РККА Димитрий Иванович Селиванов, долго объяснял потом в ЧК, что в основе обвинения — сговор между Борисом Ильичом Бинкиным и его племянником Давидом Ефимовичем Хазановым, которые давно недолюбливали Григория Ивановича…
«Не потому ли Бинкин считает брата монархистом, что брат ходил на поклон к Великому князю? Но в этом отношении Бинкин не только ошибается в своем умозаключении, но и просто извращает факты. “
К бывшему Великому князю Константину Константиновичу десять лет тому назад ходил не брат, а я. И ходил я к нему не как к Великому князю, а как к главному начальнику военно-учебных заведений, от которого зависело предоставление нашим малолетним братьям Владимиру и Павлу права поступления в кадетские корпуса.
Если бы начальником военно-учебных заведений в то время был гражданин Бинкин или гражданин Хазанов, то мне скрепя сердце пришлось бы обратиться и к ним»{108} …
Тенденция тут прослеживается четкая.
И нет даже нужды говорить о моральных качествах многочисленных доносчиков и лжесвидетелей. Их поступки, какими бы гнусными они ни были, безусловно, спровоцировал Моисей Соломонович Урицкий.
На Гороховую улицу приходили евреи и жаловались, что они могут пострадать от деятельности «Каморры», во главе которой Урицкий потому и поставил активистов бывшего «Союза русского народа» Соколова, Злотникова и Боброва, потому что многие евреи искренне считали, что они могут пострадать от деятельности этого «Союза».
В этом и заключался смысл всего дела «Каморры народной расправы», и в этом — успех предприятия Моисея Соломоновича был очевидным.
Еврейское общество более других подвержено слухам…
Оно как бы питается слухами, с помощью слухов создает и разрушает репутации, слухи — весьма важная часть его жизнедеятельности. Эту специфику национального характера евреев — всегда все знать, знать даже то, чего нет, — Моисей Соломонович учел в своей постановке.
Точно так же, как и Феликс Эдмундович Дзержинский, который очень точно учел в постановке дела «Союза защиты Родины и свободы» психологию бывшего террориста и бывшего военного генерал-губернатора Петрограда Бориса Викторовича Савинкова.
И оба эти дела вполне можно было бы счесть достойными восхищения, блестящими образцами мистификаций, если бы не реальные жизни русских людей, которыми Дзержинский с Урицким и оплачивали свои страшные творения…
Как известно, по казанским адресам, названным Пинки, немедленно отправились уполномоченные ВЧК.
Точно так же рыскали петроградские чекисты.
И грохотали, грохотали выстрелы. И в Москве, и в Казани, и в Петрограде расстреливали неповинных, ничего не подозревающих о раскрытых заговорах людей…
Но это тоже было частью придуманного Феликсом Эдмундовичем и Моисеем Соломоновичем розыгрыша.
2
«Дзержинский… — вспоминал Вячеслав Рудольфович Менжинский, — не был никогда расслабленно-человечен… Наказание, как таковое, он отметал принципиально, как буржуазный подход. На меры репрессии он смотрел только как на средство борьбы, причем все определялось данной политической обстановкой и перспективой дальнейшего развития революции. Презрительно относясь ко всякого рода крючкотворству и прокурорскому формализму, Дзержинский чрезвычайно чутко относился ко всякого рода жалобам на ЧК по существу. Для него важен был не тот или иной, сам по себе, человек, пострадавший зря, не сантиментальные соображения о пострадавшей человеческой личности, а то, что такое дело являлось явным доказательством несовершенства чекистского аппарата. Политика, а не человечность, как таковая, вот ключ его отношения к чекистской работе».
Другое дело — шеф петроградских чекистов…
Ключ его отношения к чекистской работе подобрать сложнее.
Ни о какой человечности, разумеется, и речи не идет, но и одной только политикой это отношение для Моисея Соломоновича Урицкого не определяется.
Люди, знавшие Урицкого, говорят о его инфернальности.
Что конкретно имел в виду, давая это определение, Марк Алданов, мы не знаем, но когда читаешь дела Петроградской ЧК, действительно охватывает ощущение, что погружаешься в преисподнюю.
Причем скажем сразу, что по сравнению с москвичами Якобом Петерсом, который иногда давал пострелять на расстрелах своему сынишке, или с белесоглазым латышом Александром Эйдуком, который говорил, что массовые расстрелы полируют ему кровь, петроградские чекисты Антипов, Бабель, Байковский, Бокий, Иоселевич, Отто, Рикс, Юргенсон выглядят почти интеллигентами.
Но кто сказал, что преисподняя это только котлы и дыбы, возле которых орудуют белесоглазые чекисты-латыши?
Может быть, в Петроградской ЧК и меньше, чем в Москве, увлекались избиением подследственных на допросах, но пыток хватало и здесь. И самой страшной, самой инфернальной, как можно судить по материалам дел, была пытка неизвестностью, в которую погружался подследственный, попав на Гороховую улицу.
Можно проследить по документам, что испытывал человек во время такого погружения…
Мы говорили, что Виктору Павловичу Соколову-Горбатому, намеченному Урицким на роль главы «Каморры народной расправы», удалось скрыться буквально накануне ареста.
Арестовали его брата, офицера, и однополчанина брата — солдата Мусина…
Николай Павлович Соколов поначалу держался на допросах строго, почти надменно.
«Что касается брата моего, Виктора Павловича… — сообщил он 25 мая, — то могу сказать, что по совету врача он должен был уехать в Царское Село и уехал он туда или в день обыска, или днем раньше[26]. По своим политическим убеждениям он, кажется, монархист, кроме того, состоял членом “Союза русского народа”, но старается ли он в настоящее время проводить в жизнь свои идеи — этого я сказать не могу…»
Конечно, следователь Владислав Александрович Байковский не был испорчен ни образованием, ни воспитанием[27].
Однако и этот, закончивший всего четыре класса, уроженец гмины Пруска Ломжинской губернии, не мог не уловить открытой издевки в словах Николая Павловича Соколова и решил наказать его погружением.
Взяв с Соколова подписку о невыезде, он отправил его в камеру собирать вещи и… забыл о нем на долгие недели… Отметим попутно, что помимо мук неизвестности, в которую погружали несговорчивого арестанта, ему приходилось испытать и невыносимые муки голода — питались арестанты передачами с воли.
Так что заплатил Николай Павлович Соколов за свою язвительность недешево:
«Я арестован 21 мая и был Вами допрошен 25 мая, причем Вы на допросе сказали мне, что мне не предъявлено обвинений… и что, по всей вероятности, после Вашего доклада Председателю Чрезвычайной Следственной Комиссии меня освободят. С тех пор прошло две с половиной недели. Допрошенные одновременно со мной Гроссман и Анненков, по-видимому, освобождены — мое же дело остановилось. Поэтому прошу Вас, если Вы нуждаетесь в дополнительных сведениях от меня — допросить меня. Надеюсь, что после вторичного допроса меня освободят, причем я всегда готов дать подписку о невыезде из Петрограда и явке на допрос по первому требованию»{109}.
В дополнительных сведениях Байковский нуждался и, вняв просьбе Николая Павловича, вызвал его на допрос.
Но — увы! — от предложения сотрудничать с ЧК в аресте своего брата Николай Павлович снова отказался и, хотя уже и без прежней язвительности, продолжал твердить, что не знает, где сейчас находится Соколов-Горбатый.
Поэтому и был он водворен назад в камеру, чтобы сочинять новые — «Я арестован четыре недели назад… и не имею никаких известий, в каком положении мое дело…» — прошения и постепенно доходить до нужной чекистам кондиции…
«22 мая я был арестован и препровожден в тюрьму “Кресты”, где вот уже три месяца сижу без предъявления мне обвинения, в ожидании окончания следствия… — писал в прошении М.С. Урицкому бывший секретарь Совета монархических съездов И.В. Ревенко. — Еще 11 июня гр. Байковский, ведущий следствие по моему делу, допрашивая меня в «Крестах», официально мне сообщил, что прямых улик и обвинений меня в чем-либо не имеется и что следствие по моему делу заканчивается на текущей неделе. Ответ же на мою тогда же обращенную просьбу об освобождении и о разрешении свидания с женою, был им, Байковским, обещан сообщением мне в четверг 13 июня…
По сегодняшний день не имею никакого ответа на мою вышепоименованную просьбу и никакого результата на мое ходатайство от 20 июля к тому же гр. Байковскому, уже давно закончившему по моему делу следствие»{110}.
Да… Средство было отменное.
Некоторые заключенные, уже настроившиеся идти домой, впадали в настоящее нервное расстройство, когда их начинали погружать.
«Вот уже две недели, как вы сказали, что отпустите меня отсюда через два-три дня, а я все мучусь и не знаю, в чем виноват… Очень прошу: возьмите меня отсюда, силы больше моей нету, от нервов и раны уже ходить не могу. Ну и чего я сделал, что меня вы так мучите и пытаете?.. Возьмите меня отсюда, силы боле нет жить…»
Солдат Мусин, который писал это прошение, конечно, не герой, но все-таки служил в армии, успел понюхать войны, и коли и он раскис до такой степени, то нужно признать, что погружение в неизвестность — чрезвычайно действенный метод.
Действенность метода, созданного инфернальным Моисеем Соломоновичем Урицким, возрастала за счет размывания всего того, что связывало подследственного с реальностью.
Никакого значения не имело, что ты делал и что у тебя нашли при обыске. Все это менялось по ходу следствия, менялось так, как это было нужно инфернальному режиссеру.
3
3 июня 1918 года — важный день в ходе «расследования» дела «Каморры народной расправы»… Чекисты наконец-то сподобились «найти» печать этой организации.
Сам этот факт, как и положено, был запротоколирован:
«ПРОТОКОЛ
По ордеру Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Петроградском Совете Рабочих и Красноармейских Депутатов от 3 июня 1918 г. за № 354 был произведен обыск по Николаевской улице, д. 4, кв. 29 в комнате Злотникова.
Взято для доставления в Комиссию:
Печать с надписью “Каморра народной расправы”
Один серебряный рубль 1893 года
Один серебряный рубль 1814 года
Один серебряный рубль в память 1913 г. дома Романовых
Три векселя на 40 000, 40 000 и 40 000 р. на имя Репьева.
Сберегательная книжка за № 463652, № 968181 и дубликат книжки № 116009.
Бронзовый крест, 2 коробки типографского шрифта, личная печать Злотникова, одна коробка негативов, три фотографических снимка писем Савинкова, портрет Распутина (один из семи найденных), ручной типографский валик, расписка на 1000 р., на отдельной бумаге подпись Георгия Пятакова и другая неразборчивая подпись, оттиск штемпеля отдела пропусков, один чистый пропуск с подписями, незаполненный, один флакон с надписью “Яд” и различная переписка и печатные произведения.
Обыск произвел — Апанасевич
Ничего не пропало и ничего не сломано во время обыска»{111}.
Мы привели этот документ целиком, потому что непонятно, как сумел товарищ Юргенсон не найти столько улик при первом обыске…
Ну ладно — векселя, сберегательные книжки, бланки пропусков, печать «Каморры народной расправы»…
Но как не заметить типографское оборудование, как проглядеть флакон с ядом?
Еще более странно, что на допросах Байковский не задал Злотникову ни одного вопроса по поводу векселей, не поинтересовался, где и для какой цели раздобыл Злотников бланк с подписью Георгия Леонидовича Пятакова, не спросил даже, кого Злотников собрался отравить припасенным ядом…
Впрочем, должно быть, потому и не спрашивал, что неоткуда было Луке Тимофеевичу Злотникову знать это…
Как и положено при погружении, он узнал об этих находках от следователя…
Находкой печати «Каморры народной расправы» «удачи» чекистов 3 июня не ограничились.
В этот день Моисей Соломонович Урицкий подписал еще и ордера на арест В.П. Мухина и З.П. Жданова. Оба они были весьма состоятельными людьми и выдвигались, как мы знаем, на роль финансистов погромной организации.
Значит, и тут успех был налицо.
И улики чекистам удалось найти, и главных «погромщиков» выявить…
Фортуна настолько благоволила к подручным Моисея Соломоновича Урицкого, что, право же, как-то неловко связывать это с ликвидацией накануне в Москве заговора «Союза защиты Родины и свободы».
Но и не связать нельзя.
Не случайно же чекисты «нашли» 3 июня в комнате Злотникова кроме печати еще и «три фотографических снимка писем Савинкова», которые, если бы в этом возникла надобность, несомненно доказали бы связь «Каморры народной расправы» с «Союзом защиты Родины и свободы».
С одной стороны, нелепо, конечно, выдавать Бориса Савинкова за главу бывших активистов «Союза русского народа», но зато как своевременно!
Вспомним, что в статье «Плоды черносотенной агитации» В. Володарский с возмущением рассказывал о черносотенцах, задержавших поезд с продуктами, который Г.Е. Зиновьев отправил в Германию из голодающего Петрограда… И что же? Моисей Соломонович может отрапортовать, что эта явно враждебная немцам погромная организация, которая срывала поставку продовольствия в Германию, ликвидирована…
В самом деле, если Дзержинский в угоду Мирбаху изображал, что он ликвидировал контрреволюционный заговор «Союза», то отчего же Урицкому не последовать его примеру и не отрапортовать немцам о ликвидации заговора «Каморры народной расправы»?
«Урицкий не был проходимцем, — писал Марк Алданов. — Я вполне допускаю в нем искренность, сочетавшуюся с крайним тщеславием и с тупой самоуверенностью. Он был маленький человек, очень желавший стать большим человеком…
Этот человек, не злой по природе, скоро превратился в совершенного негодяя»…
Необходимо отметить, что и советские, и эмигрантские историки проявляют к Урицкому снисходительность гораздо большую, нежели к другим чекистским палачам. Они, если и не обеляют этого совершенного негодяя, то пытаются как бы извинить его, договариваются до того, что это якобы Урицкий и удерживал кровожадного Зиновьева от большого кровопролития в Петрограде. Эта снисходительность к главному палачу Петрограда объясняется, очевидно, чистокровным еврейским происхождением Урицкого. Защитники Урицкого полагают, будто злобное преследование Моисеем Соломоновичем русского населения Петрограда объяснялось необходимостью защиты прав евреев.
Это не вполне верно.
Поддерживая русофобские настроения, злобно преследуя всех русских людей, едва только делали они попытку вспомнить, что они русские, Урицкий заботился не вообще о евреях, а лишь о местечковых большевиках и чекистах.
Причем, по мере укрепления местечковых большевиков, гарантии безопасности для евреев, не участвующих или недостаточно активно участвующих в русофобском большевистском шабаше, делались все более призрачными.
Мы знаем, что отлаженная Моисеем Соломоновичем Урицким и иже с ним машина беззакония произвела в результате погром, равного которому не знала мировая история.
И разве существенно то, что не для этого задумывалась машина?
Только ослепленные ненавистью к России люди могут полагать, что насаждаемое ими беззаконие будет распространено лишь на одну национальность и не заденет другие…
4
Марк Алданов писал, что Урицкий «укреплял себя в работе вином».
Похоже, что в состоянии алкогольного опьянения Моисей Соломонович и решил заменить на посту председателя «Каморры народной расправы» ускользнувшего из его рук Виктора Павловича Соколова-Горбатого председателем Казанской продовольственной управы Иосифом Васильевичем Ревенко. Урицкому показалось, что Ревенко вполне подходил на пост главного погромщика города…
Во-первых, он возглавлял ту самую продовольственную управу, где служил «погромщик» Леонид Николаевич Бобров, во-вторых, был знаком с Лукой Тимофеевичем Злотниковым, ну а главное, начиная свою политическую карьеру, Иосиф Васильевич имел неосторожность баллотироваться в четвертую Государственную думу по списку «Союза русского народа»…
Особую пикантность выбору Урицкого придавало то обстоятельство, что он был хорошо знаком с Иосифом Васильевичем…
Подробно о характере И.В. Ревенко рассказал на следствии сотрудник ЧК Сергей Семенович Золотницкий.
Он познакомился с И.В. Ревенко, еще когда искал у того покровительства.
«В сентябре семнадцатого года я освободился от службы и товарищи по корпусу посоветовали мне обратиться к И.В. Ревенко за протекцией. Ревенко обещал устроить меня»{112}.
Но после Октябрьского переворота дела Сергея Семеновича пошли в гору, и опека Ревенко начала тяготить его.
«Когда я приехал из Москвы, то Ревенко спросил меня между прочим, как я выполнил там поручение Комиссии. Еще он спросил: буду ли я работать здесь? Я, конечно, обрисовал ему в общих чертах свою работу в Москве, а на второй вопрос ответил, что по семейным обстоятельствам дальше продолжать работу в Комиссии не могу. Ревенко сказал с иронией:
— Ну, конечно… Вы такой видный политический деятель…
В дальнейшем нашем разговоре Ревенко перечислил ряд организаций, в которых занимал первенствующее положение, и как бы между прочим добавил: “Вы являетесь все-таки простым агентом Комиссии, я же являюсь членом Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Петроградском Совете”. Он называл тогда некоторых членов Комиссии, говорил, что с Урицким он большой приятель».
Ревность Иосифа Васильевича к своему протеже выглядит довольно смешно, но это — характер Ревенко.
«Я встречался с ним несколько раз и в Таврическом дворце, где он был секретарем Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии… Ревенко тогда имел пропуск общий на Смольный и Таврический и вообще был там, по-видимому, важным лицом, на что мне при встречах всегда старался указывать»{113}.
Тщеславия в Иосифе Васильевиче Ревенко было с избытком и, даже оказавшись в Петроградской ЧК уже в качестве подследственного, он как-то по-мальчишески хвастливо перечисляет все свои должности…
«В настоящее время я являюсь председателем Казанской районной управы и членом президиума бюро по переписи Петрограда. Кроме того, я — председатель общегородского совета союзов домовых комитетов гор. Петрограда, редактор-издатель журнала “Домовой комитет”, товарищ председателя совета квартальных старост 3-го Казанского подрайона, председатель домового комитета дома № 105 по Екатерининскому каналу, член правления Мариинского кооператива и член продовольственного совета Казанской районной управы»{114}.
Увлекшись перечислением своих должностей и званий, Ревенко вспомнил, что в 1912 году, будучи в отпуске в городе Николаеве, он принял участие в выборах в Государственную думу по соединенному списку умеренного блока, в состав которого входили представители, рекомендуемые «Союзом русского народа» и другими конституционно-монархическими организациями.
«В Городскую думу я прошел большинством голосов, а в Государственную по г. Николаеву также прошел, но в конечном результате голосов мне не хватило и я был зачислен кандидатом».
Об этом в ЧК лучше было не говорить, но Иосиф Васильевич, поскольку он был большой приятель с Урицким, рассказал все. Не насторожил Иосифа Васильевича и вопрос о Злотникове.
Верный манере подчеркивать при каждом удобном случае собственную значимость, он поведал обрадованному Байковскому, что со Злотниковым познакомился в 1912 году во время представления царю монархических организаций, где он, Ревенко, находился конечно же по долгу службы…
Правда, Ревенко категорически отрицал связь с «Камор-рой», более того, как и Злотников, заявил, что слухи о «Каморре народной расправы» считает «совершенно абсурдными и провокационными, о которых здесь только и узнал», — но уж этого-то, будь он поумнее, Иосиф Васильевич мог бы и не говорить. Урицкий, с которым он был большой приятель, и сам прекрасно знал, где и что можно услышать о «Каморре»…
Говоря об Иосифе Васильевиче Ревенко, хотелось бы подчеркнуть, что он, как и Леонид Николаевич Бобров, не просто персонаж придуманного Моисеем Соломоновичем Урицким дела, но еще и достаточно яркий типаж.
В самом начале этой книги мы говорили, что Октябрьский переворот потому и удался, что был выгоден не только большевикам, но и большинству политиков, так или иначе примыкавшим к партии власти. Иосиф Васильевич Ревенко — типичный представитель этой когорты политиков.
Читая протоколы допросов, постоянно ощущаешь сквозящие за хвастовством и самовлюбленностью Иосифа Васильевича растерянность и недоумение.
Точно так же, как и более именитые сотоварищи, Ревенко не может понять, почему его, такого умного, такого ловкого, вытеснили из коридоров власти. В принципе и сейчас вчерашний монархист готов примириться с большевиками, лишь бы продолжать «гражданское» служение, лишь бы подали ему хоть копеечку власти. Только зачем же, зачем его обходят здесь молодые и в подметки ему не годящиеся конкуренты?
«Когда я принял на себя обязанности секретаря канцелярии Комиссии товарища Урицкого… — не скрывая насмешки, рассказывал С.С. Золотницкий, — Ревенко стал со мною мягче. Однако однажды он заметил: “Вот теперь вы на моем месте. Разница только в том, что я окончил пять высших учебных заведений, а вы и среднее-то окончили ускоренно”»{115}…
Слепота и полнейшая гражданская глухота отнюдь не частные недостатки И.В. Ревенко. Письма, изъятые у него, о которых мы говорили выше, свидетельствуют, что этими же недугами были поражены многие политики того времени.
Вспомните письмо П.Н. Милюкова, который ради «преобладающего в стране влияния интеллигенции и равных прав евреев» пошел на прямое предательство родины, ибо обостренным чутьем политика ясно ощущал, что победа России в этой войне становится неизбежной, а значит, и столь дорогим мечтам подходит конец. Даже и после Октябрьского переворота, когда он сам оказался среди жертв, не смог Милюков признаться в ошибке…
Точно так же, как и А.Ф. Керенский, который, приступая к рассказу о предоктябрьских событиях, пишет, что «последствием генеральского путча был полный паралич всей законодательной и политической деятельности в стране, поэтому я весь ушел в дело спасения основ демократии и защиты интересов России на предстоящей мирной конференции победителей в войне».
И ведь не в политическом запале, не в горячке событий были написаны эти слова, а в мемуарной тиши и раздумчивости…
В принципе, председатель Николаевского отделения «Союза русского народа» Иосиф Васильевич Ревенко должен был бы противостоять кадету П.Н. Милюкову и эсеру А.Ф. Керенскому, но это противостояние чисто внешнее, организационное, а внутренне они одинаково самовлюбленны, одинаково замкнуты на своих интересах.
И как личность, и как общественный деятель И.В. Ревенко мельче и П.Н. Милюкова, и А.Ф. Керенского. И может, как раз поэтому вся подловатая сущность политиканов проступает в нем в самом неприкрытом виде.
Вот любопытный документ из дела И.В. Ревенко:
«Председатель Чрезвычайной Комиссии
по разгрузке Петрограда.
27/14 февраля 1918 г. № 94
УДОСТОВЕРЕНИЕ
На основании Отдела III Протокола заседания Чрезвычайной Комиссии по разгрузке Петрограда от 22/9 февраля 1918 г. предъявитель сего Иосиф Васильевич Ревенко, как служащий в Канцелярии означенной Комиссии освобождается от принудительных общественных работ и мобилизации».
Мы уже рассказывали, что большевики «разгружали» Москву и Петроград для того класса местечковой администрации, на который могли они опереться.
От кого разгружали — тоже понятно…
От офицерства…
От русской интеллигенции…
От петроградских рабочих…
И помогал большевикам в этой разгрузке вчерашний «черносотенец», член руководства «Союза русского народа» Иосиф Васильевич Ревенко!
Об этом свидетельствовал и Сергей Семенович Золотницкий.
«В январе месяце, — рассказывал он, — когда я по службе должен был обратиться в Чрезвычайную Комиссию по разгрузке Петрограда (Мариинский дворец), я к своему удивлению встретил его (Ревенко. — Н.К.) там тоже очевидно на высшей должности»{116}.
Характерно, что работал Ревенко в этой должности не на страх, а на совесть. Вообще, сотрудничая с большевиками, Иосиф Васильевич достаточно убедительно (для самого себя) обосновал необходимость этого сотрудничества.
Среди бумаг, изъятых у него, есть набросок статьи{117}, в которой содержится попытка оправдать суровые меры, принятые советской властью к участникам декабрьской забастовки служащих.
«Говорят, чиновничья забастовка вызвана тем, что большевики являются якобы захватчиками власти, что они насильственно свергли законно-существовавшее временное правительство. Так ли это и состоятельно ли предъявляемое в этом отношении к большевикам обвинение?»
Отвечая на этот вопрос, автор статьи совершенно резонно указывает, что вся история революционной власти сводится к последовательным ее захватам со стороны разновременно сменяющих друг друга ее носителей…
«В момент Февральского переворота Государственная дума была распущена, притом распущена указом, последовавшим в полном согласии с действовавшим в то время законом. Не подчинившись ему, признав себя носительницею и источником не принадлежавшей ей, по закону, верховной власти — Дума несомненно совершила революционный акт, произвела насильственный захват власти…
А на каком законе основано существование учрежденного в революционные дни г. Родзянкою думского комитета и не является ли его образование выхватыванием власти у Государственной думы?..
Но временное правительство первого, гучковско-милюковского, состава хоть получило свое начало от Комитета Думы. Ну, а второй состав, с сохранением председательства Львова, но с участием предварительно выхолощенных от всякого социализма социалистов? А состав правительства Керенского? От кого получили они свои полномочия? Единственный их источник — ссылка якобы на волю революционного народа»…
Почему же, задается вопросом автор, чиновничество, то самое чиновничество, которое служило царской власти, примирилось с переворотом, а затем служило и буржуазному и коалиционному кабинетам Львова и не ^протестовало даже против самодержавного самовластия Керенского, вдруг забастовало, когда власть захватили большевики?
Вопрос риторический.
Вся статья и построена как цепь вопросов. На любое критическое замечание в адрес большевиков следует вопрос: а вы сами разве иначе поступали, когда были у власти?
Отметим, что критика трех кабинетов Временного правительства абсолютно справедлива, и, если бы она прозвучала до Октябрьского переворота, возразить на нее было бы нечего. Но поскольку критика эта звучит, когда власть уже захвачена большевиками, критика Временного правительства становится оправданием беззакония. Автор статьи как бы забывает, что страдают от беззакония большевиков не только буржуазные политики, сами творившие беззаконие, а русский народ…
Разбирая послание Милюкова, мы говорили, что Павел Николаевич, воруя у России победу в войне, не об интеллигенции думал и даже не о евреях, права которых столь ревностно защищал, а прежде всего о самом себе, о своем месте в политике и коридорах власти.
Точно так же, судя по разобранному нами наброску статьи, и Иосиф Васильевич Ревенко не о государе печалился[28].
И не о русском народе.
5
Может быть, и не стоило бы так подробно разбираться в бесхребетном политиканстве «русского патриота» Иосифа Ревенко, но судьба его — не только его судьба, эта судьба несет в себе тот страшный вирус, что поразил русское патриотическое движение в начале прошлого века.
В самом деле…
Движение «Союза русского народа» возникло в минуту грозной опасности, нависшей над Россией в 1905 году…
Воистину народное, воистину православное, это русское движение сумело наполнить жизненной силой казенную триаду «самодержавие, православие, народность», и не только вывело страну из революционного кризиса, но и четко обозначило путь, продвигаясь по которому, страна могла, не опасаясь революционных угроз, достичь невиданного духовного и материального процветания.
Увы!..
После кончины святого праведного Иоанна Кронштадтского, молитвенной (и не только молитвенной) поддержкой которого и скреплялось русское единство, «Союз русского народа» начинает разваливаться.
Способствовало этому и активное сопротивление деятельности «Союза» царской администрации, которая не боялась идти тут наперекор воле самого государя, сыграли свою роль и злобные наскоки социализированной образованщины, но главная беда заключалась во внутренних нестроениях, поразивших «Союз русского народа».
Скучно и бессмысленно описывать перипетии отношений А.И. Дубровина, Н.Е. Маркова, В.М. Пуришкевича. Дрязги, в которые погрузилось руководство русского патриотического движения, не имеют иного содержания, кроме того, что руководство движения не сумело поставить интересы России выше личных амбиций, не сумело пожертвовать ради общего дела личными пристрастиями, не нашло силы освободиться от собственных обольщений и заблуждений.
И дело тут не только в жестокой борьбе за власть, которая развернулась внутри «Союза русского народа».
Самое страшное, что в результате этой борьбы осмысление реального исторического пути Российской империи оказалось подменено сусальным мифотворчеством. Вместо того чтобы реально попытаться объединить русское общество, расколотое на благородное и подлое сословия, идеологи «Союза русского народа» начали замазывать эти противоречия.
Образчиком такой исторической штукатурки может служить речь, сказанная 19 февраля 1911 года на торжественном собрании «Союза русского народа» по случаю юбилея отмены крепостного права.
Было объявлено, что не только крестьяне, но все сословия долгое время были крепостными у государства, ибо этого требовали интересы Отечества. Крестьяне отличаются только тем, что позже других получили освобождение. Но теперь все это позади и надо бороться с опасностью нового закрепощения русского народа «господином жидом».
Любопытно, что произнес эту речь Виктор Павлович Соколов-Горбатый, которого так активно и разыскивал в мае—июне 1918 года Моисей Соломонович Урицкий…
И вроде бы ни к чему полемизировать с Виктором Павловичем, поскольку, как мы знаем, опасения его блистательно подтвердились…
Все так…
Только ведь потому и подтвердились опасения, потому и произошла в России катастрофа 1917 года, что вплоть до самой революции вожди «Союза русского народа» пытались оправдать дворянское рабовладение интересами — редкостный цинизм! — Отечества.
Разумеется, не надо преувеличивать общественного значения доклада Виктора Павловича Соколова. Не столько людей и слышало его, но тут не в докладе дело, а в настрое всего общества. Вплоть до самой революции, до падения монархии повсюду висели вывески «Нижним чинам вход запрещен».
И разве хоть одну такую вывеску снял товарищ председателя «Союза русского народа»? А ведь если бы сделал это, а не доказывал, что обращать своих соотечественников в рабство — это в интересах Отечества, может быть, и не пришлось бы ему тогда бежать из этого самого Отечества от Моисея Соломоновича Урицкого…
И не нужно было бы тогда бывшему председателю Николаевского отделения «Союза русского народа», бывшему секретарю Совета монархических съездов, а ныне обитателю камеры в «Крестах» (прием № 2998) Иосифу Васильевичу Ревенко униженно молить Моисея Соломоновича Урицкого о пощаде:
«Гр. Председатель!
Я все еще продолжаю уже три месяца сидеть в тюрьме совершенно безвинно, по одному только предположению в якобы причастности моей к контрреволюции, хотя ни в чем перед Советской властью не повинен ни словом, ни делом.
Вся моя жизнь и деятельность с Октябрьской Революции протекала вся под полным контролем Совдепа Городского района и комиссара М.И. Лисовского в полном с ним контакте»{118} …
Нет…
Моисей Соломонович Урицкий не внял мольбе «большого приятеля». Сантименты были не свойственны ему, а Иосиф Васильевич Ревенко по всем показателям подходил для расстрела.
Не спасла Иосифа Васильевича и смерть «приятеля». После убийства Урицкого чекисты все равно расстреляли его.
Правда, расстреляли даже не за «Каморру», а просто так…
В постановлении, написанном почти через три месяца после расстрела, сказано:
«Иосиф Васильевич Ревенко арестован был Чрезвычайной Комиссией 22 мая с. г. по делу “Каморры народной расправы”. Следствием установлено, что Ревенко в организации “Каморры народной расправы” участия не принимал, но, как активный организатор Совета квартальных старост 3-го Казанского подрайона, который (Совет) ставил своей целью под видом официальной организации свержение Советской власти, расстрелян по постановлению ЧК 2 сентября с. г.»{119}.
Это было больше похоже на насмешку.
И не только потому, что постановление принято спустя три месяца после расстрела, но и потому, что все руководители Совета квартальных старост 3-го Казанского подрайона, за исключением Иосифа Васильевича Ревенко, были отпущены на свободу.
В постановлении по делу секретаря Совета квартальных старост Анатолия Михайловича Баталина так прямо и написано:
«Ввиду того, что теперь почти миновала надобность в заложниках, ЧК постановила Анатолия Баталина из-под ареста освободить и настоящее дело о нем дальнейшим производством считать законченным»{120}.
Читаешь постановление о расстреле Иосифа Васильевича Ревенко и словно бы видишь «мягкую, застенчивую» улыбку Моисея Соломоновича Урицкого, сумевшего даже с того света порадеть «большому приятелю».
Недешево стоило место в избирательном списке «Союза русского народа» по городу Николаеву…
Расплачиваясь за него в 1912 году, Ревенко «покрыл некоторые расходы этих организаций, как по выборам, так и в частности, за что был избран почетным членом и попечителем бесплатной начальной школы Союза русского народа»…
Ну а теперь Ревенко пришлось выложить за место в избирательном списке «Союза русского народа» саму жизнь, ибо иной валюты от лиц, записанных Урицким в «черносотенцы», в Петроградской ЧК не принимали!
Рассказ о безрадостной, но вполне заслуженной судьбе И.В. Ревенко мне бы хотелось завершить словами Василия Шульгина, сказавшего:
«Мы хотели быть в положении властителей и не властвовать. Так нельзя. Власть есть такая же профессия, как и всякая другая. Если кучер запьет и не исполняет своих обязанностей, его прогонят. Так было и с нами — классом властителей. Мы слишком много пили и ели. Нас прогнали. Прогнали и взяли себе других властителей, на этот раз “из жидов”. Их, конечно, скоро ликвидируют. Но не раньше, чем под жидами образуется дружина, прошедшая суровую школу».
В каком-то смысле эти слова Шульгина оказались пророческими.
И.В. Сталину в результате еврейско-кавказской войны в политбюро действительно удалось если не «ликвидировать», то во всяком случае поубавить число иноплеменных «властителей». Постепенно страна начала приходить в себя, но к этому времени верхушка власти вновь впала в греховное ничегонеделание, и снова ее изгнали, и снова все повторилось в соответствии с рецептом Шульгина…
Только вот вопрос: образуется ли и теперь прошедшая суровую школу дружина, которая сможет изгнать новых правителей?
Или же мы все обречены, всей страной, на гибель?
6
В июне вместе с белыми ночами наступили в Петрограде черные дни.
Гомеопатические хлебные пайки делали свое дело — смолк хохот революционной улицы, темными от голода стали глаза у прохожих. И с каждым днем все отчетливее замаячил над городом зловещий призрак холеры.
Когда перелистываешь подшивки петроградских газет, буквально ощущаешь надвигающееся на город безумие. Среди новостей политики, среди сообщений с фронтов — небольшие заметки:
«Строится трупная машина»[29] …
«Китайцы в городе едят детей»…
«Из-за голода бросилась под поезд Варя Эристова — жена офицера»…
А рядом?
«В двух шагах ходьбы от участка мне бросился в глаза освещенный ряд окон кафе… Вид зала поразил меня. Его заливал необычный свет мощных электрических ламп — свет яркий, белый, ослепительный. У меня зарябило в глазах от красок.
Мундиры синие, красные, белые — образовывали цветную радостную ткань. Под сияющими лампами сверкало золото эполет, пуговиц, кокард, белокурые молодые головы, черный блеск крепко вычищенных сапог светился недвижимо и точно. Все столики были заняты германскими солдатами. Они курили длинные черные сигареты, задумчиво и весело следили за синими кольцами дыма, пили много кофе с молоком. Их угощал растроганный рыхлый старый немец, он все время заказывал музыкантам вальсы Штрауса и «Песню без слов» Мендельсона.
Крепкие плечи солдат двигались в такт с музыкой, светлые глаза их блистали лукаво и уверенно. Они охорашивались друг перед другом и все смотрели в зеркало. И сигары, и мундиры с золотым шитьем совсем недавно были присланы им из Германии.
Среди немцев, глотающих кофе, были всякие: скрытные и разговорчивые, красивые и корявые, хохочущие и молчаливые, но на всех лежала печать юности, мысли и улыбки — спокойной и уверенной»{121}.
5 июня в Петрограде хоронили Г.В. Плеханова. На этих похоронах большевики окончательно порывали с былыми соратниками. Никто из большевиков на похороны Плеханова не пошел.
«На похороны ихнего Плеханова, — объяснил это решение Г.Е. Зиновьев, — несомненно, выйдет вся корниловская буржуазия. Для нас Плеханов умер в 1914 году».
9 июня советское правительство объявило об обязательной воинской службе, а 11 июня ВЦИК принял декрет об организации комитетов деревенской бедноты (комбедов). Главной задачей этих комитетов была помощь местным продовольственным уполномоченным в отыскании и изъятии у кулаков запасов зерна. Комбедам поручалось распределение предметов первой необходимости и сельскохозяйственных орудий.
Считается, что этот декрет спас советское правительство от восстания крестьян. Каждая деревня оказалась ввергнута в собственную внутреннюю борьбу, и это сделало невозможным всеобщее крестьянское движение против большевистского правительства…
Как с крестьянами, вели себя большевики и с ближайшими соратниками — эсерами. Участие меньшевиков и правых эсеров в чехословацком мятеже дало возможность большевикам совместно с левыми эсерами провести совместную акцию их наказания.
14 июня Совет народных комиссаров издал декрет об исключении из всех местных Советов меньшевиков и эсеров, а на следующий день было проведено постановление об исключении представителей этих партий из состава ВЦИК.
У власти в стране остались всего две партии, и левые эсеры (во всяком случае их лидеры) были вполне довольны таким положением дела. Известны слова Марии Спиридоновой, заявившей, что порвать с большевиками — значит порвать с революцией.
Другое дело большевики.
Власть — вся целиком! — была нужна им, чтобы уцелеть, срочно требовалось принять разработанную при участии В.И. Ленина Конституцию РСФСР, а для этого надо было иметь на съезде уверенное большинство.
Сохранялись и идейные разногласия.
Если у эсеров еще оставались какие-то идеалы, то для большевиков смысл революции уже давно свелся к защите революции, то есть самих себя[30]. И в борьбе за власть, на пути уничтожения многопартийной системы они не собирались останавливаться на двухпартийности.
В Петрограде на июнь были назначены новые выборы в Петросовет.
«Буржуазия», разумеется, к выборам не допускалась, и основная борьба за депутатские мандаты развернулась между эсерами и большевиками.
Г.Е. Зиновьев не мог не знать, что Гражданская война уже началась, что отборные латышские части сумели втянуть в вооруженный конфликт Чехословацкий корпус, но с поразительным бесстыдством он кричал, брызгая слюной, на митингах: «Если правые эсеры возьмут власть, то на русской территории начнется кровавая бойня разных народов, так как эти господа должны будут возобновить военные операции согласно их оборонной программе! А вы знаете, товарищи, что значит для страны, когда на ее территории сражаются чуждые народности? Полное опустошение и смерть вас тогда ожидают!»
Что значит для страны, когда на ее территории сражаются чуждые народности, демонстрировали сами большевики…
Мы уже говорили, что дело «Каморры народной расправы» было задумано Зиновьевым, Урицким и Володарским как мероприятие, способствующее консолидации еврейского населения Петрограда перед угрозой якобы надвигающихся погромов.
В принципе, свою пропагандистскую роль дело «Каморры» уже сыграло, чекисты кое-как смастерили нечто похожее на антисемитский заговор, и теперь надо было завершать это дело, как завершил, спрятав в кровь все концы, дело «Союза защиты Родины и свободы» Феликс Эдмундович Дзержинский.
Но Дзержинский был «человеком взрывчатой страсти, его энергия поддерживалась в напряжении постоянными электрическими разрядками расстрелов», а Моисей Соломонович Урицкий, по словам Г.Е. Зиновьева, был «один из гуманнейших людей нашего времени, неустрашимый боец, человек, не знавший компромиссов», но вместе с тем «добрейшей души».
И вот вместо того чтобы расстрелять всех арестованных, как это сделал бы Феликс Эдмундович, «добрейшей души» Моисей Соломонович, сдерживая раздражение, продолжал по просьбе товарища Зиновьева кропотливо «перебирать людишек» в Петрограде…
Петроградские чекисты хватали офицеров из полка охраны Петрограда, представителей союза квартальных старост, а чекист Иосиф Фомич Борисенок вломился даже в бюро частного розыска.
Непонятно, какую контрреволюцию и антисемитизм рассчитывал он найти там, но это и неважно, потому что в бюро частного розыска Иосиф Фомич увидел мешок сахару и, позабыв от жадности все наставления, арестовал служащих бюро как спекулянтов, а сахар реквизировал в пользу Петроградской ЧК…
По просьбе Григория Евсеевича Зиновьева Моисей Соломонович Урицкий превратил дело «Каморры народной расправы» в своеобразное сито, через которое можно было перетряхнуть все русское население Петрограда.
О серьезности этих намерений свидетельствует тот факт, что уже в начале июня был отпечатан стандартный бланк:
«К делу …… “Каморра нар. распр.” от …… 1918 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Гражданин …… был арестован Чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Петроградском Совдепе по ордеру названной Комиссии от “…” …… с/г за № …… как заподозренный в принадлежности к контрреволюционной организации “Каморры народной расправы”.
Произведенным Комиссией следствием путем тщательного просмотра его деловых бумаг и переписки и допросов его и других лиц установлено, что гражданин …… никакого отношения к вышеозначенной погромной организации не имеет.
На основании вышеизложенного Чрезвычайная Комиссия постановила:
1. Гр. …… от предварительного заключения освободить
…… 1918 года;
2. Настоящее дело о нем производством прекратить и сдать в архив Комиссии.
“…”…… 1918 г. Председатель:
№ …… Следователь».
Разумеется, неверно было бы думать, что счастливец, фамилию которого после долгих месяцев, проведенных в камере «Крестов» или подвалах на Гороховой, заносили в заранее отпечатанный бланк, прощался с чекистами навсегда.
Нет.
С каждого брали подписку о невыезде…
Прослеживая дальнейшую судьбу освобожденных от ответственности по делу «Каморры народной расправы», видишь, что многие из них через месяцы, а иногда и через годы снова возвращались в чекистские застенки.
Да и на свободе, как мы видим по материалам дела, Моисей Соломонович Урицкий заботливо продолжал опекать тех своих подследственных, на кого он положил глаз…
У арестованных чекистами офицеров полка по охране Петрограда Владимира Борисовича Никольского и Николая Александровича Шлетынского были обнаружены явно контрреволюционные стихи:
И все-таки офицеров, вписав их фамилии в стандартный бланк и изъяв у них только эти стихи да еще золотые вещи, отпустили.
И судьба их могла бы служить доказательством того, что и подручные товарища Урицкого не лишены были некоего гуманизма, если бы не сохранился в деле еще один любопытный документ…
«Председателю ЧК Урицкому.
РАПОРТ.
Доношу, что бывшие лица командного состава Николай Шлетынский и Владимир Никольский еще до получения Вашего распоряжения за № 2984 от 8-го июня с. г. исключены из списков полка 31 мая с. г.
Командир полка по охране города Петрограда»{123}.
Здесь надо вспомнить, что оба офицера говорили на допросах об «исключительно стесненном материальном положении», заставившем поступить в полк, и конечно же оставить их без работы, лишить их за любовь к стихам последних средств к существованию что-нибудь да значило.
Но с другой стороны: а как же иначе?
Моисей Соломонович понимал, что контрреволюционеров для «настоящей кристаллизации», то бишь для Гражданской войны, надо воспитывать, а не ждать, пока эти самые контрреволюционеры появятся…
И все-таки поразительно, что, и охваченный «экстазом», мы опять пользуемся гениальным выражением Максима Горького, чекистской работы, товарищ Урицкий нашел время для сочинения распоряжения № 2984!
И все-таки поразительно (это ведь Урицкий так поставил ЧК!), что командир полка не стал дожидаться официального распоряжения Урицкого, а уволил офицеров сразу, как только их арестовали!
А офицеры что ж…
Как это было написано в «Молитве из действующей армии», изъятой у Николая Шлетынского?
И еще там страшная строчка была: «Нам смерть широко открывает объятия…» Вот в эти объятия и подталкивал молоденьких офицеров Моисей Соломонович Урицкий.
Так… Между делом…
В «экстазе», как выразился бы писатель Максим Горький, русофобии и человеконенавистничества.
7
У несчастных обитателей застенков Моисея Соломоновича Урицкого оставались на свободе отцы и матери, братья и сестры, дети и жены. Наконец, оставались просто близкие люди и сослуживцы, жизнь которых тоже менялась с этими арестами.
«Так как от моего заключения зависит состояние приюта, богадельни и домов Комиссариата призрения, переданных мне в заведование Отделом социальной помощи, то я очень прошу указать хотя бы приблизительный возможный срок моего освобождения, чтобы я мог решить, как мне поступить в дальнейшем с указанными учреждениями»…
Документами, подобными этому, пестрит дело «Каморры народной расправы». И вообще, когда читаешь его, трудно отделаться от впечатления, что многие аресты и изъятия производились специально, чтобы затруднить и без того нелегкую жизнь петербуржцев.
Видимо, тут генеральная линия Моисея Соломоновича на принудительное ускорение «кристаллизации» удачно совмещалась со стремлением рядовых чекистов к «превосходной» жизни.
В уже упомянутом нами рассказе «Дорога» Исаак Бабель сообщает, что после разговора с Урицким «не прошло и дня, как все у меня было, — одежда, еда…»
Откуда бралась еда в голодном городе, становится понятно, когда просматриваешь ордера на аресты, подписанные Урицким.
Моисей Соломонович требовал, чтобы при арестах изымались документы, деньги и золотые вещи. Чекисты, проводившие обыски, как это видно из протоколов, изымали еще и продукты питания, а также вино и вообще понравившиеся им предметы обихода.
И действовали они так по благословению самого Григория Евсеевича Зиновьева, который 29 мая на экстренном заседании Петросовета сказал: «Если и нужно будет кого-нибудь перевести на солому, то в первую голову мы переведем на солому буржуазию»{124}.
Так вот, если же прибавить к этому тревогу за судьбу брошенного в застенок родственника, положение ограбленных людей становилось воистину трагическим. Даже документов, чтобы устроиться на работу и как-то прокормить себя, чекисты не оставляли им.
И все-таки многие и в этой бесчеловечной ситуации находили в себе силы оставаться людьми. Продавая последнее, собирали они передачи арестованным родственникам, писали прошения, нанимали адвокатов…
Обойтись без рассказа о судьбе этих людей в нашей книге нельзя, потому что их страдания и муки неотъемлемы от жизни Петрограда в июне 1918 года…
Мужа Анны Яковлевны Мухиной арестовали в ночь на 22 мая, когда были произведены основные аресты по делу «Каморры народной расправы».
Об этом свидетельствуют прошение поверенного В.И. Булавина: «В ночь на 22 мая в квартире своей был арестован веритель мой Василий Петрович Мухин…» — и сами чекисты в постановлении о прекращении дела Мухина в связи с расстрелом его: «Василий Петрович Мухин был арестован 22 мая 1918 года»{125} …
Однако, как мы и говорили, в этом же томе вшит ордер на арест В. Мухина и «других мущин», датированный 3 июня{126}.
Видимо, в суете того июньского дня Моисей Соломонович позабыл даже, что Василий Петрович Мухин уже арестован, и подмахнул товарищу Юссису ордер № 352 на его новый арест…
Спешка ли, растерянность ли заставили Урицкого послать своих подручных арестовывать уже арестованного человека — мы не знаем. Однако, почему Урицкий выбрал именно Василия Петровича Мухина на роль финансиста погромщиков, попытаемся понять.
Ну, во-первых, Мухин был достаточно богатым человеком.
Во-вторых, он был знаком с Л.Т. Злотниковым. Злотников заходил к Мухину, прочитав объявление о сдаче внаем комнаты…
Конечно, В.П. Мухин твердил на допросах, дескать, никаких денег Злотникову ни через Егорова, ни лично не давал…
— Таких сумм, как вы указываете, я не давал… — говорил он Байковскому. — Да и что теперь на двести или четыреста рублей можно сделать? Я человек состоятельный, и если бы дал, то дал бы гораздо больше!
Наверное, Байковский, хотя у него, как у чекиста, и не возникало нужды покупать продукты самому, мог все же знать, что на двести рублей в Петрограде в мае 1918 года можно было купить по случаю килограмма три сахара, но организовать на эти деньги погромную организацию конечно же было затруднительно.
Впрочем, какое это имело значение?
Ведь ни Урицкий, ни тем более Байковский не предполагали, что дело «Каморры народной расправы» кто-то будет потом изучать, поэтому и нужды изображать правдоподобие они не ощущали…
Они подходили к делу с другой стороны.
Мог Мухин дать деньги?
Мог…
В дело вшито прошение рославльских гимназисток:
«Принимая во внимание, что мы, ученицы 2-й Рославльской гимназии, своим образованием обязаны Василию Петровичу Мухину, который построил здание гимназии, дал средства на нее, многих из нас содержит на своих стипендиях, мы не можем оставаться равнодушными к судьбе человека, таким щедрым образом облагодетельствовавшего бедноту города Рославля»{127}.
Гимназия, конечно, не погромная организация, но и в большевистскую концепцию устроения России она тоже не вписывается… Зачем содержать на стипендиях гимназисток, если эти деньги могут быть использованы на нужды чекистов?
Вероятно, это соображение и решило судьбу миллионера…
Но вернемся к Анне Яковлевне Мухиной…
Она, разумеется, даже не догадывалась, что судьба ее супруга, которого она, несмотря на большую разницу в возрасте, и любила, и уважала, предрешена Моисеем Соломоновичем.
После ареста мужа она осталась с тремя детьми, старшему из которых было восемь лет, практически без средств и вынуждена была отпустить и француженку-гувернантку, и кухарку, и няню.
Кроме того, жить одной ей было и небезопасно.
В.В. Мирович, задержанный в конце июня на квартире у Мухиной, рассказал, что Анна Яковлевна просила его «заходить к ней каждый день, чтобы оградить от различных людей, желающих воспользоваться ее тяжелым положением»{128}.
Как можно понять из документов, особенно досаждал Анне Яковлевне некий коммунар Штрейзер, который под видом устройства «засад» то и дело вламывался в квартиру.
И только поражаешься мужеству этой женщины: оставшись без средств, с малолетними детьми на руках, она находит в себе силы хлопотать о муже.
«Мой муж — хороший семьянин, чуждый какой бы то ни было политики, скромно жил со мною и малолетними детьми…
Вся его жизнь — как на ладони и мне прекрасно известна.
Он много отдавал времени заботам о своей семье, воспитанию своих детей. Еще он состоял попечителем гимназии в г. Рославле Смоленской губернии, часто ездил туда по служебным обязанностям, принимал глубоко к сердцу интересы учащейся молодежи во вверенной гимназии.
Состояние его здоровья таково, что, в связи с преклонным возрастом, делает для жизни опасным долгое заключение, которому он подвергается…
Очень прошу вас, отпустите моего мужа на мои поруки»{129}.
Урицкий, получив это прошение, принял Анну Яковлевну и долго беседовал с ней.
И это тоже понятно. Среди различных документов, вшитых в дело Мухина, есть и нацарапанные — не коммунаром ли Штрейзером? — анонимные записочки, примерно одного содержания: «Где деньги Мухина находятся, известно француженке и жене».
Как же после этого мог не принять Моисей Соломонович гражданку Мухину? Чтобы выяснить, где находятся деньги, он принял ее и — более того! — разрешил свидание с мужем.
«Она нашла мужа своего в ужасном состоянии, — описывает это свидание поверенный В.И. Булавин. — Он обратился в полутруп, его хроническая сердечная болезнь и расширение суставов в заключении обострились и дальнейшее его содержание под стражей, конечно, повлечет за собой смертельный исход. Нравственное состояние его ужасно, он беспрерывно плачет. Конечно, по существу обвинения Мухин ничего объяснить не мог своей жене, говоря лишь, что он ни в чем не виновен»{130} …
После этого свидания состоялась вторая встреча Моисея Соломоновича Урицкого с Анной Яковлевной Мухиной.
Увы… Анна Яковлевна разочаровала его. Она так и не сумела выведать у мужа, где его деньги…
Вернее, и не попыталась даже выведать.
Увидев своего несчастного супруга, она разрыдалась и позабыла про все наставления Моисея Соломоновича…
Анна Яковлевна даже и не понимала, о чем спрашивает ее шеф Петроградской ЧК. Чрезвычайно огорчившись, Моисей Соломонович отпустил гражданку Мухину. Каково же было его удивление, когда на следующий день ему подали новое прошение.
«Товарищ Урицкий!
Прежде чем написать Вам это письмо, я очень много думала. Думала о том, поймете ли Вы меня и исполните ли мою просьбу, эти строки — незаметное, но дышащее глубокой искренностью письмо, письмо к Вам, как к доступному человеку, как к товарищу, к которому можно обратиться с просьбой свободно, без страха.
Быть может, после первого Вашего приема я не решилась бы больше никогда обратиться к Вам, надоедать Вам, но после же второго разговора с Вами я решаюсь поговорить с Вами откровенно, как с добрым товарищем.
Моя просьба заключается в том, чтобы освободить моего старого, больного мужа, Василия Петровича Мухина, которому такое долгое заключение, думаю, будет не перенести.
Горячо прошу Вас исполнить мою просьбу, во-первых, потому, что он совершенно невиновен, а во-вторых, хочу его спасти в благодарность за то, что он когда-то меня, дочь бедного труженика-пекаря, а также всю мою многочисленную до крайности бедную семью спас от голодной смерти, и впоследствии женился на мне, поднял на ноги моих сестер и братьев, помогал старым, больным, совершенно бедным родителям, которые ведь и до сих пор только и живут благодаря его помощи.
Еще раз прошу Вас, товарищ Урицкий, исполните мою горячую искреннюю просьбу — освободите его во имя его тяжелого, болезненного состояния, во имя малолетних детей моих, меня и моих бедных родителей, могущих остаться без крова и куска хлеба, т.к. у меня ничего нет… Умоляю, не оставьте моей просьбы, а дайте возможность дочери бедного труженика отблагодарить своего мужа этим освобождением за все добро, им содеянное мне и моим родным.
Во исполнение моей просьбы буду вечно Вам благодарна.
Гражданка Анна Мухина»{131}.
Легко представить себе изумление Моисея Соломоновича, прочитавшего это послание.
Ай-ай-ай… Эта глупая русская женщина даже и не поняла, чего он добивался от нее… Она даже не сумела выпытать у своего старого мужа, где его деньги! А ведь он, Моисей Соломонович, объяснял ей, что немножко из этих денег он, может быть, даст и ей с детьми…
От возмущения бутерброд, который кушал товарищ Урицкий, вывалился из пальцев, и на прошении осталось жирное пятно. Моисей Соломонович поставил стакан с чаем на бумагу — этот след тоже сохранился на документе! — протер платочком жирные пальцы и, заправив за ухо засалившийся шнурок пенсне, начертал на прошении: «К делу!»
Более прошений от Мухиной в Петроградской ЧК уже не принимали.
Да и зачем?
Ведь деньги Мухина отыскались — они лежали в банках.
Следствие, таким образом, было завершено.
Об этом и сообщили Анне Яковлевне Мухиной в конце 1918 года.
«После установления следствием преступления Мухина на капиталы его, находящиеся в Народном банке, наложен был арест, сам же Мухин по постановлению ЧК 2 сентября с. г. расстрелян.
На основании вышеизложенного Чрезвычайная Комиссия определяет: капитал В. Мухина, служивший средством борьбы с Советской властью и находящийся в Народном (бывшем Государственном) банке и во 2-м отделении Народного (бывшего Московского купеческого) банка, конфисковать, наложенный на него арест снять и деньги перевести на текущий счет Чрезвычайной Комиссии и настоящее дело дальнейшим производством считать законченным.
Копию настоящего постановления через домовую администрацию вручить Анне Яковлевне Мухиной, бывшей жене расстрелянного».
Вот, пожалуй, и все, что можно рассказать о «бывшей жене расстрелянного» Василия Петровича Мухина, просившей Моисея Соломоновича Урицкого как товарища, к которому можно обратиться с просьбой свободно, без страха, отпустить больного мужа ей на поруки.
8
Если мы сравним биографии Василия Петровича Мухина и Захария Петровича Жданова, также арестованного в эти июньские дни по делу «Каморры народной расправы», то обнаружим в этих биографиях «основного исполнителя» и «дублера» немало сходного.
Как и Мухин, Захарий Петрович Жданов был весьма состоятельным человеком. До 1913 года он даже держал в Петербурге банковский дом «Захарий Жданов».
Другое дело, что Мухин был богат от рождения, существовал «на личные средства, доставшиеся от отца, который в свою очередь получил их тоже от своего отца», а Захарию Петровичу Жданову в жизни пришлось пробиваться к финансовому успеху своими собственными силами.
«Я происхожу из крестьян Ярославской губернии, тринадцати лет отроду был привезен в Петроград. Образование получил на медные пятаки… — рассказывал он на допросе. — Я “сам себя сделал”. Исключительно своим трудом, своею русскою сметкою достиг до верхов коммерческого благополучия»…{132}
Это, однако, не помешало им одинаково распорядиться своими состояниями.
Василий Петрович Мухин основные свои средства вложил в женскую гимназию и коммерческое училище для мальчиков в городе Рославле Смоленской губернии. Точно такие же планы были и у Захария Петровича Жданова.
«В отобранных у меня при аресте бумагах находится составленное мною шесть лет назад завещание на случай моей смерти. По прочтении завещания Вы, господин председатель, убедитесь, что все свое состояние без остатка я возвращаю народу, из которого вышел и выбился. Я назначаю состояние исключительно на нужды просвещения».
Видимо, это обстоятельство и возмутило Моисея Соломоновича Урицкого, считавшего, что для русского народа органы ЧК более необходимы, нежели какое-то просвещение.
Состояния Мухина и Жданова необходимо было перевести на текущий счет Петроградской ЧК, а не расфукивать по пустякам… И поскольку «экстаз» чекистской работы всегда совмещался в Моисее Соломоновиче с редкостной практичностью, выработанной еще с юношеских лет, когда революционную деятельность он совмещал с семейным бизнесом в лесной торговле, он и сейчас живо смекнул и определил Мухина главным финансистом погромщиков.
Ну а Захарию Петровичу Жданову — все должно быть предусмотрено в деле! — отводилась роль «дублера»…
Разумеется, Захарий Петрович и не подозревал до поры, на какую роль готовят его. Через два с половиной месяца заключения он напишет в заявлении на имя Урицкого:
«Хотя никакого обвинения до сего времени не предъявлено, однако из проходившего в Вашем кабинете, при свидании с женой, разговора я узнал, что меня обвиняют в пожертвовании на некую погромную организацию, под фирмой “Каморра народной расправы”. По этому поводу я позволю себе обратить Ваше внимание на следующее:
1. О существовании погромной организации, названной вами, я впервые узнал в арестном помещении на Гороховой, 2 <…>
6. Погромщиком я никогда не был… Будучи антисемитом, а тем паче погромщиком, нельзя всю рабочую жизнь проводить среди евреев. Между тем вся моя жизнь, все мои коммерческие обороты я веду только с евреями, работая на бирже, где евреев девяносто пять процентов общего состава, — и за все время никто и никогда меня погромщиком не считал»{133}.
Неосведомленность Захария Петровича по поводу финансирования им «Каморры народной расправы» не должна удивлять нас. Ведь Василий Петрович Мухин тоже только беспрерывно плакал и «по существу обвинения ничего объяснить не мог своей жене, говоря лишь, что он ни в чем не виновен».
Не блещет оригинальностью и аргументация З.П. Жданова в пользу своей непричастности к погромщикам из «Каморры».
Тут надо отметить, что даже когда обвинение и не было сформулировано, все допросы велись так, что подследственный должен был доказывать, чего хорошего он сделал для евреев в своей жизни.
И доказывали.
Вернее, пытались доказать…
«Лучшим доказательством того, что я чужд всяких антисемитских выступлений, служит то, что я, составляя списки счетчиков в предстоящую перепись, включил в число счетчиков служащих управы, среди которых есть и евреи»{134} …
Выходило смешно, глупо, а главное, как-то унизительно, но ведь именно этого и добивался Моисей Соломонович от арестантов.
Факта знакомства со Злотниковым Захарий Петрович не отрицал: «Эта фамилия мне известна… Однажды я прихожу домой и мне подают записку, принятую по телефону, в которой сказано, что Злотников просит указать время, в которое я мог бы его принять, но по какому делу, я совершенно не знаю. Никакого свидания я ему не назначил и конечно не принял, так как на следующий день уехал на источник, но если бы не уехал, то тоже не назначил бы, так как в последнее время почти никого не принимаю, в особенности со свежей фамилией…»{135} Однако судьба его сложилась в Петроградской ЧК иначе, нежели судьба Василия Петровича Мухина.
Если Мухина расстреляли, то Захария Петровича с миром отпустили на волю.
Это так не похоже на Урицкого и его помощников, что приходится заново перечитывать документы следственного дела З.П. Жданова в попытке понять, чего же такого хорошего он сделал для евреев, что сумел пронять несгибаемых чекистов…
Секрет спасения Захария Петровича, как мне кажется, сформулирован в той самой выделенной нами фразе, где он говорит, что, дескать, все свои коммерческие обороты вел только с евреями.
На первый взгляд ничего особенного тут нет, если рассматривать эту фразу в общей тональности допросов.
Но есть в ней и иной смысл.
Скромно, как бы между прочим, сообщает Захарий Петрович Моисею Соломоновичу, что всю жизнь проработал среди евреев-биржевиков и кое-чему научился у них.
И эти слова не были блефом.
Уже на втором допросе Жданов пустился в обстоятельный рассказ о попытке шантажа его, предпринятой задолго до революции. На первый взгляд рассказ выглядит наивным и глуповатым, однако наберемся терпения и послушаем его от начала до конца…
«В свое время, кажется, в 1916 году, во время завтрака в ресторане (Мойка, 24) я был вызван к телефону…
“Вас спрашивает или, иначе, говорит Вам неизвестная. У меня есть срочное к Вам дело, и усердно прошу дать мне свидание”.
На мое замечание, что я никого на квартире не принимаю и дать ей свидание не могу, но в крайнем случае, если я ей необходим, пусть она приедет в ресторан, где я сейчас завтракаю, и я ей дам 10—15 минут для беседы, моя собеседница, назвавшаяся на этот раз Раковскою, ответила на это следующее:
“Господин Жданов, по некоторым соображениям, о которых я доложу Вам при свидании, быть в ресторане Донона мне неудобно. Если вы не можете принять меня у себя на квартире и не хотите приехать ко мне на квартиру, я прошу вас приехать в ресторан Палкина. Но войдите не в общий зал, а в кабинет с подъезда Владимирской улицы, где я вас буду ожидать”.
Мне показалось, что разговор носит искренний характер, барыня говорит взволнованно, в свидании со мной видит свое спасение, и, ввиду того, что в тот период у меня моими служащими была произведена растрата, расследованием которой я занимался, у меня мелькнула мысль, нет ли тут связи с растратой… Я согласился на предложение
Раковской я сказал, что буду через полчаса.
Окончив завтрак, я сел в автомобиль и подъехал к ресторану Палкина с Владимирской улицы. Войдя во второй этаж, спросил у человека, где меня ожидает Раковская.
“Пожалуйте здесь!” — ответил человек и отворил дверь в первый кабинет по правую руку от входа.
Я увидел молодую женщину, достаточно красивую, которая приподнялась с кресла и, назвав себя Раковскою, попросила сесть. Человек вышел, и я остался с Раковской наедине.
На мой вопрос: “На что я вам необходим, сударыня, как вы изволили говорить по телефону?” — Раковская ответила: “У меня к вам совсем небольшое дело, и вы, надеюсь, исполните его. Мне просто нужны деньги, и я думаю их получить у вас”.
Предположив, что передо мной женщина, возможно, очутившаяся в неприятном, стесненном положении, я не придал значения странной форме просьбы.
Я спросил: “Какая сумма Вам нужна, сударыня?” — предполагая, что дело идет о ста—двустах рублях. Я хотел дать таковые, но Раковская сказала: “Мне нужно 25 тысяч рублей, и вы должны дать мне их”.
На этот раз я понял, что передо мной, по-видимому, шантажистка.
Отвергнув ее предложение, я сказал, что ее номер успеха иметь не может, я ее не знаю, но вижу, что она принадлежит к авантюристкам.
Отворив дверь, я пригласил официанта и рассказал ему, в чем дело. Затем сел в автомобиль и поехал к себе на квартиру. Через полчаса ко мне на квартиру позвонил местный пристав, лично меня знавший, и сказал буквально следующее:
“Сейчас в наш участок явилась некая Раковская и просила составить протокол о том, что сегодня по предложению своего сожителя З. Жданова она явилась в ресторан Палкина для объяснения, но последний избил ее”.
Я рассказал приставу, в чем дело, и он предложил мне приехать в сыскное отделение и заявить там о случившемся. Я поехал в сыскное, меня принял помощник начальника Игнатьев (ныне, кажется, состоит помощником начальника милиции). Я рассказал ему все дело.
“Не Раковская ли это была?”
“Да, Раковская…” — ответил я.
Игнатьев вышел из кабинета и возвратился с кипой дел в синей папке.
Открыв папку, он дал мне прочесть первое дело. Их, полагаю, было несколько десятков. Дело было надписано: по обвинению Раковской и Раковского в шантажном вымогательстве, кажется, у И. Александрова.
Я сказал Игнатьеву: “В чем же дело? Отчего эти господа не сидят? У вас столько дел о них, и все они, как я полагаю, точные сколки один из другого…”
На это Игнатьев мне ответил: “Дело в том, что Раковский состоит агентом охранной полиции, дает, по всей вероятности, ценные сведения по службе и как-то устраивается так, что при следствии все дела разрешаются в его пользу”.
Во всяком случае, Игнатьев обещал мне вызвать обоих Раковских и, составив о всем протокол, направил к следователю…
Что сталось с делом далее, не знаю.
Раковские более меня, как и сказал мне Игнатьев, не беспокоили в течение двух-трех месяцев, но после этого на меня посыпался целый ряд писем с просьбами Раковской помочь ей. Требования доходили до 25 рублей. Все письма, а последнее, не прочитывая, я отсылал в сыскную полицию. Месяца через два меня совершенно оставили в покое.
В день моего ареста и доставления на Гороховую, 2, в камеру 97, я встретил Раковского, но в то время не мог представить, что он привлекается по делу, в котором подозревается мое участие. Но вчера прибывший из “Крестов” Баталии передал мне, что Раковский привлекается по этому же делу — вот тут и явилось у меня предположение, а не стал ли я жертвой сговора бывшего охранника»{136}…
Если предположения наши верны и Раковский сотрудничал с Петроградской ЧК (а иначе, повторяю, невозможно объяснить, почему этого бывшего сотрудника охранки, человека, посвященного в деятельность погромной организации, отпустили на свободу), то интригу, затеянную Захарием Петровичем Ждановым со своей исповедью, нельзя не признать гениальной.
Рассказывая о попытке шантажа, предпринятой Раковским в 1916 году, он заблаговременно упреждает попытку Урицкого вставить его в дело «Каморры народной расправы». Более того, обронив как бы невзначай, что все обороты он вел только с евреями, Жданов показывает, что и сама комбинация Урицкого уже разгадана им и все ходы против него блокированы.
Насколько верна наша догадка, судить трудно, но Захарий Петрович Жданов сразу после своего заявления был освобожден, хотя освобождение его и вызвало недоумение как у штатных сотрудников ЧК, так и у секретных осведомителей.
В дело подшито донесение неизвестного осведомителя, возмущенного освобождением Жданова:
«Неужели правда, что Жданову Захарию удалось обмануть следственные власти и освободиться из-под ареста? Неужели свободен тот, который уже совершил ряд преступлений, а ряд новых готов совершить?
В прошлом он занимался скупкой золота, платины, спекулировал всем и даже на валюте с целью обесценить русский рубль. Теперь же этот негодяй задался целью способствовать ниспровержению существующего строя и обещает огромную сумму для борьбы с настоящим правительством — Советской властью»{137}.
Так что факт освобождения Захария Петровича Жданова казался удивительным не только нам. Уж в чем в чем, а в гуманизме последователей Моисея Соломоновича Урицкого обвинить трудно.
Но, видимо, были у них веские причины отступить от плана своего учителя и отпустить на волю Жданова, заменив его и менее состоятельным, и менее подходящим из-за возраста и слезливости — Мухиным.
Человек, который «вел все свои обороты с евреями», и тут, у чекистов, сумел мастерски провести свое дело.
Впрочем, ознакомившись с постановлением от 7 декабря, понимаешь, что на этот раз Захарий Петрович напрасно обольщался насчет победы.
В постановлении этом сказано: «До вторичного ареста Жданова, меры к которому приняты, считаю нужным производство следствия по настоящему делу прекратить и таковое сдать в архив».{138}.
Вот в такой оборот попал в Петроградской ЧК недюжинно ловкий делец Захарий Петрович Жданов.
И вывернуться ему — увы — на этот раз не удалось…
9
Вот так и «расследовалось» дело «Каморры народной расправы». Были в ходе «следствия» провалы, были и озарения.
6 июня Байковский получил показания Василия Илларионовича Дворянчикова, что якобы в его фотоцинкографии изготовлена найденная при втором обыске комнаты Л.Т. Злотникова печать «Каморры народной расправы», а 12 июня нужные следствию показания дал и сам Злотников.
Хотя мы уже не раз цитировали этот протокол допроса, но приведем его сейчас целиком, потому что это главный документ обвинения…
12 июня сего года по делу показал: «Мухин лично мне ничего не давал, но через Егорова я получил один раз 200 руб., второй раз — 400 руб. Мухин прислал мне эти деньги на расходы, которые будут сопряжены в связи с напечатанием и рассылкой прокламаций.
Прокламаций этих было разослано мною экземпляров не более тридцати, так как по почте я посылал только в редакции газет, если передавал каким-либо лицам, то лично.
Боброву одну прокламацию я дал. Дело было в воскресенье, он шел еще с одним субъектом, которому я тоже дал, субъект этот вам знаком, так как он служит у вас; это Якубинский, который выдавал себя за члена Сов. Р. и С. Депутатов, за директора каких-то двух фабрик и хозяина одной из шоколадных.
За четверть часа до обыска он у меня был, купил на четыреста рублей картин, деньги за которые, конечно, не заплатил.
Печатал я сам прокламации на пишущей машинке, не желая подводить тех лиц, которые не имеют к этому никакого отношения, места не укажу.
От Жданова я ничего не получал и даже незнаком с ним.
Вся организация “Каморры народной расправы” и ее штаба заключается лишь во мне одном: я ее председатель, я ее секретарь, я и распространитель и т.п.
Хотя знал об этом Раковский, который делал мне заказы, приходил ко мне и знал, где находится печать и т.п. Бобров узнал об этом лишь потому, что я ему вручил прокламацию»{139}.
Протокол допроса — специфический жанр литературы, тем не менее и тут существуют определенные законы. Мы уже отмечали ряд несообразностей, содержащихся в этих показаниях, а сейчас хотелось бы поговорить о допросе в целом.
Как-то с ходу Злотников начинает давать показания на В.П. Мухина. Цена их — жизнь Василия Петровича. Далее Злотников подробно рассказывает о сотруднике Петроградской ЧК Якубинском. И вдруг упирается — начисто отрицает факт знакомства с З.П. Ждановым, который сам этого факта не отрицал, рассказывая о попытке Злотникова дозвониться до него.
Кстати, на следующих допросах Злотников откажется от показаний на Мухина, но по-прежнему будет твердо отрицать даже и факт телефонного звонка Жданову.
В конце же допроса, категорически отказавшись называть людей, у которых он работал на пишущей машинке, Злотников принимает всю вину за организацию «Каморры» на себя, но при этом зачем-то добавляет, что его приятель Раковский знал, «где находится печать, и т.п.».
Весь допрос умещается на одной страничке.
На этой страничке умещается и сразу несколько Злотниковых.
Один, который лжесвидетельствует на старика Мухина, и другой, который благородно защищает Боброва, Жданова и неизвестных владельцев пишущей машинки, впрочем, тут же, как бы между прочим, закладывает своего приятеля Раковского.
Не нужно быть психиатром, чтобы понять: если бы Злотников вел себя так без всякого принуждения — мы имели бы дело с явной патологией.
Конечно, проще всего допустить, что следователь Байковский избивал Злотникова, выбивая из него нужные показания. Косвенно подтверждает это и тот факт, что Злотников как-то очень неуклюже, словно бы разбитыми в кровь губами, формулирует свои признания. Кстати, надо отметить, это единственный допрос, на котором Злотников не вдается ни в какие рассуждения. А порассуждать он, как видно по другим допросам, и умел, и любил…
И, наверно, так и было на самом деле.
Вероятно, Байковский до полусмерти избивал со своими подручными Злотникова, пока тот, тяжело ворочая языком, не признался, что вся организация «Каморры» и ее штаба заключается лишь в нем одном…
Но это никак не объясняет, почему Злотников так охотно начал лжесвидетельствовать на Мухина.
В порядке гипотезы можно предположить, что, говоря о Мухине, Злотников говорил о какой-то совсем другой прокламации, на рассылку которой и давал ему деньги Мухин. На последующих допросах с завидным упорством и мужеством он будет повторять:
«За печатание и за составление прокламаций я ни от кого ничего не получал. Это мое личное дело. От Егорова (управляющий имением В.П. Мухина. — Н.К.) мною было получено 200 и 400 рублей, но это наши личные счеты. Никаких денег от Мухина не получал. Деньги, полученные от Егорова, были получены мною как следствие наших личных счетов»{140}.
Предположение наше хотя и не может быть доказанным, тем не менее не противоречит тем фактам, которые имеются.
Мы знаем, что какую-то прокламацию, содержание которой было известно только самому Злотникову да еще сотруднику ЧК Снежкову-Якубинскому, Злотников вручил Боброву…
Так, может, об этой прокламации и говорил он на втором допросе, и лишь когда прозвучало слово «Каморра», понял, как ловко подставил его следователь?
А впрочем, может, и не понял, поскольку Байковский принялся кулаками выколачивать главные показания, и ослепший от боли Злотников только и находил силы твердить, что весь штаб, вся «Каморра» — это он, Злотников, и есть…
Может быть…
Но так или иначе, а главный документ обвинения — признание Л.Т. Злотникова следователю Байковскому — удалось добыть, и случилось это 12 июня.
Чехословаки уже взяли Челябинск и Омск, Саратов и Самару.
Революционная кристаллизация уже началась…
Глава шестая.
СЕНГИЛЕЙСКИЙ ТУМАН ИЮНЯ
Партия не пансион благородных девиц, иной мерзавец потому и ценен, что он мерзавец.
В.И. Ленин
В Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией… принимают равное участие во всех работах, в том числе и расстрелах, проводимых комиссией, и левые эсеры, и большевики, и по отношению к этим расстрелам у нас как будто никаких разногласий нет.
Я.М. Свердлов
В семидесяти километрах от Ульяновска расположен городок Сенгилей, славящийся яблоневыми садами. Еще знаменит Сенгилей тем, что невдалеке от него время от времени спускается на дорогу необычный туман.
Местные жители знают: если попадешь в него, выйти невозможно, незачем и стараться. Даже если идешь сквозь туман по дороге и никуда не сворачиваешь, все равно возвращаешься на прежнее место…
Некоторые сенгилейские краеведы связывают это необычное явление природы с именем Владимира Ильича Ленина. Они утверждают, что Владимир Ульянов якобы в этой местности и был зачат, и сенгилейский туман как-то связан с этой катастрофой.
О достоверности подобных утверждений судить трудно, поскольку неизвестно, бывали ли в Сенгилее родители Ленина, бывал ли там сам Ильич…
Зато наверняка известно, что стоило только Ленину возглавить правительство, и сенгилейский туман сразу повис не только над Петроградом и Москвой, но начал расползаться и по всей России. И в июне 1918 года уже никому не было пути из этого гибельного тумана…
Ни бывшим членам императорского дома, ни самим большевикам, ни простым россиянам…
1
Чекисты других местностей стремились шагать в ногу с Дзержинским и Урицким.
Особо важная задача в первой половине лета 1918 года была поставлена Кремлем перед чекистами Перми и Урала. Им предстояло ликвидировать царскую семью.
Начать решили с 39-летнего Михаила Александровича Романова — младшего брата императора.
Решение вполне логичное. По сути дела, Михаил Александрович был единственным легитимным кандидатом на пост главы государства, ибо именно в его пользу и отрекся от престола Николай II.
Готовились чекисты к ликвидации неторопливо и основательно.
Еще 9 марта Моисей Соломонович Урицкий доложил на заседании Совнаркома свои предложения.
Урицкому и поручил Совнарком выслать в Пермь великого князя Михаила Александровича Романова. Товарищ Урицкий поручение это исполнил.
Теперь настала пора действовать пермским товарищам.
Бывший каторжник, а в 1918 году член коллегии Пермской губчека Александр Алексеевич Миков свидетельствовал:
«Мишка, как мы его называли, Романов содержался у нас в Перми на положении какого-то ссыльного, проживая свободно в верхнем этаже бывшей гостиницы… вместе со своим секретарем Сельтиссоном (особый вид колбасы из отходов колбасного производства), как мы его называли дня смеха ради условным именем…
Временем своим он располагал свободно; ходил, как и когда ему “вздумается”, по гостям, по купечеству, что осталось еще не ликвидированным в городе. Агентурные сведения указывали, что около него начала группироваться разная черносотенная сволочь с целью тайного увоза его, и офицерство старое возглавляло эти планы…
Малков[31] выразил опасение, что дальше “держать” Мишку опасно: может сбежать, хотя наблюдение за ним строгое. Мясников[32] посоветовал: постановить — отозвать его обратно в Москву — эвакуировать.
“На кой черт возить его туда и обратно. Ликвидировать его — и все, спустить в Каму — и всего делов!” Эта моя реплика как будто смутила всех, а все же я был уверен, за нее были все…»{141}
Когда истекло три месяца пребывания великого князя в Перми, было принято решение.
«Ночью, часов в 12, пришли в Королевские номера какие-то трое вооруженных людей. Были они в солдатской одежде. У них у всех были револьверы. Они разбудили Челышева[33] и спросили, где находится Михаил Александрович. Челышев указал им номер и сам пошел туда. Михаил Александрович уже лежал раздетый. В грубой форме они приказали ему одеваться. Он стал одеваться, но сказал: “Я не пойду никуда. Вы позовите вот такого-то. (Он указал, кажется, какого-то большевика, которого он знал.) Я его знаю, а вас не знаю”. Тогда один из пришедших положил ему руку на плечо и злобно и грубо выругался: “А, вы, Романовы! Надоели вы нам все!” После этого Михаил Александрович оделся. Они также приказали одеться и его секретарю Джонсону и увели их»{142}.
Примерно так же история похищения изложена и в газетном сообщении, опубликованном 15 июня 1918 года:
«В ночь с 12 на 13 июня в начале первого часа по новому времени в Королевские номера, где проживал Михаил Романов, явилось трое неизвестных в солдатской форме, вооруженных. Они прошли в помещение, занимаемое Романовым, и предъявили ему какой-то ордер на арест, который был прочитан только секретарем Романова Джонсоном. После этого Романову было предложено отправиться с пришедшими. Его и Джонсона силой увели, посадили в закрытый фаэтон и увезли по Торговой улице по направлению к Обвинской.
Вызванные по телефону члены Чрезвычайного Комитета прибыли в номера через несколько минут после похищения. Немедленно было отдано распоряжение о задержании Романова, по всем трактам были разосланы конные отряды милиции, но никаких следов обнаружить не удалось. Обыск в помещениях Романова, Джонсона и двух слуг не дал никаких результатов. О похищении немедленно было сообщено в Совет Народных Комиссаров, в Петроградскую коммуну и в Уральский областной Совет. Проводятся энергичные розыски».
Теперь известны имена всех «неизвестных» лиц в солдатской форме, которые ночью 13 июня вошли в номер великого князя.
Это бывший каторжанин, а тогда комиссар Перми и начальник городской милиции Василий Алексеевич Иванченко…
Это бывший каторжанин, а тогда помощник начальника милиции Мотовилихи, член Пермской губчека Николай Васильевич Жужгов…
Это горящий, по словам Г.И. Мясникова, «огнем злобы и мести» член Мотовилихинского ревкома и Пермской губчека Андрей Васильевич Марков…
Это красногвардеец Иван Федорович Колпащиков — здоровый мужик с писклявым голосом, который был взят в команду за то, что «забывал всего себя, отдаваясь самой кропотливой, тяжелой и черной работе»…
Охраной фаэтонов, увозивших Михаила Александровича Романова на расстрел, занимался сам заместитель председателя Пермской губчека Гавриил Ильич Мясников.
«Проехали керосиновый склад (бывший Нобеля), что около 6 верст от Мотовилихи, — вспоминал чекист А.В. Марков. — По дороге никто не попадал; отъехавши еще с версту от керосинового склада, круто повернули по дороге в лес направо. Отъехавши сажен 100—120, Жужгов кричит: “Приехали — вылезай!” Я быстро выскочил и потребовал, чтобы и мой седок (Джонсон. — Н.К.) то же самое сделал. И только он стал выходить из фаэтона — я выстрелки ему в висок, он, качаясь, упал. Колпащиков тоже выстрелил, но у него застрял патрон браунинга. Жужгов в это время проделал то же самое, но ранил только Михаила Романова. Романов с растопыренными руками побежал по направлению ко мне, прося проститься с секретарем. В это время у тов. Жужгова застрял барабан нагана (не повернулся вследствие удаления пули от первого выстрела, т.к. пули у него были самодельные). Мне пришлось на довольно близком расстоянии (около сажени) сделать второй выстрел в голову Михаила Романова, отчего он свалился тотчас же. Жужгов ругается, что его наган дал осечку, Колпащиков тоже ругается, что у него застрял патрон в браунинге, а первая лошадь, на которой ехал тов. Иванченко, испугавшись первых выстрелов, понесла дальше в лес, но коляска задела за что-то и перевернулась, тов. Иванченко побежал ее догонять, и, когда он вернулся, уже все было кончено.
Начинало светать.
Это было 12 июня, но было почему-то очень холодно»{143}.
Тем не менее, хотя в расстреле и участвовало практически все руководство Пермской губчека и милиции, утром, 13 июня 1918 года, в Москву в Совнарком и ВЧК, Зиновьеву в Петроград, Белобородову в Екатеринбург полетела телеграмма:
«Сегодня ночью неизвестными солдатской форме похищены Михаил Романов и Джонсон. Розыски пока не дали результатов, приняты самые энергичные меры. Пермский округ. Чрезком»
Более того… Пермская губчека немедленно начала следствие по делу о побеге Михаила Александровича Романова и под этим предлогом арестовала всех сопровождавших великого князя людей…
Камердинера великого князя Василия Федоровича Челышева…
Личного шофера Петра Яковлевича Борунова…
Управляющего гостиницей «Королевские номера в Перми» Илью Николаевича Сапожникова…
Бывшего начальника Гатчинского жандармского железнодорожного управления, полковника Петра Людвиговича Знамеровского…
Все они были высланы Моисеем Соломоновичем Урицким в Пермь вместе с великим князем…
Все они, дабы более никогда не дерзали участвовать в похищениях, были расстреляны.
20 сентября 1918 года по прямому проводу прошла телеграмма РОСТА:
«Пермь, 18 сентября. В 10 верстах от Чусовского завода агентом Пермского губчрезкома задержаны Михаил Романов и его секретарь. Они препровождены в Пермь».
Такой вот чекистский юмор…
Но уже с пермским окрасом.
Хотя, конечно, ликвидация великого князя Михаила Александровича была лишь прологом к драме, которая должна была осуществиться в Екатеринбурге, Алапаевске, Ташкенте и Петрограде, и режиссеры этой постановки находились в Кремле.
«По приезде в Москву Андрей Васильевич Марков пошел в Кремль к т. Свердлову Я.М., коротко сообщил ему о расстреле Михаила Романова.
Яков Михаилович сразу повел Маркова к В.И. Ленину.
Владимир Ильич, поздоровавшись, спросил: “Ну, рассказывайте, как вы там расправились с Михаилом?”
Андрей Васильевич кратенько сообщил, как было дело, упомянув при этом дядьку-англичанина.
Тогда т. Ленин сказал: “Хорошо”, — но предупредил, чтобы нигде об этом не было оглашено, т.к. англичане могут предъявить нам иск и расплачивайся тогда Советская власть всю жизнь со всеми родичами его»{144}.
А пермские чекисты сразу почувствовали вкус настоящей чекистской работы.
Через неделю после расстрела великого князя Михаила чекисты Добелас и Падернис замучили Андроника, архиепископа Пермского.
С выколотыми глазами и отрезанными щеками чекисты провели священномученика по улицам Перми, а потом живьем закопали в землю. Участвовал в этой расправе и знакомый нам чекист-каторжанин Николай Васильевич Жужгов.
Арестованного вместе с архиепископом Андроником епископа Соликамского Феофана чекисты утопили в Каме.
Государю императору Николаю II и его семье оставалось жизни всего месяц…
2
Вчитываешься в материалы дела «Каморры народной расправы», и порою даже обидно становится за Моисея Соломоновича Урицкого и его коллег по ЧК.
Столько злобы, столько хитрости и энергии вкладывали они, чтобы создать подобие антисемитских контрреволюционных заговоров, а у русских присяжных поверенных, статистиков, профессоров, офицеров, художников, журналистов не только никакой погромной организации не было, но, более того, на допросах они обнаруживали какую-то патологическую неспособность к заговорам вообще.
«Бобров известен только как работник по службе в обществе дачных недвижимостей… Виктор Павлович Соколов известен довольно давно как умный человек, деятельный в смысле политической жизни работник. Он принадлежит к партии монархистов, кроме того состоял членом, вернее товарищем председателя “Союза Русского Народа”… С Ревенко я познакомился в “Обществе попечительства о беженцах”… Что касается “Каморры народной расправы”, то я о ней услышал только в камере»{145}.
«Я никогда ни в какие партии не входил и теперь ни в какой не состою. Я человек дела, и не при моих годах (68 лет) начинать эту партийность»{146}.
«С тех пор, как я поступил на военную службу, прекратил литературную деятельность и вообще отдалился от всяких политических вопросов, так как хотел жить более спокойно, а политика успокоения в жизнь не вносит»{147}.
«Ни в какой политической партии как до революции, так и после нее не состоял и не состою. Будучи студентом, никакими общественными и политическими делами не занимался, даже после революции. Будучи на военной службе, когда меня выбрали в Совет рабочих и солдатских депутатов, мне пришлось отказаться и просить о переизбрании, так как определенных политических тенденций у меня и тогда не было и я даже не представлял себе задач и работы этого Совета»{148}.
Подобные «признания» раздражали Моисея Соломоновича.
Он чувствовал, что, отпираясь от участия в партийности и заговорах, его подследственные тем самым противодействуют «революционной кристаллизации», которую пытались всеми силами ускорить большевики.
Порою Урицкому начинало казаться, что тут и кроется главный заговор.
И в каком-то смысле он был прав.
Некоторые из подследственных декларировали свою беспартийность, осознавая ее как совершенно определенную нравственную ценность.
Александр Константинович Никифоров, инженер, арестованный за участие в «Беспартийном союзе спасения Родины», служил в Русском обществе выделки и продажи пороха.
На допросах он держался, не теряя чувства собственного достоинства, и, кажется, не испытывая ни малейшего страха перед кривоногим, визгливым уродцем, возглавлявшим Петроградскую ЧК.
«Вся моя жизнь протекала в работе.
Я с детства не воспринимал различия между классами. Властью пользовался как старший товарищ и никогда не думал о доходных местах, отказывался от мишуры.
Я личной собственности не признаю и, сколько бы ни заработал, намереваюсь израсходовать на общественные, просветительские цели…
Против Советской власти не действовал совершенно принципиально, так как признаю за ней воспитательное значение по схеме “каждый сам себя бьет, коли нечисто жнет”.
По укладу ума я не политик, потому что полагаю: стойкость любой демократической системы зависит от нравственного уровня граждан. В области внешней политики примкну к той группе, которая раскрепостит славянство.
Так как я никогда не лгу, то лишен возможности действовать тайно… (Подчеркнуто нами. — Н.К.)
Сознаюсь, что интернационалистом быть не в силах, потому что быть в этом отношении исключением среди соседей-эгоистов равносильно потере независимости…
По существу сделанного мне допроса относительно участия в “Беспартийном союзе спасения Родины” повторяю: насколько мне известно, “Союз” распался, и если аналогичный “Союз” существует, то ничего общего с бывшим не имеет.
Об этом я могу заключить логически, судя по составу прежнего “Союза”, который главным образом ныл, ругался и сплетничал. Повторяю, после третьего собрания я заявил сопредседателю, что все — ерунда, и я выбываю»{149}.
Наверное, нет нужды комментировать эти, не лишенные некоей надменности показания. Каждое слово дышит здесь умом и благородством, той высокой порядочностью русского интеллигента, которую невозможно сломить никакими пытками.
Читая подобные показания, понимаешь, почему даже такой пытливый человек, как Исаак Эммануилович Бабель, предпочитал «не интересоваться» настроениями узников чекистских застенков. Уж он-то знал, как неуютно чувствуешь себя рядом с такими людьми.
Нескрываемое презрение к чекистской сволочи сквозит в каждом слове Александра Константиновича Никифорова. Оно выражено и в холодной, не унижающей себя даже до насмешки, констатации юридической безграмотности Урицкого.
«Мне инкриминировалась запись в члены “Беспартийного союза спасения Родины”, который девять месяцев тому назад распался… Инкриминируемый факт произошел до утверждения Советской власти, а именно год тому назад. Следовательно, если бы “Союз” и был объявлен контрреволюционным, то я не подлежу ответственности, ибо закон обратного действия не имеет»{150}.
3
Почему Урицкий взялся за аресты членов «Беспартийного союза спасения Родины», понятно…
Уж если перетряхивать население Петрограда в поисках антисемитов и погромщиков, то никак не миновать организации, программная цель которой «неделимая, единая, великая Россия».
Запутало же Моисея Соломоновича сходство в звучании «Беспартийного Союза спасения Родины» с «Союзом защиты Родины и свободы» в Москве. К тому же, увлекшись идеей создания на базе «Каморры народной расправы» целой сети погромных организаций, Урицкий не обратил внимания, что «Беспартийный Союз спасения Родины», просуществовав несколько недель, распался еще до Октябрьского переворота[34]…
Как бы то ни было, но в восемь часов вечера 19 июня Урицкий подписал целую пачку ордеров на арест членов «Беспартийного Союза спасения Родины».
И, как всегда бывает в таких случаях, нелепость нахлестывалась на нелепость.
Ордер № 755 был выдан товарищу Юрше на арест В.А. Цветиновича.
Тов. Юрша в тот же вечер арестовал недоучившегося кадета Всеволода Алексеевича Цветиновича, отец которого был присяжным поверенным, а мать занималась переводами с иностранных языков.
Молодость «преступника» Юршу не смутила. По его соображениям, и недоучившийся кадет вполне мог оказаться чрезвычайно опасным заговорщиком.
Всеволода бросили в тюрьму…
Однако на следующий день на Гороховую приехал его брат — Василий Алексеевич Цветинович и заявил, что он должен увидеть Урицкого.
Товарищ Урицкий принял дерзкого выпускника реального училища, и тот задал ему неожиданный вопрос: действительно ли чекисты арестовали того Цветиновича, которого собирались арестовать?
— Дело в том, — объяснил он, — что в ордере на арест были указаны лишь инициалы «В.А.», а они и у арестованного Всеволода, и у меня совпадают.
Урицкий пытливо посмотрел на юношу и приказал вызвать следователя Байковского…
Впрочем, предоставим слово самому Василию Алексеевичу Цветиновичу для рассказа об этом необычном происшествии.
«Для выяснения истинного положения дел Вами (Урицким. — Н.М.) был приглашен следователь Байковский, из объяснений коего вполне определилось, что задержанию подлежит исключительно брат мой Всеволод Алексеевич Цветинович за участие в каком-то кружке помощи бывшим офицерам… В настоящее время брат мой переведен в Выборгскую одиночную тюрьму.
Убедившись, что я задержанию не подлежу, в чем Вы лично меня заверили, я попросил Вас выдать мне соответствующее удостоверение на тот случай, если бы меня по нечетко выписанному ордеру принялись разыскивать.
Согласившись с основательностью моей просьбы, Вы отдали соответствующее распоряжение следователю Банковскому, с которым я и удалился в его кабинет»{151} …
Здесь нужно прервать рассказ Василия Алексеевича Цветиновича.
Несомненно, он ехал на Гороховую спасать брата.
Напомним, что отец Цветиновичей был присяжным поверенным и не заметить допущенного Моисеем Соломоновичем вопиющего по своей юридической безграмотности промаха не мог. Если бы — очевидно, этим и объясняется дерзкое требование нелепой справки! — в его руках оказался документ, подтверждающий промах Урицкого, он попытался бы раздуть скандал и добиться бы освобождения младшего сына.
Увы!..
План этот строился на дореволюционных представлениях о законности. В конторе на Гороховой улице такое судейское крючкотворство уже не проходило…
Тем более что ни присяжный поверенный Цветинович, ни его сын Василий даже и не догадывались, насколько подлым негодяем был Моисей Соломонович Урицкий.
Разумеется, он сразу раскусил юного шантажиста из реального училища…
«Во время выдачи мне просимого удостоверения, — пишет Василий Алексеевич Цветинович, — следователь Банковский, после нескольких незначащих вопросов, выяснивших, между прочим, мое случайное и весьма кратковременное состояние во Внепартийном Союзе спасения Родины, объявил мне, что задерживает теперь и меня»…
Вот так просто и без затей и была разрушена хитроумная комбинация господ Цветиновичей. И, право же, тут трудно удержаться, чтобы еще раз не вспомнить рассказ Бабеля «Дорога».
Точные слова насчет петроградских чекистов — верных в дружбе и смерти, товарищей, каких нет нигде в мире… — нашел в этом рассказе Исаак Эммануилович. Принципы товарищества, какого «нет нигде в мире», были нерушимы для мерзавцев с Гороховой улицы, и они всегда покрывали друг друга, особенно если им самим это ничем не грозило…
Арест Василия Цветиновича — яркий пример подобной товарищеской взаимовыручки.
Ну, проглядел что-то Моисей Соломонович Урицкий, ну, погорячился товарищ Юрша, когда арестовал не того человека…
Ну и что из этого?
Разве трудно чекистам арестовать еще и того, а не того на всякий случай запереть в одиночку?
Стоит ли беспокоиться о таких пустяках?
Тем более, как мы знаем — вспомните признание, которое Н.Э. Бабель сделал Д.А. Фурманову, — таких людей, как выпускник реального училища Василий Цветинович, решившийся ценой своей свободы спасти брата, чекисты за людей не считали, и совсем не интересно было, что думают они, что чувствуют, что испытывают… Ведь товарищество братьев Цветиновичей не имело ничего общего с «невиданным в мире товариществом», о котором так откровенно поведал Бабель в рассказе «Дорога».
И когда сравниваешь, к примеру, показания русского инженера Александра Константиновича Никифорова с показаниями того же Исаака Эммануиловича Бабеля, вдохновенно закладывавшего на допросах и своих друзей (Михоэлса, Эйзенштейна, Олешу, Катаева), и свою любовницу Евгению Соломоновну Ежову, то возникает ощущение не просто разных культур, а разных миров…
Это и есть цена за чекистское товарищество…
Исаак Эммануилович Бабель заплатил эту цену в 1940 году.
Его коллеге Моисею Марковичу Гольдштейну пришлось ее заплатить намного раньше…
4
О Моисее Марковиче Гольдштейне (Володарском) известно немного.
Родился он в 1891 году в местечке Острополье Волынской губернии.
Из гимназии его исключили, и юный Моисей Гольдштейн несколько лет работал приказчиком в мануфактурном магазине в Лодзи.
В 1911 году он был сослан в Архангельскую область, но через два года попал под амнистию и вскоре эмигрировал в Северную Америку, где долгое время работал портным-закройщиком в Филадельфии.
В Россию Моисей Маркович вернулся в апреле 1917 года.
Ходили смутные слухи, что товарищ Гольдштейн связан с германско-масонскими аферами Израиля Лазаревича Гельфанда-Парвуса, но кто из заграничных товарищей не был с ними связан?
И хотя доселе Моисей Маркович не только не играл никакой заметной роли в революционном движении, но и вообще не состоял в партии большевиков, в революционном Петрограде он сделал блистательную карьеру. Никому неведомый районный агитаторишка производится вскоре в главные агитаторы Петроградского комитета.
«С литературной стороны речи Володарского не блистали особой оригинальностью формы, богатством метафор… Речь его была как машина, ничего лишнего, все прилажено одно к другому, все полно металлического блеска, все трепещет внутренними электрическими зарядами…
Голос его был словно печатающий, какой-то плакатный, выпуклый, металлически-звенящий. Фразы текли необыкновенно ровно, с одинаковым напряжением, едва повышаясь иногда. Ритм его речей по своей четкости и ровности напоминал мне больше всего манеру декламировать Маяковского. Его согревала какая-то внутренняя революционная раскаленность…
Казалось, он ковал сердца своих слушателей. Слушая его, больше чем при каком угодно другом ораторе понималось, что агитаторы в эту эпоху расцвета политической агитации… поистине месили человеческое тесто, которое твердело под их руками и превращалось в необходимое оружие революции»{152} …
Скоро товарища Гольдштейна избрали членом Петроградского комитета партии, а затем членом Президиума Петроградского Совета.
Считается, что стремительному росту партийной карьеры Моисея Марковича способствовала секретарь ЦК РКП(б) Е.Д. Стасова, прозванная в партийных кругах товарищем Абсолютом. 26-летний портной, не растерявший и в дороге через океан своей филадельфийской франтоватости, прилизанный, в отутюженном костюме, сверкая золотом в зубах, произвел неизгладимое впечатление на 44-летнюю Елену Дмитриевну. Эта ведьм истая, по выражению товарища Красина, и кровожадная баба{153} явно запала на Моисея Марковича.
После Октябрьского переворота Елена Дмитриевна продвигает приглянувшегося ей молодого человека в члены Президиума ВЦИК, помогает занять пост редактора «Красной газеты».
Скоро Моисей Маркович Гольдштейн под именем В. Володарского стал весьма значительным лицом в Петрограде. Будучи комиссаром по делам печати, пропаганды и агитации, он ведал всей здешней большевистской пропагандой и считался самым последовательным проводником в жизнь ленинского Декрета о печати, принятого Совнаркомом на третий день Октябрьской революции.
Надо сказать, что со Стасовой Моисею Марковичу повезло.
Судя по другим воспоминаниям, несмотря на свою приказчичью щеголеватость и золото в зубах, у многих он вызывал не симпатию, а омерзение.
Говорят, что помимо прозвища Пулемет, полученного за умение произносить речи на любую тему, некоторые партийцы между собою называли Володарского «гадёнышем». Это «погоняло» было дано Моисею Марковичу за змеиную улыбочку, за редкостную, дивившую даже товарищей-большевиков подлость характера и немыслимую жестокость.
«Он был весь пронизан не только грозой Октября, но и пришедшими уже после его смерти грозами взрывов красного террора. Это скрывать мы не будем. Володарский был террорист. Он до глубины души был убежден, что, если мы промедлим со стальными ударами на голову контрреволюционной гидры, она не только пожрет нас, но вместе с нами и проснувшиеся в Октябре мировые надежды»{154}.
При этом самовлюбленность Володарского превышала все мыслимые размеры.
Петроградские газеты сообщали, например, что 27 мая на процессе против буржуазных газет он вдруг потребовал сделать перерыв.
— Зачем? — удивился председатель суда Зорин.
— Я должен сейчас сказать речь… — объяснил Моисей Маркович. — Необходимо вызвать стенографистку из Смольного…
Любовнику своей супруги товарищ Зорин отказать не смог, и речь, произнесенная Моисеем Марковичем, была застенографирована и по праву может считаться образцом большевистской демагогии, которой — отдадим ему должное! — Володарский владел в совершенстве.
— Товарищи! — разглагольствовал он. — Окопавшиеся в этой газете (газета «Новый вечерний час». — Н.К.) люди под видом опечаток распространяют лживые, провокационные слухи. Они создают нервное, агрессивное настроение. С помощью сенсаций пытаются поколебать умы, нанести удар в спину Октябрьской революции, подорвать основы советской власти. В тяжелый момент, когда общественного спокойствия и так мало, когда жизнь каждую минуту хлещет трудящихся по нервам, красть это неустойчивое спокойствие, воровски подкладывать поленья в костер, на котором и без того достаточно жарко, — колоссальное преступление. Печать, товарищи, оружие огромной силы, и если вы сознательно им пользуетесь против Советской власти, мы вырвем его из ваших рук!
Ну и конечно самовлюбленный Моисей Маркович, как это бывает с говорунами, часто впадал в то особое состояние стервозности, когда человек вроде бы и сам понимает, что зарапортовался, но остановиться не может и только еще стервознее лезет вперед, загоняя, как писал товарищ Маяковский, «клячу истории».
Как правило, отвратительное позерство совмещается в таких особах с трусливой наглостью и непроходимой глупостью.
Видимо, так было и у Володарского.
Упиваясь собственным красноречием, он зачастую выбалтывал то, о чем до поры положено было молчать…
Еще задолго до открытого разрыва с эсерами Моисей Маркович во всеуслышание ляпнул на заседании Петросовета, дескать, борьба с оборонцами, меньшевиками и правыми эсерами «будет вестись пока бюллетенями, а вслед за тем — пулями».
Нет-нет!
Мы не обвиняем товарища Володарского в сознательном саботаже директивы «Всемирного Израильского Союза» о соблюдении осторожности. Моисея Марковича подвел сам характер его профессии — оратора-пулеметчика, предполагавший основой как раз эту вдохновенную, клокочущую стервозность, которую А.В. Луначарский называл внутренней революционной раскаленностью и которая и не позволяла Володарскому удерживаться в разумных рамках осторожности…
Промахи Володарского можно было понять и объяснить, но по городу уже поползли слухи, что сам Израиль Лазаревич Гельфанд-Парвус недоволен Моисеем Марковичем, и товарищи по большевистскому ремеслу стали косовато посматривать на него.
5
«Финансовый папа» Октябрьской революции Израиль Лазаревич Гельфанд (Александр Парвус) — человек примечательный в революционном движении.
На год старше Владимира Ильича Ленина, он родился в белорусском местечке, закончил одесскую гимназию и, уехав в Швейцарию, поначалу связал свою судьбу с германской социал-демократией…
Биографы И.Л. Гельфанда-Парвуса обыкновенно цитируют его письмо Вильгельму Либкнехту, в котором он пишет, что ищет «государство, где человек может по дешевке получить отечество». Однако социал-демократическая дешевка в Германии не срабатывала, и в 1896 году за попытку устроить всеобщую забастовку И.Л. Гельфанда-Парвуса изгнали из Саксонии как русского…
О характере дальнейшей жизни И.Л. Гельфанда-Парвуса дает представление эпизод его отношений с A.M. Горьким.
В 1902 году он заключил в Севастополе договор с «буревестником революции» и стал его литературным агентом за границей.
Вместо денег Алексей Максимович получил от своего агента только сообщение, что собрано всего 100 000 марок и все эти деньги потрачены Израилем Лазаревичем на путешествие с барышней по Италии.
«Позднее мне в Париже показали весьма красивую девицу или даму, сообщив, что это с ней путешествовал Парвус, — не без печали вспоминал A.M. Горький. — “Дорогая моя, — подумалось мне, — дорогая”{155}.
Поскитавшись с разными девицами по белу свету, И.Л. Гельфанд-Парвус в 1905 году объявился в Петербурге, где вместе со Львом Давидовичем Троцким создал самозваный Совет рабочих депутатов.
Образчиком революционной демагогии, которой пользовались они, пытаясь разжечь бунт, может служить обращение к рабочим Петербурга:
«Слушайте, товарищи! Вы устрашились царских солдат. Но вы не страшитесь жить изо дня в день, ходил» на фабрики и заводы, где машины высасывают вашу кровь и калечат ваше тело… Вы не страшитесь отдавать ваших братьев в царскую армию, которая гибнет на великом неоплаканном кладбище в Маньчжурии… (выделено нами. — Н.К.) Вы не страшитесь жил» изо дня в день под властью разбойничьей полиции, казарменных палачей, дм которых жизнь рабочего-пролетария дешевле, чем жизнь рабочего скота».
Разжечь революцию тогда не удалось.
Доморощенных врагов России и заграничных любителей красивой революционной жизни смело мощное движение русского народа, которое благословил святой праведный отец Иоанн Кронштадтский.
«Помню первый митинг Союза Русского Народа, — вспоминал П.А. Крушеван. — Он состоялся в Михайловском манеже. На митинге собралось тысяч двадцать народа… Это были величественные и потрясающие минуты народного объединения, которых никогда не забудут те, кому довелось пережить их. Все грани, все сословные и социальные перегородки исчезли; русский князь, носящий историческую старинную фамилию, стоял бок о бок с простолюдином и, беседуя с ним, волновался общими чувствами; тут же в толпе был и известный государственный деятель, были генералы, офицеры, дамы… Все перепуталось, все смешалось в какую-то кашу… Но над этой пестрой массой, сливая ее в одно существо, властно царила одна общая душа, душа народа, создавшего одно из величайших государств в мире, — и теперь угнетенная опасением, что и храм, созданный трудом десятков поколений, и народные жертвы, и подвиги предков — все это рухнет — бессмысленно под натиском врагов, которые уже рубят устои, поддерживающие священный храм».
Этой силой общей души народа, создавшего одно из величайших государств в мире, и были сметены в декабре 1905 года все Гельфанды и Троцкие. Вместе с другими членами Петроградского Совета они были арестованы и определены судом на жительство в Сибирь.
Впрочем, в Сибири Израиль Лазаревич Гельфанд-Парвус не прижился, снова сбежал за границу, обогащенный опытом революционного строительства, точно зная, с кем революционерам надо бороться в первую очередь.
В январе 1915 года Парвус обратился в Константинополе к послу Германии с посланием, в котором утверждал, что «интересы правительства Германии и русских революционеров, которые уже действуют, совпадают{156}.
Как писал Карл Радек: «Неверие в самостоятельные силы русской революции толкнуло его (Гельфанда-Парвуса. — Н.К.) к мысли, что неважно, кто разобьет царизм: пусть это сделает Гинденбург. Русские рабочие воспользуются поражением царизма»{157}.
Германские власти благожелательно отнеслись к инициативе И.Л. Гельфанда-Парвуса, передав ему первый аванс в сумме одного миллиона немецких марок, и Израиль Лазаревич начал формировать команду своих единомышленников, в которую вошли Яков Ганецкий, Георгий Скларц, Евгений Суменсон, Моисей Урицкий, Григорий Чудновский…
Хотя партийные биографы В.И. Ленина всячески маскируют его связь с Гельфандом-Парвусом, но сам Израиль Лазаревич утверждал, что привлек к деятельности группы Ганецкого — Скларца — Суменсона — Урицкого — Чудновского и своего погодка, убедив его, что, «пока война продолжается, никакой революции в Германии не будет. Революция возможна только в России, которая вспыхнет в результате победы немцев».
Кроме того, документы, включенные в сборник «Германия и революция в России. 1915—1918», достаточно наглядно демонстрируют, что В.И. Ленин воспользовался не только экстерриториальным вагоном, но и денежными средствами немецких спецслужб, предоставленными по проекту И.Л. Гельфанда-Парвуса.
Но, как и положено у большевиков, к весне 1918 года спонтанно в большевистских кругах начало вызревать желание «кинуть» «финансового папашу» Октябрьского переворота.
Это, как можно судить по туманным полунамекам, и совершил Моисей Маркович Гольдштейн-Володарский, прикарманив деньги, которые следовало передать Израилю Лазаревичу.
И все же, как нам кажется, погубило Моисея Марковича Гольдштейна-Володарского не только крысятничество. Сыграл свою роль и «наезд» его на верного помощника Израиля Лазаревича Гельфанда-Парвуса — Моисея Соломоновича Урицкого.
В начале июня, когда Урицкий докладывал Зиновьеву о ходе расследования по делу «Каморры народной расправы», Григорий Евсеевич мягко пожурил его за медлительность.
Упрек был обоснованным. Уже вовсю разгорелась Гражданская война, а с консолидацией петроградского еврейства дела шли туго. Открытый процесс над погромщиками откладывался. Но — мы-то видели, с каким тяжелым материалом приходилось работать Урицкому в своей конторе! — Моисей Соломонович вспылил и вышел из кабинета Зиновьева.
Присутствовавший тут же Моисей Маркович глубокомысленно заметил, что так все и должно быть…
— Почему? — удивился Григорий Евсеевич.
— А что от него требовать? — сказал Моисей Маркович. — Он же меньшевик.
— Меньшевик?!
— Да… Я точно знаю, что раньше Урицкий состоял у меньшевиков.
Сцена вышла по-большевистски трогательная.
Володарский действительно знал, что не прошло еще и года, как Елена Дмитриевна Стасова-Абсолют выдала товарищу Урицкому билет члена РКП (б). Но ему-то самому, сменившему за год три партии, можно было бы сообразить, что для большевиков партийное прошлое вообще не имеет никакого значения. Они жили — в этом и заключался ленинский стиль партийного руководства — настоящим.
Григорий Евсеевич мягко объяснил Моисею Марковичу, что меньшевиком был даже сам Лев Давидович Троцкий, но Володарский уже закусил удила. Он принялся доказывать, что из-за меньшевистской нерешительности Урицкого, из-за его неумения взяться за дело решительно и откладывается процесс над погромщиками.
Наверное, Моисей Маркович и сам понимал, что полез не в ту степь, но — опять подвела профессиональная болезнь оратора-пулеметчика! — привычка не только говорить, но и мыслить штампами взяла верх, а остановиться, зарапортовавшись, Моисей Маркович не мог.
Разговор этот состоялся 6 июня, а уже 7-го Петр Юргенсон, служивший водителем в смольнинском гараже, двоюродный брат чекиста Юргенсона, того самого, который так прокололся на обыске у Луки Тимофеевича Злотникова, подошел к водителю «роллс-ройса», на котором обычно ездил Моисей Маркович, и спросил:
— Хочешь, Гуго, денег заработать?
В показаниях самого Гуго Юргена этот эпизод описан подробно и определенное:
«— На мой вопрос: “Как?” — Юргенсон говорил: — Очень просто. Надо Володарского убить.
— Я, что ли, должен убить? — спросил Гуго.
— Нет. Ты сиди в машине и молчи. Когда навстречу будет идти машина и покажут сигнал, остановишься. Сделаешь вид, что машина испортилась, — ответил Юргенсон. — Тогда сделают все, что надо».
Гуго Юрген заколебался, и Юргенсон сказал ему, что в награду Гуго может взять себе бумажник убитого Моисея Марковича Володарского.
Тут, отвлекаясь от пересказа показаний Гуго Юргена{158}, надо сказать, что если слухи об участии Моисея Марковича в парвусовских аферах действительно верны, то речь шла, разумеется, о весьма солидной сумме.
Однако сам Гуго на допросе на этой детали не стал останавливаться, а просто заявил: Юргенсон «сказал, чтобы я не кричал, а взял бы бумажник Володарского в свою пользу и только потом заявил бы о случившемся. Потом учил, чтобы я незаметно брал бы бумажник от Володарского, осматривая его, где его ранили».
Вот такой разговор происходил 7 июня в смольнинском гараже…
— А кто же убьет его? — глуповато спросил Гуго.
— Адвокаты и студенты… — засмеялся Юргенсон.
Об этом разговоре Гуго Юрген рассказал на допросе в ЧК уже после убийства Володарского, а тогда, две недели назад, — видимо, он тоже очень любил Моисея Марковича, заставлявшего его катать на машине своих девочек! — ничего не сказал.
6
Ну а 20 июня события развивались так… В половине десятого утра Гуго Юрген, как обычно, подал машину к «Астории» на Большой Морской улице, где жили ответственные большевики из петроградских партийных и советских учреждений.
Володарский сел в автомобиль с дамой и, доехав до редакции «Красной газеты» на Галерной улице, велел отвезти даму в Смольный.
На Галерную улицу Гуго вернулся в половине одиннадцатого и до четырех часов стоял, пока не повез Моисея Марковича обедать. Кормили и Юргена, и Володарского в Смольном, но в разных столовых.
С полагающимся прислуге пайком Гуго управился быстрее, чем Володарский со своей трапезой партактива, и, дожидаясь шефа, зашел в комнату № 3, чтобы взять наряд на следующий день.
Тут он снова столкнулся с Петром Юргенсоном.
«Мы разговаривали две-три минуты. Юргенсон спросил: “В какой комнате в «Астории» живет Володарский? Сегодня я должен дать окончательные сведения”».
Тут Гуго недоговаривает…
Судя по показаниям Петра Юргенсона{159}, разговор был обстоятельнее, и Гуго жаловался, что «боится ехать с Володарским, ибо толпа кричит и орет».
Но существеннее другое…
За несколько часов до убийства Володарского его водитель говорит со своим приятелем об этом убийстве.
Разумеется, на первом допросе Гуго не заикался об этих пикантных подробностях, они выяснились в ходе расследования, а 20 июня Гуго Юрген подробно рассказал лишь о том, как произошло само убийство…
После обеда Гуго свозил Моисея Марковича в трамвайный парк на Васильевском острове, оттуда — на Средний проспект в районный Совет и снова в Смольный.
Около семи вечера он отвез шефа на митинг на Николаевском вокзале.
Что происходило на митинге, Гуго не знал, но понял, что Моисея Марковича хотели на митинге избить. Железнодорожники кричали: «Голодаем, жрать нечего, детишки пухнут от голода!» Володарский снова и снова объяснял, что хлеба нет по вполне объективным причинам и поэтому не надо волноваться. Слушать оратора-пулеметчика рабочие не хотели. Они требовали, чтобы на митинг немедленно приехал председатель Петроградского Совета Зиновьев.
Володарский пообещал привезти Зиновьева и направился к машине, но его не пропустили. «Министру болтовни» пришлось бежать «через другие ворота, тайком от митинга». Растерзанный, он юркнул в свой «роллс-ройс».
Что еще узнал Моисей Маркович на митинге, о чем он безотлагательно хотел поговорить с товарищем Зиновьевым, — неведомо. Однако, видно, что-то узнал, о чем-то важном хотел поговорить, потому что остаток последнего в своей жизни вечера он посвятил поискам Григория Евсеевича.
Можно сказать, что в тот вечер Володарский искал Зиновьева с каким-то маниакальным упорством.
Из Смольного, захватив с собой сотрудниц секретариата Зиновьева Нину Аркадьевну Богословскую и Елизавету Яковлевну Зорину, он едет в Невский райсовет.
Но Зиновьева и там нет…
Пока Володарский звонил по телефону, выясняя, на каком заводе выступает Зиновьев, мимо райсовета проехал Луначарский.
Нина Аркадьевна Богословская остановила его машину, и Луначарский объяснил, что Зиновьев должен говорить сейчас заключительное слово на митинге на Обуховском заводе…
Надо отметить, что сам А.В. Луначарский рассказывал об этом эпизоде иначе…
«Надо вспомнить, в какие дни произошло убийство Володарского. В день своей смерти он телефонировал Зиновьеву, что был на Обуховском заводе, телефонировал, что на этом, тогда полупролетарском заводе, где заметны были признаки антисемитизма, бесшабашного хулиганства и мелкой обывательской реакции, — очень неспокойно…
Володарский просил Зиновьева приехать лично на Обуховский завод и попытаться успокоить его своим авторитетом. Зиновьев пригласил меня с собою, и мы оба часа два, под крики и улюлюканье… старались ввести порядок в настроение возбужденной массы. Мы возвращались с Обуховского завода и по дороге, не доезжая Невской заставы, узнали, что Володарский убит»{160}.
Неточность здесь — неподходящее слово.
Все в воспоминаниях Луначарского — явная ложь.
И близко Моисей Маркович не подходил 20 июня к Обуховскому заводу. И с Зиновьевым он не говорил, а только собирался поговорить.
И опять-таки можно было бы сделать поправку на слабую память Анатолия Васильевича, но все равно странно, что подробности события, вошедшего в советскую историю, перепутались в памяти наркома просвещения именно наоборот, а не как-то иначе.
Да и как можно было Луначарскому позабыть, что он сам и направил Володарского навстречу убийце, отправляя его искать Зиновьева на Обуховском заводе?
«Луначарский уехал, а я побежала в Невский райсовет сообщить об этом Володарскому… — волнуясь, вспоминала потом Нина Аркадьевна. — Через несколько минут я с Володарским села в машину. Едва мы сели, как шофер поехал»{161}.
— Куда это едет шофер? — сказала Нина Аркадьевна. — Вы же ему не сказали, куда, на какой завод…
— Да он знает из наших разговоров… — ответил Володарский.
Проехав некоторое время, машина замедлила ход… Шофер, полуобернувшись к пассажирам, сказал:
— Да… Пожалуй, весь бензин вышел…
После этого «он сейчас же остановил машину»{162}.
Необходимо отметить, что ездил товарищ Володарский на автомобиле, принадлежавшем до революции миллионеру Манташову. Этот «роллс-ройс» изготовлялся по спецзаказу и прежнему владельцу обошелся в кругленькую сумму — 125 тысяч рублей. Понятно, что и надежность этой, одной из лучших в Европе, машины тоже была повышенной.
Поэтому осуществить план, предложенный Петром Юргенсоном, было просто невозможно. Внезапная поломка сверхнадежного мотора, конечно, насторожила бы Моисея Марковича. Но сейчас — видимо, план был доработан! — внезапно кончился бензин.
— Эх ты! — в сердцах сказал Моисей Маркович и вместе с дамами начал выбираться из машины.
И вот, надо же было случиться так, чтобы бензин кончился именно в том месте, где за углом дома с пистолетом в руках поджидал Моисея Марковича человек, чрезвычайно похожий на Петра Юргенсона.
Едва Володарский сделал несколько шагов в сторону Невского райсовета, как раздался первый выстрел.
«В это время мы стояли рядом, — рассказывала на допросе Нина Аркадьевна Богословская. — Я ближе от панели, на расстоянии полшага от меня Володарский. Зорина стояла по другую сторону от Володарского.
Когда раздался первый выстрел, я оглянулась, потому что мне показалось, что выстрел был произведен сзади нас на близком расстоянии, но ничего кругом не увидела.
Я крикнула: “Володарский, вниз!” — думая, что надо ему спрятаться под откос берега.
Володарский тоже оглянулся.
Мы успели сделать еще несколько шагов по направлению к откосу и были уже посреди улицы, когда раздались сразу еще два выстрела, которые послышались ближе.
В этот момент я увидела, что Володарского два раза передернуло, и он начал падать… Когда я оказалась рядом, он лежал на земле, делая глубокие вдохи. Лежал он головой в сторону автомобиля, на расстоянии шагов трех от машины.
Мы с Зориной стали искать рану и заметили одну в области сердца. Две другие раны я заметила на другой день при перемене ему льда.
Когда я увидела, что Володарский уже умер, я подняла голову, оглянулась и увидела в пятнадцати шагах от себя и в нескольких шагах от конца дома-кассы по направлению к Ивановской улице стоящего человека. Этот человек упорно смотрел на нас, держа в одной руке, поднятой и согнутой в локте, черный револьвер. Кажется, браунинг. А в левой руке я не заметила ничего.
Был он среднего роста, глаза не черные, а стального цвета. Брюки, мне показалось, были одного цвета с пиджаком, навыпуск.
Как только он увидел, что я на него смотрю, он моментально повернулся и побежал… Предъявленный мне шофер Юргенсон Петр имеет большое сходство с убийцей лицом, особенно скулами, глазами и взглядом, ростом и всей фигурой»{163} …
Очень сходные показания дала и Елизавета Яковлевна Зорина.
«Я поехала с Володарским и Богословской 20 июня из Смольного на Обуховский завод, но по дороге мы заехали в Невский райсовет. Оттуда поехали за Зиновьевым, но, проехав минут восемь, заметили, что автомобиль замедлил ход. Мы между собой завели разговор о причине этого. Шофер, отвернувшись, ответил, что, вероятно, бензина нет. Через несколько минут автомобиль совершенно остановился. Шофер вышел, потом опять сел в машину и сказал:
— Ничего не будет. Бензина нет.
— Где же вы раньше были? — спросил Володарский.
— Я не виноват. Два пуда всего дали бензина, — ответил шофер.
— Эх вы! — сказал Володарский и начал вылезать из машины.
Выйдя, мы стали советоваться о том, что нам делать. Володарский предложил пойти в райсовет. Богословская предложила позвонить по телефону из кассы.
Мы с Володарским несколько секунд обождали Богословскую, которая, увидев, что касса закрыта, направилась назад. Сделав десять шагов от автомобиля — все в ряд: Володарский посередине, я — в сторону Невы, близко от себя я услышала за спиной громкий выстрел, как мне показалось, из-за забора. Я сделала шаг к откосу, не оглянувшись, и спросила: “В чем дело?” Но тут раздался второй и через секунду третий выстрел — все сзади, с той же стороны.
Пробежав несколько шагов вперед, я оглянулась и увидела на фоне дома-кассы позади себя человека с вытянутой рукой и, как мне показалось, с револьвером, направленным на меня.
Человек этот выглядел так: среднего роста, загоревшее лицо, темносерые глаза, насколько помню, без бороды и усов, бритый, лицо скуластое. На еврея не похожий, скорее похожий на калмыка или финна. Одет был в темную кепку, пиджак и брюки. Как только я его заметила, он бросился бежать по направлению за угол Ивановской улицы. Кроме этого человека, я ни одного его сообщника не видела. Я отвернулась сейчас же опять в сторону автомобиля и Володарского. Недалеко от себя я видела стоящего Володарского, недалеко от него, в сторону автомобиля, Богословскую. Через секунду Володарский, крикнув: “Нина!”, упал. Я и Богословская с криком бросились к нему. Больше я убийцу не видела… В предъявленном мне Петре Юргенсоне я нахожу сходство с убийцей в росте, сложении, выражении глаз, и скул, и по строению лица»…{164}
Как мы видим, разночтения в этих показаниях практически отсутствуют, особенно если принять во внимание, что это событие произошло в считаные секунды. Зато очень разнятся эти показания с показаниями Гуго Юргена — третьего свидетеля убийства.
«Когда мотор остановился, я заметил шагах в двадцати от мотора человека, который смотрел на нас. Был он в кепке темного цвета, темносером открытом пиджаке, темные брюки, сапогов не помню, бритый, молодой, среднего роста, худенький, костюм не совсем новый, по-моему, рабочий. В очках он не был. Приблизительно 25—27 лет. Он не был похож на еврея, тот черней, а он был похож скорее на русского.
Когда Володарский с двумя женщинами отошел от мотора шагов тридцать, то убийца быстрыми шагами пошел за ними и, догнав их, дал с расстояния приблизительно трех шагов три выстрела, направив их в Володарского. Женщины побежали с тротуара на середину улицы, убийца побежал за ними, а Володарский, бросив портфель, засунул руку в карман, чтобы достать револьвер, но убийца успел подбежать к нему совсем близко и выстрелить ему в упор в грудь.
Володарский, схватившись рукой за грудь, побежал к мотору, а убийца побежал по переулку, по направлению к полям.
Когда раздались первые выстрелы, то я, испугавшись, спрятался за мотор, ибо у меня не было револьвера.
Володарский подбежал к мотору, я поднялся ему навстречу и поддержал его, ибо он стал падать. Подбежали его спутницы, которые посмотрели, что он прострелен в сердце. Потом я слышал, что где-то за домами был взрыв бомбы»{165}.
В этом рассказе Гуго Юргена безусловно верно лишь то, что, когда началась стрельба, он спрятался за машину. Все остальное — выдумка.
Начнем с его рассказа об убийце.
Если убийца стоял в двадцати шагах от машины и смотрел на нее, то женщины просто не могли не заметить его. Однако они обе показывают, что увидели убийцу, только когда тот начал стрелять.
Теперь о трех выстрелах с трех шагов…
С такого расстояния трудно промахнуться, но Гуго зачем-то потребовался и четвертый выстрел.
После трех выстрелов, рассказывает Гуго Юрген, Володарский пытается вытащить револьвер, и убийце, погнавшемуся зачем-то за женщинами, пришлось вернуться и выстрелить Володарскому «в упор в грудь…». Но и после этого Моисей Маркович не упал, а возвратился к машине, чтобы умереть на руках любимого шофера.
Наконец, Гуго не мог видеть, куда побежал убийца. С того места, где стоял автомобиль, заглянуть за угол Ивановской улицы просто невозможно.
Конечно, путаницу в показаниях Гуго Юргена можно объяснить волнением.
Попытаемся допустить также, что Гуго Юрген не придал значения уговорам Петра Юргенсона оказать помощь в убийстве Володарского.
Но вот допустить, чтобы бензин в сверхнадежнейшей машине внезапно кончился, да еще именно в том месте, где стоял убийца, — невозможно никак.
Это уже подрывает основы теории вероятностей…
Если же сложить все наши допущения, то теория вероятностей вообще полетит вверх тормашками.
Впрочем, еще «невероятнее» дальнейшая судьба Гуго Юргена.
Просидев несколько дней под арестом, он, несмотря на то что все факты свидетельствовали о его причастности к убийству Моисея Марковича Володарского, благополучно вышел на свободу.
В коллекцию этих «невероятностей» следует занести и появление Г.Е. Зиновьева на месте преступления сразу после убийства.
Всего несколько минут не дожил Моисей Маркович до встречи с человеком, которого искал весь вечер…
«Володарский скоро помер, ничего не говоря, ни звука не издавая. Через несколько минут проехал Зиновьев, мотор которого я остановил»{166}.
Тело Володарского погрузили на грузовик и повезли «в амбулаторий Семяниковской больницы».
«Нас долго, несмотря на наши стуки, не пускали, — вспоминала на допросе Елизавета Яковлевна. — Минут через пятнадцать дверь открылась и вышел человек в военной форме. Взглянул на труп и сказал: “Мертвый… Чего же смотреть, везите прямо”.
Мы все запротестовали и потребовали доктора, осмотра и носилки.
После долгих споров вышла женщина-врач, едва взглянула и сказала: “Да, умер… Надо везти”.
Я горячо настаивала на осмотре раны.
Кое-как расстегнув костюм, докторша осмотрела рану в области сердца, пыталась установить, навылет ли он прострелен, но результатов этой попытки я не заметила»…
7
Хотелось бы тут обратить внимание читателей еще на одно совпадение.
Моисей Маркович Гольдштейн был убит 20 июня, когда в Москве начинались заседания трибунала по делу начальника морских сил Балтийского моря, капитана 1-го ранга Алексея Михайловича Щастного…
Как мы уже рассказывали, латыши по приговору трибунала расстреляли командующего Балтфлотом во дворе Александровского училища.
Это была первая смертная казнь по приговору при большевиках.
Впервые большевики расстреляли не министра Временного правительства, не царского генерала, не члена императорского дома, а человека, облеченного доверием еще совсем недавно такого грозного Центробалта… Решительно и жестко в очередной раз указывали большевики своим верным соратникам по Октябрьскому перевороту — матросам — их место.
Убийство Володарского, разумеется, отвлекло внимание петроградцев от расправы над человеком, спасшим Балтийский флот, но мы не рискнули бы утверждать, что план этот был сознательно выношен Моисеем Соломоновичем Урицким.
Блуждая в липкой от крови темноте подвалов, он уже и сам не понимал, куда идти и где найти выход…
«Жизнь Урицкого была сплошная проза, — писал Марк Алданов. — И вдруг все свалилось сразу: власть, — громадная настоящая власть над жизнью миллионов людей, власть, не стесненная ни законами, ни формами суда…
У него знаменитые писатели просили пропуск на выезд из города!
У него в тюрьмах сидели великие князья!
И все это перед лицом истории! Все это для социализма!
Рубить головы серпом, дробить черепа молотом!..»
Думается, что в опустившемся на Петроград кровавом сенгилейском тумане не очень-то различал путь и Григорий Евсеевич Зиновьев, которого искал и которого так и не нашел в последний день своей жизни Моисей Маркович Володарский.
Путаются в сенгилейском тумане, судя по воспоминаниям А.В. Луначарского, и другие очевидцы события…
Митинг, на который спешил Моисей Маркович и на который так-таки и не доехал он, странным и причудливым образом связан с убийством, и без рассказа об этом митинге и о том, что происходило на заводе, не обойтись.
Исаак Бабель, передавая обстановку, сложившуюся к началу лета в городе, привел такой диалог:
«— Смирный народ исделался, — пугливо шепчет за моей спиной шепелявый старческий голос. — Кроткий народ исделался. Выражение-то какое у народа тихое…
— Утихнешь, — отвечает ему басом другой голос, густой и рокочущий. — Без пищи голова не ту работу оказывает. С одной стороны — жарко, с другой — пищи нет. Народ, скажу тебе, в задумчивость впал.
— Это верно — впал, — подтверждает старик»{167}.
Недовольство рабочих росло везде, но особенно сильным это недовольство было на Обуховском заводе.
В июне это недовольство большевиками вылилось в стачку. Обуховский завод был остановлен, в цехах шли непрерывные митинги, на которых верховодили народные социалисты и эсеры.
Между прочим, среди других ораторов выступал в конце мая на Обуховском заводе и Моисей Маркович Володарский.
Тогда в «Красной газете» появилась его статья «Погромщики на Обуховском заводе».
«С передних рядов по моему адресу было брошено “жид!”
— Погромщик! — бросил я с своей стороны по адресу хулигана.
Председатель Невский немедленно сообщил собранию, что я всех присутствующих обозвал погромщиками. Поднялась невероятная суматоха»{168}.
Особое беспокойство Смольного вызывал тот факт, что к Обуховскому заводу подошло 13 эскадренных миноносцев. Начались совместные митинги обуховцев и матросов миноносной дивизии.
На пленарном заседании судовых комитетов минной дивизии была принята резолюция с требованием немедленного роспуска Петроградской коммуны и установления морской диктатуры Балтфлота.
Арест Троцким в Москве капитана Щастного наложился на эти события.
С одной стороны, Балтийский флот лишился признанного лидера и опасность контрреволюционного выступления уменьшилась, а с другой — арест наморси и особенно известие о начале заседаний трибунала, пришедшее в Петроград как раз 20 июня, окончательно накалили обстановку в миноносной дивизии.
И это не могло не беспокоить Т.Е. Зиновьева — чертова дюжина боевых кораблей могла устроить такой погром в городе, после которого большевикам уже было бы не удержать власть.
20 июня, как рассказывал на допросе эсер Григорий Алексеевич Еремеев{169}, митинг начался в четыре часа дня.
В повестке дня был доклад Зиновьева.
Затем было поставлено в порядок дня обсуждение требования об освобождении Кузьмина — рабочего Обуховского завода, делегированного в Москву и арестованного там.
Настроение на митинге было бурное…
Участвовало около трех тысяч человек, «из которых не более 350 могли быть членами партии эсеров, ибо в нашей Обуховской организации их и не насчитывается больше».
Ближе к концу митинга на трибуне завязалась перебранка с матросами миноносной дивизии, и левый эсер Максимов попросил Еремеева не отходить от Зиновьева, чтобы «избежать нежелательных эксцессов».
Оберегая Григория Евсеевича от побоев и плевков, Еремеев довел его до машины, в которую уже забился Адольф Абрамович Иоффе.
Машина тут же уехала.
Иван Яковлевич Ермаков, другой участник митинга, сцену изгнания большевиков описал так:
«Я присутствовал на митинге все время.
По отношению матросов миноносной дивизии укажу следующее. Поведение человек приблизительно пятнадцати было возбужденное… Они пришли на трибуну и угрожали расправиться с каким-то красноармейцем, при этом подозрительно посматривали на Зиновьева и Луначарского.
Этих возбужденных матросов уговаривал Каплан, говоря, что это нехорошо и недопустимо. Матросы были недовольны, что их уговаривают, говоря: пойдем, ну их к черту.
Когда Луначарский пошел с митинга, матросы гнусно угрожали ему расправиться на месте. Я и еще один товарищ проводили Луначарского до автомобиля. Там я заметил тех же матросов, расхаживающих, будто что-то ожидая…
Луначарский уехал, а я поспешил обратно на митинг, где был шум — товарищу Зиновьеву не давали говорить»{170}.
Из показаний других свидетелей известно, что Григорий Алексеевич Еремеев, успокаивая рабочих, сказал, что имеет сейчас право и возможность арестовать Зиновьева, но пока это преждевременно.
Вот так проходил митинг на Обуховском заводе, куда Анатолий Васильевич Луначарский «направил» Моисея Марковича, даже не предупредив, какая там обстановка.
Упоминая об этом, мягко говоря, недружеском поступке наркома просвещения, я, однако, не рискнул бы утверждать, что Луначарский знал о готовящемся жертвоприношении Моисея Марковича Володарского на алтарь революции и специально «направил» его поближе к ненавистному ему Обуховскому заводу.
Нет…
Я полагаю, что Луначарский поступил так в силу свойственного ему дружелюбия.
«Ежели меня оплевали, — видимо, рассуждал он, — то почему Володарский должен ходить неоплеванный?»[35].
Но, хотя Луначарский и перетрусил, митинг, как мы уже говорили, кончился вполне благополучно. Победа, конечно, была за эсерами, но никаких эксцессов, не считая отдельных плевков, не случилось, и Еремеев, усаживая в автомобиль спасенного от расправы Зиновьева, считал, что все прошло просто отлично.
В этом приподнятом настроении и отправился Еремеев в районный клуб.
Дорога туда заняла пятнадцать минут. Столько же времени Еремеев провел в клубе, а когда вышел, услышал разговор, что убит Луначарский.
«Мы сели на конку и поехали. Доехали до фарфорового завода и увидели пустой автомобиль и человек пять возле него. Здесь говорили уже, что убит не Луначарский, а Володарский.
Мы спросили, с бородой ли убитый.
— Нет, без бороды, — ответили нам. — Но на видном месте — два золотых зуба…»{171}
Когда же через полтора часа Еремеев возвращался назад с митинга в Яме, конка была остановлена. Человек низкого роста поднялся в вагон и крикнул:
— Еремеев! Выходи!
Еремеева арестовали по подозрению в убийстве Володарского.
На следующий день рабочие Обуховского завода приняли резолюцию.
«Мы, рабочие Обуховского завода, твердо уверены, что товарищ Еремеев был, как честный общественный работник, среди рабочих Обуховского завода, и уверены, что он, как честный работник, арестован из мести по причинам расхождения в политических взглядах, а посему требуем его немедленного освобождения…»
По требованию рабочих и Григорий Алексеевич Еремеев, и арестованный вместе с ним матрос Смирнов были освобождены, но все-таки попытаемся разобраться с причиной их ареста…
Как известно, первоначально расследование убийства Моисея Марковича Володарского вел М.М. Лашевич, бывший ученик одесского еврейского ремесленного училища «Труд», носивший в честь своей ремеслухи партийную кличку Миша Трудник.
Если мы прикинем, сколько времени добирался Зиновьев до Смольного, сколько времени потом ехал на место преступления товарищ Лашевич, то получится, что решение арестовать Еремеева Миша Трудник принимает, даже не опросив свидетелей.
Более того, напрашивается мысль, что на Еремеева, как на кандидата в убийцы, указал ему сам Григорий Евсеевич, хотя он совершенно определенно знал, что Еремеев, провожавший его до автомобиля на Обуховском заводе, убить Моисея Марковича никак не поспевал…
Понятно, что мелочный и злобный Зиновьев особенно сильно в тот вечер не любил Еремеева, но все равно странно, что он даже не пытается выяснить, кто же на самом деле убил Володарского.
Это равнодушие Григория Евсеевича — равнодушие человека, если не организовавшего убийство, то, во всяком случае, посвященного в организацию его.
И тогда все становится на свои места…
Объяснимой становится и логика следственных действий товарища Лашевича, и странная забывчивость Анатолия Васильевича Луначарского, и даже сами судорожные поиски Моисеем Марковичем в тот вечер товарища Зиновьева…
Похоже, что и Володарский как-то узнал о грозящей ему опасности и начал разыскивать Григория Евсеевича, чтобы попросить не убивать его.
Как мы знаем, найти Зиновьева Володарскому не удалось.
Когда Зиновьев садился в свой автомобиль у Обуховского завода, Моисей Маркович уже лежал на панели и лицо его было страшно искажено, глаза выпучены, рот широко открыт.
И вот когда начинаешь внимательно перебирать обстоятельства убийства «оратора-пулеметчика», «человека-газеты», расплываются в сенгилейском тумане и отношения Володарского с Парвусом, и его неосторожные высказывания по поводу Урицкого, и даже само стечение обстоятельств, потребовавших громкого убийства, чтобы отвлечь внимание от суда над капитаном Щастным…
В этом тумане расплываются и очертания убийцы филадельфийского портного…
8
Надо сказать тут и о побочном эффекте сенгилейского тумана, сгустившегося в те дни над Петроградом. Речь идет о странной, опережающей само событие оперативности некоторых петроградских газет.
Газета «Молва», например, проведала об убийстве уже в утреннем выпуске 21 июня. Помимо биографии «страдальца» газета поместила и сообщение, что ночью состоялся телефонный разговор Зиновьева с Лениным, интересовавшимся деталями убийства.
«В советских кругах, — писала газета, — убеждены, что убийство Володарского было произведено или контрреволюционерами, либо отъявленными черносотенцами, или правыми эсерами. Существует предположение, что преступление совершено представителями “Каморры народной расправы”» (подчеркнуто нами. — Н.К.).{172}
Оперативность изумительная…
И можно было бы только восхититься ею, но в деле об убийстве Володарского остались и весьма сбивчивые объяснения сотрудников «Молвы», которые неопровержимо свидетельствуют, что об убийстве Володарского узнали в редакции, когда Володарский был еще жив.
Нужно сказать, что своими русофобскими настроениями «Молва» превосходила даже такие большевистские издания, как «Петроградская правда» или «Красная газета».
Это в «Молве» печаталось с продолжениями «историческое» исследование Бориса Алмазова о «Каморре народной расправы», которое, удачно совмещая жанр доноса с жанром фантасмагории, «научно» обосновывало провокацию, затеянную Моисеем Соломоновичем Урицким.
«В 1906 году после покушения на графа Витте (по дымовой трубе спущен был в печь с крыши разрывной снаряд) началась ликвидация боевых дружин “истинно русских союзов”. Всесильный тогда граф Витте, не сумев добиться от царя разрешения на ликвидацию вообще всех “союзнических обществ”, все же получил право ликвидировать боевые дружины этих организаций. Несмотря на упорное противодействие влиятельных черносотенцев, графу Витте удалось при помощи департамента полиции разоружить боевые дружины “Союза русского народа”, “Союза активной борьбы с революцией и анархией”, московского “Союза хоругвеносцев”. Отчаявшись в возможности добиться легального существования, Грингмут созвал в Москве монархический съезд и создал на нем “Нелегальную каморру народной расправы”. Почетным председателем ее был выбран сам Грингмут, а главным атаманом — известный Юскевич-Красковский, прославившийся впоследствии организацией убийств Герценштейна, Иоллоса и других еврейских деятелей»{173}.
Сей «научный» труд Бориса Алмазова мы приводим в конспективном виде, ибо в газете он печатался подвалами и с продолжениями. Но изложить его содержание было необходимо, чтобы представлять, что же вкладывала «Молва» в свое предположение: «преступление совершено представителями “Каморры народной расправы”».
Удивительно тонко и грациозно буржуазная «Молва» напомнила читателям, что хотя Моисей Маркович и душил потихоньку «прогрессивную» печать, но при этом он все-таки оставался евреем и, хотя бы таким образом, находился в одном с сотрудниками «Молвы» лагере…
Надо ли удивляться, что на следующий день большевистская «Петроградская правда» почти дословно повторила статейку «Молвы»:
«Нам еще памятны угрозы террора по отношению к представителям Советской власти, исходившие из уст наиболее авторитетных вождей правых эсеров на их партийных собраниях, угрозы, опубликованные в их партийной прессе. На страницах “Петроградской правды” были опубликованы и подметные письма с угрозами убийства, рассылавшиеся советским деятелям “Каморрой народной расправы”».
Итак…
Большевики колебались, кем объявить убийцу Володарского. Желание видеть его черносотенцем явно преобладало в первые дни.
«Соединенное собрание на 24 июня сего года активных работников Совета Штаба Красной Армии и представителей организации большевиков и левых эсеров постановило считать недопустимым освобождение явных погромщиков Еремеева и матроса Смирнова, что дает нашим черносотенным бандам возможность вести агитацию среди рабочих района, будто виновниками ареста являются наши местные работники, с которыми якобы даже там, в верхах, не желают считаться. А посему требуем от комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией впредь ни в коем случае не отпускать арестованных в Обуховском районе без нашего на то разрешения…
Начальник штаба П. Обухов»{174}.
Однако черносотенцев — и такое бывает в сенгилейском тумане! — взял под защиту сам Моисей Соломонович Урицкий.
Утренний выпуск «Молвы» от 21 июня не на шутку разгневал его.
Да и как не разгневаться, если Моисей Соломонович уже две недели назад доложил, что дело «Каморры» раскрыто и все наиболее активные члены ее арестованы…
И вот пожалуйста — какая-то газетенка намекает, будто это «Каморра» и убила Моисея Марковича.
Днем сотрудники Петроградской ЧК ворвались в редакцию и немножко разгромили ее.
Перепуганному редактору чекисты объявили, что, по-видимому, он сам участвовал в убийстве, коли начал готовить материалы траурного выпуска, когда Моисей Маркович Володарский был еще жив.
Тогда-то и возникла необходимость произвести убийцу Володарского в эсеры. Был изобретен воистину большевистский гибрид эсера-черносотенца…
На том самом траурном заседании Петросовета, где Григорий Евсеевич Зиновьев долго витийствовал, что «пролетариат Петрограда особенной, интимной любовью любит своего Володарского», он сказал и об убийце Володарского.
«Да… Может быть, это был одиночка… Одиночка, в жилах которого течет кровь генерала Галифе и Корнилова, а не кровь рабочего класса»{175}.
Сходно выразился и Лев Давидович Троцкий, заявивший, что «убийца — несчастный, темный человек, начитавшийся с.-р. газет».
Нетрудно заметить, что вожди большевиков как бы извиняют убийцу, перенося его вину то на генералов Галифе и Корнилова, то на эсеровские газеты.
А нарком просвещения даже жалостливую повесть написал об убийце…
«Володарского, преданного трибуна, рыцаря без страха из ордена пролетариата… сразила рабочая рука.
Его убийца был маленький, болезненный рабочий, большой идеалист. Годами этот тихий человек со впалой грудью мечтал о том, чтобы послужить революции своего класса, послужить подвигом и, если понадобится, умереть мученической смертью. И вот пришли интеллигенты, побывавшие на каторге, заслуженные, так сказать, с грудью, увешанной революционными орденами…
И эти интеллигенты, пользуясь доверием маленького рабочего со впалой грудью, говорят ему:
“Ты хочешь совершить подвиг во имя твоего класса, ты готов на мученическую смерть. Пойди же и убей Володарского”»{176}.
Подобное отношение бесполезно пытаться объяснить лозунгом — они убивают личности, мы убьем классы! — под которым хоронили Володарского… Мы сталкиваемся тут с совершенно не свойственным большевикам великодушием, которое ни чем иным, кроме воздействия сенгилейского тумана, объяснить невозможно, и которое страшнее любой жестокости…
9
Липким от крови мраком сенгилейского тумана затягивает подробности убийства Моисея Марковича Володарского…
Кто убил его — так и осталось неизвестным.
В большевистских газетах писали, что его убила буржуазия.
И были почти ритуальные похороны.
Если бы Моисей Маркович не был столь самовлюблен, умирая, он мог бы радоваться — его жизнь приносилась большевиками на алтарь революции.
Словно из библейских времен, выкатилась на улицы Петрограда погребальная колесница с телом нового Моисея, под колеса которой и поспешил другой Моисей (Урицкий) бросить жизни арестованных им русских людей…
В дни похорон газеты писали:
«Сила Володарского была в его непримиримости, доходящей до маниакальности…»
«Володарский в мрачном восторге фанатизма убил свое сердце…»
«Счастливый человек — ему было все ясно. Отсюда твердость, сила, упрямство прозелита, только что усвоившего чужую истину».
Но странно…
Пышные и помпезные похороны Володарского оказываются при ближайшем рассмотрении какими-то вырожденческо-жалкими…
«Володарский лежит в наглухо заколоченном гробу, обитом красной материей. К самому гробу булавочкой пришпилена бумажка, на которой наскоро написано красным карандашом: “Дорогому товарищу Володарскому от партийных рабочих Невской заставы”.
Возле гроба, поставленного на возвышение, небольшая группа серых людей, которые в театре обычно изображают простонародье»{177}.
«Гроб выставлен в Екатерининском зале Таврического дворца. Стены задрапированы красными знаменами в таком количестве, что оторопь берет. Это те знамена, которые пронесли 23 марта прошлого года, когда хоронили жертв революции».
«Троица. Пахнет березой. Дождь. Пролетарии под зонтиками. Председатель коммуны с непокрытой головой. Рядом с ним нервный интеллигент, средних лет, в пенсне и кожаной куртке. По внешности напоминает Троцкого. Это Свердлов. Несут знамена, оставшиеся от Первого мая. В хвосте процессии — две девицы в шляпках и с винтовками через плечо»{178}.
Хоронили Володарского 23 июня на Марсовом поле, рядом с могилой жертв Февральской революции. Шпалерами стояли революционные полки, матросские отряды, красногвардейцы.
Накануне, 22 июня 1918 года, в шесть часов утра в Москве, во дворе Александровского юнкерского училища, латыши расстреляли 37-летнего «адмирала» Щастного.
Хоронили Володарского в наглухо заколоченном гробу.
В половине седьмого вечера начались речи. Все требовали возмездия убийцам — эсерам.
В восемь еще говорили.
Требовали.
Дождь кончился.
И трудно, трудно, читая описания похорон, отделаться от впечатления, что в наглухо заколоченном гробу большевики зарывали в землю не только тело Моисея Марковича Гольдштейна, а то, о чем хотелось скорее позабыть…
Глава седьмая.
ТАЙНЫЙ АГЕНТ ДЗЕРЖИНСКОГО
Если евреи — враги, то Христос учил прощать врагов, а если не враги — за что вы их преследуете?
В. Соловьев
Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал словом и делом против советской власти…
М. Лацис
Володарского убили в 20 ч. 30 мин., а уже в девять вечера Урицкий выписал летучий ордер № 782 сроком на два дня, поручавший товарищам Иосифу Фомичу Борисенку и Эдуарду Морицевичу Отто произвести обыски и аресты лиц, причастных к убийству товарища Володарского{179}.
Эстонец Эдуард Морицевич Отто служил в царской армии вахмистром, работал электротехником, фотографом. Эти профессии выработали в нем пунктуальность и старательность…
Пока назначенный Зиновьевым Миша Трудник (М.М. Лашевич) арестовывал в сенгилейском тумане Григория Алексеевича Еремеева, а потом налаживал охрану того участка Шлиссельбургского проспекта, где несколько часов назад с оскаленными зубами и выпученными глазами лежал труп Моисея Марковича, Отто приступил к допросу свидетелей.
Протоколы этих допросов чем-то напоминают фотографии.
Все существенное, хотя и не выделено, хотя и теряется во второстепенных подробностях, все-таки, несмотря на сенгилейский туман, зафиксировано в них…
1
Еще 20 июня Эдуард Морицевич Отто допросил Гуго Юргена, но «расколол» шофера не он, а комиссар смольнинского гаража Ю.П. Бирин.
«Сегодня после допроса шофера Гуго Юргена последний мне рассказал следующее: несколько дней назад, с тех пор как я его назначил ездить с Володарским, к нему стал обращаться шофер того же гаража Петр Юргенсон с вопросами, куда и когда поедет Володарский…
Юргенсон рассказал Юргену, что все равно Володарского убьют, ибо на него сердиты адвокаты и студенты. Кроме того он сказал, что есть какой-то автомобиль “Паккард”, если эта машина ночью будет останавливать его автомобиль, чтобы я потихоньку ехал, чтобы можно было застрелить Володарского».
Почему так разоткровенничался Гуго, когда комиссар, с маузером в руках, насел на него, понятно. Ю.П. Бирин работал в гараже, и провести его разговорами насчет закончившегося бензина было трудно.
Бирин показания Гуго записал и заставил Юргена подписать их: «Изложенное читал и подтверждаю. Гуго Юрген»{180}.
После этого Гуго начал давать показания и Эдуарду Морицевичу Отго.
«Я знал с Риги Юргенсона. Там он был электромеханик и зарабатывал хорошие деньги и жил шикарно. Близко его не знал тогда. Когда мы оба вместе стали служить в гараже № 6 с апреля, то заметил, что Юргенсон играет в карты…»{181}
Далее — эти показания мы уже приводили — Гуго признался, что Петр Юргенсон говорил с ним о готовящемся покушении.
21 июня у Петра Юргенсона был произведен обыск.
Было найдено: «1 снаряд 37 мм, начиненный порохом, одно воззвание против Советской власти, всевозможная переписка, письма, фотографии, автомобильные пропуска на проезд по Петрограду за № 5379 машина “Делонэ” № 1757, пропуск на проезд по городу Петрограду на машине “Паккард” 1918».
Не оказалось у Петра Андреевича Юргенсона и алиби.
Хотя он и утверждал, что после разговора в Смольном с Гуго пошел в гараж, где и пробыл до девяти часов вечера, но это алиби опровергли показания Ю.П. Бирина и матери Петра Андреевича — Христианы Ивановны Юргенсон.
Юрий Петрович Бирин в день убийства Володарского спустился около шести часов вечера в гараж и увидел там Петра Юргенсона.
— Что ты тут делаешь? — спросил он. — У тебя ведь выходной…
— Посмотреть зашел… — ответил Юргенсон.
Бирин собирался в кинематограф и предложил Юргенсону присоединиться.
«Из гаража вышли — я, моя жена, Юргенсон и Озоле. У ворот встретили Коркла, и все пошли по направлению к Кирочной. На углу Кирочной и Потемкинской Юргенсон и Озоле отделились от нас»{182}.
Христиана Ивановна Юргенсон сказала, что «в день убийства Петр пришел домой около семи часов вечера, покушал и опять вышел около восьми часов. Кажется, в кинематограф. Вернулся он около одиннадцати часов вечера»{183} …
Казалось бы, улик, изобличающих Петра Андреевича Юргенсона, было более чем достаточно. Изобличали Петра Андреевича показания Гуго о разговорах, которые вел с ним Юргенсон, уговаривая помочь в убийстве Володарского, свидетельства Богословской и Зориной, а также других очевидцев, практически опознавших в Юргенсоне убийцу… Опровергнуто было и алиби его…
И тем не менее сам Юргенсон держался на допросах уверенно и безбоязненно.
Впрочем, множественное число тут мы употребили для складности. В материалах дела сохранился протокол одного-единственного допроса Петра Андреевича Юргенсона от 21 июня, где тот отказался признать себя причастным к организации убийства Володарского, а кроме того, заявил, что в день убийства до девяти часов вечера находился в гараже.
Э.М. Отто удалось доказать, что оба эти утверждения не соответствуют истине, но — поразительно! — больше Юргенсона не допрашивали. Урицкий сразу же изъял Петра Андреевича из рук дотошного следователя.
Выступая на траурном заседании Петросовета, он рассказал и о Петре Юргенсоне, который симпатизирует партии правых эсеров, и о Гуго Юргене, который не случайно остановился в том месте, где находился убийца, но внес и дополнительные уточнения…
«Моя комиссия, — заявил Урицкий, — старалась выяснить на основании объективных фактов и свидетельских показаний, кем было совершено убийство. Эти неумолимые факты говорят, что Володарского убили правые эсеры вместе с английской буржуазией».
Выводы эти никакими документами дела не подтверждаются, как и подробности, которые привел Урицкий, чтобы подкрепить свое обвинение…
«Правый эсер Филоненко проживал в Петрограде под разными вымышленными именами. Он является вдохновителем убийства.
Нам достоверно известно, что английский капитал замешан в этом деле. Правым эсерам обещано 256 миллионов рублей, из которых они уже получили 40. Один портной показал, что к нему явился однажды незнакомый шофер и, заказывая костюм, заявил, что на Загородном живет один генерал, предлагающий большие деньги за особые заслуги советским шоферам. Когда этому портному предъявили тридцать шоферов, он сразу указал на Юргенсона»{184}.
В материалах дела «Об убийстве Володарского в 1918 году» есть, правда, упоминание о портном, но откуда взялись миллионы, как соединил Урицкий с убийством Володарского имя Максимилиана Филоненко — двоюродного брата своего будущего убийцы Л.И. Каннегисера! — можно объяснить только особенностями сенгилейского тумана, окутавшего в те дни Петроград.
Уже летом Петра Андреевича Юргенсона по постановлению коллегии Петроградской ЧК расстреляли, так и не выяснив, кто же именно поручил ему заниматься подготовкой, а может, и самим убийством Володарского.
Одновременно — в «Петроградской правде» извещение об этом появилось 21 августа — был расстрелян и бывший комиссар ПЧК Роман Иванович Юргенсон — двоюродный брат Петра Андреевича Юргенсона.
Газетное сообщение об этом весьма кратко:
«По постановлению ЧК при Союзе коммун Северной области расстреляны:
1. В связи с неудачной попыткой покончившего самоубийством командира 4 номерного (Василеостровского) полка вызвать брожение в полку и направить его на Петроград, офицеры полка: Николай Георгиевич Казиков, Николай Михайлович Семкин, Владимир Александрович Александров.
2. По делу об агитации среди курсантов Михайловского артиллерийского училища после выступления левых эсеров инструктор Николай Михайлович Веревкин, бывшие офицеры Владимир Борисович Перельцвейг и Василий Константинович Мостюгин, курсанты Иван Михайлович Кудрявцев и Георгий Сергеевич Арнауговский <…>
9. Бывшие комиссары ЧК Роман Иванович Юргенсон и Густав Иоганович Менома за намерение присвоить себе деньги при обыске и бежать.
Председатель М. Урицкий.
Секретарь А. Иосилевич».
Обратите внимание, что под вторым пунктом в этом же списке значится фамилия Владимира Борисовича Перельцвейга, расстрел которого, как считается, послужил причиной гибели самого Урицкого.
Но об этом разговор у нас впереди…
А Эдуард Морицевич Отто так и не понял, что хочет от него любимый учитель.
Педантично продолжал он собирать улики, сопоставлял показания и довольно скоро вышел на Эммануила Петровича Ганжумова и Казимира Леонардовича Мартини, которые, по его мнению, были причастны к преступлению.
И — вот ведь досада! — военный комиссариат категорически отказался предоставить товарищу Отто информацию, где находятся эти военспецы.
Закрывая дело, Эдуард Морицевич со скорбным недоумением отметил сей факт в «Заключении следователя по делу № 1916 о убийстве т. Володарского»:
«Злоумышленников, убивших т. Володарского, обнаружить не удалось, как не удалось установить пособников их, кроме одного — Петра Юргенсона… Петр Юрген по постановлению Комиссии расстрелян.
Из показаний брата Петра Юргенсона видно, что его брат Петр имел знакомства среди контрреволюционеров офицеров 1 броневого дивизиона и дружил с Эммануилом Петровичем Ганжумовым, офицером, родом из Терской обл., армяно-грузинского вероисповедания, род. 16 сентября 1891 года, с офицером того же броневого дивизиона Казимиром Леонардовичем Мартини, полковником Добржанским и др.
Названные Генжумов, Мартини, Добржанский — известные контрреволюционеры и не исключена возможность их участия в убийстве Володарского. До сих пор арестовать их не удалось, но принимая во внимание всеобщую мобилизацию, они могут сейчас находиться в Красной Армии и делать там свое черное дело дальше, почему и необходимо было бы их разыскать через Военный комиссариат…
28.11.19 г. Отто»{185}.
Впрочем, тогда, 2 февраля 1919 года, у товарища Отто были и другие причины для скорби.
Он только что вернулся в Петроград, и узнал он, что отпущены на волю соучастники убийства самого товарища Урицкого…
Виктор Серж вспоминал, что начальник административных служб ПЧК Отто обычно сидел в долгополой кавалерийской шинели без знаков различия и с полуулыбкой под бесцветными усиками в разгар экзекуций анемично перебирал свои бумажки…
2
Кто же убил Моисея Марковича Володарского?
За что на 26-м году оборвали цветущую жизнь человека-газеты, оратора-пулеметчика, этого «гаденыша», как шутливо и ласково называли его товарищи по партии?
Уже после Гражданской войны, с 8 июня по 7 августа 1922 года, в Москве прошел большой процесс по обвинению правых эсеров в борьбе против советской власти.
Председательствовал Г.Л. Пятаков.
Обвинение представлял Н.В. Крыленко, защиту — Н.И. Бухарин.
На скамье подсудимых вперемешку сидели эсеры и агенты ВЧК.
В ходе процесса говорилось и об убийстве Володарского.
Самого исполнителя теракта Сергеева на процессе не было, но руководитель боевой группы, в которую якобы входил Сергеев, эсер Григорий Иванович Семенов оказался в наличии.
Более того, в конце февраля 1922 года, за три месяца до начала процесса, Г.И. Семенов предусмотрительно опубликовал в Берлине брошюру о военной и боевой работе эсеров в 1917—1918 годах, в которой содержались все имена террористов. Подробно была описана в брошюре и подготовка покушения на Володарского.
На следствии Григорий Иванович, конспективно излагая текст брошюры, признался, что самолично отравил ядом кураре пули, которыми стрелял Сергеев в Володарского.
«Место для выполнения акта мы старались выбрать на окраине города, чтобы покушавшийся мог легко скрыться, и решили действовать револьверами. Коноплева передала мне яд “кураре”, оставшийся у нее от времени мартовского неудавшегося покушения на Ленина. Я хотел отравить пули ядом и сделал это на квартире Козлова»{186}.
— Убийство Володарского — случайность… — попытался было отвести удар от партии заведующий военным отделом ЦК ПСР Михаил Александрович Лихач[36]. — Оно произошло без ведома ЦК ПСР. Боевая группа Семенова действовала стихийно, на свой страх и риск.
Но Г.И. Семенов — большинство исследователей считает его чекистским агентом — был безжалостен.
— Боевым отрядом руководил я — член военной комиссии при ЦК ПСР! — отрезал он. — Все указания по организации покушения на Володарского я получал от члена ЦК ПСР Абрама Года.
— Прошу приобщить к делу № 130 «Петроградской правды» за субботу 22 июня 1918 года! — потребовал государственный обвинитель Н.В. Крыленко. — В разделе хроники помещено извещение ЦК ПСР, касающееся убийства Володарского. Текст его чрезвычайно существенный и важный: «В редакцию “Петроградской правды” поступило следующее извещение: “Петроградское бюро ЦК ПСР заявляет, что ни одна из организаций партии к убийству комиссара по делам печати Володарского никакого отношения не имеет…”»
Голос его торжествующе зазвенел, и Г.И. Семенов согласно склонил голову.
— Да! — сказал он. — Я был возмущен поведением ЦК ПСР. Я считал необходимым, чтобы партия открыто заявила, что убийство Володарского — дело ее рук. То же думала центральная боевая группа. Отказ партии от акта был для нас большим моральным ударом. Моральное состояние всех нас было ужасно.
— А в «Голосе России» № 901 за 25 января 1922 года на-печатана статья под заглавием «Иудин поцелуй», подписанная Виктором Черновым, — подал свой голос и председатель трибунала Г.Л. Пятаков. — По поводу покушения на Володарского написано следующее: «Убийство Володарского произошло в самый разгар выборов в Петроградский Совет. Мы шли впереди всех… Большевики проходили только от гнилых местечек, от не работавших фабрик, где были только одни большевистские завкомы… Наша газета “Дело народа” пользовалась огромным успехом в массах. И вот неожиданная весть: выстрелом убит Володарский. Это величайшая ошибка… В присутствии С.П. Постникова… по его предложению было составлено заявление о непричастности партии эсеров к этому акту».
Этому выступлению товарища Пятакова не следует удивляться.
Будучи председателем трибунала, он должен был обеспечивать «состязательность» сторон, а защитник эсеров Бухарин как будто воды в рот набрал, вот и пришлось товарищу Пятакову самому зачитать выдержку из эсеровской газеты в защиту обвиняемых.
Но обвиняемые сами, не дожидаясь, пока это сделает обвинитель Крыленко, отбили попытку председателя суда защитить их. Приведенную Пятаковым выдержку из газеты опроверг член центральной боевой дружины эсеров товарищ Зубков.
— Прогремел выстрел, и был убит большевик Володарский! — сказал он. — Партия эсеров отреклась от Сергеева и его акта. Здесь некоторые цекисты наводили тень на него, что он убил Володарского из любви к искусству. Я знал Сергеева хорошо, он ни одного шага в революции не делал без разрешения ЦК ПСР. Так что напрасно бросать тень на Сергеева. Он убил Володарского от имени боевой организации, которой руководил ЦК ПСР.
Обратим внимание, что член центральной боевой дружины эсеров товарищ Зубков, хотя и знает Сергеева хорошо, но имени его не приводит.
Увы!..
Убийца Володарского так и останется просто Сергеевым — человеком без имени…
— Да! — подтвердил Г.И. Семенов. — Все показания Гоца и иже с ним — сознательная ложь. Гражданину Гоцу больше всех известно, что санкция покушения на Володарского была дана ЦК ПСР.
Совместными усилиями боевикам-эсерам, многие из которых были провокаторами, завербованными ГПУ, удалось-таки убедить товарищей Пятакова и обвинителя Крыленко, что моральный уровень руководителей партии правых эсеров совсем не так высок, как они думают.
— Гоц не хуже, чем Семенов, был посвящен во все детали подготовлявшегося убийства… — вынужден был признать Крыленко. — Так обстояло дело с убийством Володарского «раньше времени», несмотря на запрещение Гоца…
Вообще-то ирония, к которой мы попытались прибегнуть, пересказывая ход процесса, не то что бы неуместна, но просто не различима в той пародии на правосудие, которую устроили большевики в 1922 году.
Как мы уже отмечали, не только председатель трибунала и государственный обвинитель, но и защитник подсудимых эсеров были членами ЦК РКЛ(б) — партии, которая и была прежде всего заинтересована в устранении эсеров с политической арены.
Как сочинялась эта пародия на судебный процесс, расскажет через шестнадцать лет «защитник» эсеров Николай Иванович Бухарин.
«Нельзя пройти мимо чудовищного обвинения меня в том, что я якобы давал Семенову террористические директивы… — будет оправдываться этот “любимец партии” в письме к Пленуму ЦК ВКП(б) 20 февраля 1937 года. — Здесь умолчано о том, что Семенов был коммунистом, членом партии (! — Н.К.). Семенова я защищал по постановлению ЦК партии. Партия наша считала, что Семенов оказал ей большие услуги, приняла его в число своих членов… Семенов фактически выдал Советской власти и партии боевые эсеровские группы. У всех эсеров, оставшихся эсерами, он считался “большевистским провокатором”. Роль разоблачителя он играл и на суде против эсеров»{187}.
7 августа 1922 года было оглашено обвинительное заключение Верховного революционного трибунала ВЦИК РСФСР:
«Верховный трибунал приговорил: Абрама Рафаиловича Гоца, Дмитрия Дмитриевича Донского, Льва Яковлевича Герштейна, Михаила Яковлевича Гендельман-Грабовского, Михаила Александровича Лихача, Николая Николаевича Иванова, Евгению Моисеевну Ратнер-Элькинд, Евгения Михайловича Тимофеева, Сергея Владимировича Морозова, Владимира Владимировича Агапова, Аркадия Ивановича Альтовского, Владимира Ивановича Игнатьева, Григория Ивановича Семенова, Лидию Васильевну Коноплеву, Елену Александровну Иванову-Иранову — расстрелять.
Принимая во внимание, однако, что Игнатьев бесповоротно порвал со своим контрреволюционным прошлым, добросовестно служит Советской власти и является элементом социально безопасным, Верховный трибунал обращается в Президиум ВЦИК с ходатайством об освобождении его, Игнатьева, от наказания.
В отношении Семенова, Коноплевой, Ефимова, Усова, Зубкова, Федорова-Козлова, Пелевина, Ставской и Дашевского Верховный трибунал находит: эти подсудимые добросовестно заблуждались при совершении ими тяжких преступлений, полагая, что они борются в интересах революции; поняв на деле контрреволюционную роль ПСР, они вышли из нее и ушли из стана врагов рабочего класса, в каковой они попали по трагической случайности. Названные подсудимые вполне осознали всю тяжесть содеянного ими преступления, и трибунал, в полной уверенности, что они будут мужественно и самоотверженно бороться в рядах рабочего класса за Советскую власть против всех ее врагов, ходатайствует перед Президиумом ВЦИК об их полном освобождении от всякого наказания»…
3
Процесс был открытым.
На нем присутствовали 80 российских и зарубежных корреспондентов.
Материалы процесса опубликованы, и в художественную, да и в научную литературу так и вошла эта фамилия — Сергеев.
По скромности, принятой в рассказах о делах ВЧК—ГПУ—НКВД—КГБ, никто из историков не озадачился и мыслью, почему это эсеры поручили боевику столь серьезное дело, ни имени его, ни отчества, ни других биографических данных не спросив.
Все-таки хоть и мерзавец был Володарский, но террористический акт всегда индивидуален, личность исполнителя в нем чрезвычайно важна, и первому попавшемуся Сергееву поручать такое дело не стали бы…
Естественно, что, знакомясь с подлинными документами, касающимися убийства Володарского, я пытался понять, откуда все-таки взялась в материалах процесса фамилия Сергеев.
Увы!..
В подлинном деле «Об убийстве Володарского в 1918 году» такая фамилия нигде не упоминается.
Зато есть фамилия Сергеевой.
Ольга Ивановна Сергеева написала донос на своего мужа, правого эсера Геннадия Федоровича Баранова, который развелся с ней…
«Пишу вам это письмо, рассказываю свою затаенную душу. И вот я хочу вам открыть заговорщиков против убийства тов. Володарского, а именно правых эсеров.
Простите, что раньше не открыла.
Но лучше поздно, чем никогда…
Число заговорщиков было 7 человек. Бывший мой муж Геннадий Федорович Баранов, Григорий Еремеев, Сокко, Крайнев, Чайкин, Фингельсон и неизвестный мне матрос…
Это было так. Когда я пришла домой из лазарета, я уловила кое-какие слова: “Нужно Володарского сглодать с лица земли, он мешает…”
Это было как раз накануне убийства Володарского»…
На допросе Ольга Ивановна — ей было тогда 23 года — записалась уже под девичьей фамилией Сергеева, поскольку 9 октября она была разведена: «муж тайно от меня подал бумагу о том в суд», пожаловалась на свекра и на свекровь и объяснила, что не выдавала супруга раньше, «потому что жалела его, как мужа»{188}.
Баранова, разумеется, арестовали, а Ольгу Ивановну отпустили.
В общем-то, все было понятно, не нужно быть знатоком женской психологии, чтобы понять мотивы, которыми руководствовалась Ольга Ивановна, засаживая в тюрьму своего мужа.
Впрочем, и фантазировать на эту тему — нет нужды…
3 декабря 1918 года Ольга Сергеева отправила письмо мужу, в котором все сама и объяснила.
«Васильевский остров. Галерная гавань.
Дербинская тюрьма. Камера № 4.
Геннадию Федоровичу Баранову.
Геня, я сегодня получила твое письмо…
Я как раз сидела у кровати дочери и все ей рассказывала, как ты мимо меня проходил, мимо и даже не смотрел на меня. Геня, я сейчас не знаю, какие меры принять к жизни. Вот сегодня напишу т. Потемкину письмо, что он мне ответит — не знаю. Я сейчас на себя готова руки наложить, да это, видно, и сделаю…
Теня, ты сейчас пишешь, что, где бы я ни была, ты меня не оставишь.
Теня, почему ты мне раньше ничего не ответил этого, я бы была покойна, знала бы, что мой бедный ребенок будет хоть малым обеспечен. Я же тебе писала даже сама об этом, но ты почему-то мои письма снес в суд. Я их своими глазами там видела. Ты был под влиянием своей матери, ты блаженствовал в родном доме, а я смотрела на свой проклятый живот, сидела и плакала, проклиная ребенка, который еще не вышел на свет.
Я и сейчас его проклинаю, зачем он зародился, зачем он руки мои связал. Не он бы, я вот иначе поставила бы свою жизнь, а то двадцать два года живу и уже что я стала, боже мой.
Геннадий, как хочешь, ноя и тебя проклинаю тоже.
Никогда я не забуду октября месяца, когда ты меня бросил на произвол судьбы.
За все твое я тебе сделала кару, которую ты несешь. У меня же сердце проклятое, слабое, вот мне тебя и жалко, сама голодаю, но тебе несу…
Твоя бывшая жена Ольга»{189}.
Читаешь это письмо и понимаешь: что тут Достоевский!
Голод, стужа, холера, расстрелы каждый день — и вот такая страсть, такое самогубство, словно мало реальных несчастий, такое, даже и в отчаянной подлости, раскаяние и очищение…
Можно было бы и далее продолжать цитировать переписку Ольги Ивановны Сергеевой и ее мужа-обманщика Гени, но мы начали с того, откуда появилась на процессе через четыре года фамилия Сергеева.
Похоже, что отсюда и появилась.
Потому что, кроме фамилии, здесь все совпадает: и партийность, и профессия, и круг знакомых.
А фамилию перепутали, так что ж…
С кем не бывает.
Документы в деле сшиты так, что немудрено и перепутать: начинается дело с показаний Сергеевой на своего мужа…
Юрий Тынянов писал в свое время о поручике, рожденном под рукою невнимательного писаря. Поручик Киже дослужился при императоре Павле до чина генерала.
У чекистских писарей родился Сергеев, которого и судили потом, как поручика Киже, на процессе 1922 года. Только разве в генералы не произвели…
Так и оставили в народных героях.
4
Думается, что ясного ответа на вопрос о настоящем убийце Володарского не удастся найти никогда.
Архивные документы, в том числе и дело об убийстве Володарского, которое спас от сожжения, переслав его в Москву, Э.М. Отто, непреложно свидетельствуют лишь о том, что в преступлении были замешаны сотрудники Петроградской ЧК.
Еще архивные документы свидетельствуют, что Моисей Соломонович Урицкий делал все, дабы следствие не вышло на подлинных организаторов убийства…
Петроградцами, вопреки утверждениям большевистской прессы, убийство Володарского было воспринято с нескрываемой радостью. Газеты, разумеется, ничего не писали об этом, но, когда знакомишься с материалами дела — видишь, насколько популярной в городе была «профессия» убийцы Моисея Марковича.
«Спустя дня три после роспуска Петергофской районной думы, где служил Вукулов, а также и я, мы вышли на улицу вместе и Вукулов мне говорит: “Мерзавца Володарского, я его не сегодня, то завтра убью”. На мой вопрос: почему он убьет именно Володарского? — Вукулов ответил, что “он — мерзавец, убийца моего брата”. Я спросил: как это может быть, что Володарский убил твоего брата? На что он возразил: “Это позволь мне знать”»{190}.
«Я слышал от старухи Васильевой, что Сергей Михайлов был на собрании, где говорили об убийстве двух лиц из Совета, после чего будет свобода и хлеб. Кроме того я узнал от старухи, что собрание это было в воскресенье, кажется, 18 июля в 4 часа дня, до убийства Володарского»{191}.
Подобных доносов в деле об убийстве Володарского великое множество.
Все они по поручению Моисея Соломоновича Урицкого тщательно проверялись Эдуардом Морицевичем Отто.
Люди, высказывавшие угрозы по адресу уже убитого Володарского, арестовывались и дотошно допрашивались. Это отвлекало Отто от настоящего следствия, но похоже, что Моисей Соломонович Урицкий именно к этому и стремился.
Но и Моисея Соломоновича можно понять…
От него требовали не поиска убийц, не расследования преступления, а наведения страха в городе.
«Тов. Зиновьев!
Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не лично Вы, а питерские чекисты) удержали! Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную. Это не-воз-мож-но! Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает.
Привет!
Ленин.
P.S. Также Лашевичу и другим членам ЦК»{192}.
Это письмо В.И. Ленина датировано 26 июня 1918 года.
5
Наверное, я бы не решился столь категорично настаивать на причастности к убийству Моисея Марковича Володарского Моисея Соломоновича Урицкого, если бы не попалось мне среди томов дела «Каморры народной расправы» дело Алексея Фроловича Филиппова, о котором мы уже упоминали в нашей книге…
Расскажем сейчас подробнее о нем, поскольку родившийся «в семье технического служащего женской гимназии и кухарки» Алексей Фролович Филиппов был весьма любопытной личностью.
Тем более что свою биографию он сам изложил на допросе 11 июля 1918 года.
«Я окончил Московский университет по юридическому факультету, готовился к кафедре как получивший три золотых медали во время прохождения курса, но потом избрал путь литературно-издательский.
Основал с Сытиным “Русское слово”, потом купил журнал “Русское обозрение” в Москве, позже издавал “Ревельские известия” и в 1906 году газету “Кубань”, за статьи которой имел 42 процесса (один год крепости), и затем “Черноморское побережье” в Новороссийске, где также привлекался к ответственности за статьи (до 82 процессов) — с осуждением от двух месяцев до одного года четырех месяцев тюрьмы.
Приехав в 1912 году в Петроград, бедствовал без средств и потому поступил клерком в банкирскую контору Августа Зайдемана»{193}.
Очень скоро, чтобы не бедствовать без средств, патриот Алексей Фролович Филиппов стал издавать газету «Деньги» и основал собственный «Банкирский дом народного труда» в виде «товарищества на вере», в которое, как он сказал на допросе, «вводились рабочие и где проводились принципы, проводимые ныне в жизнь большевиками».
Октябрьский переворот, и в частности декрет об аннулировании дивидендных бумаг, разорил Филиппова, но, вместо того чтобы возненавидеть большевиков, он воспылал к ним необыкновенной любовью.
«Независимо от значения большевизма и его приемов действия для осуществления общих идеалов социализма, — писал бывший банкир, — он представляет собой применительно к данному времени явление народное».
Со столь гибкой совестью вполне можно было идти в ЧК, независимо от того, кто ты: банкир или писатель.
Филиппов так и поступил.
Он был знаком с Анатолием Васильевичем Луначарским и для поступления в стукачи решил воспользоваться его протекцией.
В конце декабря 1917 года он сообщил Луначарскому, что в Петрограде среди представителей партий, находящихся в оппозиции к советской власти, ходят упорные слухи о готовящемся перевороте эсеров и о возможном покушении на В.И. Ленина.
Буквально на следующий день на Гороховой улице, где тогда размещалась Всероссийская чрезвычайная комиссия, состоялась встреча Филиппова с Дзержинским.
«Мы сошлись с Дзержинским, который пригласил меня помогать ему, — рассказывал Филиппов все на той же Гороховой улице, только уже на допросе. — Дело было при самом основании Чрезвычайной комиссии на Гороховой, когда там было всего четверо работников. Я согласился и при этом безвозмездно, не получая платы, давал все те сведения, которые приходилось слышать в кругах промышленников, банковских и отчасти консервативных, ибо тогда боялись выступлении против революции со стороны черносотенства»{194} …
Взамен за безвозмездные сведения Алексею Фроловичу было выдано удостоверение секретного сотрудника ЧК, которое стоило тогда, если судить по свидетельству чекиста И.Э. Бабеля, дороже любых денег.
Очень скоро Алексей Фролович становится по-настоящему влиятельным в стране человеком. На основании его докладных записок готовится декрет о национализации банков, при участии Филиппова распродается русский торговый флот. Незадолго до ареста Филиппову было поручено «определить причины неисполнения приказа Высшего Совета по делам народного хозяйства в отношении Русско-Балтийского завода».
Насколько велико было влияние Алексея Фроловича на государственные дела, можно судить по тому, что для заслушивания его соображений по поводу того же Русско-Балтийского завода товарищ Рыков собирал экстренное заседание президиума ВСНХ.
Какие неофициальные доходы имел Алексей Фролович от своего «сердечного сочувствия большевикам», неведомо, но известно, что у него была большая квартира в Москве и еще огромная квартира — часть ее он сдавал шведской фирме — в Петрограде на Садовой улице.
«Сердечное сочувствие большевикам» и личное знакомство с высшими партийными бонзами, как мы знаем, не мешало ему оставаться банкиром и участвовать в весьма прибыльной операции по изъятию у населения облигаций займа свободы.
Разумеется, одними только консультациями по экономическим вопросам деятельность Филиппова в ВЧК не ограничивалась. Кроме этого, а вернее главным образом, он был стукачом.
«На обязанности моей лежало чисто личное осведомление Дзержинского о настроениях в правых кругах (сведения получались либо от Л.Н. Воронова, москвича, финансиста, либо от А.А. Ханенко из Петрограда), во избежание возможных выступлений против Советской власти и ввиду того, что кадеты начали заигрывать с правыми, а эсеры готовились к выступлению»{195}.
О моральной стороне поступков Алексея Фроловича мы говорить не будем, но ума и осторожности ему было не занимать.
«Однажды Александрович вызвал меня (он был заведующим отделом преступлений) и предложил записаться в СР. Я ответил, что предпочитаю оставаться беспартийным ввиду сочувствия моего к большевикам»{196} …
Тем не менее и в коммунистическую партию Филиппов вступать не спешил.
«Я предпочитаю быть около большевиков и с ними, но не накладывая на себя партийных обязанностей…»
И вот этого-то осторожного, секретного осведомителя самого Феликса Эдмундовича Дзержинского и арестовал Моисей Соломонович Урицкий.
6
В «Каморру народной расправы» Алексей Фролович вляпался сам, когда заступился за арестованного в Петрограде Александра Львовича Гарязина — своего дореволюционного компаньона как по делам русского патриотизма, так и по коммерческой линии.
Александр Львович Гарязин был директором-распорядителем технико-промышленного транспортного общества, а в прошлом — чиновником особых поручений при олонецком губернаторе, членом общества заводчиков и фабрикантов, одним из организаторов Всероссийского национального союза, публицистом, редактором-издателем еженедельника «Дым Отечества».
Еженедельник «Дым Отечества» Александр Львович начал издавать в 1912 году, когда наметился раскол русского движения. Преодоление раскола, стремление «сплотить русских людей, идущих вразброд», и было объявлено стержневой идеей издания.
«Не скоро еще найдется подходящий момент для начала издания, посвященного изучению России и обзору современной действительности, чем наши дни, хотя и тревожные, и несущие опасность…» — пророчески заметил Гарязин в статье «Моя вера», открывавшей первый выпуск «Дыма Отечества».
Помогал Александру Львовичу Гарязину сплотить русских людей, идущих вразброд, конечно же Алексей Фролович Филиппов. Будущий осведомитель Ф.Э. Дзержинского вскоре и занял редакторское кресло «Дыма Отечества»…
Но все это было задолго до революции, а теперь все изменилось.
Когда подручные Урицкого 30 июня арестовали А.Л. Гарязина, жена Александра Львовича Ольга Михайловна первым делом отбила в Москву телеграмму:
«Срочно.
Арбат. Мерзляковский. 7. Филиппову.
Муж арестован сегодня Гороховой два. Хлопочите через Дзержинского об освобождении. Отвечайте. Гарязина»{197}.
Телеграммой она не ограничилась, написала и письмо…
«Многоуважаемый Алексей Фролович!
Сегодня дала Вам срочную телеграмму и пользуюсь любезностью г. фон Эгерта, чтоб подробнее известить Вас о случившемся. Вчера в 121/2 ч. ночи к нам явились коммунары с ордером для обыска и ареста Алексея Львовича. Обыск длился четыре часа, не оставили ни одного клочка бумаги, все увезли, а также и Алексея Львовича. Он находится сейчас на Гороховой, 2.
За что он арестован и в чем его обвиняют, ни он и никто из нас не знает. Обращаюсь к Вам с просьбой помочь нам по мере Ваших сил в этом неприятном деле.
Уезжая, Алексей Львович сказал, чтобы я обратилась к Вам.
Сделайте через Дзержинского все, что в Ваших силах, и если есть возможность, приезжайте. Не могут ли Вас назначить следователем по этому делу?
Алексей Фролович, Вы понимаете, как нам тяжело в это страшное время, где жизнь человека зависит от одного слова, от малейшей случайности!
Я не знаю ни к кому, ни куда обратиться.
Была сегодня у Урицкого, но он не принимает, и никто точно не может мне ничего сказать, как получить свидание.
На Вас вся надежда, и я знаю, что Вы сделаете, что в Ваших силах, но только не медлите.
17(30).VI.1918 г. О. Гарязина»{198}.
Видимо, отношения Алексея Львовича Гарязина и Алексея Фроловича Филиппова действительно отличались некоторой теплотой и доверительностью, потому что, вполне осознавая опасность подобного вмешательства, он все-таки попытался сделать то, что было в его силах.
На телеграмме Ольги Михайловны Гарязиной есть приписка, сделанная рукой Филиппова:
«Тов. Дзержинский! Так как я получил эту депешу, где находится Ваше имя, то не считаю возможным не показать ее Вам.
Прибавлю: думаю, что Александр Львович Гарязин, лично мне известный коммерсант, едва ли заслуживает, чтобы к нему применялись меры исключительной строгости, по его крайней несерьезности в делах.
Посему, если найдете возможность обратить внимание тов. Урицкого на эту депешу, я почувствую себя исполнившим дело перед его женой.
P.S. Гарязин в последнее время содержал контору по ликвидации фабрик и заводов и, кажется (давно я не видел его), транспортировал беженцев в Литву.
А. Филиппов».
Ходатайство составлено, как мы видим, предельно осторожно, просьба помочь товарищу сформулирована так, чтобы у самого Филиппова оставалась возможность отстраниться от подзащитного, коли его сочтут виновным, тем не менее на этот раз осторожность не помогла Алексею Фроловичу.
Хотя Дзержинский и переслал Урицкому телеграмму с просьбой разобраться, Александра Львовича Гарязина все равно расстреляли.
«АЛ. Гарязин арестован был ЧК 30 июня сего года как видный деятель монархической организации, и 2 сентября сего года на основании объявления красного террора расстрелян, а потому ЧК постановила отобранные при аресте Гарязина два чемодана, две бутылки вина и оружие конфисковать и настоящее дело производством считать законченным.
22 ноября 1918 года Н. Антипов».
Так что не защитил компаньона Алексей Фролович Филиппов, а себя едва не погубил…
Мотивировка необходимости его ареста вроде бы звучала для чекистов вполне убедительно: Филиппов ходатайствовал за человека, напрямую причастного к русским националистическим организациям, человека, который открыто заявлял, что «только при торжестве русского самосознания и при главенстве русского народа на имперской территории и на всех ступенях государственной власти возможен спокойный прогресс для сотен народностей, вкрапленных в русскую».
Учитывая, что людей и принимали на работу в ЧК, если они умели доказать, что ненавидят Россию так же горячо, как вожди большевиков, двурушничество секретного агента Филиппова не могло не возмутить Моисея Соломоновича Урицкого.
И все-таки вмешательство А.Ф. Филиппова в расследование дела «Каморры народной расправы» было лишь формальным поводом для его ареста. У Моисея Соломоновича Урицкого имелись более веские причины, чтобы запереть в тюрьме тайного агента Дзержинского.
7
21 июня, после ночного разговора по телефону с Г.Е. Зиновьевым, Ленин попросил Феликса Эдмундовича начать параллельное расследование убийства Володарского.
Поскольку этим делом уже занимался Миша Трудник (Лашевич), а одновременно с ним следователь Э.М. Отто из Петроградской ЧК, свое расследование Дзержинский решил провести негласно. Для этой цели в Петроград командировался Заковский (официально) и агент Филиппов (тайно){199}.
Подготовка доклада по делу Русско-балтийского завода на президиуме ВСНХ задержала агента Филиппова в Москве, и в Петроград он собирался выехать 7 июля.
Но 4 июля в Москве открылся V Всероссийский съезд Советов, на который приехал из Петрограда М.С. Урицкий.
Как он узнал о засылке в его «епархию» тайного агента, неизвестно, но, когда узнал, серьезно встревожился.
Надо сказать, что положение Урицкого в конце июня 1918 года было довольно шатким.
Еще весной его освободили от должности комиссара внутренних дел Союза коммун Северной области, а сейчас в комиссариате юстиции уже всерьез начал обсуждаться вопрос, что и Петроградскую ЧК могли бы возглавить более инициативные товарищи.
Не собирались защищать Моисея Соломоновича и в Москве.
Еще 12 июня, на заседании фракции РКП(б) на конференции чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией «ввиду грозного момента» было постановлено: «предложить ЦК партии отозвать т. Урицкого с его поста в ПЧК и заменить его более стойким и решительным товарищем»…
И вот теперь М.С. Урицкий узнает, что расследованием убийства, в котором участвовали и петроградские чекисты, будет заниматься тайный агент Ф.Э. Дзержинского…
Без сомнения, Урицкий понимал, что Филиппов не Отто, отвлечь его от расследования не удастся, и поэтому он и вспомнил о заступничестве Филиппова за Гарязина, привлеченного по делу «Каморры», и решил пристроить агента в «Каморру народной расправы».
Едва ли Ф.Э. Дзержинский так просто отдал бы Моисею Соломоновичу своего лучшего стукача, но обстоятельства сыграли на руку Урицкому.
6 июля в три часа дня был убит германский посол Мирбах…
Произошел эсеровский мятеж…
Дзержинский вынужден был уйти в отставку…
Обо всем этом разговор впереди, а пока о том, что Моисей Соломонович Урицкий сумел воспользоваться отставкой Феликса Эдмундовича Дзержинского.
8 июля товарищу Сейсуму был выдан ордер № 3794 Всероссийской ЧК на арест Филиппова в помещении ВЧК и на квартире.
Сам Моисей Соломонович еще накануне вернулся в Петроград.
А 10 июля ему привезли в Петроград арестованного Алексея Фроловича Филиппова… Филиппов и так планировал приехать, но сейчас вместо расследования обстоятельств убийства Володарского вынужден был заняться сочинением бумаг, доказывающих его непричастность к погромщикам:
«Относительно “Союза спасения России” ровно ничего не знаю, — кто был организатором, мне неизвестно, и даже где он образовался — я тоже не осведомлен. Был какой-то союз, похожий по названию, на Мойке, о нем вскользь мне говорил в феврале Александр Иванович Лидах, Я давал тогда адрес Дзержинскому, но чем дело кончилось — не знаю, кажется, это была афера.
Про Злотникова знаю, что он состоял издателем журнала “Паук” и основателем клуба “Вешние воды” на Фонтанке, где я и познакомился с ним во время выступлений его и А.А. Суворина. Затем видел его в военной форме, но где он теперь и что делает—не знаю, ибо близкого знакомства с ним не имел и не имею, а в Петрограде не живу уже около 2-х месяцев.
Имя Иосифа Ревенко слышу в первый раз и, конечно, его не знаю, равно как и Мухина.
С Захарием Ждановым знаком хорошо, как биржевик, но дел с ним не имел. А что он жертвовать ни на что не способен (тем более на политику), в этом уверен, ибо даже дав взаймы газете “Деньги” четыреста рублей, он потребовал вексель и потом, пустив в протест, взыскал их с меня.
Жданова я видел много раз и у него на квартире, и в ресторане, но беседует он не о политике, а о бирже и деньгах. Относительно жертвования им на какую-либо организацию (правую или левую) я сомневаюсь. Он однажды израсходовал деньги на шантажистов, донимавших его разоблачениями, и то не больше шести тысяч.
“Каморра народной расправы” появилась здесь, в Петрограде, когда я был в Москве, и я только из газет знаю, что она пошумливала глупыми прокламациями. Но полагаю, что эта “Каморра” состоит из одного-двух полуграмотных господ, или одного Злотникова (если он здесь), и политического значения не имеет — прокламаций ее я, к сожалению, не видел. И, конечно, сказать о том, кто распространяет их, не могу, ибо, если бы я узнал о чем-либо подобном, то немедля сообщил бы Дзержинскому…
Имя Фильтберта никогда не слышал, а Ларин (если только это не псевдоним) — это один из черносотенцев и спекулянтов. Он был в Петрограде, завел ряд потребительских лавок, очень разбогател, бросал на кутежи тысячи и разъезжал по провинции, ускользая от властей. Лично я его не видел года два-три, а слышал от некоей Аси (фамилии не помню), приходившей раз или два ко мне на квартиру с сестрой моей сожительницы. Однако, будучи в Москве, я обратил внимание Комиссии на появление Ларина на горизонте и тогда должны были дать депешу Урицкому, а уж дали ли, не знаю, ибо Александрович был председателем, а он не любил давать что-либо т. Урицкому в руки. (Курсив наш. — Н.К.) Где Ларин теперь, я не знаю»{200} …
Читаешь эти показания и понимаешь, что не зря Дзержинский считал Филиппова своим лучшим секретным агентом. Алексей Фролович действительно был чрезвычайно одаренным сексотом.
Хотя он и не готовился, не собирал специально сведений, но он обладал такой бездной информации, так свободно оперировал ею, что сразу разобрался в сущности дела «Каморры народной расправы». Его показания — это квалифицированная характеристика и самого дела, и его основных фигурантов.
Показания Филиппова качественно превосходят те сведения, которые удалось добыть Байковскому в ходе почти двухмесячного следствия.
Филиппов обладал ценнейшим качеством осведомителя, он умел, поставляя информацию, отвлекаться от личных пристрастий и антипатий и основывался исключительно на реальном положении дел.
8
Но ни опыт, ни способности не могли помочь Филиппову выпутаться из дела «Каморры народной расправы», в которое включили его по указанию Моисея Соломоновича Урицкого.
Положение осложнялось потому, что Алексей Фролович далеко не сразу отгадал, почему его включили в это дело:
«За что?! За что?! За будто бы юдофобскую пропаганду какого-то Злотникова, которого я раз, два видел два года тому назад?.. Или за выступление по Русско-балтийскому заводу?»{201} …
Он волновался, нервничал и, видимо, зная уже что-то о порядках в ПЧК, более всего опасался выпасть из поля зрения высших советских сановников. С первых дней своего пребывания в тюрьме он бомбардирует начальство докладными записками, которые не столько свидетельствуют о его преданности режиму, сколько ставят задачей заинтриговать партийных бонз сведениями, которыми он, Филиппов, располагает:
«Ввиду того, что я лишен возможности, вследствие пребывания под арестом, произвести расследование, в каких банках заложено было и где, какое количество акций Русско-Балтийского судостроительного завода, то прошу выйти с просьбой к т. Урицкому или непосредственно Николаю Николаевичу Крестинскому о том, чтобы эти сведения, самые подробные, с указанием имен акционеров и их адресов были доставлены к Вам в отдел для определения того, кому сейчас принадлежит предприятие (курсив наш. — Н.К.), а то может оказаться, что Комиссия, разделяя точку зрения ВСНХ, тем не менее будет работать во вред республике»{202}.
Мы специально выделили слова о необходимости определения того, кому сейчас принадлежит предприятие, чтобы не работать во вред республике. Это ведь только рядовым большевикам и простым рабочим могло казаться, что для революции не существует разницы между владельцами предприятий, что она борется со всеми капиталистами без исключения.
И нельзя сказать, чтобы записки эти не вызывали интереса у адресатов, но тут — нашла коса на камень! — ничего нельзя было предпринять для выручки агента. Моисей Соломонович Урицкий не реагировал ни на намеки, ни на просьбы.
«Товарищу Урицкому.
Ко мне обращается А.Ф. Филиппов с просьбой вникнуть в его положение, что сидит он совершенно зря. Не буду распространяться, пишу Вам потому, что считаю сделать это своею обязанностью по отношению к нему, как к сотруднику Комиссии. Просил бы Вас только уведомить меня, в чем именно он обвиняется.
С приветом,
Ф. Дзержинский»{203}.
Хотя в конце июля, когда была написана эта записка, Дзержинский еще не вернулся в ВЧК, но он по-прежнему сохранял свое влияние в партийном и советском аппарате, и Моисею Соломоновичу Урицкому следовал о. бы уважить его просьбу.
Однако он даже не удостоил Дзержинского ответом.
Вместо этого начертал на письме резолюцию «Байковскому», санкционируя тем самым применение к Филиппову испытанного в ПЧК метода.
Как отмечал Филиппов, «после ареста 9 июля, я просидел 10 дней на Гороховой, более 12 дней в “Крестах”, и вновь на Гороховой 10 дней, теперь препровожден в Дом предварительного заключения»{204}. С помощью этого метода следователь Байковский очень быстро привел агента Филиппова в надлежащее арестанту состояние.
В первые дни после ареста он составлял достаточно надменные заявления:
«В ЧК Петроградской коммуны
следователю т. Байковскому
от сотрудника ВЧК А.Ф. Филиппова,
Кресты, камера № 43
Покорнейше прошу прибыть в Кресты и допросить меня на очной ставке с теми заключенными по делу “Каморры народной расправы”, которые имеются в виду при следствии.
Я имею право рассчитывать на особое внимание к моей просьбе, потому что не являюсь рядовым арестованным»{205}.
Но уже начиная с августа тон писем и прошений Алексея Фроловича Филиппова резко меняется, и если бы не подпись, то и не определить, что они исходят от секретного осведомителя самого Ф.Э. Дзержинского. Вполне можно было бы принять эти послания за слезные прошения обыкновенного арестанта…
«Вот уже месяц как я арестован в Москве по телеграмме Урицкого. Теперь после пребывания на Гороховой в вони, среди жуликов и авантюристов, после сидения в “Крестах” без допроса меня перевели на Гороховую, продержали 8 дней и вновь направили в Предварительную…
За что?! За что?! За будто бы юдофобскую пропаганду какого-то Злотникова, которого я раза два видел два года тому назад!..
Почему мое отношение к государственному строю в прошлом, выразившееся в многочисленных процессах по 129-й статье, и присуждение к одному году крепости не засчитывается, а донос какого-то Снежкова-Якубинского, который попал к Урицкому на службу, заслуживает доверия? (Подчеркнуто нами. — Н.К.)
Если есть сила в проклятиях, я их несу всем…
В эти годы, с седой головой, я так юношески верил в Вас, Ленина, в работу Комиссии, в необходимость своей работы и на почве финансовой, и в практическом духе, и в торжество демократических начал, народных, ярких, русских.
И теперь видеть, что отвержен, и при общем издевательстве надо мной я должен переживать помимо личных горестей еще и горечь разочарования во всех, даже в Вас…
Не могу снести этого, плачу как ребенок, когда пишу письмо — жизнь кончена, ее больше нет»{206}.
Я цитирую сейчас прошение, написанное Филипповым 5 августа Ф.Э. Дзержинскому, не только для того, чтобы еще раз продемонстрировать, каким действенным было томление арестанта по методу Байковского.
Нет.
Метод Байковского действовал так разрушительно, что даже человек, хорошо знакомый с порядками, царящими в чекистских застенках, сбивался, теряя ориентацию.
Очень скоро и Алексей Фролович Филиппов уверовал, что именно по подозрению в причастности к погромной деятельности и привлечен он.
Сбивались, теряли ориентацию и его благодетели, и на всякий случай они стремились отмежеваться от тайного агента, заподозренного в погромной работе.
Вот письмо, направленное Урицкому на бланке комиссариата юстиции:
«Многоуважаемый Моисей Соломонович!
Препровождаю Вам полученное мною от А.Ф. Филиппова из тюрьмы письмо.
С своей стороны, в виду его ссылки в письме на меня добавлю, что у меня нет никаких данных, изобличающих Филиппова в чем-либо, но во всех случаях, когда он ко мне обращался по делам, он производил на меня впечатление человека с задними мыслями, стремившегося обслуживать интересы не наших, о чем он говорил, а других лиц (имею в виду не политику, а экономику).
С товарищеским приветом
Крестинский».
Жалко, конечно, что Н.Н. Крестинский не написал подробнее о наших интересах в экономике, но, видимо, М.С. Урицкий и так знал о них…
9
Постепенно в письмах А.Ф. Филиппова все явственнее, рефреном, начинает звучать одна и та же просьба: «Прошу, чтобы Урицкий меня лично принял». «Сделайте детальный допрос в Вашем присутствии!» — молит он Урицкого.
«Чего я хочу от Вас? — пишет он Н.Н. Крестинскому. — Урицкий человек большой энергии и еще большей самостоятельности… Поэтому я не прошу Вас оказать на него какое-либо воздействие и не прошу о содействии, но прошу о том, чтобы Вы, памятуя, сколько я Вам надоедал в Комиссии и через Комиссию финансовыми записочками (а еще раньше Пятакову), обратили по телефону внимание т. Урицкого на одну мою просьбу, которая вполне скромна, на просьбу о том, чтобы он меня лично принял, вызвав из “Крестов”. Мое будет счастье, если я достаточно честен и прав — Урицкий быстро ориентируется…»
Урицкий действительно ориентировался довольно быстро.
Несмотря на все просьбы, он так и не принял Филиппова.
И уже само это — вообще-то Урицкий принимал всех, от кого рассчитывал получить нужную информацию, — загадочно и непостижимо.
Но на самом деле ответ на вопрос прост, и его дал сам Филиппов в письме, адресованном Дзержинскому:
«Обвинять меня в юдофобстве или участии в “Каморре” — чепуха.
Во-первых, я уроженец Могилевской губернии, с детства привыкший к евреям.
Во-вторых, до сих пор мои лучшие друзья в Петрограде — все некрещеные евреи.
А в-третьих, самое главное, что, конечно, не приходится выставлять, то, что я сын кантониста, еврея, крещенного при Николае I под фамилией Филиппов»{207}.
Видимо, чтобы доказать Урицкому, что он является таким же, как сам Урицкий, евреем, и стремился попасть к нему на допрос Алексей Фролович.
Он не понимал только одного.
Не понимал, что Урицкий вполне осведомлен о его еврейском происхождении и не принимает его только оттого, что не хочет, чтобы все знали, что он осведомлен об этом.
Филиппов — это тоже было известно Моисею Соломоновичу! — был связан с весьма влиятельными сионистскими кругами. Урицкий знал, что помимо Дзержинского Филиппов работал и на Парвуса, участвуя в осуществлении его афер.
Пока Филиппов, пусть и по ошибке, был заперт в тюрьме как погромщик, Моисей Соломонович мог не опасаться осложнений в отношениях с этими кругами. Все можно было объяснить ошибкой.
Другое дело, если бы Урицкий держал Филиппова в тюрьме, уже зная, на кого тот работает.
Конечно, Урицкий играл с огнем…
Но, хотя он и сам понимал это, другого выхода у него не было.
Алексею Фроловичу Филиппову, бывшему идеологу русского патриотического движения и сыну кантониста, банкиру и стукачу Феликса Эдмундовича Дзержинского, так и не удалось попасть на прием к Моисею Соломоновичу Урицкому, чтобы лично объяснить, кто он такой…
Освободит Филиппова из тюрьмы сам Феликс Эдмундович, и случится это после того, как Моисей Соломонович Урицкий, переиграв, перехитрив самого себя, будет убит Леонидом Иоакимовичем Каннегисером.
Тогда, 3 сентября, и подпишет Глеб Иванович Бокий постановление об освобождении Алексея Фроловича Филиппова, а 9 октября по постановлению, подписанному Антиповым, с тайного агента будут сняты все обвинения в русском патриотизме…
«Гр. Алексей Фролович Филиппов был арестован, как заподозренный в причастности к организации “Каморры” (зачеркнуто. — Н.К.) “Союза спасения Родины”.
Установлено, что гр. Филиппов к “Союзу спасения Родины” никакого отношения не имеет и от предварительного заключения 3 сентября сего года освобожден».
Нам редко приходится соглашаться с мнением воспитанников Моисея Соломоновича Урицкого, но с их выводом, что Алексей Фролович Филиппов никакого отношения к спасению Родины не имеет, согласимся и мы…
Разве только добавим, что и ранее не имел он никакого отношения к этому делу. Как, впрочем, и некоторые другие деятели русского патриотического движения…
Глава восьмая.
ЗАГАДКИ 6 ИЮЛЯ
Изучайте биографию Блюмкина, потому что биография Блюмкина — история нашей партии.
Я. Г. Блюмкин
Говорить о Дзержинском-чекисте — это значит писать историю ВЧК.
В. Р. Менжинский
Когда прослеживаешь операции, подготовленные ВЧК в 1918 году, бросается в глаза странная осведомленность газет о самых тайных планах чекистов Дзержинского и Урицкого.
Мы уже говорили, что об убийстве Моисея Марковича Володарского питерские журналисты узнали, когда Володарский, мечтая спастись, судорожно разыскивал по всему городу Григория Евсеевича Зиновьева…
Ну а о том, что чекисты убьют немецкого посла графа Вильгельма Мирбаха, «Петроградская правда» сообщила еще 24 мая 1918 года.
Правда, тогда в статье «Провокаторские приемы» сообщалось, что Мирбаха убьют московские аристократы (Куракин, зять Столыпина Нейдгарт), чтобы «этим провокаторским покушением вызвать против рабоче-крестьянского правительства поход германских империалистов».
«Петроградская правда» чуть-чуть ошиблась.
Сотрудники секретного отделения ВЧК Я.Г. Блюмкин и Н.А. Андреев убили графа Мирбаха, выдавая себя не за московских аристократов, а за членов партии левых эсеров.
О Николае Андрееве мы не знаем почти ничего, а вот Яков Блюмкин — личность чрезвычайно примечательная.
1
Точно неизвестны место и год его рождения…
Одни считают, что родился Симха-Янкель Блюмкин в 1898 году в местечке Сосница Черниговской губернии, другие переносят рождение чекистского авантюриста в Одессу на март 1900 года.
Симху-Янкелю не было и семи лет, когда от сердечного приступа умер его отец — Герша Блюмкин.
Кроме трех детей, он ничего не оставил вдове, и за обучение Симхи-Янкеля в одесской Талмудторе платила еврейская община Одессы. Однако ни Талмуд, ни другие науки будущего террориста не увлекли, и, закончив училище, он поступил учеником в электротехническую мастерскую Ингера. Впрочем, починка электропроводки тоже не заинтересовала его.
Тогда, как пишет биограф Блюмкина Вадим Лебедев{208}, по Одессе поползли слухи «о молодом брюнете с левым лисьим глазом». Брюнет оформлял отсрочки по отбыванию воинской повинности, подделывая документы и подписи высокопоставленных лиц.
Вскоре брюнетом заинтересовалась уголовная сыскная полиция, но юный Симха свалил все на своего начальника, дескать, это по его требованию он занимался подделкой различного рода справок и под страхом смерти был вынужден молчать. Ошарашенный такой наглостью, начальник подал на Блюмкина в суд.
Дело попало к одному из самых честных судей, но Симха-Янкель все же отправил судье подарок.
Каково же было всеобщее удивление, когда юный прохвост выиграл явно проигрышный процесс. Секрет своего успеха объяснил сам Блюмкин, похвастав, что в отосланный судье «подарок» вложил визитную карточку своего начальника.
Во время Первой мировой войны Симха-Янкель Блюмкин стал эсером ив 1917 году, завершив обучение в одесском техническом училище, начал крестьянствовать в Сенгилейском уезде Симбирской губернии. Мы видим там предприимчивого молодого человека уже в качестве члена Симбирского совета крестьянских депутатов.
Ну а после Октябрьского переворота начинается блистательная военно-революционная карьера Якова Блюмкина. За несколько месяцев он проходит путь от рядового до помощника начальника штаба 6-й армии Румынского фронта, которому поручают заняться экспроприацией денег в Государственном банке.
Любопытно, что как раз в это время 20-летний Симха-Янкель Блюмкин встречается с 26-летним Моисеем Марковичем Гольдштейном (Володарским), который был тогда командирован на съезд «армии Румынского фронта». Однако скажем сразу, что об участии Моисея Марковича в экспроприации вместе с Симхой-Янкелем никаких сведений не сохранилось.
Сам Блюмкин из экспроприированных четырех миллионов рублей передал командующему армией только десять тысяч. Тот пригрозил Блюмкину арестом. Негодуя на этот форменный грабеж, Симха-Янкель увеличил долю армии до трех с половиной миллионов рублей, а с оставшимися пятьюстами тысячами рублей бежал в Москву.
Поселился он в помещении ЦК левых эсеров, в доме № 18 по Леонтьевскому переулку, и уже в июне был принят в ВЧК на должность заведующего отделением по борьбе с международным шпионажем. До убийства Мирбаха, вписавшего имя 20-летнего Якова Блюмкина в историю Советской России, оставалось менее месяца.
Всего три недели работал Блюмкин в свой первый заход в ВЧК, и просто-таки удивляешься, чего только не успел он натворить за эти дни.
2
Прежде всего, Блюмкину удалось завербовать австрийского офицера Роберта Мирбаха, которого он считал племянником германского посла[37].
«Обязательство
Я, нижеподписавшийся, венгерский подданный, военнопленный офицер австрийской армии Роберт Мирбах, обязуюсь добровольно, по личному желанию доставить Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией секретные сведения о Германии и о Германском посольстве в России.
Все написанное здесь подтверждаю и обязуюсь добровольно исполнять.
Граф Роберт Мирбах».
Мартин Лацис вспоминал потом, что окрыленный успехом Блюмкин повсюду хвастался, что «его агенты дают ему все, что угодно, и что таким путем ему удается получить связи со всеми лицами немецкой ориентации».
Строго говоря, создание контрразведывательного отдела в ВЧК противоречило самому назначению Чрезвычайной комиссии Феликса Эдмундовича Дзержинского…
Как мы знаем, большевики, захватившие власть в России, хотя и были достаточно образованными людьми, но никакого управленческого опыта не имели и, главное, не имели чиновничьей закалки против многочисленных искушений, которым подвергается любой более или менее влиятельный государственный служащий.
Более того…
В силу живости своего еврейского темперамента, многие из большевиков легко вступали в контакты с различными международными проходимцами и порою, сами того не желая, влипали в весьма неприятные и опасные истории.
«Встречи с Троцким, театры, деловые обеды никак не мешали моей работе, — писал в своих мемуарах “Великая миссия” английский разведчик Хилл. — Прежде всего, я помог военному штабу большевиков организовать отдел разведки, с тем чтобы выявлять немецкие соединения на русском фронте и вести постоянные наблюдения за передвижением их войск… Во-вторых, я организовал работу контрразведывательного отдела большевиков, для того чтобы следить за германской секретной службой и миссиями в Петрограде и Москве»{209}.
Можно привести и другие свидетельства, что с иностранными разведками в России тогда сотрудничали в основном члены Совнаркома, и это означало, что контрразведка неизбежно должна была заниматься ими, не исключая самого товарища Троцкого…
Таким образом, уже по самому определению она превращалась в откровенно контрреволюционный отдел органа, призванного прежде всего защищать большевистскую революцию.
Поэтому-то, возглавив контрразведывательный отдел, Яков Блюмкин вынужден был ходить по острию ножа.
Вот и с Робертом Мирбахом он явно промахнулся.
Вербовка родственника германского посла, фактически отдававшего приказы Владимиру Ильичу Ленину, чрезвычайно возмутила Феликса Эдмундовича Дзержинского.
Если через Мирбаха 20-летний одессит действительно получит связи со всеми лицами немецкой ориентации, то кто же тогда будет командовать ВЧК? Этак пройдет несколько недель, и Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому придется ходить за указаниями в кабинет к Якову Григорьевичу Блюмкину.
Нервничать Дзержинского заставляли и сообщения из германского посольства, будто в их распоряжении имеются данные о готовящемся покушении на графа Мирбаха. Дзержинский лично проверял эти сведения и на всякий случай приказал расстрелять часть подозреваемых, но никаких зацепок не обнаружил[38].
И вот теперь, когда Феликс Эдмундович уже объявил доктору Рицлеру, что все слухи о заговорах против представителей германского правительства являются клеветой, его сотрудник вербует племянника посла…
На заседании коллегии ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский предложил распустить контрразведку.
Тем самым решались сразу две задачи.
Во-первых, появлялась уверенность, что никто не будет более беспокоить немецких начальников большевиков, а во-вторых, наглый Яков Блюмкин оставался без должности и без возможности подсиживать Феликса Эдмундовича.
Правда, сам Дзержинский мотивировал свое предложение исключительно низким моральным уровнем Якова Григорьевича Блюмкина.
«За несколько дней, может быть за неделю, до покушения, — рассказывал он, давая показания по делу от 6 июля, — я получил от Раскольникова и Мандельштама (в Петрограде работает у Луначарского) сведения, что этот тип (Блюмкин. — Н.К.) в разговорах позволяет себе говорить такие вещи: “Жизнь людей в моих руках, подпишу бумажку — через два часа нет человеческой жизни. Вот у меня сидит гражданин Пусловский, поэт, большая культурная ценность, подпишу ему смертный приговор”, но, если собеседнику нужна эта жизнь, он ее “оставит” и т.д. Когда Мандельштам, возмущенный, запротестовал, Блюмкин стал ему угрожать, что, если он кому-нибудь скажет о нем, он будет мстить всеми силами. Эти сведения я тотчас же передал Александровичу, чтобы он взял от ЦК объяснения и сведения о Блюмкине для того, чтобы предать его суду. В тот же день на собрании комиссии было решено по моему предложению нашу контрразведку распустить и Блюмкина пока оставить без должности. До получения объяснений от ЦК левых эсеров я решил о данных против Блюмкина комиссии не докладывать»{210}.
В принципе, у нас нет оснований сомневаться в кровожадности и беспринципности Якова Григорьевича Блюмкина. Он ведь не только с Осипом Мандельштамом вел такие разговоры. Известно, что предлагал Блюмкин и Сергею Есенину устроить «экскурсию на расстрелы». Этот «жирномордый», по выражению Анатолия Мариенгофа, еврей, с толстыми, всегда мокрыми губами, не скрывал от друзей-поэтов, что без револьвера он как без сердца…
Так или иначе, но первый начальник советской контрразведки, Симха-Янкель Блюмкин действительно остался накануне убийства посла без должности и вынужден был сдать товарищу Лацису дело завербованного им Роберта Мирбаха.
3
Ни советскими, ни зарубежными историками не подвергается сомнению укоренившийся взгляд, что решение убить германского посла графа Вильгельма Мирбаха принял ЦК партии левых эсеров (ПЛСР).
Практически все исследователи, в том числе и откровенно антисоветские, предшествующие терракту события описывают однозначно и даже почти одинаковыми словами.
«4 июля Центральный комитет левых эсеров одобрил план покушения на немецкого посла. Левые эсеры считали, что, убив его, они заставят большевиков прекратить “умиротворение” немцев и возобновить военные действия на Восточном фронте, что, по их мнению, будет способствовать делу развития мировой революции. Покушение было поручено Блюмкину и его сотруднику, фотографу, левому эсеру, Николаю Андрееву»{211}.
Подобная трактовка событий основывается на опубликованных еще в «Красной книге ВЧК» документах — протоколе заседания ЦК (ПЛСР) 24 июня 1918 года и многочисленных агитационных материалах левых эсеров, выпущенных уже после убийства Мирбаха.
«В своем заседании от 24 июня ЦК ПЛСР — интернационалистов, обсудив настоящее политическое положение Республики, нашел, что в интересах русской и международной революции необходимо в самый короткий срок положить конец так называемой передышке, создавшейся благодаря ратификации большевистским правительством Брестского мира.
В этих целях Центральный Комитет партии считает возможным и целесообразным организовать ряд террористических актов в отношении виднейших представителей германского империализма, одновременно с этим ЦК партии постановил организовать для проведения своего решения мобилизацию надежных военных сил и приложить все меры к тому, чтобы трудовое крестьянство и рабочий класс примкнули к восстанию и активно поддержали партию в этом выступлении. С этой целью к террористическим актам приурочить объявление в газетах участие нашей партии в украинских событиях последнего времени, как то; агитацию крушений и взрыв оружейных арсеналов.
Время проведения в жизнь намеченных первых двух постановлений предполагается установить на следующем заседании ЦК партии.
Кроме того, постановлено подготовить к настоящей тактике партии все местные организации, призывая их к решительным действиям против настоящей политики СНК.
Что касается формы осуществления настоящей линии поведения в первый момент, то постановлено, что осуществление террора должно произойти по сигналу из Москвы, Сигналом таким может быть и террористический акт, хотя это может быть заменено и другой формой.
Для учета и распределения всех партийных сил при проведении этого плана ЦК партии организует Бюро из трех лиц (Спиридонова, Голубовский и Майоров).
Ввиду того, что настоящая политика партии может привести ее, помимо собственного желания, к столкновению с партией большевиков, ЦК партии, обсудив это, постановил следующее:
Мы рассматриваем свои действия как борьбу против настоящей политики Совета Народных Комиссаров и ни в коем случае как борьбу против большевиков.
Однако, ввиду того, что со стороны последних возможны агрессивные действия против нашей партии, постановлено в таком случае прибегнуть к вооруженной обороне занятых позиций.
А чтобы в этой схватке партия не была использована контрреволюционными элементами, постановлено немедленно приступить к выявлению позиции партии, к широкой пропаганде необходимости твердой, последовательной интернациональной и революционно-социалистической политики в Советской России.
В частности, предлагается Комиссия из 4-х товарищей: Камкова, Трутовского, Карелина… выработать лозунги нашей тактики и очередной политики и поместить статьи в центральном органе партии.
Голосование было в некоторых пунктах единогласное, в некоторых против 1 или при 1 воздержавшемся.
М. Спиридонова»{212}.
Мы специально подчеркнули в протоколе фразы, которые могут быть использованы для доказательства, что убийство Мирбаха планировалось ЦК ПЛСР.
Но сами по себе эти фразы доказательством подготовки покушения на Мирбаха не являются.
Более того, если мы непредвзято прочитаем этот документ, то обнаружим, что ЦК ПЛСР собирается организовать ряд террористических актов в отношении виднейших представителей германского империализма на территории Украины, поскольку осуществление террора должно произойти по сигналу из Москвы.
Правда, в протоколе записано, что сигналом таким может быть и террористический акт, но тут же подчеркивается, что это может быть заменено и другой формой.
То, что убийство Мирбаха и должно было послужить таким сигналом, весьма проблематично. Во всяком случае, среди левых эсеров никто такого сигнала не ожидал.
Напомним, что всего три недели назад левые эсеры и большевики провели совместную акцию наказания правых эсеров и меньшевиков за их участие в чехословацком мятеже. 15 июня было проведено постановление об исключении представителей этих партий из состава ВЦИК.
У власти в стране остались всего две партии, и левые эсеры (во всяком случае, их лидеры) были вполне довольны таким положением дела. Известны слова Марии Спиридоновой, заявившей, что порвать с большевиками — значит порвать с революцией.
Другое дело — большевики.
Продолжая бороться за укрепление своей власти, они не собирались на пути уничтожения многопартийной системы останавливаться на двухпартийности.
4 июля в Большом театре открылся V съезд Советов.
Одной из главнейших его задач было принятие новой Конституции РСФСР, разработанной при участии Ленина, которая должна была законодательно закрепить власть большевиков.
Однако сразу всплыли противоречия — подготовка большевиков к продразверстке, правомочность смертной казни.
Основываясь на заявлении делегатов с оккупированной Украины, левые эсеры потребовали разрыва дипломатических отношений с Германией и высылки из Москвы графа Мирбаха.
Развернулись споры и по поводу численного преимущества большевиков на съезде. Левый эсер В.А. Карелин потребовал переизбрать на паритетных началах мандатную комиссию и проверить представительство коммунистов. По его подсчетам, их представительство на съезде (773 из 1164) было необоснованно завышенным[39].
Требования эсеров чрезвычайно разгневали В.И. Ленина.
Он назвал их единомышленниками Керенского и Савинкова.
— Предыдущий оратор говорил о ссоре с большевиками… — заявил В.И. Ленин 5 июля, выступая с докладом о деятельности СНК. — А я отвечу: нет, товарищи, это не ссора, это действительный бесповоротный разрыв, разрыв между теми, которые тяжесть положения переносят, говоря народу правду, но не позволяя опьянять себя выкриками, и теми, кто себя этими выкриками опьяняет и невольно выполняет чужую работу, работу провокаторов!
Ну а председатель ВЦИК Я.М. Свердлов конкретизировал эти угрозы.
«В революционный период приходится действовать революционными, а не другими средствами… — сказал он в своем докладе. — И если говорить сколько-нибудь серьезно о тех мероприятиях, к которым нам приходится прибегать в настоящее время, то… мы можем указать отнюдь не на ослабление, но, наоборот, на самое резкое усиление массового террора против врагов советской власти…
И мы глубоко уверены в том, что самые широкие круги рабочих и крестьян отнесутся с полным одобрением к таким мероприятиям, как отрубание головы, как расстрел контрреволюционных генералов и других контрреволюционеров».
Сравнивая эти высказывания большевиков с громогласными заявлениями эсеров, мы ясно видим, что накануне 6 июля большевики были настроены гораздо решительнее.
Другое дело — агитационные материалы, выпущенные левыми социалистами-революционерами после теракта:
«В 3 часа дня 6 июля летучим боевым отрядом партии левых социалистов-революционеров был убит посланник германского империализма граф Мирбах и два его ближайших помощника в здании германского посольства»{213}.
«Палач трудового русского народа, друг и ставленник Вильгельма граф Мирбах убит карающей рукой революционера по постановлению Центрального Комитета партии левых социалистов-революционеров»{214}.
Но воззвания эти были выпущены уже позже и, как известно, вызвали бурное веселье у большевиков.
Все это и наводит нас на мысль, что убийство Вильгельма Мирбаха, как и сам эсеровский мятеж 6 июля, были организованы не эсерами, или по крайней мере не только эсерами…
Впрочем, послушаем непосредственных исполнителей теракта.
4
Как мы знаем, Верховный трибунал очень гуманно отнесся к Якову Григорьевичу Блюмкину.
Хотя Ф.Э. Дзержинский и визжал в припадке ярости: «Я его на месте убью, как изменника!», хотя за подписью самого В.И. Ленина во все райкомы РКП(б), Совдепы и армейские штабы и ушла телеграмма, требующая «мобилизовать все силы, поднять на ноги всех немедленно для поимки преступников», Блюмкина так и не поймали…
Судили его заочно, и в отличие от В.А. Александровича, расстрелянного 7 июля 1918 года без суда и даже без допроса, центральный герой «мятежа», убийца германского посла, был заочно приговорен лишь к трем годам лишения свободы!
Но и этого наказания Яков Григорьевич избежал.
Почти год он скрывался, а в апреле 1919 года явился в Киевскую ЧК «с повинной», и уже 16 мая был амнистирован вчистую и снова принят на ответственную работу — вначале в аппарат Льва Давидовича Троцкого, а затем и в ГПУ.
Показания Блюмкина, данные товарищу Мартину Лацису в Киевской ЧК, весьма обширны и чрезвычайно любопытны…
«4 июля, перед вечерним заседанием съезда Советов, я был приглашен из Большого театра одним членам ЦК (здесь и далее курсив наш. — Н.К.) для политической беседы. Мне было тогда заявлено, что ЦК решил убить графа Мирбаха, чтобы апеллировать к солидарности германского пролетариата, чтобы совершить реальное предостережение и угрозу мировому империализму, стремящемуся задушить русскую революцию, чтобы, поставив правительство перед совершившимся фактом разрыва Брестского договора, добиться от него долгожданной объединенности и непримиримости в борьбе за международную революцию. Мне приказывалось как члену партии подчиниться всем указаниям ЦК и сообщить имеющиеся у меня сведения о графе Мирбахе.
Я был полностью солидарен с мнением партии и ЦК и поэтому предложил себя в исполнители этого действия. Предварительно мной были поставлены следующие, глубоко интересовавшие меня вопросы:
1) Угрожает ли, по мнению ЦК, в том случае если будет убит Мирбах, опасность представителю Советской России в Германии тов. Иоффе?
2) ЦК гарантирует, что в его задачу входит только убийство германского посла?
Ночью того же числа я был приглашен в заседание ЦК, в котором было окончательно постановлено, что исполнение акта над Мирбахом поручается мне, Якову Блюмкину, и моему сослуживцу, другу по революции Николаю Андрееву, также полностью разделявшему настроение партии. В эту ночь было решено, что убийство произойдет завтра, 5-го числа. Его окончательная организация по предложенному мною плану должна была быть следующей.
Я получу обратно от тов. Лациса дело графа Роберта Мирбаха, приготовлю мандат на мое и Николая Андреева имя, удостоверяющий, что я уполномочиваюсь ВЧК, а Николай Андреев — революционным трибуналом войти в личные переговоры с дипломатическим представителем Германии. С этим мандатом мы отправимся в посольство, добьемся с графом Мирбахом свидания, во время которого и совершим акт. Но 5 июля акт не мог состояться из-за того, что в такой короткий срок нельзя было произвести надлежащих приготовлений и не была готова бомба. Акт отложили на 6 июля.
6 июля я попросил у тов. Лациса якобы для просмотра дело Роберта Мирбаха. В этот день я обычно работал в комиссии.
До чего неожидан и поспешен для нас был июльский акт, говорит следующее: в ночь на 6-е мы почти не спали и приготовлялись психологически и организационно.
Утром 6-го я пошел в комиссию; кажется, была суббота.
У дежурной барышни в общей канцелярии я попросил бланк комиссии и в канцелярии отдела контрреволюции напечатал на нем следующее:
“Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией уполномочивает ее члена, Якова Блюмкина, и представителя революционного трибунала Николая Андреева войти непосредственно в переговоры с господином германским послом в России графом Вильгельмом Мирбахом по делу, имеющему непосредственное отношение к самому господину германскому послу.
Председатель Комиссии
Секретарь”.
Подпись секретаря (т. Ксенофонтова) подделал я, подпись председателя (Дзержинского) — один из членов ЦК
Когда пришел ничего не знавший товарищ председателя ВЧК Александрович, я попросил его поставить на мандате печать комиссии. Кроме того, я взял у него записку в гараж на получение автомобиля. После этого я заявил ему о том, что по постановлению ЦК сегодня убьют графа Мирбаха.
Из комиссии я поехал домой, в гостиницу “Элит” (ныне “Будапешт”. — Н.К.) на Неглинном проезде, переоделся и поехал в Первый дом Советов (гостиница “Националь” — Н.К).
Здесь на квартире одного члена ЦК уже был Николай Андреев. Мы получили снаряд, последние указания и револьверы. Я спрятал револьвер в портфель, бомба находилась у Андреева также в портфеле, заваленная бумагами. Из “Националя” мы вышли около 2-х часов дня. Шофер не подозревал, куда он нас везет. Я, дав ему револьвер, обратился к нему как член комиссии тоном приказания: “Вот вам кольт и патроны, езжайте тихо, у дома, где остановимся, не прекращайте все время работы мотора, если услышите выстрел, шум, будьте спокойны”.
Был с нами еще один шофер, матрос из отряда Попова, его привез один из членов ЦК. Этот, кажется, знал, что затевается. Он был вооружен бомбой.
В посольстве мы очутились в 2 часа 15 минут»{215} …
Прервемся здесь и обратим внимание на странности и неувязки, которые сразу бросаются в глаза.
Блюмкин утверждает, что совершить убийство Мирбаха ему предложили 4 июля, сам теракт назначили на 5 июля, но из-за того, что в такой короткий срок нельзя было произвести надлежащих приготовлений и не была готова бомба, покушение отложили на 6 июля.
Мы знаем, что теракты эсеры готовили необыкновенно тщательно.
Полтора-два дня — не срок для такой подготовки.
И непонятно опять же, почему нельзя было подготовиться к убийству Мирбаха заранее. Какие произошли неожиданные события, которые заставили эсеров спешить с проведением теракта?
Вообще-то, незапланированные события имели место…
В ночь с 5 на 6 июля под руководством полковника А.П. Перхурова, о котором мы уже упоминали, рассказывая о «Союзе защиты Родины и свободы», восстал Ярославль.
Выступление небольшой группы офицеров было поддержано всем городом. Повсюду громили большевистские конторы, убивали не успевших сбежать комиссаров.
Останавливая эти антибольшевистские погромы, полковник Перхуров первым делом восстановил земское и городское самоуправление, суды, избранные до Октябрьского переворота, и все органы судопроизводства, обязанные руководствоваться прежним Сводом российских законов.
Левые эсеры в Москве о восстании правых эсеров, скорее всего, не знали, и в принципе, если бы они непременно желали связать восстание в Ярославле с убийством Мирбаха, им действительно следовало спешить…
Только вот зачем было левым эсерам связывать свой теракт с восстанием, поднятым полковником Перхуровым, совершенно непонятно. Скорее уж врагам левых эсеров имело смысл постараться для этого…
Как явствует из показаний, о том, что «по постановлению ЦК сегодня убьют графа Мирбаха», член ЦК ПЛСР В.А. Александрович узнает от рядового члена партии Блюмкина.
Ситуация крайне пикантная.
Вячеслав Алексеевич Александрович (настоящая фамилия П.А. Дмитриевский), как свидетельствовал сам Ф.Э. Дзержинский, был введен в коллегию ВЧК «в качестве товарища председателя по категорическому требованию членов Совнаркома левых эсеров».
Блюмкин, разумеется, отличался чрезвычайной наглостью и развязностью, и сказать мог все, что угодно, но трудно предположить, что на самом деле ЦК ПЛСР принимало решение осуществить такой ответственный теракт, даже не уведомив своего члена, специально посланного в Чрезвычайную комиссию.
Чрезвычайно странными выглядят упоминания главного организатора теракта об одном из членов ЦК
С трудом, но можно допустить, что Блюмкин не расшифровывает его имени по столь не присущему ему благородству. Но почему работники Киевской ЧК и сам Мартин Янович Лацис, отличавшийся феноменальной кровожадностью, не попытались выяснить эту фамилию, непонятно.
Попытаемся исправить промашку Мартина Яновича и выяснить, кто же был этот самый загадочный член ЦК, поскольку показания Блюмкина, как нам кажется, дают такую возможность.
Действительно…
Блюмкин говорит, что утром 6-го пошел в комиссию, у дежурной барышни в общей канцелярии попросил бланк комиссии, напечатал на нем удостоверение, подпись секретаря под которым подделал сам, а подпись председателя (Дзержинского) — один из членов ЦК.
В ВЧК работали тогда два члена ЦК ПЛСР.
Это уже упомянутый В.А. Александрович и Г.Д. Закс, который сразу после «мятежа» порвал с партией левых эсеров и создал новую партию народников-коммунистов, которая через три месяца благополучно влилась в РКП(б).
Получается, что товарищ Закс и был тем самым загадочным членом ЦК, который дал Блюмкину поручение убить Мирбаха и который все подготовил для убийства.
Это к нему в Первый дом Советов и отправился Блюмкин, чтобы получить снаряд, последние указания и револьверы. Сам Закс, подделав подпись Дзержинского, отправился к себе на квартиру вместе с Андреевым…
Косвенно авторство Г.Д. Закса в организации убийства Мирбаха подтверждает и нежелание Мартина Яновича Лациса расшифровывать фамилию загадочного члена ЦК.
Как-никак товарищ Закс был его единомышленником…
«В это время я получил предписание Совнаркома (через Троцкого) арестовать всех левых эсеров, членов комиссии, и держать их заложниками, — рассказывал Лацис, давая показания о событиях 6 июля. — В комиссии в это время присутствовал Закс (снарядив убийц, он вернулся назад на работу. — Н.К.)9 который выражал свое полное недоумение о всем происшедшем. Зная Закса как человека, которому ЦК до этого вынес порицание за участие в решениях о применении расстрелов, я, посоветовавшись с другими товарищами, решил его пока оставить на свободе»{216}.
Помимо того что Мартину Яновичу не хотелось подводить человека, взгляды которого на расстрелы русских заложников совпадали с его собственными, расшифровав фамилию загадочного члена ЦК ПЛСР как главного заговорщика, он рисковал и сам попасть в крайне неприятную ситуацию. Ведь, оставив Закса на свободе, он нарушил тогда приказ самого Троцкого!
А вот еще одна несуразность…
Яков Блюмкин показал, что якобы ночью того же числа (с 4 на 5 июля) он был приглашен в заседание ЦК, на котором было окончательно постановлено, что исполнение акта над Мирбахом поручается ему и его сослуживцу, другу по революции Николаю Андрееву, также полностью разделявшему настроение партии.
Но никакого заседания ЦК ПЛСР в ночь с 4 на 5 июля не было, и эта ошибка еще раз подтверждает, что Г.Д. Закс (если это он и был загадочным членом ЦК), снаряжая Блюмкина на убийство Мирбаха, действовал без ведома ЦК ПЛСР.
Сам Г.Д. Закс насчет времени заседания ЦК вполне мог ошибиться. Как утверждал В.А. Александрович, ЦК ПЛСР не доверял Заксу.
Нет-нет…
Нельзя утверждать наверняка, что загадочным членом ЦК был именно Г.Д. Закс. Но то, что этот член ЦК действовал без ведома самого Центрального комитета ПЛСР, можно говорить с достаточно большой степенью определенности.
Подчеркнем, что, судя по показаниям, данным Блюмкиным в Киевской ЧК, сам он о том, что участвует в провокации, еще не знал. Догадываться об этом он начал позднее.
«Остается еще невыясненным вопрос о том, действительно ли б июля было восстанием, — рассказывал он. — Мне смешно и больно ставить себе этот вопрос. Я знаю только одно, что ни я, ни Аццреев ни в коем случае не согласились бы совершить убийство германского посла в качестве повстанческого сигнала. Обманул ли нас ЦК и за нашей спиной произвел попытку восстания? Я ставлю и этот вопрос, ясный для меня, чтобы остаться честным до конца. Мне доверяли в партии, я был близок к ЦК и знаю, что подобного действия он не мог совершить»{217}.
Существуют смутные свидетельства, что покушение на Мирбаха готовилось с ведома В.И. Ленина…
«Позднее Блюмкин в частном разговоре со своей соседкой по дому, с которой у него были весьма доверительные отношения, наркомовской супругой Розанель-Луначарской, в присутствии её двоюродной сестры Татьяны Сац, проговорится, что о плане покушения на Мирбаха хорошо знал Ленин. Правда, лично с вождем на эту тему не беседовал. Зато детально оговаривал её с Дзержинским»{218} …
Так или иначе, но, как отмечают современные исследователи, имя Вильгельма Мирбаха возникало в секретных документах еще со времен подготовки немецким Генштабом большевистского переворота. Граф непосредственно располагал документами о сотрудничестве большевиков с немецкой разведкой, и поэтому В.И. Ленин был лично заинтересован в его устранении…
5
В 2 часа 15 минут Блюмкин и Андреев вошли в германское посольство[40]. Там обедали, и гостей из ВЧК попросили подождать.
Как свидетельствовал адъютант военного атташе лейтенант Леонгарт Миллер, около трех часов пополудни первый советник посольства доктор Рицлер позвал его присутствовать при приеме двух членов Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией.
Доктор Рицлер показал Миллеру подписанную Дзержинским бумагу, которая уполномочивала Блюмкина и Андреева вести переговоры по личному делу с графом Мирбахом.
Миллер немедленно связался по телефону с ВЧК и справился, работают ли в Комиссии Блюмкин и Андреев. Получив утвердительный ответ, он пошел посмотреть на незваных гостей.
«Войдя в вестибюль с доктором, я увидел двух лиц, которых доктор Рицлер пригласил в одну из приемных (малинового цвета) на правую сторону особняка.
Один из них, смуглый брюнет с бородой и усами, большой шевелюрой, одет был в черный пиджачный костюм. С виду лет 30—35, с бледным отпечатком на лице, тип анархиста. Он отрекомендовался Блюмкиным.
Другой — рыжеватый, без бороды, с маленькими усами, худощавый, с горбинкой на носу. С виду также лет 30. Одет был в коричневатый костюм и, кажется, в косоворотку цветную. Назвался Андреевым…
Когда все мы четверо уселись возле стола, Блюмкин заявил доктору Рицлеру, что ему необходимо переговорить с графом по его личному делу! <…> Имея в виду сведения о покушении на жизнь графа, доктор Рицлер отправился к графу и в скором времени вернулся с графом»{219}.
Беседа длилась двадцать пять минут.
Блюмкин рассказывал о материалах дела, заведенного в ВЧК на Роберта Мирбаха, посол вежливо отвечал, что понятия не имеет об этом человеке, хотя, возможно, если это утверждают господа чекисты, он и является каким-то его дальним родственником…
— А в чем именно заключается суть дела? — спросил он.
— Мы пришли к вам, потому что через день это дело будет поставлено на рассмотрение трибунала, — ответил Блюмкин.
Посол пожал плечами.
— Товарищ Блюмкин! — сказал тогда Андреев, который, загораживая вход в комнату, сидел на стуле у двери. — По- видимому, господину послу угодно будет узнать меры, которые могут быть приняты против него.
Эти слова были условным знаком.
— Угодно знать? — переспросил Блюмкин и, вскочив на ноги, принялся в упор стрелять в немцев.
Доктор Рицлер и адъютант Миллер упали на пол, а граф Мирбах выбежал было в соседний зал, но «в этот момент получил выстрел — напролет пулю в затылок. Тут же он упал. Брюнет продолжал стрелять в меня и доктора Рицлера».
Чекисты уже собирались уходить, но в дверях Андреев оглянулся и увидел, что в зале Мирбах поднимается с пола. Андреев выхватил тогда из портфеля бомбу и бросил ее под ноги Мирбаху. Бомба не взорвалась, и Андрееву пришлось заталкивать Мирбаха назад в залу руками. Затолкав, он вынул револьвер, но в это время Блюмкин бросил свою бомбу.
Она сработала.
Посыпались осколки, куски штукатурки.
Взрывом вынесло оконные рамы, и Блюмкин выпрыгнул в окно следом за Андреевым. Падая, он подвернул ногу, а тут еще из посольства начали стрелять, и, когда Блюмкин доковылял до автомобиля, обнаружилось, что он ранен.
Андреев повез Блюмкина в лазарет, который находился при штабе подчиненного ВЧК отряда Попова.
6
Надо отметить, что вся история с убийством Мирбаха как-то очень органично вписывается в стилистику деятельности руководимой Дзержинским комиссии. Дзержинский, как мы знаем, никогда не дорожил неприкосновенностью посольских работников.
Вернувшись в августе в органы, он начнет новый этап своей деятельности с того же, чем закончил перед отпуском, — организует вооруженный налет, только теперь уже на английское посольство.
То, что Дзержинский знал о планах Блюмкина посетить немецкое посольство, подтверждается поведением Феликса Эдмундовича после убийства Мирбаха.
Хотя Рицлер и Миллер и описали Блюмкина очень неточно и сильно состарили его, Ф.Э. Дзержинский расшифровал, кто совершил преступление.
Разумеется, это можно объяснить проницательностью Дзержинского, но почему он отправился разыскивать террористов сразу в отряд Попова, объяснить невозможно.
Кстати, в отряд Попова Феликс Эдмундович приехал без охраны.
Впрочем, какая нужна была охрана, если Дзержинский ехал в подчиненную ему часть.
Что произошло дальше, хорошо известно по книгам и фильмам — Дзержинского арестовали.
Или, что гораздо вероятнее, Дзержинский сделал вид, что его арестовали.
«Я потребовал от Попова честного слова революционера, чтобы он сказал, у него Блюмкин или нет. На это он мне ответил: «Даю слово, что не знаю, здесь ли он» (шапка Блюмкина лежала на столе).
Тогда я приступил к осмотру помещения, оставив при Попове товарища Хрусталева, и потребовал, чтобы все оставшиеся оставались на своих местах. Я стал осматривать помещение с товарищами Трепаловым и Беленьким.
Мне всё открывали, одно помещение пришлось взломать.
В одной из комнат товарищ Трепалов стал расспрашивать находящегося там финна, и тот сказал, что такой там есть. Тогда подходят ко мне Прошьян и Карелин и заявляют, чтобы я не искал Блюмкина, что граф Мирбах убит им по постановлению ЦК их партии, что всю ответственность берет на себя ЦК.
Тогда я заявил им, что я их объявлю арестованными и что если Попов откажется их выдать мне, то я его убью как предателя. Прошьян и Карелин согласились тогда, что подчиняются, но вместо того чтобы сесть в мой автомобиль, бросились в комнату штаба, а оттуда прошли в другую комнату.
При дверях стоял часовой, который не пустил меня за ними; за дверями я заметил Александровича, Трутовского, Черепанова, Спиридонову, Фишмана, Камкова и других, не известных мне лиц.
В комнате штаба было около 10—12 матросов, я обратился к ним тогда, требуя подчинения себе, содействия в аресте провокаторов. Они оправдывались, что получили приказ в ту комнату никого не пускать.
Тогда входит Саблин, подходит ко мне и требует сдачи оружия; я ему не отдал и снова обратился к матросам, позволят ли они, чтобы этот господин разоружил меня — их председателя, что их желают использовать для гнусной цели, что обезоружение насильственное меня, присланного сюда от Совнаркома, — это объявление войны Советской власти.
Матросы дрогнули; тогда Саблин выскочил из комнаты.
Я потребовал Попова, тот не пришел; комната наполнялась матросами, подошел тогда ко мне помощник Попова Протопопов, схватил за обе руки, и тогда меня обезоружили»{220} …
Обратим внимание, как по-хозяйски ведет себя Ф.Э. Дзержинский в отряде Д.И. Попова. Немыслимо, но командир «мятежного» отряда никак не противодействует ему, позволяя осматривать помещения и даже взламывать двери.
Противодействие Феликс Эдмундович встретил только, когда попытался вломиться на совещание ЦК партии левых эсеров, а разоружили его лишь после угрозы застрелить командира отряда Д.И. Попова.
Очень странно и то, что Ф.Э. Дзержинский узнал шапку Блюмкина, лежавшую на столе. Ведь чуть выше Феликс Эдмундович заявлял: «Блюмкина я ближе не знал и редко с ним виделся». Шапку тем не менее он сразу узнал…
Во всяком случае, и обстоятельства ареста, и его последствия — и Дзержинский, и его помощники отделались (даже по официальной версии) легким испугом — выглядят как-то очень несерьезно.
7
Впрочем, и все связанное с эсеровским мятежом выглядит весьма странно.
Когда к восставшему полку Попова присоединилась часть полка им. Первого марта, силы эсеров составляли уже 1800 штыков, а у большевиков в Москве было всего 720 штыков при примерном равенстве броневиков и орудий…
Однако никакой попытки реализовать преимущество эсеры не предприняли.
Более того, все руководство партии эсеров после совещания в отряде Д.И. Попова, как будто никакого мятежа и не было, почему-то отправилось в Большой театр на заседание съезда, где и было арестовано.
К.Х. Данишевский, один из руководителей латышских частей, занимавшихся разгромом восстания, вспоминает:
«Выстрел по Кремлю сигнализировал начало восстания левых эсеров (6 июля около 15 часов).
Уже до этого (подчеркнуто нами. — Н.К.) было дано секретное указание делегатам съезда, членам РКП(б) оставить помещение съезда (Большой театр) и направиться в рабочие районы, на предприятия для организации рабочих масс против контрреволюционного мятежа левых эсеров»{221} …
Это, конечно, чисто большевистская предусмотрительность — начать ликвидацию мятежа до его начала. Но никакой мистики тут нет, если допустить, что убийство Мирбаха действительно было сигналом, только не эсерам, а большевикам.
Эсеры к восстанию были не готовы, даже грозные воззвания их были приняты наспех, на том самом совещании в отряде Попова, на которое рвался Ф.Э. Дзержинский и на которое не пустили его.
Г.Е. Зиновьев, рассказывая по свежим следам об эсеровском восстании в Москве, с трудом скрывал душивший его смешок:
«Сначала мы спрашивали себя, что делать с ними? Ленин шутил: что делать с ними? отправить их в больницу для душевнобольных? дать Марии Спиридоновой брому? что делать с этими ребятами?»{222}
Что так рассмешило Григория Евсеевича Зиновьева?
Что так развеселило Владимира Ильича Ленина?
Поддавшись на провокацию, левые эсеры дали большевикам возможность назвать запланированное уничтожение «подавлением мятежа»…
В.И. Ленин, как известно, ценил юмор и был большим мастером экспромта.
Вот и 6 июля, вдоволь повеселившись, он приказал расстрелять отряд Попова из пушек, благо в самом отряде Попова замки из орудий были предусмотрительно вынуты, и ответить на артиллерийский огонь «мятежники» не могли.
Народу в результате положили немало, кое-кого расстреляли, но главные лица, заварившие всю эту бучу, как и положено у большевиков, не пострадали.
Опять-таки сошлось и с праздниками. Вечером 6 июля верные большевикам латышские стрелки праздновали Иванов день. Свою гулянку они завершили достойным стражей революции образом…
«В ночь на 7 июля, — вспоминает тот же К.Х. Данишевский, — советские части железным кольцом охватили этот район (храм Христа Спасителя, Арбатская пл., Кремль, Страстная пл., затем Лубянская пл.). Латышские стрелковые части перешли в распоряжение Московского городского военкомата (военные комиссары тов. Берзин, Пече); временно по ВЧК тов. Дзержинского заменял тов. Петерс. Штабом руководил Муралов, всеми операциями — Подвойский (начальник войск гарнизона) и начальник Латышской стрелковой дивизии Вацетис.
Рано на рассвете, в 5—6 часов, 7 июля начался артиллерийский обстрел штаба левых эсеров. Судьба безумного мятежа была решена. К 11 часам эсеры были отовсюду загнаны в Трехсвятительский переулок. В 12 часов начинается паника в штабе мятежников. Они отступают на Курский вокзал по Дегтярному переулку, а также на Сокольники»{223}.
Левых эсеров в Москве громили латыши, а подавить организованное правыми эсерами восстание офицеров в Ярославле помогали большевикам находившиеся в Ярославле немцы.
21 июля мятежные офицеры сдались германской комиссии по военнопленным. Немцы обещали считать пленных офицеров военнопленными Германской империи, но тут же передали их большевикам.
Все они были умерщвлены в так называемых пробковых камерах, которые, как считается, чекисты впервые и применили в Ярославле. «Пробковые камеры» — это герметично закрытое и медленно нагреваемое помещение, в котором у человека изо всех пор тела начинает сочиться кровь…
Жестоко было подавлено восстание и в Рыбинске, где 7 июля офицерский отряд полковника Ф.А. Бреде (Бредиса) под личным руководством Б.В. Савинкова штурмовал артиллерийские склады.
Заметим попутно: сам ход этого восстания показывает, что Борис Савинков не столько руководил им, сколько стремился пристроиться к стихии мятежа.
Иначе не объяснить, почему выступления офицеров в Ярославле, Рыбинске, Муроме и Ростове произошли не одновременно, а последовательно, одно за другим, как будто специально для удобства подавления их…
Безудержная кровожадность чекистов была санкционирована самим Владимиром Ильичом Лениным.
Он требовал, чтобы и при разгроме левых эсеров в Москве чекисты тоже не жалели крови.
Еще когда латыши били из пушек по Трехсвятительскому переулку, Ленин разослал по районным Совдепам Москвы телефонограмму: «…выслать как можно больше вооруженных отрядов, хотя бы частично рабочих, чтобы ловить разбегающихся мятежников. Обратить особое внимание на район Курского вокзала, а затем на все прочие вокзалы. Настоятельная просьба организовать как можно больше отрядов, чтобы не пропустить ни одного из бегущих. Арестованных не выпускать без тройной проверки и полного удостоверения непричастности к мятежу».
8
Телефонограмма В.И. Ленина — не с нее ли списывались распоряжения Б.Н. Ельцина в октябре 1993 года? — дает возможность вернуться к разговору о необыкновенной удачливости Якова Блюмкина.
Когда пьяные латыши начали бить по отряду Попова из орудий, среди «мятежников» началась паника.
«Меня отвели в комнату другого здания, где я встретил Дзержинского, Лациса и других человек двадцать, — рассказывал задержанный в качестве заложника Петр Смидович. — В нашу комнату все время входили и выходили матросы и солдаты. Первые относились враждебно, сдержанно и молчаливо. Вторые, наоборот, много говорили и слушали и склонялись или становились на нашу сторону. Но здесь все время царила растерянность, обнаруживалось сплошь полное непонимание того, что происходило. С первыми орудийными попаданиями паника охватила штаб и совершенно расстроила ряды солдат и матросов.
А после перехода в другое, менее опасное, как нам казалось, помещение не нас уже охраняли, а старались приходящие к нам группами солдаты у нас найти защиту от предстоящих репрессий»{224}.
И эсеры, и неэсеры начали тогда разбегаться.
Позабытый всеми Яков Григорьевич остался лежать с простреленной ногой во дворе лазарета.
Видимо, за пьянкой латышские стрелки не успели прочитать телефонограмму Ленина, и когда ворвались в Трехсвятительский переулок, главного героя мятежа они не узнали.
Или же — и это гораздо вероятнее! — не захотели узнать Блюмкина.
Блюмкина отвезли не в ВЧК, а в больницу, откуда он — с простреленной ногой! — ушел вечером 9 июля.
12 июля Яков Григорьевич уехал из Москвы.
В конце сентября, когда в Петрограде уже бушевал красный террор и чекисты без суда и следствия расстреливали тысячи ни в чем не повинных людей, Блюмкин спокойно жил в Гатчине, занимаясь, как он сам сообщает, исключительно литературной работой.
Его все видели по-разному.
Профессиональные троцкисты всегда подчеркивали его мужественность.
«Невероятно худое, мужественное лицо обрамляла густая черная борода, темные глаза были тверды и непоколебимы».
«Его суровое лицо было гладко выбрито, высокомерный профиль напоминал древнееврейского воина».
Поэты вспоминали о мордатом чекисте, ражем и рыжем, писали о его «жирномордости», о пухлых, всегда мокрых губах.
Его пытались романтизировать.
Николай Гумилев, например, с восхищением писал, что Блюмкин «среди толпы народа застрелил императорского посла».
Его пытались принизить, чтобы усилить омерзение, которое он вызывал у знакомых. У Анатолия Мариенгофа мы можем прочитать о слюне, которой Блюмкин забрызгивал окружающих.
Все было бесполезно…
Яков Григорьевич не нуждался в романтизации — даже голых фактов его биографии хватило бы на десяток приключенческих романов.
Опять-таки очень трудно, вернее, невозможно было усилить и негативное впечатление, которое он производил на окружающих…
Закончив свою «литературную работу», в начале ноября 1918 года Яков Блюмкин прибыл на Украину, где под именем Григория Вишневского включился в террористическую войну. Некоторые исследователи полагают, что это он готовил покушение на гетмана Павла Скоропадского.
Покушение не состоялось, поскольку одновременно готовилось покушение на самого Блюмкина. Киевские левые эсеры, подобно нам, не могли понять, как удалось человеку, чуть было не сорвавшему Брестский мир, уйти от большевистской пули.
Три боевика пригласили Блюмкина за город для «разъяснений» и выпустили в Якова Григорьевича восемь пуль. Но ни одна из них не попала в Блюмкина.
Столь же неудачным было и покушение в уличном кафе на Крещатике. Теперь в Блюмкина в упор расстреляли весь барабан револьвера, он упал с окровавленной головой, но и на сей раз остался жив.
В бессознательном состоянии его отвезли в больницу. Эсеры узнали, что Блюмкин жив, решили добить его и кинули фанату в больничное окно. Но Блюмкин успел выскочить из палаты за мгновение до взрыва.
Спасаясь от друзей эсеров, в мае 1919 года, когда на Украине была установлена советская власть, Блюмкин, как мы уже говорили, явился в Киевскую ЧК к своему корешу Мартину Яновичу Лацису.
С Блюмкина были сняты показания, и он — ну как тут снова не вспомнить слов Бабеля о верных в дружбе и смерти товарищах-чекистах, каких нет нигде в мире! — 16 мая 1919 года, «учитывая добровольную явку и подробное объяснение обстоятельств убийства германского посла», был амнистирован Президиумом ВЦИК.
Тюремное наказание убийце германского посла заменили на «искупление в боях по защите революции».
9
Искупал свою вину Блюмкин чекистом и по-чекистски.
Нет никакого сомнения, что он честно залил свою вину кровью расстрелянных им в подвалах ВЧК контрреволюционеров, среди которых было немало и его бывших товарищей по партии эсеров.
Есть свидетельства, что когда в 1920 году в Крыму по распоряжению Л.Д. Троцкого и Г.Л. Пятакова были расстреляны десятки тысяч пленных врангелевских офицеров, в организации этой беспрецедентной по жестокости акции, наряду с Бела Куном и Розой Самуиловной Землячкой (Залкинд), участвовал и Яков Григорьевич Блюмкин{225}.
Столь ревностное отношение к чекистским обязанностям смягчило даже сердце Железного Феликса.
Вскоре по рекомендации Ф.Э. Дзержинского решением орготдела ЦК РКП(б) Яков Григорьевич Блюмкин стал членом партии большевиков и был командирован в Северный Иран.
Там, выдавая себя за приятеля Троцкого и Дзержинского, он стал членом ЦК компартии Ирана и разработал план провозглашения в северных провинциях Гилянской Советской республики.
По окончании Гражданской войны Блюмкин учился в военной академии, пока нарком Л.Д. Троцкий не забрал его в свой комиссариат.
«У кондуктора, у чернорабочего, у любого советского служащего есть восьмичасовой рабочий день, охраняемый Кодексом труда… — писал тогда Блюмкин. — У Л. Троцкого этого дня нет. Его рабочий день переваливает за восемь часов и может быть в разгаре еще и ночью… На столе Троцкого военная тактика гениального чудака и балагура Суворова познала книжное соседство с тактикой Маркса, чтобы прихотливым образом соединиться в голове одного человека»{226}.
Насчет Маркса и Суворова, соединившихся в Троцком, сказано сильно. Троцким Блюмкин восхищался. Троцкому он служил с той верностью и преданностью, которой не дождались от него ни эсеры, ни коммунисты.
Этого своего хозяина Яков Григорьевич не предавал до самой смерти, хотя в октябре 1923 года Дзержинский снова переманил Блюмкина в ИНО (иностранный отдел ГПУ).
Какое-то время Блюмкин работал в Москве, а в 1925 году оказался советским резидентом на Тибете. Здесь вместе с Николаем Рерихом он искал в недоступных районах Гималаев легендарную Шамбалу.
Работая резидентом, Блюмкин не растерял ни наглости, ни апломба. Некоторые рассказы о его куражах выглядят еще более фантастичными, чем рассказы об экспедиции в Шамбалу.
Напившись на новогоднем банкете ЦК Монгольской народно-революционной партии, Блюмкин заставил монголов произносить тосты за Одессу-маму и кончил тем, что заблевал портрет Ленина, установленный в центре банкетного зала. Но он нисколько не смутился при этом.
— Прости меня, дорогой Ильич, — сказал он, обращаясь к портрету. — Но ведь я провожу твои идеи в жизнь. Я не виноват, виновата обстановка{227}.
Потом под именем персидского купца Якуба Султана-заде Блюмкина перебросили на Ближний Восток, где, создавая агентуру в Египте и Саудовской Аравии, он торговал хасидскими раритетами.
Коммерсантом Блюмкин оказался вполне удачливым, и Москва готова была доверить ему продажу сокровищ из хранилища Эрмитажа, но тут Яков Григорьевич, этот профессиональный оборотень, проявил столь не свойственную ему принципиальность и сразу погорел на этом.
Будучи в Турции, Блюмкин встретился 16 апреля 1929 года с высланным из Советского Союза Троцким и взялся доставить в СССР его письма.
Якова Григорьевича арестовали на его квартире в Москве, которая находилась напротив того здания, где он убил в 1918 году Мирбаха.
3 ноября 1929 года дело Блюмкина было рассмотрено на судебном заседании ОГПУ. «За повторную измену делу пролетарской революции и Советской власти и за измену революционной чекистской армии» его расстреляли.
«Вчера расстрелян Яков Блюмкин, — со скорбью писал о своем верном сотруднике Лев Давидович Троцкий. — Его нельзя вернуть, но его самоотверженная гибель должна помочь спасти других. Их надо спасти. Надо неустанно будить внимание партии и рабочего класса. Надо научиться и научить не забывать. Надо понять, надо разъяснить другим политический смысл этих термидорианских актов кровавого истребления преданных делу Октября большевиков. Только таким путем можно помешать планам могильщика Октябрьской революции >.
Увы!…
Лев Давидович Троцкий забыл, как на V съезде Советов он сам произнес смертный приговор Блюмкину, провозгласив, что всякий, кто попытается «сорвать Брестский мир, будет расстрелян»…
Преданной службой и своей самоотверженной гибелью Блюмкин заслужил прощение Льва Давидовича.
И именно за это и расстреляли тридцатилетнего проходимца — чекиста Симху-Янкеля Блюмкина, убившего в 1918 году немецкого посла Вильгельма Мирбаха…
Считается, что тогда, в 1918 году, покушение на графа Мирбаха поставило Ленина на грань разрыва отношений с Германией. Но это не совсем верно… Германия, которая только что начала генеральное наступление на Западном фронте — последняя ее попытка выиграть войну! — просто не могла позволить себе разорвать отношения с советским правительством.
14 июля советскому правительству была, конечно, вручена нота германского правительства с требованием разместить в Москве батальон немецких солдат для охраны германского посольства, но В.И. Ленин категорически отказался выполнить это требование.
Разрыв с Германией в июле 1918 года мог принести Ленину только выгоду.
Тогда, после непродолжительной стрельбы в Москве, заседания съезда Советов возобновились…
Разумеется, уже без левых эсеров.
Хотя часть из них, отрекшуюся от своих прежних руководителей и сформировавшую новую группу под названием «Революционные коммунисты», В.И. Ленин разрешил допустить на съезд.
Вместе с большевиками «Революционные коммунисты» и утвердили новую Конституцию РСФСР.
Глава девятая.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТРАГЕДИЯ
На местах признают только три подписи: Ильича, вашу да еще немножко мою!
Я.М. Свердлов — Л Д. Троцкому
Каждый из нас страдает за себя, но есть один Человек, который страдает за всех нас, за всю Россию и страдает безмерно.
А. И. Дубровин
Сегодня нас опять не пустили в церковь. Дураки…
Царевич Алексей
Когда Дзержинского «освободили», он сразу отправился в Кремль.
Владимир Ильич принимать его не стал, и Феликс Эдмундович закатил настоящую истерику в приемной.
— Почему, почему они меня не расстреляли! — выкрикивал он. — Я жалею, что они меня не расстреляли! Это было бы полезно для революции!
Успокоил Дзержинского Яков Михайлович Свердлов.
— Нет, дорогой Феликс! — сказал он. — Хорошо, очень хорошо, что они тебя не расстреляли. Ты еще немало поработаешь на пользу революции.
— Я уже заявление, Яков, в газету отдал! — сказал Дзержинский.
— Какое заявление?
— Что ухожу из ЧК, пока расследование идет…
— Пускай печатают… — махнул рукой Свердлов.
8 июля заявление Дзержинского было опубликовано в «Правде»:
«Ввиду того, что я являюсь, несомненно, одним из главных свидетелей по делу об убийстве германского посланника графа Мирбаха, я не считаю для себя возможным оставаться больше во Всероссийской Чрезвычайной Комиссии в качестве ее председателя, равно как и вообще принимать какое-либо участие в Комиссии. Я прошу Совет Народных Комиссаров освободить меня от работы в Комиссии».
1
Как в песне про комсомольцев, которым дан приказ — одному — «на запад», а «ей — в другую сторону», разъезжались с V съезда Советов в разные стороны света чекисты.
Симха-Янкель Блюмкин вскоре после убийства посла Мирбаха отправился в Киев[41].
Шае Исааковичу Голощекину, который все съездовско-мятежные дни прожил в Кремле у Якова Михайловича Свердлова, был дан приказ в «другую сторону» — в Екатеринбург, убивать царскую семью.
Ну а самым первым в Петроград уехал Моисей Соломонович Урицкий…
Еще утром 7 июля после заседания большевистской фракции съезда Советов Я.М. Свердлов передал ему приказание В.И. Ленина немедленно ехать в Петроград и подавить там мятеж.
— Какой мятеж? — спросил Урицкий.
— Который поднимут левые эсеры! — отвечал Яков Михайлович.
Ареста агента А.Ф. Филиппова М.С. Урицкий ждать не стал.
Во-первых, спецпоезд, поданный ему, состоял из паровоза с единственным вагоном — так не ехать же рядом с арестантом!
А во-вторых, неделикатно было торопиться…
Заявление Ф.Э. Дзержинского об отставке, как объяснили Моисею Соломоновичу, будет опубликовано только завтра. Надо подождать еще денек-другой, чтобы арестовать тайного агента бывшего председателя ВЧК.
Надо, так надо…
Оформив на Лубянке необходимые для ареста агента А.Ф. Филиппова бумаги[42], М.С. Урицкий вместе с секретарем Петроградского комитета партии П.С. Заславским к ночи был уже в Петрограде.
Никакого восстания в городе не наблюдалось, но для «быстрого и решительного подавления левоэсеровской авантюры» был сформирован Военно-революционный комитет, наделенный президиумом Союза коммун Северной области чрезвычайными полномочиями.
Непосредственное подавление «мятежа» Моисей Соломонович Урицкий начал с того, что отобрал у мятежных эсеров утраченный ими еще в апреле пост комиссара внутренних дел, а затем, упрочив свое положение, приказал зачем-то штурмовать Пажеский корпус на Садовой улице, где размещался Петроградский комитет партии левых эсеров.
Штурм был недолгим. Как только начали стрелять по зданию, эсеры выбросили белый флаг. Чекисты еще немного попалили, а потом позволили эсерам сдаться в плен.
Александр Блок так описал этот день в своей записной книжке:
«Известие об убийстве Мирбаха… Женщина, умершая от холеры. Солнце и ветер. Весь день пальба в Петербурге… Обстрел Пажеского корпуса. Вечерняя “Красная газета”. Я одичал и не чувствую политики окончательно».
То, чего не понимал и не чувствовал Александр Блок, понимали большевики, понимал и Моисей Соломонович Урицкий.
Под пальбу из винтовок и пушек он стремительно восстановил свое влияние в городе и на следующий день, 9 июля, отрапортовал в Москву о подавлении мятежа…
А 10 июля, когда в Москве V съезд депутатов принял Конституцию РСФСР, законодательно закрепившую советскую власть как форму диктатуры пролетариата[43], в Петроград привезли агента Филиппова, арестовать которого Урицкому удалось благодаря отставке Ф.Э. Дзержинского.
И кто знает, может быть, и не стал бы Моисей Соломонович томить по тюрьмам еврея-черносотенца, а, разузнав, что тому удалось вынюхать насчет убийства Моисея Марковича Володарского, отпустил бы трудиться на сексотовском фронте в соответствии с новой Конституцией у нового начальника ВЧК, но тут опять не повезло Алексею Фроловичу Филиппову…
11 июля в Петроградскую ЧК поступил донос комиссара Михайлова, озаглавленный грозно и актуально: «Дело о контрреволюционном заговоре в Михайловском училище и академии»…
А может быть, все-таки больше не повезло не сексоту Филиппову, запертому в «Кресты», а товарищу Урицкому, служебные дела которого вроде бы так удачно устраивались в те дни?
Скорее всего, ему. Ведь именно с 11 июля и начинается отсчет последних пятидесяти дней его жизни.
Но сам Моисей Соломонович об этом, конечно, не знал…
Ознакомившись с доносом, он тут же, в 10 часов утра, подписал ордер № 1183, уполномочивающий товарища Борисёнка в течение двух суток произвести по собственному усмотрению аресты в Михайловском артиллерийском училище{228}.
Иосиф Фомич Борисёнок не стал терять времени — весь день 11 июля в училище шли обыски…
У преподавателя-инструктора, штабс-капитана Николая Михайловича Веревкина изъяли три шашки и наган.
У курсанта Георгия Сергеевича Арнаутовского — наган.
У курсанта Павла Михайловича Анаевского изъяли браунинг.
У инструктора Георгия Владимировича Дитятьева изъяли переписку, две бутылки вина, пишущую машинку и шашку.
У курсанта Ивана Михайловича Кудрявцева была изъята переписка{229}.
Больше ничего не было найдено, но и то, что удалось изъять, вполне подтверждало расчеты Моисея Соломоновича Урицкого: в училище мог готовиться заговор.
Из допросов курсантов выяснилось, что вербовал их в контрреволюционную организацию некто Владимир Борисович Сельбрицкий, проживавший на Каменноостровском проспекте, дом 54, квартира 55.
Когда Сельбрицкого задержали, оказалось, что под этим именем скрывается Владимир Борисович Перельцвейг.
Вот уж воистину не везло Моисею Соломоновичу летом 1918 года.
Как-то так получилось, что в сенгилейском тумане, окутавшем город, он постепенно превращался в самого главного погромщика Петрограда.
Организовав убийство своего друга и соратника Моисея Марковича Володарского, он вынужден был объявить черносотенцем и арестовать тайного агента ВЧК, выкреста Алексея Фроловича Филиппова.
А теперь, обрадовавшись возможности не встречаться с Филипповым и не узнать, кто он такой, Моисей Соломонович раскрыл-таки почти настоящий контрреволюционный заговор, но во главе его опять оказался еврей — Владимир Борисович Перельцвейг…
Что за судьба, что за испытания для Моисея Соломоновича Урицкого, все детство постигавшего основы Талмуда?!
2
Сам Владимир Борисович Перельцвейг в Михайловском училище не учился. Он закончил Казанское военное училище и служил в 93-м пехотном запасном полку. Кроме того, он вел весьма странную, не то провокаторскую, не то осведомительскую деятельность.
«В отношении с курсантами и рабочими, — показал Перельцвейг на допросе, — я был очень откровенен, говоря часто о возможности бегства властей из Петрограда, причем защищать его пришлось бы нам. Приблизительный процент добровольцев в будущую армию можно было бы распространить на весь город или уезд. Я часто говорил также о возможности рабочего движения, которое может быть использовано немецко-монархической партией. Я предупреждал рабочих об организации и старался соорганизовать и учесть количество сознательных рабочих, могущих сопротивляться этому движению».
Нетрудно догадаться, что работа эта осуществлялась Владимиром Борисовичем в рамках программы Всемирной сионистской организации, ставившей своей главнейшей задачей «охрану еврейства перед лицом грядущих потрясений». О принадлежности Перельцвейга именно к организации сионистского направления можно судить по названиям клубов, которые он посещал и где получал инструкции.
С бывшим прапорщиком Василием Константиновичем Мостыгиным Перельцвейг встретился в конце июня 1918 года.
«Встретив Владимира Борисовича Сельбрицкого (так представился ему Перельцвейг. — Н.К.), я разговорился с ним о настоящем положении. Разговор перешел о положении России, и выйдет ли Россия из настоящей войны окрепшей или нет. В разговоре мы оба пришли к заключению, что хорошего от Германии ждать нельзя и поэтому, если Германия победит, то от России ничего не останется»{230}.
Разговор двух двадцатилетних прапорщиков, очевидно, другим и быть не мог, точно так же, как ничем другим, кроме решения вступить в какую-либо организацию, не мог закончиться.
«Владимир Борисович предложил мне вступить в организацию для борьбы за Учредительное собрание… После этого разговора я был у Сельбрицкого на квартире два раза, один раз вместе со своим товарищем Сергеем Орловым».
Сергей Федорович Орлов, курсант Михайловского артиллерийского училища, хотя и был на год старше Мостыгина, но житейского опыта и у него было немного, и он тоже клюнул на удочку, закинутую Перельцвейгом.
«Мостыгин предложил мне поехать к некому Владимиру Борисовичу на Каменноостровский проспект.
Мы поехали.
Владимир Борисович предложил мне вступить в организацию правых эсеров на жалованье в 200 рублей. Обещал он дать мне оружие (револьвер)…
Я приехал затем в училище и предложил двум товарищам Арнаутовскому и Кудрявцеву вступить в эту организацию.
В день выступления левых эсеров я виделся с Владимиром Борисовичем (он вызвал меня по телефону) у него на квартире.
Он начал меня расспрашивать, как у нас в училище относятся к выступлению. Я ответил, что курсанты все разошлись, а у Выборгского совета выставлены пулеметы.
Затем я виделся с Владимиром Борисовичем в его квартире еще раз, и присутствовал при этом еще один офицер, бывающий у него каждый день»{231}.
Завербованным Орловым Ивану Михайловичу Кудрявцеву и Георгию Сергеевичу Арнаутовскому было одному девятнадцать, другому — восемнадцать лет.
Арнаутовский на следствии показал:
«Недели две тому назад получил от Орлова предложение поступить в какую-то организацию за жалованье в 200 рублей.
Во вторник, девятого июля, он в обеденное время предложил мне съездить на Каменноостровский за деньгами и револьверами.
Там нас встречали какие-то два молодых человека, похожих на офицеров. Денег они нам не дали, так же как и револьверов, а только говорили, что нам надо разъединить телефон и снять часового у ворот.
Когда мы вышли, то я сказал Орлову, что эти люди мне не нравятся и что я больше туда не поеду»{232}.
Но, пожалуй, наиболее ярко заговорщицкая деятельность освещена в показаниях девятнадцатилетнего Ивана Михайловича Кудрявцева. Когда следователь спросил, не является ли Кудрявцев членом партии правых эсеров, Иван Михайлович искренне возмутился:
«На вопросы, считающие меня правым эсером, я категорически отвергаю и говорю, что я совершенно с сентября 1917 года ни в каких правых организациях не участвовал. Готов в любой момент идти защищать Советскую власть до последних сил»{233}.
Если бы Ивана Михайловича через несколько дней не расстреляли, можно было бы, пожалуй, и улыбнуться его словам. Ведь надо же, какой матерый политик — уже целый год не участвует в правых организациях! А раньше, когда ему и восемнадцати лет не исполнилось, небось поучаствовал…
Орлов увлек Кудрявцева тоже двумя сотнями рублей и револьвером, но — увы — ни рублей, ни револьвера Иван Михайлович, как, впрочем, и остальные участники заговора, от Владимира Борисовича не получил.
«Я не знаю, что кому он предлагал или нет… — сокрушался Иван Михайлович на допросе. — Но он все время искал, кого еще взять, но так и не успел, уже арестовали»{234}.
Выдал Орлова курсант Василий Андрианович Васильев.
«В пятницу, за неделю до его ареста, курсант Орлов на мой вопрос, нет ли чего нового, сказал, что есть, но почему-то сразу не сказал, а обещал сказать.
После пяти часов вечера он позвал меня в помещение буфета и спросил, к какой партии я принадлежу. Я ему ответил, что я беспартийный. Тогда он сказал, что в воскресенье встретил в Летнем саду знакомого офицера, который предложил ему вступить в их организацию. Но он, Орлов, один не желает, а вот если вступлю я, тогда вступит и он.
На мой вопрос, что это за организация, он ответил, что это организация правых эсеров, а также и левых. И предупредил меня, что скоро должно быть выступление, в котором должны принять участие и мы. В случае нашего согласия мы получим по двести рублей денег и револьвер.
Когда я у него спросил, есть ли в организации наши инструктора, то он ответил: “Хорошо не знаю, но кажется, что есть”.
Больше в этот день он ничего не сказал, лишь под конец заявил: “Подумай и скажи завтра. Тогда ты в понедельник получишь деньги и оружие”.
В субботу утром я сказал курсанту Посолу об этом и спросил: “Что делать?”
Он ничего не сказал, а пошел и заявил комиссару Михайлову»{235}.
Курсовой комиссар Михайлов, как мы и говорили, сразу же отправил в Петроградскую ЧК донос, который — у страха глаза велики! — был озаглавлен «Дело о контрреволюционном заговоре в Михайловском артиллерийском училище и академии».
Никакого заговора, как это видно по показаниям курсантов, не было, и если и можно было говорить о чем, то только о попытках вовлечь курсантов в какие-то непонятные структуры.
Штабс-капитан Николай Михайлович Веревкин, работавший в училище инструктором-преподавателем, сказал на допросе:
«О выступлении и заговоре на курсах узнал лишь от военного комиссара, присутствовавшего на допросе моем у следователя. Все слухи о заговоре считаю ложными. Никакое выступление курсов или отдельной группы лиц безусловно считаю невозможным и даже не представляю себе, как можно давать значение какому бы то ни было доносу. Вся обстановка жизни и службы на курсах противоречит этому»{236}.
Он объяснил, что технически невозможно было бы выкатить орудия и начать стрельбу из них, хотя бы уже потому, что патронов на курсах, кроме учебных и образцовых, нет.
Но так считал Николай Михайлович Веревкин, который, отвечая на вопрос, к какой партии он принадлежит, сказал, что «принадлежит к партии порядочных людей». Петроградские чекисты во главе с Моисеем Соломоновичем Урицким в этой партии себя никогда не числили…
19 августа состоялось заседание Чрезвычайной комиссии, на котором курсантов Орлова, Кудрявцева, Арнаутовского, бывшего прапорщика Мостыгина, преподавателя штабс-капитана Веревкина и прапорщика Перельцвейга приговорили к расстрелу.
Постановление по делу о контрреволюционном заговоре в Михайловском училище — весьма любопытный документ, и поэтому приведем его целиком.
«В заседании Чрезвычайной Комиссии 19 августа, при omказавшихся от участия в голосовании Урицком и Чумаке, единогласно постановлено: Орлова, Кудрявцева, Арнаутовского, Перельцвейга, Мостыгина и Веревкина расстрелять.
Воздержались по вопросу о расстреле Арнаутовского Иванов и Смычков, по вопросу о расстреле Веревкина воздержался Иванов.
Дело о Попове, Рукавишникове и Дитятьеве прекратить, переведя этих лиц, как бывших офицеров, на положение интернированных.
Дело о Дитятьеве выделить, продолжить по нему расследование.
Председатель М. Урицкий»{237}.
Остается добавить, что сей удивительный документ на вырванном из тетрадки листочке в клетку написан собственноручно Моисеем Соломоновичем Урицким, отказавшимся, как тут написано, от участия в голосовании.
3
Постановление по делу «о заговоре» в Михайловском артиллерийском училище — документ уникальный и чрезвычайно загадочный.
В самом деле, как это может быть единогласно постановлено, если двое членов коллегии вообще отказались участвовать в голосовании, если еще двое воздержались при голосовании по расстрелу Арнаутовского, а один — по вопросу о расстреле Веревкина?
Разве допустимо выделять в отдельное расследование дело Кудрявцева, уже помянутого в расстрельном списке? Этот промах, правда, Урицкий исправил, и хотя и поленился переписывать постановление, но фамилию Кудрявцева переправил на Дитятьева…
Марк Алданов писал, что несоответствие всей личности Урицкого с той ролью, которая выпала на его долю, — несоответствие политическое, философское, историческое, эстетическое — резало глаз элементом смешного…
Нам представляется, что Моисей Соломонович Урицкий был слишком отвратителен для того, чтобы быть комическим персонажем. Он всегда, в любых своих проявлениях антиэстетичен.
То несоответствие, о котором говорит Алданов, находится за гранью добра и зла и не способно вызвать у нормального человека ни усмешки, ни сочувствия — только ужас и отвращение, которые вызывает встреча с любой нелюдью…
Наверное, трудно придумать что-нибудь страшнее этого низкорослого уродца, что, пропустивши очередной стакан вина, по-утиному переваливаясь на кривых ногах, садится за стол и, поминутно поправляя сползающее с рыхлого носа пенсне, выводит на тетрадном листке пьяные каракули, обрызгивающие чернилами смерти молодых офицеров и курсантов.
Забегая вперед, скажем, что расследование дела о «заговоре» в Михайловском артиллерийском училище формирует сюжет последней пятидесятидневки Моисея Соломоновича.
Официальная версия его убийства строится на мести Л.А. Каннегисера за расстрел своего друга В.Б. Перельцвейга.
«Из опроса арестованных и свидетелей по этому делу выяснилось, что расстрел Перельцвейга сильно подействовал на Леонида Каннегисера. После опубликования этого расстрела он уехал из дому на несколько дней — место его пребывания за эти дни установить не удалось».
Действительно, Леонид Каннегисер знал и Перельцвейга и, возможно, Кудрявцева и Арнаутовского.
Более того…
В деле Каннегисера есть показания студента Бориса Михайловича Розенберга о том, что Леонид говорил ему:
«К моменту свержения Советской власти необходимо иметь аппарат, который мог бы принять на себя управление городом, впредь до установления законной власти в лице Комитета Учредительного собрания, и попутно сделал мне предложение занять пост коменданта одного из петроградских районов. По его словам, такие посты должны организовываться в каждом районе. Район предложил выбрать самому. На мой вопрос, что же я должен буду сейчас делать на названном посту, он ответил: “Сейчас ничего, но быть в нашем распоряжении и ждать приказаний”. Причем указал, что если я соглашусь, то могу рассчитывать на получение прожиточного минимума и на выдачу всех расходов, связанных с организацией»{238}.
И хотя Каннегисер набирал штат будущих комендантов городских районов, а Перельцвейг лишь будущих солдат, нетрудно заметить сходство методов. Деньги они обещали сразу по получении согласия, а дальше завербованные должны были находиться «в нашем распоряжении», чтобы в нужный момент перерезать телефонный провод, снять часового или же принять на себя управление городским районом…
Конечно, можно предположить, что все это — игра «в казаки-разбойники», только в варианте 1918 года, но, судя по показаниям Перельцвейга, на игру это не похоже. Скорее всего, такое задание и Перельцвейгу, и Каннегисеру было дано организацией, к которой они принадлежали.
Что это была за организация — неизвестно…
Вера Владимирова в работе «Год службы социалистов капиталистам»{239} приводит воспоминания члена Центрального комитета партии народных социалистов Игнатьева:
«В конце марта 1918 года ко мне обратился Л.А. Кенигиссер (так в тексте. — Н.К.) от имени группы беспартийного… офицерства с просьбой организовать для них военный и политический штаб. В каждом районе города они имели свои комендатуры. Я предложил им созвать на совещание комендантов районов и наиболее видных членов организации. Они мою политическую платформу, основным лозунгом которой был созыв нового учредительного собрания, приняли. И я взял на себя политическое руководство и решил сорганизовать для них военный штаб»…
Из бумаг, изъятых при обыске в квартире Каннегисеров, явствует, что Л.А. Каннегисер, как и В.Б. Перельцвейг, был связан с Всемирной сионистской организацией.
Какую цель преследовала эта организация, поручая Каннегисеру и Перельцвейгу создание сети подпольных комендатур и дружин, которые потом Каннегисер пытался всучить члену Центрального комитета партии народных социалистов Игнатьеву, неизвестно… Но очевидно, что Леонида Каннегисера не могла не угнетать бесцельность принесенной жертвы. Более того, он не мог не понимать, что вольно или невольно, но это он и заманил девятнадцатилетних мальчишек под расстрел.
О таинственных взаимоотношениях Моисея Соломоновича Урицкого и Леонида Акимовича (Иоакимовича) Каннегисера мы еще будем говорить, пока же отметим, что, подписывая 11 июля 1918 года ордер на аресты в Михайловском артиллерийском училище, Моисей Соломонович подписывал ордер на убийство самого себя.
И как ни странно, но трудно отделаться от ощущения, что он и сам догадывался об этом. От этого, предстоящего, он и пытался оградиться пьяными каракулями, зафиксировавшими, что он — небывалый случай в истории ЧК! — отказался участвовать в голосовании по расстрелу В.Б. Перельцвейга.
И ведь когда он надумал заняться этой казуистикой?
Во второй половине августа 1918 года!
Петроград тогда превратился, как писал Б.В. Савинков, в умирающий город. «Пустые улицы, грязь, закрытые магазины, вооруженные ручными гранатами матросы и в особенности многочисленные немецкие офицеры, с видом победителей гулявшие по Невскому проспекту, свидетельствовали о том, что в городе царят “Советы и Апфельбаум-Зиновьев”»…
В Смольном всерьез рассматривался вопрос о кормлении зверей в зоопарке трупами расстрелянных. А сам Урицкий и его подручные уже начали стервенеть от запаха крови, и уже без всякого следствия, без какой-то там волокиты расстреливали скрывавшихся от регистрации офицеров…
В Финском заливе тогда, как утверждает С.П. Мельгунов в книге «Красный террор», были потоплены две барки, наполненные офицерами. «Трупы их были выброшены на берег… связанные по двое и по трое колючей проволокой».
И вот в эти дни Моисей Соломонович Урицкий, все свое детство постигавший основы Талмуда, пытается уберечься от нарушения законов иудаизма, пытается изобразить, что еврейской крови на нем нет!
Только все равно это оказывается бесполезным. Оступившись на неверном пути подлогов, он проваливается в топь, и чем больше суетится, пытаясь выбраться из нее, тем глубже погружается в гибельную трясину.
4
Знакомясь с расследованиями и расправами чекистов в 1918 году, постоянно ощущаешь, как засасывает тебя болото провокаций, без которых не обходится, кажется, ни одно следственное дело.
Здесь все условно: правда и ложь, виновность и невиновность.
Эти понятия уже изначально лишены нравственной окраски и свободно перемешиваются, образуя гибельную трясину соображений сиюминутной целесообразности.
И кружится, кружится над гиблыми топями хоровод масок.
Вчерашние меньшевики, превратившиеся в большевиков, большевики, объявленные меньшевиками, левые эсеры, бундовцы, правые эсеры…
Кружится хоровод, меняются маски, и все гуще и гуще льется вокруг кровь…
И все более и более зыбкой и призрачной становится прошлая жизнь. Погрузившись на несколько недель в топь чекистских подвалов, заключенные порою уже переставали различать себя, превращая самих себя в некие фантомы, которые никакого отношения к ним, прежним, не имели.
Бывший членом Главной Палаты Русского Народного Союза имени Михаила Архангела Лев Алексеевич Балицкий попал на Гороховую еще в июне…
Однако арестован он был не как «каморровец»:
«Основанием ареста Балицкого служило пререкание с местным Совдепом Петроградской стороны по поводу реквизиции особняка Витте на Каменноостровском проспекте для устройства выставки сельскохозяйственного строительства. Совет желал реквизировать для своих нужд указанный особняк, но Балицкому при поддержке его хорошего знакомого тов. Володарского (выделено нами. — Н.К.) удалось получить особняк для выставки. Результатом этого послано отношение Совдепа в Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией о “ВРЕДНОСТИ” Балицкого»{240}.
Сам Лев Алексеевич этого не знал, и, считая, что арестован он по делу «Каморры народной расправы», на первых допросах почти дословно повторял аргументы своих «подельников», перечисляя, сколько хорошего за свою жизнь он сделал для евреев:
«Я работаю с первых дней Советской власти в полном контакте с ней…
В мои школы впервые в России еще при царском режиме принимались евреи в число учеников без всякого процента…
Я принципиальный противник участия в каких бы то ни было политических партиях, ибо сам стою вне политики, делаю свое громадное культурно-техническо-просветительское дело и пользуюсь исключительной любовью и доверием своих учеников.
При Советской власти несравнимо легче работать на моем поприще, следовательно, у меня нет абсолютно никаких стремлений к низвержению Советской власти, ибо при всех новых строях для меня будет хуже»{241}.
Эти доводы Льва Алексеевича взяты нами из протокола его первого допроса, после которого он был возвращен в камеру и позабыт, как это делалось с большинством арестантов в Петроградской ЧК.
Но Балицкий не знал о подобных порядках и потому возмущался.
Возмущение это было особенно сильным, поскольку Лев Алексеевич — и тут он действительно являлся исключением среди других активистов «Союза русского народа» — искренне симпатизировал советской власти.
Ведь именно после Октябрьского переворота, когда большинство специалистов бойкотировало самозванцев-большевиков, он сумел в отсутствие конкурентов развить кипучую деятельность.
Он объявил себя специалистом по счетоводству, бухгалтерии и карточной системе, принялся за организацию различных курсов: бухгалтерских, гидротехнических, сельского строительства… Энергия в нем так и клокотала, среди полуграмотных Володарских и Зиновьевых он пользовался репутацией «человека громадных познаний».
Но для чекистов вообще, и для Урицкого в частности это никакого значения не имело. Более того, как это ни парадоксально, но в середине июня не имела для них значения и принадлежность Балицкого к «Союзу русского народа», возможность связать его с делом «Каморры народной расправы».
В самом деле…
Балицкий, как это выяснилось на допросе, знал Луку Тимофеевича Злотникова. Знал он и другого подследственного ЧК — Николая Ларина.
«С Лариным я познакомился лет пять тому назад на каком-то славянском обеде, как с журналистом, потом я пригласил его к себе и он был одно время даже преподавателем моей школы: после ареста он оставил службу и занялся работой в кооперативах; я покупал у него для своей надобности ненормированные продукты. Впоследствии я знал его, как работника по коммерческой части. С его политической деятельностью не знаком, хотя и знал, что он настроен был, по крайней мере до революции, в правую сторону. Перед Рождеством мой знакомый изобретатель Е.И. Григорьев продал свое изобретение искусственной свечи Ларину, и я явился в этом деле поверенным обеих сторон. В настоящее время, насколько знаю, он состоит совладельцем колбасной фирмы “Фильберт и п-ки” в Томске и занят доставкой колбасы и ветчины»{242}.
И тем не менее по непостижимой чекистской логике оформили Льва Алексеевича… офицером.
«В настоящее время за отсутствием каких-либо вин Балицкий находится в числе заложников и значится как “офицер”»{243}.
Тут, наверное, уместно будет упомянуть, что Л.А. Балицкий к своим тридцати трем годам закончил политехникум по экономическому отделению, а затем Петроградский университет по юридическому факультету и ни одного дня не провел на военной службе.
Вся кипучая энергия Балицкого направлена в эти дни на добывание бумаги и сочинение прошений, в которых он пытается отмазаться от «Каморры народной расправы». Дело Балицкого, кажется, самое пухлое из всех дел — столько прошений вшито в него.
Первым идет заявление секретарю Петроградской ЧК Александру Соломоновичу Иоселевичу:
«Слыхав от многих, что Вы очень энергично-чутки к справедливости, обращаюсь к Вам с просьбой по своему делу.
Сойдя со скамьи высшей школы, я посвятил себя педагогике, основал впервые в России школы: для солдат-инвалидов… для крестьян… для рабочих… В свои средние полноправные училища я еще при царском режиме принимал в число учеников евреев без всякого процента (здесь и далее подчеркнуто Балицким. — Н.К.). Благодарственный адрес мне евреев был напечатан в еврейской газете «Тогблат» в конце марта — начале апреля 1917 г.
Мои школы не саботировали Советской власти ни одного дня. Моя вся работа была только на пользу и укрепление Советской власти…
В настоящее время работаю по привлечению безработных на отстройке домов-огородов для рабочих Петрограда. Мне нужно быть на свободе, чтобы продолжать свою полезную для Советской власти работу, а не сидеть в “Крестах”…
Я, стоя вне политики, работал для народа и Советской власти не за страх, а за совесть, а правительство крестьян, рабочих и солдат за мои заслуги и деятельность возложило на меня вместо лаврового венка терновый кровавый венец»{244} …
«Энергично-чуткого к справедливости» Александра Соломоновича Иоселевича это послание не тронуло, и через несколько дней Балицкий пишет заявление Г.И. Бокию:
«Несправедливо и жестоко со стороны Советской власти держать в “Крестах” меня, работавшего с октября до дня ареста в контакте с Советской властью, принося ей много пользы.
Настаиваю на немедленном личном Вами меня допросе… Подозрение меня в контрреволюционности — вопиющий абсурд».{245}
Столь обильные цитаты из писем и заявлений Льва Балицкого необходимы, чтобы увидеть, как менялся в заключении человек. Вначале Лев Алексеевич еще хорохорится, поминает о лавровом венке, который должна возложить на него советская власть, говорит о пользе, которую он принес большевикам и евреям, но с неделями заключения тон меняется.
«Уже два месяца я, больной и измученный, без всякой вины, только по недоразумению, томлюсь в заключении… Я являюсь политическим атеистом, толстовским непротивленцем, ни в одной политической организации не состоял, если не считать организации, которую несведущие считали политической, академической, видный член которой, как об этом писали в газетах, Поливанова, помощник тов. Троцкого»{246}.
Но и это послание с жалобами на болезни и намеками на могущественные связи тоже не оригинально. Этим путем, как мы видели, уже многие арестанты пытались выбраться из чекистских застенков, но ни одного из них этот путь на свободу не вывел.
И все же по сравнению с Бобровым, Мухиным, Злотниковым или Никифоровым — Балицкий новый человек, человек иного, как приучили нас говорить духовные внуки Моисея Соломоновича Урицкого, менталитета.
Гибкость, позволившая Балицкому с первого дня принять Октябрьскую революцию, спасает его и на этот раз.
«Генеральному императорскому германскому консулу в Петрограде
г. Бирману (Улица Гоголя, гост. “Гранд-отель”)
от украинского гражданина,
женатого на бывшей германской подданной.
Льва Алексеевича Балицкого.
ПРОШЕНИЕ
По абсурдному политическому обвинению в какой-то контрреволюционности сижу в тюрьме «Кресты».
Окончив два высших учебных заведения, я занялся педагогикой и учредил ряд технических учебных заведений (по типу немецких техникумов) (выделено нами. — Н.К.) совершенно нового для России типа…
Согласно декрету нынешнего же правительства, обвинение точное, обоснованное должно быть предъявлено в 48 часов. Я же, как и мой родной брат Петр Алексеевич, томимся в тюрьме или по недоразумению, или по ложному доносу какого-нибудь провокатора.
Как украинские граждане (связанные родством с германскими подданными) просим взять нас под свою защиту»{247}.
Прошение это не дошло до адресата.
Начальник тюрьмы передал его не германскому консулу, а непосредственно в ЧК, где оно и было приобщено к делу.
Судя по всему, Балицкий, не подозревая о печальной судьбе своего прошения, сильно обиделся на германского консула. Однако он понимал, что движется в правильном направлении, и вскоре сочиняет еще одно произведение, которое убеждает нас в воистину необыкновенном воздействии на арестантов воспитательных методов товарища Урицкого.
Конечно, такие, как Никифоров и Бобров, угрюмо замыкались в своей гордыне, но люди иного менталитета — менялись.
Вот и Лев Алексеевич Балицкий, приват-доцент Петербургского университета, член Главной Палаты Русского Народного Союза им. Михаила Архангела, проведший всю свою сознательную жизнь в Петербурге, после обработки погружением заговорил вдруг в подвалах Петроградской ЧК на позабытом украинском языке.
«Украiнському Консуловi Веселовському
Украiнськаго громадянина
Льва Олексiевича Балицкого
ЖАЛЬБА
В кайданах, в неволi на чужбиi, в тюрьме як спiваеця в наших пiснях, гинут и пухнут з голоду без вини нашi украiнцi в “Крестах”.
Сидю и я тут три тиждня, не по обвiненiю, а по подозренiю, хоть для цёго нема нiяких нi основаннiй, нi прiчiн, сидю тут я з своiм рiдним братом Петром (клiека 789); вiн тож сидить “по тому же подозренио”, хоть вiн ничого на свт не бачить, окрiм свoiх книжок, бо готовиця до профессури.
Я ж основав первie в Россiи курсы сельского законовiденiя и экономiи, сельскохозяйственно-гидротехнiчне средне учiлiще, огнестейкаго сельского строительства; также бухгалтерскi курси, гiмназио и др. и всё це я хочу перевести на Украiну з цёго ж року, бо богацько моiх ученiков — украiнцi, а останни ученiки дали свое соглaсiе з радiстью закiнчити курс свiй иза голоду в Петроградi и вони поiдут з школой куда я захочу. Я ж сидю в “Крестах” и не можу по цёму делу ничого робити. О россiйских дiлах i полiтiке я не хочу навiт думати, а не то що “контревлюцiей занiматiся…
По сему широ и ласкаво прохаю пiдмоги и оборони нам з братом внити на волю, на поруки, а бо пiд роспiску о невiиздi з Петрограда до суда, окрiм всего моя жiнка слаба, у мене родився син, котораго я ще и не бачив, а дитинка моя дуже слабенька (семимiсячна) и я боюсь, що вона умре и я не взгляну навiтъ на свого первенца.
Лев Балiцкiй
P.S. Германьско консульство за своiх стоiт, ино ix i не держат довго, маем надiю що i наше консульстве не дасть нас в обiду»{248}.
Грех иронизировать над человеком, томящимся в застенке Петроградской ЧК, но, право же, нельзя без улыбки перечитывать эту смесь украинских и искалеченных русских слов, которую Лев Алексеевич почему-то считает украинским языком…
Впрочем, что ж…
В застенках Урицкого и не мог человек заговорить по-другому, не самое лучшее это место, чтобы вспоминать «рiдну мову»…
Но если с языком и возникают проблемы, то со смыслом тут все было правильно. Страдания «на чужбiнi», «в кайданах» «нашего украiнца» да к тому же не чающего увидеть свою «дитинку», растрогали генерального консула Украинской державы, когда он увидел фамилию Балицкого в списках заложников.
Скоро в ЧК на бланке консульства поступил запрос о Л.А. Балицком:
«Имею честь просить о принятии мер к немедленному освобождению означенного украинского гражданина.
Если же к нему предъявлено какое-либо обвинение, то допустить к обозрению следственного материала лицо, уполномоченное на то Генеральным консулом»{249}.
То ли этот запрос консула Веселовского, не желающего уступить своему германскому коллеге, который «за ceoix стоит», сыграл роль, то ли просто, как написано в постановлении, «ввиду того, что необходимость в заложниках в настоящее время почти миновала»{250}, Лев Алексеевич Балицкий в ноябре 1918 года был освобожден из-под ареста.
Вот, кажется, и вся история о том, как удалось человеку вырваться из смертных списков, сочиненных тт. Бокием и Иоселевичем. Правда, завели его в здание на Гороховой молодым приват-доцентом Петербургского университета, бывшим членом Главной Палаты Русского Народного Союза им. Михаила Архангела, а выпустили беспрерывно проливающим слезы стариком, невразумительно бормочущим свои жалобы на некоем петербургско-украинском наречии…
О такой судьбе, увы, «не спiваецца ни в каких пiснях»…
5
Не поется ни в каких песнях и о том, что происходило в июле 1918 года в Екатеринбурге…
То есть песен-то на эту тему как раз написано превеликое множество, но все они о другом, а не о том, что было на самом деле…
Прежде чем приступить к рассказу о екатеринбургской трагедии, напомним, что в марте 1917 года, сразу после отречения Николая II, была создана первая ЧК, расследовавшая деятельность царя и его окружения. Секретарем ее был Александр Блок, и помимо официальных выводов сохранились личные записи поэта, подводящие итоги работы комиссии.
«Единственное, в чем можно упрекнуть Государя, — это в неумении разбираться в людях. Всегда легче ввести в заблуждение человека чистого, чем дурного. Государь был бесспорно человеком чистым».
Разумеется, рожденный в сенгилейском тумане сын Надежды Александровны Адлер и директора Симбирской мужской классической гимназии Федора Михайловича Керенского не собирался жертвовать своим положением и предавать гласности выводы комиссии.
Член партии эсеров и масонской ложи «Великий Восток народов России», Александр Федорович Керенский, как известно, легко переступал через закон (тут достаточно вспомнить о не вполне законной защите Керенским киевского приказчика Менделя Бейлиса), еще выстраивая свою карьеру[44].
Для премьер-министра Керенского не составило труда засекретить отчеты, разбивающие многочисленные мифы об Анне Вырубовой, Григории Распутине и самом императоре, а царскую семью выслать в Тобольск, передоверив расправу над государем большевикам.
Большевики тоже не сразу определились, как решить судьбу царственных узников.
На заседании Совнаркома 20 февраля 1918 года, проходившем под председательством В.И. Ленина, было решено поручить комиссариату юстиции и двум представителям крестьянского съезда подготовить следственный материал по делу Николая Романова.
В мемуарной и научной литературе встречаются утверждения, что некоторые вожди большевиков якобы высказывались за проведение открытого суда над Николаем II, якобы Л.Д. Троцкий даже собирался выступить обвинителем на этом процессе.
Едва ли можно считать эти намерения, если они и были, серьезными.
Недоброй славы у Троцкого и так было достаточно, а открытый процесс над последним легитимным правителем России грозил превратить Троцкого в посмешище для всего мира.
Опять-таки, В.И. Ленин понимал, что рано или поздно император Николай II станет центром, вокруг которого начнет формироваться ядро русского национального сопротивления, и допустить этого не мог.
Вопрос о судьбе государя, таким образом, был решен не столько даже большевиками, сколько самой революционной ситуацией, в которую поставили большевики Россию, и если и возникали у большевиков какие-то сомнения, то они касались лишь времени ликвидации царской семьи…
Основная часть исследователей склоняется к выводу, что окончательные решения по этому вопросу были приняты, когда в первой половине июля большевики установили единоличную диктатуру и утвердили на съезде Советов свой проект Конституции.
Все эти мероприятия были осуществлены к 7 июля.
Напомним, что на квартире Якова Михайловича Свердлова в Кремле жил тогда член президиума Уралоблсовдепа, военный комиссар Шая Исаакович Голощекин, и это сюда и пришла телеграмма председателя Уральского областного совета А. Г. Белобородова: «Председателю ЦИК Свердлову для Голощекина. Авдеев сменен. Его помощник Мошкин арестован. Вместо Авдеева Юровский. Внутренний караул весь сменен».
Считается, что Шая Исаакович и привез в Екатеринбург инструкции Якова Михайловича Свердлова.
В Екатеринбург он приехал 14 июля.
В тот же день, в 10 часов вечера, состоялось объединенное заседание Уральского областного комитета коммунистической партии и Военно-революционного комитета, на котором Шая Исаакович Голощекин доложил директивы Якова Михайловича Свердлова, а начальник губчека Яков Хаимович Юровский, которого в Екатеринбурге знали просто как Янкеля-фельдшера, доложил свои соображения по ликвидации царской семьи.
План его был утвержден, и 16 июля вечером Яков Хаимович Юровский явился в дом Ипатьева и приказал начальнику охранного отряда Медведеву собрать все револьверы системы «наган».
Медведев выполнил приказ, и собранные наганы раздали членам команды особого назначения — чекистам с нерусскими именами, неведомо как возникшими в доме Ипатьева.
По многим свидетельствам, они проходят, как латыши, но, судя по именам, никакого отношения к латышам не имели.
Сохранился список их фамилий, отпечатанный на бланке Революционного штаба Уральского района: «Горват Лаонс, Фишер Анзелм, Эдельштсйн Изидор, Фекете Эмил, Над Имре, Гринфелд Виктор, Вергази Андреас»[45]. Более эти имена ни разу не встретятся ни в каких чекистских документах.
Эту семерку то ли набрали из военнопленных, то ли специально для расстрела царской семьи привезли в Екатеринбург…
Незадолго до полуночи в Ипатьевский дом приехали Шая Исаакович Голощекин и Петр Захарович Ермаков.
Можно было начинать.
Яков Хаимович Юровский разбудил лейб-медика Евгения Сергеевича Боткина и велел поднимать царскую семью. Он сказал, что получил приказ увезти семью в безопасное место.
Когда все оделись, Яков Хаимович приказал всем следовать за ним в полуподвальный этаж.
Впереди шли Юровский и Никулин (не сохранилось ни его имени, ни отчества), который держал в руке лампу, чтобы освещать темную узкую лестницу.
За ними следовал государь.
Он нес на руках царевича Алексея — мальчика, который должен был стать русским императором и который мечтал, чтобы не было в России бедных и несчастных. Нога у царевича была перевязана толстым бинтом, и при каждом шаге он тихо стонал.
За государем шли государыня и великие княжны. Анастасия Николаевна несла на руках свою любимую собачку Джимми.
Следом — лейб-медик Е.С. Боткин, комнатная девушка А.С. Демидова, лакей А.Е. Трупп и повар И.М. Харитонов.
Замыкал шествие Павел Спиридонович Медведев.
Спустившись вниз, прошли через нижний этаж до угловой комнаты — это была передняя с дверью на Вознесенский переулок.
Здесь Юровский указал на соседнюю комнату и объявил, что придется подождать, пока будут поданы автомобили.
Это была пустая полуподвальная комната длиною в 5,5 и шириной в 4,5 м. Справа от двери виднелось небольшое, с толстой железной решеткой окно на уровне земли, выходящее тоже на Вознесенский переулок.
Дверь в противоположной от входа восточной стене была заперта. Все стояли лицом к передней, через которую вошли.
«Романовы, — как пишет в своей записке Я. Юровский, — ни о чем не догадывались».
— Что же, и стула нет? — спросила Александра Федоровна. — Разве и сесть нельзя?
Юровский — вот она, чекистская гуманность! — приказал принести три стула.
Государь сел посреди комнаты и, посадив рядом царевича Алексея, обнял его правой рукой.
Сзади наследника встал доктор Боткин.
Государыня села по левую руку от государя, ближе к окну.
С этой же стороны, ближе к окну, стояла великая княжна Анастасия Николаевна, а в углу за нею — Анна Демидова.
За стулом государыни встала великая княжна Татьяна Николаевна, чуть сбоку — Ольга Николаевна и Мария Николаевна. Тут же стоял А. Трупп, державший плед для Наследника.
В дальнем левом от двери углу — повар Харитонов.
В 1 час 15 минут ночи за окном послышался шум мотора грузовика, присланного для перевозки тел, и тут же из соседней комнаты с наганами в руках вошли убийцы с нерусскими лицами…
В этой книге мы уже говорили, что от словосочетания нерусский чекист для нас за версту несет тавтологией. Однако эти чекисты даже и к народам, населяющим Российскую империю, не принадлежали.
Повторим еще раз эти имена…
Лаонс Горват, Анзельм Фишер, Изидор Эдельштейн, Эмиль Фекете, Имре Надь, Виктор Гринфельд, Андреас Вергази.
Семеро должны были расстрелять семь членов царской семьи.
Четверо местных палачей — Юровский включил в команду особого назначения еще Никулина, Павла Медведева, Степана Ваганова — должны были убивать доктора Е.С. Боткина, комнатную девушку А.С. Демидову, лакея А.Е. Труппа и повара И.М. Харитонова.
Однако в последний момент Юровский изменил план и велел Горвату, который должен был стрелять в Николая II, стрелять в Боткина.
Государя он взял себе.
Послушал ли Лаонс Горват Янкеля Хаимовича, неизвестно.
Возможно, что, как было ему приказано ранее, он стрелял в православного царя. Во всяком случае, получилось так, что император был убит сразу, а Боткина после первых выстрелов пришлось достреливать…
— Граждане цари! — войдя в комнату и надувая щеки, сказал Янкель Хаимович. — Ввиду того, что ваша родня в Европе продолжает наступление на Советскую Россию, Уралисполком постановил вас расстрелять!
Государь не сразу понял смысл сказанного. Он привстал со стула.
— Что? Что? — переспросил он.
Вместо ответа Янкель Юровский в упор выстрелил в государя.
Следом раздались еще десять выстрелов.
Сраженный пулей Алексей Николаевич застонал, и один из чекистов ударил его сапогом в висок, а Юровский, приставив револьвер к уху мальчика, выстрелил два раза подряд.
Пришлось достреливать Боткина и царевен.
Раненую Анастасию Николаевну добивали штыками.
Добивали штыками и горничную Демидову.
«Один из товарищей вонзил ей в грудь штык американской винтовки “винчестер”. Штык был тупой и грудь не пронзил».
Все оказалось залито кровью.
В крови были лица и одежда убитых, кровь стояла лужами на полу, брызгами и пятнами покрывала стены.
«Вся процедура, — как сказано в «Записке Юровского», — считая проверку (щупанье пульса и т.д.) взяла минут двадцать. Потом стали выносить трупы и укладывать в автомобиль, выстланный сукном, чтоб не протекала кровь. Тут начались кражи: пришлось поставить трех надежных товарищей для охраны трупов».
Тем временем нерусские чекисты из расстрельной команды, то ли хулиганя, то ли исполняя обряд, выводили на стенах разные надписи[46]:
«….на южной стене надпись на немецком языке:
Belsatzar ward in selbiger Nacht
Von seinen Knechten umgebracht[47].
Это 21-я строфа известного произведения немецкого поэта Гейне “Belsazar”. Она отличается от подлинной строфы у Гейне отсутствием очень маленького слова: “aber”, т.е. “но все-таки”.
Когда читаешь это произведение в подлиннике, становится ясным, почему выкинуто это слово. У Гейне 21-я строфа — противоположение предыдущей 20-й строфе. Следующая за ней и связана с предыдущей словом “aber”. Здесь надпись выражает самостоятельную мысль. Слово “aber” здесь неуместно.
Возможен только один вывод: тот, кто сделал эту надпись, знает произведение Гейне наизусть…
На этой же южной стене я обнаружил обозначение из четырех знаков»{251}.
Это обозначение из четырех знаков новейшие исследователи склонны трактовать как каббалистическую надпись и расшифровывают ее так: «Здесь по приказанию тайных сил царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются все народы».
Я не берусь судить, насколько разумно идентифицировать обозначение из четырех знаков с каббалистической записью, а тем более обсуждать верность перевода, но ритуальный характер убийства царской семьи очевиден…
Только самое страшное в этом убийстве — не каббалистические знаки, которые оставили вынырнувшие словно бы из тьмы преисподней чекисты с нерусскими именами…
Самые страшные в книге Н.А. Соколова, на мой взгляд, страницы, посвященные описанию следов, которые оставил возле Ганиной ямы главный убийца Янкель Хаимович Юровский…
6
Следователь Н.А. Соколов приводит свидетельство послушницы Антонины, которая приносила провизию для царской семьи, о том, что незадолго до цареубийства Янкель Хаимович велел ей упаковать в корзину яйца…
«Для кого, — задается вопросом Н.А. Соколов, — Юровский приготовлял 15 июля эти яйца, прося упаковать их в корзину?
Вблизи открытой шахты, где уничтожались трупы, есть маленькая лесная полянка. Только на ней имеется единственный сосновый пень, весьма удобный для сидения.
Отсюда очень удобно наблюдать, что делается у шахты.
24 мая 1919 года вблизи этого пня под прошлогодними листьями и опавшей травой я нашел яичную скорлупу.
15 июля ранним утром Юровский уже собрался на рудник и заботился о своем питании…
На этой же самой полянке, вдали от кустов и деревьев, я нашел в тот же день 24 мая под прошлогодней травой несколько листиков. Они были вырваны из книжки и запачканы человеческим калом.
Книжка эта — врачебное пособие, малого формата, карманного. На одном из листиков сохранилось и название отдела книги, из которого листики были вырваны: “Алфавитный Указатель”.
Кто-то на этой полянке удовлетворял свои потребности. Под руками не было ничего подходящего. Он вынул из кармана свою книжечку и воспользовался страницами, наименее нужными.
Знакомый практически с медициной врач не станет носить у себя в кармане пособия. Это говорит о недоучке. Таким фельдшером-недоучкой был Юровский»{252}.
Это свидетельство страшнее любой каббалистической записи…
Попробуем представить себе картину той страшной ночи.
Возле шахты чекисты обливают вначале серной кислотой, а потом керосином тела государя, царицы, царевен и цесаревича, втаскивают на костер и пытаются сжечь их. А невдалеке, на полянке, с которой удобно наблюдать, что делается у шахты, сидит на пеньке Янкель Хаимович Юровский и, не обращая внимания на сладковатый запах обугливающихся тел, расколупывает яичко.
Совершено страшнейшее преступление…
Безвинно убиты не только взрослые люди, но и дети…
Это они обгорают сейчас, превращаясь в гигантские черные головешки на разведенном чекистами костре…
Время от времени Юровский поглядывает туда, но оттуда на поляну тянет сладковатым дымом, хлопья пепла падают на руки Янкеля Хаимовича, на расколупанное яичко, и Юровский счищает их, но хлопья слишком жирные и не счищаются, липнут, размазываются серыми разводами по яичной скорлупе…
И Янкель Хаимович выпивает яйцо вместе с хлопьями пепла, а потом достает из корзинки другое яйцо, не сводя глаз с жуткого костра. В свете костра видны хлопья пепла, прилипшие к толстым, жирным губам…
Совершено величайшее преступление — убиты царь и его семья, обрублена возможность для возвращения гигантской России к мирному пути развития во главе с конституционным монархом…
Янкель Хаимович Юровский, кажется, и не думает об этом, так увлек его процесс поглощения яиц.
А потом, насытившись желтками и белками, смешанными с пеплом царской семьи, Янкель Хаимович Юровский расстегивает штаны и, не отходя от пенька, не спеша, справляет свою нужду, подтираясь листочками, вырванными из «врачебного пособия малого формата»…
Так совпало, но 27 июля 1918 года, сразу после расстрела царской семьи, СНК издал особый закон об антисемитизме, согласно которому Совет народных комиссаров объявил «антисемитское движение опасностью для дела рабочей и крестьянской революции».
Как свидетельствовал А.В. Луначарский, дополнение, предписывающее всем Совдепам «принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения», а «погромщиков и ведущих погромную агитацию» «ставить вне закона», было приписано собственноручно В.И. Лениным{253}.
Янкель Хаимович Юровский об этом законе мог узнать разве только по телефону от своего непосредственного шефа Якова Михайловича Свердлова, которому он и повез семь баулов с царскими драгоценностями после расстрела царской семьи[48].
Тем не менее этот глумливый убийца не побоялся бросить в Екатеринбурге свою мамашу — Эстер Юровскую…
И хотя в Екатеринбурге тоже ничего не знали о подписанном В.И. Лениным декрете, мамашу Эстер, разумеется, не тронули. Она благополучно дождалась возвращения убийцы-сына…
7
Так совершилось это страшное преступление — убиение святых благоверных мучеников в Екатеринбурге:
Царя мученика Николая II…
Царицы Александры…
Царевича Алексея…
Царевен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии…
Мучеников Евгения (Боткина), Иоанна (Харитонова), Анны (Демидовой).
А 18 июля, на память преподобного Сергия Радонежского, в Алапаевске чекисты сбросили в шахту великую княгиню Елизавету Федоровну, великих князей Сергея Михайловича, Игоря, Ивана и Константина Константиновичей, князя Палея, монахиню Варвару (Яковлеву).
По свидетельству очевидцев, более суток из шахты доносились молитвы и стоны умирающих.
Сейчас выпущено множество книг, посвященных царю-мученику и его семье.
Многое рассказано и об убийцах государя… Примерно, но определена степень участия каждого в совершенном преступлении…
И вина председателя президиума Уральского облсовдепа Александра Георгиевича Белобородова, которого некоторые исследователи именуют Янкелем Изидоровичем Вайсбартом. Этот в прошлом конторщик и вор-уголовник, а в будущем член ЦИКа и видный столичный чекист, приложил немало сил к организации убийства царской семьи…
И вина командующего Восточным фронтом Рейнгольда Берзина. Считается, что это он передал на Урал окончательную директиву Центра на уничтожение.
И вина члена президиума облсовдепа, военного комиссара Шаи Исааковича Голощекина, в прошлом мещанина города Невеля, а в будущем — палача Казахстана…
И вина члена президиума облсовета Пинхуса Лазаревича Вайнера, именовавшего себя Петром Лазаревичем Войковым…
И, конечно, вина знаменитого Петра Захаровича Ермакова, оспаривавшего «авторство» убийства государя у самого Янкеля Хаимовича Юровского…
Нет-нет…
Хотя бандитом Ермаков был покруче Юровского и еще до революции прославился тем, что отрезал голову полицейскому, но государя он не убивал.
«Ермаков был привлечен к убийству не для самого убийства, — отметил еще Н.А. Соколов. — Юровский имел в своем распоряжении в доме Ипатьева достаточно палачей, чтобы с ними перебить в застенке беззащитных людей.
Ермаков был привлечен дня другой цели. Для уничтожения трупов выбрали удобный рудник. Это мог сделать только человек, хорошо знающий лесные трущобы в окрестностях Екатеринбурга. Юровский не знал их, а Ермаков знал{254}.
Роль Ермакова была чисто исполнительная. На грузовом автомобиле в потоках крови поехал он на рудник в ночь на 17 июля.
На том же самом автомобиле с пустыми бочками из-под бензина возвратился он в Верх-Исетск 19 июля»…
И, конечно, немало и совершений правильно сказано о главных виновниках екатеринбургской трагедии — Якове Михайловиче Свердлове и Владимире Ильиче Ленине…
Это они принимали политическое решение об уничтожении царской семьи. И интересно, что они не поставили в известность об этом даже Л.Д. Троцкого…
Троцкий, вернувшийся с фронта, записал в своем дневнике разговор со Свердловым:
— Да, а где царь? — спросил он.
— Конечно расстрелян! — ответил Свердлов.
— А семья где?
— И семья с ним. — Вся?
— Вся. А что?
— А кто решал?
— Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя оставлять им живого знамени, особенно в наших трудных условиях…
И вроде бы все ясно, но в последнее десятилетие появилась странная мода говорить и о коллективной вине всего русского народа перед царем-мучеником. Разбирать виновность народа в целом — занятие, на наш взгляд, бесперспективное, а вот о вине конкретных групп русских людей поговорить можно.
Увы, очень мало еще вспоминают у нас о вине высшего света, дворянской аристократии, изощренно травивших государя все его правление…
Очень редко говорят и о вине генералов, командовавших фронтами, которые вынудили государя подписать отречение…
Ну а главное, совершенно ничего не говорится о вине русского офицерства, спокойно наблюдавшего, как кучка звероподобных подонков убивает государя и его семью.
«В ночь с 24 на 25 июля 1918 года наши войска под начальством, тогда полковника, Войцеховского, рассеяв Красную армию товарища латыша Берзина, заняли Екатеринбург… — пишет М.К. Дитерихс. — Сильное волнение распространилось среди офицерства, вступившего в город, когда стало известным, в каком состоянии находится дом Ипатьева, где содержалась Царская семья. Все, что только было свободным от службы и боевых нарядов, все потянулось к дому. Каждому хотелось повидать это последнее пристанище Августейшей Семьи; каждому хотелось принять самое деятельное участие в выяснении мучившего всех вопроса: где же Они?
Кто осматривал дом, взламывал некоторые заколоченные двери; кто набросился на разбор валявшихся вещей, вещиц, бумаг, обрывков бумаг; кто выгребал пепел из печей и ворошил его; кто бегал по саду, двору, заглядывал во все клети, подвалы, и каждый действовал сам за себя, не доверяя другому, опасаясь друг друга и стремясь скорее найти какие-нибудь указания — ответ на волновавший всех вопрос.
Каждый почувствовал, что здесь что-то произошло, что-то большое, мрачное и трагичное… Но что? Убили?..
Да, кровь здесь была.
Не может быть, думал почти каждый. И зверству есть предел.
Куда же делись те, которых не убили?
И перебирая бесчисленное количество простых вещей домашнего обихода, брошенные вещицы туалета, шпильки, булавки, пряжки, кнопки, крючки, ленточки, тряпки, завязки, куски чулок, корсетов, — никто не допускал, что зверство может и не иметь предела.
Кроме офицерства, в доме Ипатьева, в значительно большем количестве, набралось много разного народа. Тут были и дамы, и буржуа города, и мальчишки с улицы, и торговки с базара, и просто праздношатающийся обыватель…
Много было унесено некоторыми на память…
Военные власти города решили упорядочить и организовать дело розыска. Начальник гарнизона, генерал-майор Голицын назначил особую комиссию из состава офицеров, преимущественно курсантов Академии Генерального штаба под председательством полковника Шереховского, а дабы работа комиссии протекала при более нормальных технических условиях, в состав ее был приглашен из начавшего формироваться Екатеринбургского окружного суда судебный следователь Наметкин…
Убиты все — было внутренним чувством людей.
Убиты, но не все, — говорили те, кто не хотел верить в возможность такого ужасного злодейства, или те, кто был побуждаем особыми причинами, им одним известными.
Вот общие решения и мнения населения города Екатеринбурга в первые два-три дня по освобождении его от советской власти»{255}.
Здесь мы прерываем эту пространную цитату, поскольку высокая монархическая патетика генерала Михаила Константиновича Дитерихса не дает возможности вдуматься, что же происходило в Екатеринбурге на самом деле.
Толпы офицеров и екатеринбургских мещан праздно шатаются по дому Ипатьева и, подобно туристам, осматривают место, где совершено жутчайшее преступление…
Это, пожалуй, будет похлестче надругательства Янкеля Хаимовича Юровского у Ганиной ямы…
А если вспомнить, что командование белых частей, освободивших Екатеринбург, долго колебалось, назначать ли следствие по делу об убийстве государя, не сыграет ли это на руку контрреволюции.
Это ли не надругательство над памятью царственных мучеников?
Как пишет Н.А. Соколов, судебный следователь Наметкин, которому поначалу поручили расследование убийства царской семьи, сразу заявил, что не имеет права начинать следствие и не начнет его, пока не получит предложения от прокурора суда, каковой, естественно, в первые дни освобождения Екатеринбурга отсутствовал…
И, должно быть, утонуло бы в бесчисленных бюрократических проволочках расследование злодеяния, если бы адмирал А.В. Колчак своей властью не поручил его в феврале 1919 года судебному следователю по особо важным делам Омского окружного суда Н.А. Соколову. Только тогда и началось настоящее расследование…
Но ведь и это не самое страшное в екатеринбургской трагедии…
8
Вдумаемся в такой факт…
В Екатеринбурге, где совершилось главное преступление 1918 года, размещалось тогда самое элитное военное заведение России — Академия Генерального штаба.
Слушателями академии были отборные офицеры, имевшие и строевой, и боевой опыт. Численность их незначительно уступала гарнизону, подчиненному Уралсовдепу, который, включая и чекистские отряды, состоял из нескольких сотен недисциплинированных солдат и плохо обученных рабочих.
В принципе, офицеры Академии Генштаба могли сапогами разогнать этот сброд вместе с самим Уралсовдепом.
Если бы, конечно, захотели…
Если бы, конечно, решились на это…
Генерал М.К. Дитерихс приводит в своей книге рассказ подполковника П.К.Л.:
«В мае 1918 года я был командирован из Петрограда в Екатеринбург от монархической организации “Союз тяжелой кавалерии”, имевшей целью спасение жизни Августейшей Семьи. В Екатеринбурге я поступил в слушатели 2-го курса Академии Генерального штаба и, имея в виду осуществление вышеуказанной цели, осторожно и постепенно сошелся с некоторыми офицерами-курсантами: М-им, Я-им, С-им, П-им, С-им. Однако сделать что-либо реальное нам не пришлось, так как события совершались весьма неожиданно и быстро. За несколько дней до взятия Екатеринбурга чехами, я ушел к ним в состав офицерской роты полковника Румши и участвовал во взятии Екатеринбурга.
После этого в офицерской среде возникла мысль сделать все возможное для установления истины: действительно ли убит Государь Император»{256}.
Свидетельство потрясающее…
Подполковник П.К.Л. по командировке монархической организации поступает в Академию Генерального штаба специально для того, чтобы спасти жизнь августейшей семьи.
И что же? За два месяца он только и сделал, что успел сойтись с пятью офицерами. И только когда Екатеринбург был освобожден, у господ слушателей Академии Генерального штаба «возникла мысль сделать все возможное для установления истины: действительно ли убит Государь Император».
С такой любовью русского офицерства к своему государю Янкелю Хаимовичу Юровскому можно было справлять нужду возле расстрелянной им царской семьи, не опасаясь никакого возмездия…
Это равнодушие высшего офицерства к императору было настолько противоестественным, что вопреки здравому смыслу в Екатеринбурге упорно начали циркулировать слухи, будто раскрыта в городе какая-то тайная монархическая организация, хотя, как не без горечи отметил генерал М.К. Дитерихс, «никто из вышеназванных офицеров о ней ничего не знал, никто из них сам не пострадал и никто из них не слыхал, чтобы вообще пострадал какой-либо другой офицер в городе за попытку спасти Царскую Семью»…
Увы…
«Почти каждый из числа помышлявших о спасении или похищении Царской Семьи носил в себе свои, лично им лелеемые политические принципы, клавшиеся в основу цели спасения и дальнейшего развития государственного строительства будущей, освобожденной, России. Здесь каждый отдельный элемент организации являлся прежде всего носителем политических определенных идей и они являлись для него доминирующими над всякими другими обстоятельствами и соображениями. Раскол, существовавший в монархической партии в дореволюционный период, пройдя через стадию двух революций, настолько развился среди интеллигентного класса, что белогвардейские организации… прежде всего натыкались на затруднения в своем развитии из-за своих собственных монархических принципов»{257}.
Но это то, что касается офицерства, находившегося в Екатеринбурге.
Офицерам Академии Генерального штаба все-таки нужно было самостоятельно проявить хоть какое-то мужество, чтобы спасти государя.
Но ведь рядом с Екатеринбургом стояли части, офицерам которых для спасения царской семьи достаточно было просто провести небольшой маневр.
Напомним, что еще 26 мая чешская бригада С. Войцеховского заняла Челябинск. От Челябинска до Екатеринбурга — несколько часов езды по железной дороге.
О боеспособности формирующихся в Челябинске белогвардейских частей говорят их успехи. За июнь и июль 1918 года они взяли на юго-западном направлении от Челябинска города Кыштым, Миасс, Троицк, Верхнеуральск, Магнитогорск, Златоуст, Шадринск, на юго-восточном — Курган и Петропавловск, на северном — Нижний Тагил, Верхотурье, Надеждинск (Серов) и Богословск (Краснотурьинск).
И только обложенный с трех сторон, практически незащищенный Екатеринбург не подвергался нападению до конца июля 1918 года!
Более того…
Белая армия так и не перерезала железную дорогу на Пермь, по которой и смогли отступить большевики, когда уничтожили царскую семью.
«…Создается впечатление, — пишет Дмитрий Суворов в работе “Все против всех”, — будто белогвардейцы предлагают красным своего рода чудовищную “игру в поддавки”: мы даем вам время и шанс сделать ответный ход в отношении царской семьи; мы на вас наступаем, но не так, чтобы отрезать все концы, — нет, мы вас обкладываем, как волка флажками, но при этом ниточку Транссибирской магистрали не перерезаем: пожалуйста, драпайте, как вашей душе угодно! И царя вывозите, куда хотите! Ведь если вспомнить, что Голощекин умудрился в этой ситуации съездить в Москву за инструкциями и вернуться — вернуться в полуокруженный Екатеринбург — для того, чтобы ликвидировать семью, и отнюдь не сразу, а еще как минимум через неделю (в условиях Гражданской войны это чудовищно много). И то после телеграфного сигнала, который дал ему из Перми командующий фронтом Р. Берзин. Как понимать такие действия “рвущихся на спасение” белых? И простым совпадением фактов все сие не объяснишь»{258}.
Не объяснишь…
Как это ни страшно, но надо признать, что царь-мученик мешал не только большевикам, но генералам и офицерам, которых так ничему и не научило большевистское полугодие. Ни собственные несчастья, ни страдания, которые претерпевала Россия, не заставили их пожертвовать своими политическими пристрастиями и амбициями.
По сути дела, в июльские дни в Екатеринбурге повторилось то, что произошло в октябре в Петрограде. Там офицеры не пожелали защищать от Ленина Временное правительство, здесь — спасать государя из рук Янкеля Хаимовича Юровского.
Разгадать эту загадку русской офицерской души трудно, но без ответа на нее не понять, почему Гражданская война оказалась так жестоко проигранной Россией.
В следующей главе мы расскажем о крестьянских восстаниях, без которых невозможно представить картину лета 1918 года. То тут, то там вспыхивали тогда и рабочие волнения — летом 18-го года большевиков ненавидела уже вся Россия.
Чудовищно и непостижимо, что русские офицеры и беспорядочные, легко образующиеся и столь же легко рассеиваемые крестьянские и рабочие массы не сумели объединиться и стать силой, способной противостоять большевистскому злу.
Непостижимо…
Такого не могло быть ни в одной стране мира — только у нас. И это ли не свидетельство тому, что не случайно, вопреки прогнозам Маркса, большевики победили именно в России?
Но, наверное, потому и победили большевики, что в России даже и перед лицом гибели не сумели объединиться сословия в борьбе с общенациональным злом.
Да, реформы Александра II и Александра III открыли путь к достижению общенационального единения, но именно тогда, когда начали смешиваться сословия, когда пали непреодолимые преграды между образованным классом и народом, энергия привилегированного класса сконцентрировалась не на созидании, а на разрушении. И в этом смысле большевики—не случайность, а закономерный итог развития интернационалистической по своему воспитанию верхушки русского общества.
Увы…
Все русское образованное общество, ориентированное в результате петровских и послепетровских реформ на западную культуру, за исключением отдельных, наиболее выдающихся — здесь можно было бы назвать имена Достоевского и Менделеева, Победоносцева и Столыпина — представителей, не смогло противостоять интернационалистско-социалистической пропаганде, оказалось зараженным ее идеями. И эта страшная болезнь и сделала могучую страну беспомощной в руках ее палачей…
Как это ни прискорбно, но надо признать, что кадровое русское офицерство, сформированное в основном из внуков дворян-крепостников, так и не смогло простить обиды своих дедов, нанесенной им отменой крепостного права, ни русскому народу, ни русскому государю…
Зато, как мы знаем, испробовав большевистского кнута, это же самое русское офицерство рабски покорно служило в армии Льва Давидовича Троцкого, пока за ненадобностью оно не было стерто чекистами в лагерную пыль…
9
И все-таки и в безумном ужасе екатеринбургской трагедии видится нам духовный смысл, и в этом беспросветном мраке проступает неугасимый горний свет.
Далеко на Валдае, записывая в эти дни свои мучительные мысли о русской судьбе, замечательный русский публицист Михаил Меньшиков, кажется, эти проблески просиявшего над Екатеринбургом света и прозирал…
Вот записи, которые сделаны Михаилом Осиповичем под влиянием долетевших до валдайской глуши газетных «уток» о гибели государя.
«23 июня. Троицын день и поворот солнца на зиму… А мы еще и лета не видали. Дожди, дожди…
Встревоженное настроение. В “Молве “ настойчивые слухи об убийстве Николая II конвоировавшими красноармейцами… Жаль несчастного царя — он пал жертвой двойной бездарности — и собственной, и своего народа. Будь он, или народ, или, еще лучше, оба вместе поумнее, не было бы никакой трагедии.
В “Молве”рассказывается между прочим басня, будто Николай II был очень огорчен, узнав, что “Новое время “ переменило фронт, что М. О. Меньшиков и Пиленко сделались республиканцами.
Если это правда, то что же!
Стало быть, Николай читал мою статью “Кто кому изменил?”
В ней я доказывал, что не мы, монархисты, изменники ему, а он сам. Можно ли быть верным взаимному обязательству, которое разорвано одной стороной? Можно ли признавать царя и наследника, которые при первом намеке на свержение сами отказываются от престола? Точно престол — кресло в опере, которое можно передать желающим. Престол есть главный пост государственный, высочайшая стража у главной святыни народной — у народного величия. Царю вручена была не какая-либо иная, а национальная шапка, символ единства и могущества народа. Вручены были держава, скипетр, меч, мантия и пр. — облачение символическое носителя всенародной личности. Тот, кто с таким малодушием отказался от власти, конечно, недостоин ее.
Я действительно верил в русскую монархию, пока оставалась хоть слабая надежда на ее подъем. Но как верить в машину, сброшенную под откос и совершенно изломанную? Если, поднимая избитое тело, садишься в подъехавшую сноповую телегу, даже сноповая телега лучше разбитого вагона. Мы все республиканцы поневоле, как были монархистами поневоле. Мы нуждаемся в твердой власти, а каков ее будет титул — не все ли равно? К сожалению, все титулы у нас ложны, начиная с бумажных денег…
24 июня. 4 утра. Неужели Николай II убит? Глубинам совести народной, если остались какие-нибудь глубины, будет нелегко пережить эту кровь. Тут уж трудно будет говорить, как об Александре II, что господа убили царя. Впрочем, кто его знает — может быть, по нынешней психологии народной, чего доброго, еще гордиться будут, бахвалиться! Вот, мол, мы какие-сякие, знай-ста наших! Уж если царю башку свернули, сторонись, мать вашу так! Всех переколотим, перепотрошим! И сделают. Чего не сделает хладнокровный душегуб, сбросивший лохмотья своей смердящей цивилизации и объявивший себя откровенным зверем!
6 ч. вечера.
Наш рассыльный Новожицкий читал подтверждение ужасного слуха: несчастный царь действительно убит. Второе цареубийство за 37 лет! Боже, какая бездарная у нас, какая злосчастная страна!
Итак, родившись в день Иова многострадального, Николай претерпел столько бедствий, сколько едва ли кто из его современников — не только коронованных, но и простых пастухов. Точно чья-то грозная тень из-за гроба наклонялась над ним и душила все блистательные возможности счастья. Тень ли замученного Алексея? Тень ли Иоанна Антоновича, или Петра III, или Павла? Поневоле начинаешь быть суеверным. Между тем в самой реальности дело объясняется гораздо проще. Просто Николай II был слабый человек»…
Эти записи, удивительные по глубине и сконцентрированности русской мысли, были сделаны, когда Николай II был еще жив…
А вот записи, когда гибель государя стала не слухом, а явью…
«20 июля. Днем. “Николай II расстрелян“. Сразу пришло официальное известие. Тяжелая тоска на сердце. Зачем эта кровь? Кому она нужна? Почему же отрекшегося от престола Альфонса Португалия выпустила за границу? Почему даже Персия предоставила свергнутому шаху уехать, а у нас непременно лишили свободы и, наконец, жизни монарха, которому когда-то присягали? И так недавно! Без суда, без следствия, по приговору какой-то кучки людей, которых никто не знает…
При жизни Николая II я не чувствовал к нему никакого уважения и нередко ощущал жгучую ненависть за его непостижимо глупые, вытекавшие из упрямства и мелкого самодурства решения…
Ничтожный был человек в смысле хозяина. Но все-таки жаль несчастного, глубоко несчастного человека: более трагической фигуры “человека не на месте“ я не знаю. Он был плох, но посмотрите, какой человеческой дрянью его окружил родной народ! От Победоносцева до Гришки Распутина, все были внушители безумных, пустых идей. Все царю завязывали глаза, каждый своим платком, и немудрено, что на виду живой действительности он дошел до края пропасти и рухнул в нее…
21 июля. Тяжелый камень на сердце. От имени всего народа совершено преступление, бессмысленное, объяснимое только разве трусостью и местью. Убили человека, теперь уже совершенно безвредного, да и прежде по всемирному праву — безответственного, никому не подсудного. Убили только потому, что он оказался беззащитен среди народа, четверть столетия клявшегося ему в преданности и верности. Вот дьявольский ответ на все эти несметные ектений и гимны! То была великая мечтательная ложь, это подлая реальная правда.
Но вот еще черточка, которую должен не забыть Шекспир будущего. В том же номере еврейской газетки, где сообщается о казни Николая II, напечатано, что Вильгельм II окончил ораторию в стиле Баха»…
Не сразу и определишь, что изменилось в записях.
Кажется, еще резче стали суждения, еще беспощаднее, яростней оценки убиенного государя.
Но стоит приглядеться, и видишь, что и беспощадность, и ярость не столько к государю обращены, сколько к его окружению…
«Какой человеческой дрянью его окружил родной народ… Четверть столетия клявшегося ему в преданности и верности… Убили только потому, что он оказался беззащитен среди народа… Дьявольский ответ на все эти несметные ектений и гимны»…
И не столько даже к окружению преданного императора обращены эти упреки, сколько к самому себе:
«22 июля. Боюсь, что, окруженный мыльными пузырями, я со своей странной судьбой и сам не более как мыльный пузырь по хрупкости: все может рухнуть в мгновение ока: и служба, и дача, и семья, и жизнь моя, которая держится, может быть, на паутинной нити. Ну, что же: «благословен и тьмы приход». Когда-нибудь помирать надо. Книга моей жизни не так уже захватывающе интересна, а утомительную книгу бросают, обыкновенно не дочитав. Только с детьми жаль расставаться и страшно по их беспомощности. Ни с чем иным, ни с родиной не жаль расстаться, столь неудавшейся, ни с человечеством, до сих пор бесчеловечным. Нет, еще рано рождаться на земле для счастья. Надо подождать тысячонку-другую лет».
И вот поразительно…
Появляется новая газетная утка, только теперь уже о том, что жив расстрелянный еще до государя великий князь Михаил, и вспыхивает ожившая надежда:
«31 июля. Официально (в большев. органах) сообщается, что в. кн. Михаил. Ал. объявил себя императором. Прочел — и в груди задрожали старые монархические струны. Почувствовалось желание громко воскликнуть: да здравствует и пр. Стало быть, я больше монархист в душе, нежели республиканец, хотя искренно презирал Николая II и всех выродившихся монархов».
Но это обман…
Душой чувствует Михаил Осипович обман и сам иронизирует над собою, понимая, что путь к спасению и возрождению Родины не может быть столь легким.
Этот трудный путь обязаны пройти все русские люди, и пройти его прежде всего в собственной душе…
Читаешь дневниковые записи М.О. Меньшикова и видишь, как мучительно пробивается он к разгадке того, что происходит с русским человеком, с Россией…
«13 сентября. 12 ч. дня.
Все ужасы, которые переживает наш образованный класс, есть казнь Божия рабу ленивому и лукавому. Числились образованными, а на самом деле не имели разума, который должен вытекать из образования. Забыли, что просвещенность есть: noblesse qui oblige. He было бы ужасов, если бы все просвещенные люди в свое время поняли и осуществили великое признание разума: убеждать, приводить к истине. Древность оставила нам в наследье потомственных пропагандистов — священников, дворян. За пропаганду чего-то высокого они и имели преимущества, но преимуществами пользовались, а проповедь забросили, разучились ей. От того массы народные пошатнулись в нравственной своей культуре».
Это последняя запись в дневнике публициста М.О. Меньшикова.
На следующий день его арестовали и еще через шесть дней расстреляли на берегу Валдайского озера…
Очевидцы рассказывали, что, придя на место казни, Михаил Осипович встал лицом к Иверскому монастырю, опустился на колени и стал молиться.
Первый залп для устрашения дали сыновья комиссара Губы — одному было 15, а другому 13 лет. Однако этим выстрелом задело левую руку. Когда Меньшиков оглянулся, последовал новый залп. Стреляли в спину, и упав, Михаил Осипович конвульсивно забился об землю, судорожно схватывая ее пальцами. Тотчас же к нему подскочил чекист Давидсон и выстрелил в упор два раза в левый висок.
— Правда ли, что судят Меньшикова?.. — спросила, прибежав к штабу, М.В. Меньшикова.
В ответ она услышала взрыв грубого хохота.
— Это ученого? Это профессора в золотых очках? Да его уже давно расстреляли на берегу озера.
«Он лежал с открытыми глазами, в очках, — вспоминала М.В. Меньшикова. — Во взгляде его не было ни тени страха, только бесконечное страдание. Выражение, какое видишь на изображениях мучеников. Правая рука мужа осталась согнутой и застыла с пальцами, твердо сложенными для крестного знамения. Умирая, он осенял себя крестом».
С того места, где расстреляли Михаила Осиповича, видны кресты на соборах Иверского монастыря и городского валдайского храма.
Эти кресты, озаренные екатеринбургским сиянием, и видел в последние мгновения своей жизни русский монархист Меньшиков, сумевший прозреть в сентябре 1918 года то, что надо понять и нам, живущим в другом веке и другом тысячелетии.
Зримо и отчетливо было явлено русскому человеку в Екатеринбурге, к какому безнаказанному глумлению инородцев над Россией приводит наша любовь к собственным заблуждениям, наше нежелание отступить от своих обольщений и пристрастий…
Глава десятая.
НОВОЛАДОЖСКАЯ ВАНДЕЯ
Вплоть до настоящего времени причины Вандейского восстания еще недостаточно разъяснены… Была причина, которая одна могла поднять целые области. Это был рекрутский набор, объявленный Конвентом.
П.А. Кропоткин
Устрашение является могущественным средством политики, и надо быть лицемерным ханжой, чтоб этого не понимать. Трудно обучить массы хорошим манерам…
Л Д. Троцкий
Все события происходили смутно и невнятно, и даже само начало восстания оказалось неожиданным для его организаторов и руководителей…
1
«Соседняя с нами Хваловская волость, не имея у себя ни Совета, ни военного комиссариата, вторглась в нашу Колчановскую волость в ночь на девятнадцатое»{259}.
«С 18 на 19 августа 1918 года, когда я спал в саду, карауля вверенные мне совдепом яблони, часа в два ночи в садовничий домик вошло двое вооруженных револьверами людей, разбудили меня и рассказали, что началось восстание против большевиков, что восстали уже все уезды, кроме нашей Колчановской волости.
Один из восставших был мой школьный товарищ из Хваловской волости Александр Матвеев, а другого, как я узнал, звали Григорием Верховским…
Мы вышли на дорогу, и вскоре к нам подъехали трое верховых, из деревни Ежева… Через несколько минут показался и главнокомандующий Хваловской волостью Григорий Александрович Цветков, который отстал, разыскивая потерянный им револьвер.
Цветков объяснил мне, что в Гостиннополье стоит сорок вагонов с вооруженными крестьянами Новгородской губернии под командой полковника, а также из Новгорода к Ладоге идет три баржи с войсками на помощь нам. Званка уже занята восставшими, и красноармейцы переходят на их сторону»{260}.
Это не цитаты из набросков к платоновскому «Чевенгуру», это протоколы допросов в ЧК участников первого при советской власти крестьянского восстания.
Смутной и невнятной была та ночь в Новоладожском уезде.
Толпы вооруженных чем попало крестьян бродили в августовской тьме от одного села к другому, бранились, пересказывали, чтобы приободриться, разные слухи и следили, зорко следили, как бы кто не остался в стороне, не отсиделся дома.
Семен Иванович Кравцов, агроном, сын бывшего управляющего имением «Лемон», тот самый, что спал в саду, «карауля вверенные совдепом яблони», так описывал эту ночь:
«Я пришел в Хамантово, думая прежде всего посмотреть на настроение крестьянства. Там увидел связанного комиссара Павлова, которого кое-кто уже начинал бить. Особенно неистовствовал дедка Караванный (Михаил Степанович. — Н.К.), который уже замахнулся доской над головой Павлова. Я удержал его и попросил возбужденных крестьян успокоиться, а Павлова посадить пока в амбар. Так и сделали.
Тем временем подошли крестьяне Натовского края. Мне хотелось устроить собрание, предварительно обсудивши вопросы о выступлении и создавшемся положении, но общее возбуждение, сутолока и сумятица не представляли к этому никакой возможности. Переехали на другой берег и там двинулись к чайной прапорщика Шипуло»{261}.
Из чайной, стоящей в удалении от берега реки Сясь, уже выводили избитого хозяина и его брата — делопроизводителя местного военного комиссариата. Несколько хваловских мужиков под командой Евгения Григорьева конвоировали их.
Павел Шипуло, помогавший несколько дней назад производить «мобилизацию» крестьянских лошадей, любовью у колчановцев не пользовался. Увидев его, толпа глухо зашумела.
— А ведь надо бы убить Павлушку… — сказал Григорьеву один из мужиков.
— Нет… — подумав, ответил тот. — Он — арестованный. Нельзя никак убить. Не приказано.
— А если побить? — почесав затылок, спросил мужик. — Побить-то можно?
— Отчего же не побить? — ответил Григорьев. — Про это приказу нет. Побейте немножко.
«Началась, — как показал на допросе Семен Иванович Кравцов, — отвратительная сцена».
Сам он в это время сновал в толпе и уговаривал пройти в школу и провести там общее собрание, но его никто не слушал. Так получилось, что большинство комитетчиков, отличившихся при реквизиции лошадей, жило на этом берегу Сяси, и мужики пустились на их поиски.
Наконец Кравцов увидел в толпе Якова Ермолаева, бывшего прапорщика. Тот внимательно наблюдал за происходящим.
— Яков Васильевич! — бросился к нему Кравцов. — Ты видишь, что происходит?! Это же восстание!
— Не надо было торопиться лошадей отбирать. Наши комиссары отличиться решили, вот и получили свое…
— Но это же восстание! Надо что-то делать!
— На станцию сходить надо… — ответил Ермолаев. — Узнать, что там, в Званке, делается. Если такое только у вас — пропадем.
Как видно из показаний, Яков Васильевич Ермолаев отличался серьезностью и осмотрительностью. Опасения его подтвердились. Ни о каких «сорока вагонах» вооруженных крестьян, ни о каких баржах с войсками, «движущихся на подмогу», здесь не слышали. В Званке и Новой Ладоге никакого восстания не было.
«Мы вернулись назад. По дороге все время говорили о создавшемся положении и пришли к выводу, что из восстания ничего толкового не выйдет, скорее всего, это ловушка, и все это нужно прекратить»{262}.
Мы процитировали показания С.И. Кравцова, но похоже, что благоразумие исходило только от Я.В. Ермолаева, действительно ясно видевшего всю бесперспективность затеи. Умом Кравцов, наверное, тоже соглашался с ним, но… Ему так хотелось, чтобы восстание началось!
2
Тут, по-видимому, нужно рассказать о Семене Ивановиче Кравцове подробнее.
Он вырос в семье управляющего имением «Лемон». Получил приличное образование, стал агрономом. Работал в Мышкинском уезде Ярославской губернии. Здесь и вступил в партию эсеров.
В Колчаново Кравцов вернулся в апреле 1918 года. Его отец ослеп, и Семен Иванович приехал «спасать семью от голодной смерти». Возможно, заботы о хлебе насущном и заставили Кравцова отойти от партийной деятельности, но в эту ночь 19 августа, когда его разбудили в саду вооруженные хваловские крестьяне, прежние эсеровские мечтания вновь вспыхнули в нем.
Благоразумия хватило Кравцову только на дорогу со станции. В чайной прапорщика Шипуло он позабыл о мудрых советах Ермолаева. Да и как было не позабыть, если здесь кипела столь любезная эсеру народная стихия: говорили о притеснениях большевиков, об арестах, писали приказы, посылали людей поднимать соседние волости, а на улице, перед чайной, волновалась все прибывающая и прибывающая толпа.
Наступал звездный час Кравцова.
«Я страшно волновался. Я смотрел на взбунтовавшийся народ и думал, куда он пойдет, во что выльется это восстание, кто приберет к рукам эту темную массу и как бы не использовали ее господа-помещики, один из которых — Пименов — стоял на балконе и любовался оттуда начавшимся восстанием. Боялся я и англичан, которые были так близко и которые несли с собой кадетскую программу. (Выделено нами. — Н.К.) Всего этого было довольно, чтобы, когда меня попросили быть председателем собрания, я, не колеблясь, ответил согласием»{263}.
Открывая собрание, Семен Иванович сказал речь.
Он говорил о том, что необходимо прежде всего понять, за что и против кого надо бороться. Во всяком случае, не против советской власти, которая ничего, кроме пользы, не принесла крестьянам.
Нет! Бороться нужно против партийной власти, которая поднимает народ на кровавую борьбу, чтобы остановить «строительство жизни России».
— И поэтому! — все более возбуждаясь, выкрикивал Кравцов. — Мы должны поставить своей целью защиту нового Учредительного собрания! Мы должны потребовать, чтобы были назначены выборы в него!
Он говорил долго и, как ему казалось, просто и доходчиво.
И, увлекшись, не замечал уже, что крестьяне перестали слушать его, разговаривали между собой, совсем не обращая внимания на оратора. Те же, кто слушал, слышали в речи только свое, совсем не то, что хотел сказать Кравцов.
«Семен Кравцов, — рассказывал на допросе в ЧК его тезка, сапожник Козлов, — призывал организоваться и сформировать боевую дружину, чтобы дать отпор красноармейцам. Еще он говорил об Учредительном собрании. Он много чего говорил, и всего я упомнить не могу»{264}.
«Когда говорили Кравцов и Гамазин, которые призывали организоваться, вооружаться, — вторит ему крестьянин Василий Космачев, — я был и слушал. Когда говорил Баранов, я пошел пить чай, так что не знаю, чего еще говорили и долго ли»{265} …
Как признавался сам Семен Иванович, крестьян совсем не тронули его опасения насчет англичан, «которые несли кадетскую программу». Не слишком заинтересовали крестьян и перевыборы в Учредительное собрание.
«Несмотря на все мои усилия обсудить этот вопрос и вызвать других ораторов на трибуну — сделать этого не удалось. Кое-кто говорил из толпы отдельные фразы, но слишком приподнятое настроение мешало хладнокровному обсуждению вопроса. Он был уже предрешен. Рассуждать никто не хотел, и по отдельным выкрикам я понял, что толпа, не рассуждая, просто пойдет по пути разрушения»{266} …
Понятно, что камера в Новоладожском домзаке — не лучшее место для сочинения мемуаров, но все-таки читаешь эти показания и видишь, что не столько даже чекистам, сколько самому себе снова пытается и не может объяснить Семен Иванович случившееся. Да и как объяснишь, если, не вняв его речам, «толпа» пошла «по пути разрушения», совершила роковую, по мнению Кравцова, ошибку — не выбрала его своим руководителем.
«Дальше произошли перевыборы исполкома. Председателем был избран без всякого обсуждения Иван Колчин, товарищем — Семен Гамазин, секретарем — Сергей Востряков. Затем приняли хваловский план организации дружины и избрали военный комитет в составе трех лиц. Председатель — Яков Ермолаев, товарищами — Сергей Большее и Петр Завихонов. На этом я хотел закончить собрание, но тут раздались крики: “Давай главное! Комиссаров надо порешить!”
Видя сильное возбуждение, мне хотелось замять этот вопрос, но мужики с налитыми кровью глазами требовали решить его немедленно. Поставили вопрос на баллотировку. (Выделено нами. — Н.К.). Единогласно постановили последнее. Сразу посыпались предложения. Одни предлагали расстрелять арестованных в присутствии схода, другие — поручить расстрел военному комитету, третьи — отправить арестованных на Спасовщину. Последнее предложение после упорной борьбы и было наконец принято»{267} …
Собрание шло бурно. В огромной толпе то и дело вспыхивали потасовки. Где-то посредине собрания прискакал верховой и объявил, что со стороны Лодейного Поля идет поезд с красноармейцами.
«Без рассуждения, даже без баллотировки, — сокрушался в ЧК С.И. Кравцов, — было принято постановление немедленно разобрать путь, и для этого было выделено пятьдесят человек».
Заодно побили железнодорожника, оказавшегося на свою беду в толпе. Побили, видимо, как сообщника надвигающихся красноармейцев. Наконец собрание закончилось.
Народ стал расходиться.
Все оборонительные мероприятия осуществляли согласно решению общего собрания — разобрали железнодорожные пути, опрокинули телеграфные и телефонные столбы и таким вот образом как бы отделились от всей страны с ее большевистской властью.
3
Новый военком Колчановской волости Яков Васильевич Ермолаев категорически отказывался от выдвижения его на столь высокий пост…
«Наши мужики собрались на волостную сходку, председателем которой был избран Семен Иванович Кравцов, сын бывшего управляющего имения “Лемон”. Последний агитировал за Учредительное собрание и призывал к неподчинению и свержению Советской власти. По его предложению состоялись перевыборы военного комиссара, причем выбор пал на меня, по-видимому, потому что я — военный и бывший прапорщик, более умелый, чем другие. Однако это избрание мне не понравилось, я категорически отказывался, тем не менее выборы состоялись, мне пришлось быть военным комиссаром, “халифом на час”»…
Но, хотя Яков Васильевич Ермолаев и чувствовал себя «калифом на час», поступил он по-кутузовски мудро, оспаривать выборов не стал, власть показывать тоже поостерегся, просто предложил военкомовцам пойти в чайную и выпить.
Что ж…
Как это объявил на Военном совете М.И. Кутузов? Полки расставлены, завтра сражение, говорить больше не о чем, надо пойти и поспать.
Так и тут… Все, что можно было сделать для общего поражения, колчановские крестьяне сделали. Сами изолировали себя от всего мира, а организовать их для сопротивления регулярным войсковым частям все равно не представлялось возможным, и значит, следовало просто скоротать за выпивкой ожидание расправы.
Так и поступили.
Семен Иванович Кравцов, политическая карьера которого, перевалив через зенит, сразу и закатилась, тоже направился в чайную, чтобы посмотреть, как будет проходить заседание.
Заседали хорошо.
Где-то посреди застолья зашел в чайную Иван Степанович Чекунов и потребовал, чтобы комитет дал ему удостоверение о героической деятельности хваловского отряда.
— Н-надо дать… — тяжело мотнув головой, произнес товарищ военкома Семен Гэмазин. — Хорошие люди.
— П-пишите… — согласился и сам Яков Васильевич. Тут же и сочинили требуемую бумагу. Нетвердой рукой Петр За-вихонов написал о героях-хваловцах, написанное заверили волостной печатью, а растроганного Ивана Степановича Чекунова усадили за стол.
Выпив несколько чарок, Чекунов снова принялся врать о подмоге, которая якобы спешит в Новоладожский уезд из Новгородской губернии, а потом, наклонившись к Якову Васильевичу Ермолаеву, громким шепотом сообщил, что и с деньгами все в порядке. Компания дровопромышленников дает на восстание шесть тысяч, а еще три тысячи обещают Пименовы.
Услышав об этом, трезвый, но сильно обеспокоенный возможностью попасть под влияние англичан с их кадетской программой Семен Иванович Кравцов заерзал на стуле, однако, как он потом сам сказал, «к чести комитета на это сообщение он ответил молчанием».
Тут надо сказать, что слово «к чести» Семен Иванович, может быть, и напрасно вставил. Скорее уж нужно было похвалить опять-таки рассудительность Якова Васильевича Ермолаева.
По ценам августа 1918 года девяти тысяч вполне могло хватить на хорошую выпивку… Но сегодня все равно пили бесплатно, а завтра — Яков Васильевич, даже будучи пьяным, не забывал этого! — всем предстояло ожидать в ЧК расстрела… Поэтому-то никакого интереса предложение о грядущей финансовой помощи и не вызвало.
Молча Яков Васильевич наполнил чашки комитетчиков — заседание военного комитета восставшей волости продолжалось.
Ходу его не помешали даже пришедшие из деревни Реброво крестьяне.
Говорить с ними отправили Семена Ивановича Кравцова, как единственно трезвого. Семен Иванович вкратце повторил свою речь об опасности сближения с англичанами, несущими кадетскую программу, о необходимости выдвинуть требование новых выборов в Учредительное собрание…
Ребровские мужики почесали в затылках и пошли восвояси, пообещав прислать приговор сходки.
Пошел домой и Семен Иванович Кравцов.
4
Так проходил мятеж в Колчановской волости.
Примерно так же развивался он в Гостинопольской, Староладожской, Михайловской, Усадьбище-Спасской и Хваловской волостях.
Толпами бродили крестьяне по округе, перерубали телефонные провода, разбирали железнодорожные пути, ловили и избивали комиссаров и конечно зорко следили, как бы кто не отсиделся в своей избе. Таких тоже колотили и побитыми волокли на сходку.
Стремление повязать всех круговой порукой было, кажется, единственной ясно осознаваемой задачей восстания.
«Вот что я видел… — рассказывал на допросе в ЧК студент Федор Коньков, застигнутый восстанием на рыбалке. — Прежде всего крестьяне Песоцкой волости, направляясь на сборный пункт в Новую Ладогу, остановились в нашем селе и решили по примеру других волостей не соглашаться на поголовную мобилизацию лошадей и вернуться домой. Затем, семнадцатого августа, мимо нашего дома проходили толпы частью вооруженных винтовками и топорами крестьян… Это было страшно бестолковое, стихийное движение»{268}.
Студента Федора Федоровича Конькова забрали в ЧК вместе с его старшими братьями: 19-летним фельдшером Василием Федоровичем и 25-летним учителем Иваном Федоровичем. Постановлением ЧК они были приговорены к расстрелу как организаторы восстания, хотя они были силой вовлечены в него и сами не понимали, в чем заключается его смысл.
«Я был занят рыболовством и снят под угрозой расстрела. Так как я и мои братья — не крестьяне, нами помыкали и велели делать то, что приказывают. По распоряжению поселкового комитета наша семья дежурила в карауле, а я лично под давлением крестьян принужден был делать вид, что рублю телефонные провода»{269}.
С братьями Коньковыми все понятно, они и молоды были еще, и собственных хозяйств не имели, но ведь и сами крестьяне, которые поднимали восстание, тоже не понимали, что происходит.
«Я был в деревне Свинкино на собрании Михайловской, Спасской, Песоцкой волостей. Там были вооруженные крестьяне, шли слухи о повальных реквизициях. Никакого решения собрание не приняло: одни советовали идти на соединение с другими волостями, другие хотели ожидать Красную армию на месте», — показывал на допросе крестьянин Алексей Соцкий.
То есть крестьяне понимали, конечно, что защищают собственное, потом и кровью нажитое добро, но они не понимали, как им бунтовать, чтобы добиться толку.
Жутковатое ощущение испытываешь, читая показания крестьянина Ивана Петровича Бородовского из деревни Юшко-во. Строки бегут по листу, сильно наклоняясь вниз, и кажется, будто не на исписанный лист смотришь, а на прорезанное глубокими бороздами поле…
«Восстание у нас произошло из-за мобилизации лошадей, потому что мобилизовали поголовно всех лошадей, но так как крестьянину нельзя жить без лошади, то мы и пошли в Новую Ладогу с Иссадской волости расспросить, почему делают всеобщую мобилизацию, а не то, чтобы брать только у тех, у которых по две-три лошади»{270}.
Не совсем ясно, на это ли беспомощное в своей бестолковости крестьянское восстание и рассчитывал военный комиссар Новоладожского уезда П.В. Якобсон, отдавая приказ ограбить подчистую крестьян, но точно известно, что никаких распоряжений о приостановке всеобщей мобилизации, которые бы сразу успокоили уезд, не последовало.
Зато как только появились признаки недовольства крестьян, были приняты самые спешные меры. Привели в боевую готовность размещенные в Новой Ладоге красноармейские части, а председателя уездного ревкома А.Н. Евдокимова срочно командировали в Петроград за подмогой.
«Удостоверение.
Дано товарищу Евдокимову (коммунисту), члену уездного Исполкома, посылаемому в Смольный к тов. Зиновьеву, Урицкому, Позерну в спешном порядке ввиду важности военного времени и ввиду осадного положения Новоладожского уезда.
К Зиновьеву, Позерну, Урицкому пропускать лично.
Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией
в Новоладожском уезде.
18 августа 1918 г. П. Якобсон,
ст. Званка И. Заваров,
Н. Сальников»{271}.
Товарищи Зиновьев, Урицкий и Позерн на просьбу откликнулись незамедлительно. Назад в уезд товарищ Евдокимов возвратился вместе с отрядом «Беспощадный», который и принялся за расправу над восставшими крестьянами.
Люди поопытнее догадывались, что этим и кончится дело, и старались держаться подальше…
«К вечеру дня начала движения я спал, — рассказывал начальник гостинопольской судоходной дистанции Андрей Сергеевич Трегубов. — Меня разбудили, сказав, что требуют в канцелярию. Войдя туда, я увидел человек десять мне неизвестных, вооруженных крестьян, которые с руганью заявили мне, чтобы я не смел подходить к телефону, находящемуся в канцелярии. На мой вопрос: “Для какой цели занимают телефон? был ответ: “Много не разговаривай, а то разделаемся!” После этого потребовали сдать оружие. Я заявил, что такового у меня нет, так как, какое было, уже сдал по приказанию в совдеп”.
Когда я вернулся домой, жена попросила меня не выходить на улицу, но на другой день меня снова вызвали в канцелярию и приказали ехать на собрание в Свинкино.
Там вооруженные крестьяне потребовали, чтобы я шел с ними в железнодорожную контору и выяснил, что говорят по телефону у меня в канцелярии.
Я попросил соединить меня с гостинопольской железнодорожной конторой и спросил, что от меня требовали крестьяне. Мне ответили: “Со Званки выступают красноармейцы для разгона толпы”. Я сообщил это крестьянам и попросил их разойтись по домам. Но крестьяне возбужденно начали кричать: “На собрание! По порядку — выборы председателя и секретаря!” — и вся толпа хлынула на площадь.
Я остался один и, воспользовавшись этим, сел в лодку и поехал домой»{272}.
Забегая вперед, скажем, что от ответственности за «участие» в крестьянском восстании Андрею Сергеевичу Трегубову уплыть все равно не удалось.
6 сентября 1918 года вместе с Константином Ивановым, как «бывший офицер и ненадежный в политическом отношении», он был отправлен чекистами в Кронштадт. Там его погрузили вместе с другими офицерами на баржу и потопили в Финском заливе.
5 Восстание в Колчановской волости закончилось так же неожиданно, как и началось. Поздно вечером, когда стало известно, что на станцию — не помешали им и разобранные пути! — пришли вагоны с красноармейцами, срочно был собран новый сход.
Посовещавшись, колчановцы решили беспорядки прекратить и идти с повинной. Депутатами выбрали Николая Зайцева, Паршина и протрезвевшего к тому времени Петра Завихонова. Остальные комитетчики вместе с молодыми ребятами, которым не хотелось идти в Красную армию, решили скрыться.
Но пока шел сход, красноармейцы подошли к селу и принялись обстреливать его шрапнелью[49].
«Когда раздались шрапнельные выстрелы, — сообщал в своих показаниях СИ. Кравцов, — всеми овладела паника. Начали разбегаться. Я также пошел домой, а оттуда в лес. Думал идти в Спасскую волость, но наутро узнал, что туда никто из наших не пошел, а знакомых там у меня не было. Тогда, думая еще посмотреть и понаблюдать, я отправился в Хваловскую волость и поселился в деревне Льзя у Александра Матвеева»{273}.
Так было в Колчаново, так было и в других селах.
«Когда красноармейцы стали по нам стрелять, я бросил винтовку и пошел домой, — рассказывал Иван Петрович Бородовский из деревни Юшково, — а утром, 19 августа, пришли за мной комиссар и несколько красноармейцев. Они начали стучать, и мать открыла им. Они спросили, где я. А я в это время спал на чердаке. Когда я спустился, комиссар сразу ударил меня, а когда я перегнулся от удара, ударил револьвером по голове и проломил голову. Только после этого меня отправили в Новоладожскую тюрьму»{274}.
Новоладожский домзак, стоящий на левом берегу канала имени Петра Великого, в эти дни открывал новую страницу своей истории. Еще никогда прежде уездная земская тюрьма (когда-то в ней сидел М.И. Калинин) не видела столько арестантов.
Охрану тюрьмы несли бойцы из отряда «Беспощадный», и условия содержания были самыми ужасными. Голод, наступающий на Приладожье, коснулся прежде всего обитателей этого заведения. Температура камер не поднималась выше двенадцати градусов. Ежедневно умирал кто-либо из заключенных.
Дольше всего восстание тлело в Хваловской волости…
Семен Иванович Кравцов, бежавший сюда, чтобы «еще посмотреть и понаблюдать», так описывает его:
«Целую неделю прожил я в деревне Льзя, и чем больше жил, тем больше удивлялся. Мне казалось, что господам-заправилам, вроде братьев Цветковых и Чекуновых или Матвеева и других, стало скучно. И вот для собственного развлечения они, найдя себе сотоварищей, затеяли игру в солдатики. Назначили “главковерха” Григория Цветкова, сельских руководителей — его помощников, и каждому из них дали по отряду. Отряды несли караульную службу, делали набеги, производились смотры. Всем, а особенно главарям, было весело и занятно. О том, что из этого выйдет, куда приведет эта веселая игра, мало кто думал. Когда я указывал на это главковерху и руководителям, надо мной смеялись… Наконец через неделю… прибыли красноармейцы, и все руководители разбежались. Дружинники с Матвеевым поселились в лесу. Мне некуда было деваться, и я совершенно не знал, что делать с собою. Идти и отдаваться в руки властей я боялся, последовать за вожаками к чехословакам, куда направились они, я не мог в силу своих убеждений…
Через несколько дней в лесу ко мне присоединилось еще четверо повстанцев. Мы сделали шалашик и стали жить верстах в трех от реки между Льзями и Хваловым. Другая, большая партия, часть которой с Чекуновым и Цветковым уехала потом в Вологду, жила дальше, возле Сырецкого. Пищу нам приносили женщины в установленные места, но я туда не ходил, ибо ходили всегда свои, хваловские.
Много пришлось за это время передумать и вспомнить. Пока я жил в Льзях, мне приходилось как зрителю присутствовать на нескольких сельских собраниях. И там я видел то же, что и в Колчаново, — темноту непроглядную и бессознательность полную.
Три пункта вызывали недовольство крестьян:
1. Берут лошадей.
2. Не дают хлеба.
3. Возьмут народ.
Но первое было только недоразумением.
Второе зависело только от самих крестьян. Видя у себя под боком запасы хлеба у богатых соседей, они позволяли продавать его по четыреста рублей.
И третье — мобилизация солдат — была бы и при другом правительстве, может, еще худшая.
Значит, все эти пункты недовольства происходили от бессознательности народа. А мы, трудовая крестьянская интеллигенция, играли на этой темноте. Позор — но уже поздно»{275}.
6
К судьбе Семена Ивановича Кравцова и других участников восстания мы еще вернемся, а пока скажем о том, что крестьянское восстание в Новой Ладоге было одним из первых крупных восстаний, но отнюдь не единственным.
Летом 1918 года крестьянские волнения отмечались фактически по всей территории России. По сводкам Наркомвнудела, в июле 1918-го было всего 26 крестьянских выступлений{276}.
Бунтовали не только крестьяне… И не только крестьян и рабочих безжалостно уничтожали большевики.
Мы уже говорили, что В.И. Ленин не собирался передоверять рабочим дело диктатуры пролетариата. От имени рабочих эту диктатуру осуществлял класс местечковых управленцев, в спешном порядке создаваемый большевиками. Русское чиновничество и русская интеллигенция должны были уступить им место.
Считается, что красный террор начинается после покушения на В.И. Ленина и убийства М.С. Урицкого.
Это не совсем верно.
Как писал в автобиографии Семен Семенович Лобов: «Меня… послали в ЧК проводить это. (Выделено нами. — Н.К.). Я пришел и провел, в одну ночь около трех тысяч арестовали и разрядили атмосферу»{277}.
Это — зачистка Невского проспекта.
Единственное, в чем бы мы поправили тут Семена Семеновича, это в неумеренном выпячивании своего «я». Конечно, заслуг Семена Семеновича никто не отрицает, но все же документы Петроградской ЧК за лето 1918 года неумолимо свидетельствуют, что многочисленные ордера на арест «всех подозрительных лиц на Невском проспекте» были подписаны М.С. Урицким…
А вот с цифрой в три тысячи следует согласиться. Тут преувеличения, как можно судить по косвенным свидетельствам документов Петроградской ЧК, нет…
О судьбе этих трех тысяч можно только догадываться.
Напомним, что 19 августа 1918 года председатель Совета комиссаров Союза коммун Северной области Г.Е. Зиновьев, военный комиссар Б.П. Позерн и комиссар внутренних дел М.С. Урицкий подписали декрет о «немедленном расстреле» лиц, занимающихся контрреволюционной деятельностью.
21 августа, как мы уже говорили, в «Петроградской правде» был опубликован список расстрелянных, в котором перечислены 24 фамилии. 18 из них проходили по другим массовым арестам, и где остальные 2994 человека, можно только гадать.
Не выпустили же их чекисты назад, на свободу!
Ведь Семен Семенович ясно говорит, что когда он провел это, то атмосфера в городе разрядилась.
С.П. Мельгунов в своем исследовании приводит ссылку на английского военного священника, который сообщал лорду Керзону, что «в последних числах августа две барки, наполненные офицерами, потоплены и трупы их были выброшены в имении одного из моих друзей, расположенном на Финском заливе; многие были связаны по двое и по трое колючей проволокой».
«Что же, это неверное сообщение? — задается вопросом С.П. Мельгунов. — Но об этом факте многие знают и в Петрограде, и в Москве. Мы увидим из другого источника, что и в последующее время большевистская власть прибегала к таким варварским способам потопления врагов»{278}.
Возможно, что почти три тысячи пропавших петербуржцев на этих барках и находились.
Одновременно с этим, производя разгрузку городов, большевики очищали Москву и Петроград от наиболее активной и сознательной части пролетариата.
Первый урок рабочим был дан еще в мае, в Колпино, где большевики расстреляли голодных рабочих. Об этом тогда, поражаясь жестокости расправы, писали все оппозиционные газеты.
После убийства Моисея Марковича Володарского и событий 6 июля многие газеты оказались закрытыми, и об уроках, данных большевиками восставшим крестьянам и рабочим, не сообщалось нигде. Да большевики и не могли допустить, чтобы об этом писали в газетах.
Крестьян же некуда было разгрузить, и поскольку крестьянское движение против большевистских порядков становилось массовым, разгружать крестьянство решено было прямо на тот свет.
Когда 29 июля в печати появился декрет об учете всего способного к военной службе населения в возрасте от 18 до 40 лет, Л.Д. Троцкий, проявляя чудеса организаторского таланта и еще большей жестокости, довел к середине сентября численность Красной армии до 400 тысяч человек.
В ответ на это в августе 1918 года произошло более восьмидесяти «кулацких» восстаний.
В Пермской губернии, например, в восстаниях принимало участие до 40 тысяч крестьян. Восстания подавлялись с чрезвычайной жестокостью.
Интересно, что восстание в селе Сепыч Оханского уезда началось одновременно с Новоладожской Вандеей — 18 августа 1918 года. И причиной его стала та же самая мобилизация в Красную армию.
«ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ГРАЖДАН ГРИГОРЬЕВСКОЙ ВОЛОСТИ
17 августа 1918 года
(В собрании участвовало 1500 человек в присутствии комиссара по мобилизации)
1) Обсуждался вопрос о мобилизации солдат с нескольких годов. Единогласно постановили: мобилизовывать солдат для ведения войны внутри страны не согласны, но кто желает поступить добровольно, может.
К сему добавляем, что в случае всеобщей мобилизации требуем в первую очередь призывать тех, которые скрывались в бывшую войну с Германией на заводах, на железной дороге, но, однако, опять же не на партийную войну.
2) Единогласно постановили: лошадей, скот и хлеб для Красной Армии не давать, поступившие в Красную Армию должны приобрести все за свой счет.
3) Для связи с соседним восстанием избираем гражданина Дудина С.Ф.
Председатель Онянов
Секретарь Мезенцев»{279}.
Нетрудно заметить, что хотя и имеются некоторые отличия требований граждан Григорьевской волости от требований граждан-крестьян Новоладожского уезда, но в основном они совпадают, как совпадает и само неприятие развязанной В.И. Лениным и Л.Д. Троцким Гражданской войны.
Руководили восстанием в Григорьевской волости крестьяне Василий Иванович Мальцев и Александр Филатович Селиванов. Крестьяне собрали дружину и, напав на продотряд, обезоружили его, заняли помещения Совета, телефон и почту.
День был воскресный. Имевшиеся в селе красногвардейцы были распущены по домам, члены сельсовета находились кто дома, кто в гостях. Выступление крестьян застало их врасплох.
Большая часть сторонников большевиков в селе была выловлена и арестована. Арестованных содержали в подвалах и, как и большевистских наместников в Колчаново и Хлыново, их систематически избивали.
Впрочем, жестокости — отчасти это объяснялось присутствием в Григорьевской волости продотряда — здесь было гораздо больше. Членам Совдепа и красноармейцам отрубали руки и ноги, выкалывали глаза, отрезали уши, носы и живыми закапывали в могилы или сжигали на кострах.
Отчасти жестокость объяснялась стремлением повязать крестьянский мир кровью, но задачи этой достигнуть не удалось. Когда была перехвачена телеграмма, что на подавление восстания движется батальон Красной армии с артиллерийской батареей и пулеметами, было проведено новое собрание селян, на котором переизбрали выдвинутых повстанцами представителей местной власти. Потом освободили арестованных совдеповцев, а активных участников восстания арестовали.
Их и выдали вошедшему в Сепыч карательному отряду.
Чекисты долго избивали их прикладами, а когда притомились, расстреляли.
«Следственная комиссия вынесла несколько постановлений о расстреле 83 человек, главных виновников и участников восстания, приговоры приведены в исполнение тут же на месте»{280}, — докладывал начальству член Оханской ЧК Воробцов.
На само село была наложена контрибуция в 50 000 рублей.
7
Говоря о жестокости, с которой большевики расправлялись с восставшими крестьянами, не получается ограничиться перечислением одних только фамилий расстрелянных…
Десятки женщин и детей помимо самих повстанцев гибло под шрапнельным огнем большевистской артиллерии.
Но это тоже еще не все жертвы…
Несколько лет назад я отправился в Волховский район, включающий в себя прежний Новоладожский уезд, чтобы своими глазами увидеть места, где разворачивались события Новоладожской Вандеи.
И, конечно, хотелось разыскать родственников тех людей, голоса которых услышал, перелистывая пожелтевшие страницы протоколов допросов 1918 года.
И как-то странно совпадало все. Сохранилось и Колчаново, и Хвалово. И даже прежнее понятие «волость» сменило ставшие привычными сельсоветы. И разговоры здешних жителей, их настроение тоже как-то неуловимо совпадали с теми, что владели жителями Новоладожского уезда в августе 18-го.
— Душа щемит, выщемливает, столько народу уходит… — рассказывал мне бывший директор бывшего совхоза. — Всего 1480 жителей в Хваловской волости осталось, а еще три года назад две тысячи только взрослых было…
— Уехали? — спросил я. — В Питер, небось?
— Может, и в Питер… Только не в ваш…
— А в какой?!
— Есть у нас тут свой Питер… На кладбище… И только одно не сходилось…
Напрасно я колесил по Хваловской и Колчановской волостям в поисках потомков участников Новоладожской Вандеи — Петра Завихонова, Сергея Большева, Ивана Бородовского, Михаила Мелескина, братьев Чекуновых, Семена Кравцова, Ивана Колчина, Сергея Вострякова, Семена Гамазина…
— Нет, не слышали про таких… — качали головами мои собеседники. — Цветковы? Цветковы есть, но они приезжие…
Это, конечно, огорчало. Обидно было, что срывается такой превосходный замысел: от прадедов к правнукам, через судьбы нескольких поколений перекинуть мостик из той эпохи в нашу.
И, может быть, из-за этой досады не сразу и сообразил я, что ведь совсем не случайно исчезли эти фамилии из здешних волостей. Дела участников крестьянского восстания долгое время хранились в местном НКВД, и, должно быть, не раз возвращались следователи к роковым спискам в поисках недостающих врагов народа.
Да и местные комбеды, составляя списки на раскулачивание и выселение, тоже небось не забывали о страшном пятне, легшем на эти семьи.
Нет-нет…
Я не собираюсь утверждать, будто все эти Чекуновы, Колчины, Востряковы были репрессированы и высланы. Несомненно, что многие родственники участников Новоладожской Вандеи не стали дожидаться страшной участи и, снявшись с насиженных мест, подались на стройку…
Но ведь, по сути дела, это ничего не меняет.
Для своих деревень они исчезли, стерлись из памяти, как и те, кто был выслан на поселения, в лагеря… И об этой казни, уготованной всем их семьям, вряд ли догадывались ожидающие расстрела узники Новоладожского домзака в 1918 году.
Страшным было это открытие, и, конечно, ради него и стоило приехать сюда, невозможно было додуматься до этого, сидя в питерской квартире. Только, разумеется, уже не о мостике между эпохами следовало теперь говорить, а о пропасти, разверзшейся на пути русского народа в первые десятилетия советской власти.
8
10 августа 1918 года. В.И. Ленин — наркомпроду Цюрупе:
«В каждой хлебной волости назначить 25—30 заложников из богачей, отвечающих жизнью за сбор и ссыпку хлеба… Инструкция назначить заложников дается комитетам бедноты, всем продотрядам».
14 августа. В.И. Ленин — в Пензу, Минкину.
«Получил на Вас две жалобы. Первую, что Вы обнаруживаете мягкость при подавлении кулаков. Если это верно, то Вы совершаете великое преступление против революции…»
17 августа. В.И. Ленин — в Задонск, Болдыреву.
«Действуйте самым решительным образом против кулаков и левоэсеровской сволочи. Необходимо беспощадное подавление кулаков-кровопийцев».
19 августа. В.И. Ленин — в Здоровец Орловской губернии, Бурову.
«Необходимо соединить беспощадное подавление кулацко-левоэсеровского восстания с конфискацией всего хлеба у кулаков и с образцовой очисткой излишков хлеба полностью».
20 августа. В.И. Ленин — в Ливны, исполкому.
«Проведите энергичное подавление кулаков и белогвардейцев в уезде. Необходимо ковать железо пока горячо, и, не упуская ни минуты, конфисковать весь хлеб и все имущество у восставших кулаков, повесить зачинщиков…»
24 августа. В.И. Ленин — в Вятку. Шлихтеру.
«Вы остались в Вятке в главном для энергичнейших продовольственных операций в связи с успешно идущим подавлением кулацких восстаний к югу от Вятки в целях беспощадного истребления кулаков и конфискации у них всего хлеба».
29 августа. В.И. Ленин — в Петровск, Карпову:
«Составить поволостные списки богатейших крестьян, отвечающих жизнью за правильный ход работ по снабжению хлебом голодающих столиц».
Эти телеграммы зачеркивают малейшие надежды русских крестьян на лучшую долю. И, может быть, поэтому, когда читаешь бесхитростные показания рядовых участников крестьянских восстаний, начинает щемить сердце.
Все они были, в общем-то, хорошими, смелыми, честными и работящими людьми. К беспорядкам их подтолкнуло отчаяние. Но, подняв восстание, они сразу преобразились, их словно подменили всех. Недоверчиво смотрел сосед на соседа, как бы не увильнул тот, не убежал, не спрятался, не отсиделся дома. Стремление повязать всех круговой порукой участия в беспорядках сразу же, с первых часов, заслонило подлинную цель восстания — оказать давление на власти, чтобы те отменили свои губительные для крестьян мобилизации.
И конечно восстание провалилось. Взаимная настороженность как бы подтачивала движение изнутри, не позволяла ему проявиться в реальной силе.
Восстание конечно провалилось бы и без этого. Не было у крестьян ни руководителя, способного повести за собой их, ни единого, ясно осознаваемого плана.
Ну а «трудовая крестьянская интеллигенция», о которой любил поговорить Семен Иванович Кравцов и которая и могла, и должна была создать идеологическое обеспечение восстания, миссии своей не выполнила.
Даже напротив…
Судя по действиям того же Семена Ивановича Кравцова, она все сделала, чтобы восстание провалилось.
Из его собственных показаний видно, что его роль в восстании была не столько организующей, сколько дезорганизующей. Ведь это именно своими рассуждениями об англичанах, несущих кадетскую программу, о выборах в Учредительное собрание сумел Кравцов заговорить колчановскую сходку и говорил до тех пор, пока крестьяне сами не почувствовали, что и это восстание — не их восстание, и энтузиазм у них начал падать…
Сам Семен Иванович Кравцов даже на шестой месяц сидения в Новоладожском домзаке так и не понял этого. Не сумел понять, что, получив возможность идейно возглавить восстание, возможностью этой не воспользовался. И в тюрьме — это очень русская черта в его характере! — он даже и не пытался проанализировать собственные просчеты, а как-то сразу и окончательно объяснил причины неудачи восстания темнотой крестьян и их несознательностью.
9
«Приговор Новоладожской ЧК о расстреле Семена Ивановича Кравцова утвердить, исполнение приговора возложить на Новоладожскую ЧК, за которой числится Кравцов и содержится
там же»'.
Под этим постановлением дата — 23 января 1919 года.
И вот — такое редко бывало у чекистов, но наступило лето, а Семен Иванович был жив.
«Я не могу быть врагом своего народа, — писал 11 июня 1919 года все еще числящийся за Новоладожским исправительным домом подследственный Семен Иванович Кравцов, — не могу быть врагом революции и социализма уже по одному тому, что сам вышел из крестьянской среды и являюсь единственной опорой и кормильцем семьи недавно умершего слепого отца, состоящей из четырех детей и матери, оставшейся без всяких средств, ибо все, кончая одеждой, распродано за последний год. Ради нее и детей, воспитать которых может лишь социалистическое государство, я не могу быть против того, что происходит сейчас. Я пролетарий в буквальном смысле этого слова уже только по своему материальному и классовому положению»{281}.
Оно, конечно, и верно.
Кравцов вырос в этих краях. Получив специальность агронома, сделался сельским интеллигентом с эсеровским уклоном. В родное село он вернулся в роковые годы перелома всей русской жизни.
У него были свои взгляды, как должно переустроить мужицкую жизнь. И хотя попал Кравцов во враги советской власти, взгляды его не очень-то отличались от большевистских.
Провокационный приказ П.В. Якобсона о поголовной мобилизации крестьянских лошадей Кравцов называет «недоразумением» — кстати сказать, за это недоразумение, оплаченное сотнями человеческих жизней, товарищ Якобсон не получил даже служебного взыскания.
Совершенно искренне не понимал Кравцов, почему это крестьяне покупают хлеб у богатеев, вместо того чтобы просто отобрать его. Совершенно искренне Кравцов считал, что идти против советской власти крестьянам не нужно.
Кравцов готов простить большевикам всё…
Но эта готовность принять большевистские порядки, все эти доказательства «родства» ничего не значили для чекистов. Разгадку столь гуманного отношения их к Семену Ивановичу надо искать в другом…
Ожидая расстрела, Семен Иванович Кравцов давал чекистам обширнейшие показания, называя все новые и новые имена участников восстания. Назвать Кравцова «стукачом» не поворачивается язык, но очевидно, что фамилии многих участников восстания чекисты узнали именно от Кравцова.
Не понимать, что произойдет с упоминаемыми им людьми, Семен Иванович, конечно, не мог.
Но он как бы не придавал этому значения.
Он напряженно думал в тюрьме. Собственные раздумья заслоняли для него судьбы конкретных людей. Собственные мысли казались ему более существенными и важными, нежели жизни товарищей по восстанию.
«Германская революция, — писал потом начальник Новоладожской ЧК Т.Е. Быстрое, — произвела на него (Кравцова. — Н.К.) столь сильное моральное воздействие, что он попросил меня о скорейшем окончании его дела и расстреле его. И, между прочим, говорил он, что можно грубо ошибиться в ходе политического развития, как сделал это он. И если бы снова оказался свободным, то положил бы все силы на строительство рабоче-крестьянской Революции и, обратившись к своим единомышленникам, показал бы, как грубо они ошибаются, выступая против Советской власти»{282} …
Судьба других участников восстания была решена скорее.
Многие погибли при столкновении с красноармейскими частями. Особенно отличился в расправе с крестьянами присланный Зиновьевым и Урицким батальон «Беспощадный».
Многие участники восстания бежали в Вологду, где уже начало развертываться белогвардейское движение, многие были схвачены, или умерли от голода в Новоладожском домзаке, или были расстреляны.
Более счастливой оказалась участь той группы приговоренных к расстрелу повстанцев, которую отправили для исполнения приговора в Петроград.
Продержав этих осужденных два месяца в тюрьме, коллегия ПЧК вынесла такое определение:
«Ввиду того, что с момента вынесения приговора прошло много времени и за двухмесячный срок настроение крестьянства изменилось, ЧК постановила:
1. Федора Федоровича Конькова,
2. Ивана Федоровича Конькова,
3. Василия Федоровича Конькова,
4. Ивана Петровича Бородовского,
5. Ивана Андреевича Колчина,
6. Якова Васильевича Ермолаева,
7. Константина Николаевича Иванова,
8. Василия Семеновича Семенова,
9. Петра Ивановича Сергеева,
10. Федора Степановича Маланыша,
11. Михаила Васильевича Мелескина,
12. Матвея Семеновича Яшина,
13. Андрея Сергеевича Трегубова,
14. Алексея Соцкого,
15. Федора Галанина,
16. Василия Алексеевича Анухина
отправить на бессрочные окопные работы в Вологду»{283}.
И, разумеется, это изменение приговора можно было бы счесть вполне гуманным, если бы не одно обстоятельство…
Именно в Вологду бежали многие участники восстания, чтобы воевать там против большевиков…
И в этом свете «Определение ПЧК» приобретает символический и зловещий оттенок. Бывшие односельчане по решению коллегии должны были встретиться теперь по разные стороны линии фронта.
Но это, собственно, и называлось гражданской войной, которая к началу 1919 года стараниями большевиков охватила уже всю Россию…
Глава одиннадцатая.
ОН УБИВАЛ, СЛОВНО ПИСАЛ СТИХОТВОРЕНИЕ
Тихо от ветра, тоски напустившего,
Плачет, нахмурившись, даль.
Точно им всем безо времени сгибшего
Бедного юношу жаль.
Леонид Каннегисер
Кольцо врагов сжимает нас все сильнее и сильнее, приближаясь к сердцу.
Ф.Э. Дзержинский
Не так уж и много насчитается в истории выстрелов, которые бы пустили столько крови, как выстрелы, что прогремели 30 сентября 1918 года.
Первый из них грянул в Петрограде…
Пять лет спустя после этого убийства Марк Алданов написал очерк, где тщательно зафиксировал все подробности события, которые ему удалось выяснить…
«16 (29) августа (накануне убийства Урицкого) он пришел домой, как всегда, под вечер. После обеда он предложил сестре почитать ей вслух, — у них это было в обычае. До этого они читали одну из книг Шницлера, и она еще не была кончена. Но на этот раз у него было припасено другое: недавно приобретенное у букиниста французское многотомное издание “Графа Монте-Кристо”. Несмотря на протесты, он стал читать из середины. Случайность или так он подобрал страницы? Это была глава о политическом убийстве, которое совершил в молодости старый бонапартист, дед одной из героинь знаменитого романа…
Он читал с увлечением до полуночи. Затем простился с сестрой. Ей суждено было еще раз увидеть его издали, из окна ее камеры на Гороховой: его вели под конвоем на допрос.
Ночевал он, как всегда, вне дома. Но рано утром снова пришел на квартиру родителей пить чай. Часов в девять он постучал в комнату отца, который был нездоров и не работал. Несмотря на неподходящий ранний час, он предложил сыграть в шахматы. Отец согласился, — он ни в чем не отказывал сыну.
По-видимому, с исходом этой партии Леонид Каннегисер связывал что-то другое: успех своего дела? Удачу бегства? За час до убийства молодой человек играл напряженно и очень старался выиграть. Партию он проиграл, и это чрезвычайно взволновало его. Огорченный своим успехом, отец предложил вторую партию. Юноша посмотрел на часы и отказался.
Он простился с отцом (они более никогда не видели друг друга) и поспешно вышел из комнаты. На нем была спортивная кожаная тужурка военного образца, которую он носил юнкером и в которой я часто его видел. Выйдя из дому, он сел на велосипед и поехал по направлению к площади Зимнего дворца»…{284}
Здесь мы прерываем цитату из очерка «Убийство Урицкого», поскольку далее Марк Алданов описывает событие по слухам, а у нас есть возможность привести свидетельства очевидцев.
Однако прежде чем перейти к рассказу о событии, произошедшем в вестибюле дома № 6 на Дворцовой площади, где размещался Комиссариат внутренних дел Северной коммуны, отметим, что Алданов хорошо знал Леонида Каннегисера и любил его. И понятно, что он, может быть и неосознанно, несколько романтизировал своего героя:
«Он всей природой своей был на редкость талантлив. Судьба поставила его в очень благоприятные условия. Сын знаменитого инженера, имеющего европейское имя, он родился в богатстве, вырос в культурнейшей обстановке, в доме, в котором бывал весь Петербург. В гостиной его родителей царские министры встречались с Германом Лопатиным, изломанные молодые поэты со старыми заслуженными генералами[50]. Этот баловень судьбы, получивший от нее блестящие дарования, красивую наружность, благородный характер, был несчастнейшим из людей».
Алданов тщательно отбирает факты и не то чтобы идеализирует, а как бы поэтизирует отношения в семье Каннегисеров. И, повторяю, это по-человечески очень понятно. Для Алданова — Каннегисеры не были посторонними людьми…
Но вот что странно…
Вчитываешься в протоколы допросов, снятых сотрудниками ПЧК с очевидцев убийства, и вдруг явственно начинаешь ощущать какую-то особую торжественность, даже некий поэтический ритм в рассказах о происшествии этих весьма далеких от поэзии людей.
«Убийца высокого роста. Бритый. Курил папироску и одну руку держал в кармане. Пришел приблизительно в десять часов утра. Молча сел у окна и ни с кем не разговаривал. Молчал»{285}.
«Урицкий направился на лестницу к лифту, я открывал ему дверь. В этот момент раздался выстрел. Урицкий упал, женщина закричала, а я растерялся. Потом я выскочил на улицу — преступник ехал на велосипеде»{286}.
И в рассказе Евгении Львовны Комарницкой слова тоже выстраиваются, как будто она пересказывает только что прочитанное стихотворение: «Я видела молодого человека, сидящего за столиком и смотревшего в окно. Одет он был в кожаной тужурке, фуражке со значком, в ботинках с обмотками»{287} …
Но, по-видимому, так все и было…
Леонид Каннегисер убивал Моисея Соломоновича Урицкого, как будто писал свое самое главное стихотворение…
Вошел в вестибюль полукруглого дворца Росси, молча сел у окна и закурил папиросу.
Красивый, высокий, подтянутый…
Когда хлопнула входная дверь, затушил папиросу и встал, продолжая держать руку в кармане куртки.
Кабинет Урицкого находился на третьем этаже, и Моисей Соломонович, переваливаясь с боку на бок, заковылял к лифту.
Этих мгновений хватило, чтобы выхватить револьвер.
Урицкого Каннегисер убил с первого выстрела — наповал.
Повернулся и вышел из вестибюля.
Хладнокровно сел на велосипед и поехал по Миллионной улице…
В этом пленительно-страшном произведении не было ни лишних слов, ни суетливых движений, ни невнятных пауз.
Впрочем, иначе и не могло быть.
Такие произведения пишутся сразу и всегда набело…
1
Марк Алданов писал о нем: «Я с ним познакомился в доме его родителей на Саперном переулке и там часто его встречал. Он захаживал иногда и ко мне. Я не мог не видеть того, что было трагического в его натуре. Но террориста ничто в нем не предвещало»{288}.
Вывод, надо сказать, несколько странный, потому что тут же Алданов говорит, что летом 1918 года Леонид Каннегисер ходил «вооруженный с головы до ног» и «предполагал взорвать Смольный институт»…
Возможно, Алданову все это казалось игрой, как и отчаянно-красивые стихи Леонида:
Хотя ведь и тут не все только лишь для красоты… Керенский, например…
Есть свидетельства, что летом 1917 года Леонид Каннегисер некоторое время работал личным секретарем Александра Федоровича Керенского, а потом включился в организационную партийную работу[51]. И, возможно, именно это и обмануло наблюдательного Алданова — у террориста не может быть успешной чиновничьей карьеры.
Но, хотя карьера Леонида и устраивалась самым блестящим образом, читая его дневниковые записи, мы видим, что и тогда мысли молодого поэта занимала не политика, а терроризм, в котором он искал нечто большее, чем можно найти в убийстве по политическим мотивам.
«18 мая в день моего отъезда из Петрограда вечер был теплый, воздух — мягкий. Я приехал на трамвае к Варшавскому вокзалу и соскочил на мосту, что через Обводный канал. За Балтийским вокзалом догорала поздняя заря, где свет тускло поблескивал в стеклах Варшавской гостиницы. Я знаю: двенадцать лет назад в этих стеклах на миг отразилась другая заря, вспыхнувшая нежданно, погасшая мгновенно. Тогда от блеска не выдержали стекла Кирилловской гостиницы. Очевидец рассказывал, что они рассыпались жалобно, почти плаксиво. Если они жалели кого-нибудь, то кого из двух лежащих на мостовой? Мертвого министра или раненого студента? Да, здесь Сазонов убил Плеве»{289} …
Слова Каннегисера о заре, «вспыхнувшей нежданно, погасшей мгновенно», стоит запомнить. В либеральных кругах считалось, что министр внутренних дел В.К. Плеве поощряет еврейские погромы, и убийство его было знаковым событием. «Ситуация, создавшаяся в результате смерти Плеве, породила огромный энтузиазм и небывалое возбуждение», — писал будущий начальник Леонида Каннегисера — А.Ф. Керенский.
Уже в тюремной камере, ожидая неизбежного расстрела, Каннегисер вспомнит о заре, отразившейся в окнах варшавской гостиницы, и попытается составить нечто напоминающее завещание — текст, в котором попробует раскрыться, объяснить подлинные мотивы своего поступка. Здесь, на этом торопливо исписанном вдоль и поперек листке бумаги, снова будет говориться о сиянии света:
«Человеческому сердцу не нужно счастья, ему нужно сияние. Если бы знали мои близкие, какое сияние заполняет сейчас душу мою, они бы блаженствовали, а не проливали слезы. В этой жизни, где так трудно к чему-нибудь привязаться по-настоящему, на всю глубину, — есть одно, к чему стоит стремиться, — сияние от божественного. Оно не дается даром никому, — но в каких страданиях мечется душа, возжаждавшая Бога, и на какие только муки не способна она, чтобы утолить эту жажду!
И теперь все — за мною, все — позади, тоска, гнет, скитания, неустроенность. Господь, как нежданный подарок, послал мне силы на подвиг, подвиг совершен — и в душе моей сияет неугасимая божественная лампада…
Большего я от жизни не хотел, к большему я не стремился.
Все мои прежние земные привязанности и мимолетные радости кажутся мне ребячеством — и даже настоящее горе моих близких, их отчаяние, их безутешное страдание — тонет для меня в сиянии божественного света, разлитом во мне и вокруг меня». (Подчеркнуто и выделено нами. — Н.К.){290}.
О побочных мотивах убийства Леонидом Иоакимовичем Каннегисером Моисея Соломоновича Урицкого мы еще будем говорить, сейчас же, на основании только что процитированного «завещания», выскажем предположение, что Каннегисер остановил свой выбор на кандидатуре Моисея Соломоновича, руководствуясь прежде всего требованиями драматургического жанра.
Действительно…
Трудно было найти в Петрограде более омерзительное существо, чем всесильный шеф Петроградской ЧК. И никто другой не способен был так эффектно оттенить благородство и красоту душевных помыслов террориста… Если прибавить к этому исключительную трудность и опасность замысла, то достигается идеальная жанровая чистота.
Прекрасный, отважный юноша-поэт и уродливый мерзавец, запугавший своими расправами весь город…
Эстетика против антиэстетики…
Это ли не апофеоз терроризма?
И неземным гулом судьбы наполнялись хотя и красивые, но, в общем-то, ученические стихи:
Но, разумеется, подобная версия не могла устроить ни чекистов, ни Каннегисеров. И чекисты, и родные Леонида искали другой, более приемлемый мотив и не могли найти…
2
Хотя Каннегисер и утверждал, что убийство Урицкого совершено им «по собственному побуждению», но продумано и спланировано оно было так тщательно, будто его готовила целая организация.
Изумляет и хладнокровие Леонида.
Он не собирался попадать в руки чекистов. В ходе следствия удалось выяснить, что вечером Каннегисер должен был отправиться в Одессу на поезде, место на котором выхлопотал ему отец.
Выяснилась и другая любопытная деталь.
Именно в тот момент, когда Леонид мчался на велосипеде по Миллионной улице, навстречу двигался вооруженный браунингом Юлий Иосифович Лепа, бухгалтер из отцовской конторы{291}.
Другая сотрудница — секретарша Иоакима Самуиловича Каннегисера — Гальдергарда Иоанновна Раудлер тоже почему-то именно в это время появилась возле Певческого моста{292}.
Разумеется, это может быть и совпадением, но, как принято у работников спецслужб и террористов, совпадения больше двух совпадениями уже не считаются.
Впрочем, для самого Леонида это было уже не важно, поскольку оторваться от погони ему, несмотря на все хладнокровие, так и не удалось…
«Часов в одиннадцать раздалась команда: “Караул, в ружье!”, что мы тотчас же исполнили и увидели, что лежит труп тов. Урицкого…
Мы сейчас же сели в поданный автомобиль и поехали догонять убийцу. Доехали до набережной, где наша машина почему-то встала…
Мы тотчас же выскочили и побежали цепком по Миллионной улице… Когда я стал в его стрелять из винтовки, то убийца свернул в ворота дома 17 по Миллионной и после, соскочив с велосипеда, бросил его у ворот, а сам побежал по лестнице наверх»{293} …
Это показания Викентия Францевича Сингайло, охранника, которому принадлежит сомнительная честь задержания Каннегисера.
До запланированного места Леонид просто не успел доехать…
Как свидетельствовал Алексей Викторович Андрушкевич из 3-го Псковского полка: «Солдат дал выстрел по велосипедисту. Велосипедист свалился с велосипеда, захромал и бросился во двор»{294}.
Произошло это недалеко от Мраморного дворца, возле дома № 17 по левой стороне Миллионной, где располагался Английский клуб…
Момент падения с велосипеда, а главное панику, охватившую его, Леонид Каннегисер переживал потом мучительно и долго. Уже оказавшись в тюрьме, более всего он стыдился этой растерянности, страха, которому позволил восторжествовать над собой.
Не помня себя, он позвонил в первую попавшуюся квартиру, умоляя спрятать его. Когда его не пустили, бросился к другой квартире, где дверь была приоткрыта, оттолкнул горничную и, ворвавшись в комнату, схватил с вешалки пальто, а потом, натягивая его поверх тужурки, снова выбежал на лестницу. Но с улицы уже заходили в подъезд солдаты, и, выстрелив в них, Леонид бросился по лестнице наверх.
В панике и растерянности, охватившей Леонида, ничего удивительного нет.
Он не был профессиональным убийцей.
Нервы его были напряжены уже и в вестибюле дворца Росси, а что говорить, когда, свалившись с велосипеда, он понял, что рушится разработанный план побега и через минуту-две он окажется в руках солдат-охранников.
Столь подробно останавливаюсь я на этом эпизоде только для того, чтобы показать, какой изумительной силой воли обладал этот юноша. Ведь, вбежав по лестнице наверх, отрезанный ворвавшимися в парадное охранниками, он все же сумел взять себя в руки и еще раз продемонстрировать завидную выдержку.
Впрочем, лучше, если об этом расскажет непосредственный участник событий, охранник Викентий Францевич Сингайло.
«Мы сделали из моей шинели чучело и поставили его на подъемную машину и подняли вверх, думая, чтобы убийца расстрелял скорее патроны… Но когда лифт был спущен обратно, моей шинели и чучела уже не было там. В это же время по лестнице спускался человек, который говорил, что убийца поднялся выше. Я заметил, что шинель на человеке моя, и, дав ему поравняться со мною, схватил его сзади за руки, а находившиеся тут же мои товарищи помогли»{295} …
Увы…
Уйти Леониду не удалось, но какое поразительное хладнокровие и бесстрашие нужно иметь, чтобы за короткие мгновения побороть растерянность, тут же оценить ситуацию, вытащить из лифта чучело, натянуть на себя шинель и спокойно спуститься вниз…
Безусловно, герою романа Александра Дюма, который накануне читал Леонид, проскользнуть бы удалось.
Это ведь оттуда и авантюрность, и маскарад…
Другое дело, что охранник Сингайло никак не вписывался в поэтику «Графа Монте-Кристо». Человек по-латышски практичный, он сразу узнал родную шинель и конечно же не дал ей скрыться в романтической дымке…
«Беря револьвер, — объясняя, почему он присвоил себе вещи арестованного, каялся потом Сингайло, — я не думал, что, беря его, я этим совершаю преступление. Я думал, что все, что было нами найдено, принадлежит нам, то есть, кому что досталось… Один товарищ взял велосипед, другой — кожаную куртку».
Леонид Каннегисер не потерял самообладания, даже когда охранники принялись избивать его.
Он не кричал от боли, лишь презрительно улыбался. Может быть, усмехался своим стихам:
Может быть…
Из рук охранников Леонида освободили прибывшие к дому № 17 чекисты.
На допросах Каннегисер держался мужественно и очень хладнокровно.
Коротко рассказав, как он убил Урицкого, на все прочие вопросы отвечать отказался, заявив: «К какой партии я принадлежу, я назвать отказываюсь»{296}.
Он уже окончательно успокоился и первое, что сделал, когда ему дали бумагу, написал письмо.
Не отцу, не учителю, не другу, не матери, не сестре, не любимой…
Письмо было адресовано князю Петру Левановичу Меликову, в квартире которого Леонид схватил пальто.
«На допросе я узнал, что хозяин квартиры, в которой я был, — арестован.
Этим письмом я обращаюсь к Вам, к хозяину этой квартиры, ни имени, ни фамилии Вашей не зная до сих пор, с горячей просьбой простить то преступное легкомыслие, с которым я бросился в Вашу квартиру. Откровенно признаюсь, что в эту минуту я действовал под влиянием скверного чувства самосохранения, и поэтому мысль об опасности, возникающей из-за меня, для совершенно незнакомых мне людей каким-то чудом не пришла мне в голову.
Воспоминание об этом заставляет меня краснеть и угнетает меня…
Леонид Каннегисер»{297}.
Я не хочу сказать, что Каннегисера не волновала судьба незнакомого ему человека, которого из-за него забрали в ЧК, но все же цель письма не только в том, чтобы (Петра Левановича Меликова, кстати сказать, расстреляли) облегчить участь невинного.
Нет!
Письмо это — попытка стереть некрасивое пятнышко нескольких мгновений малодушия, которое нечаянно проступило на безукоризненно исполненном подвиге…
Написав письмо, Леонид тут же — не зря накануне убийства читал он «Графа Монте-Кристо» — принялся разрабатывать план собственного побега.
Было ему двадцать два года…
3
Еще задолго до убийства Леонид Каннегисер записал в своем дневнике:
«Я не ставлю себе целей внешних. Мне безразлично, быть ли римским папой или чистильщиком сапог в Калькутте, — я не связываю с этими положениями определенных душевных состояний, — но единая моя цель — вывести душу мою к дивному просветлению, к сладости неизъяснимой. Через религию или через ересь — не знаю»{298}.
Теперь цель эта была достигнута, и Леонид ощущал себя по-настоящему счастливым. Возможно, это был единственный счастливый арестант на Гороховой, 2.
В это трудно поверить, но об этом свидетельствуют все записки, отправленные Каннегисером из тюрьмы:
«Отцу. Умаляю не падать духам. Я совершенна спокоен. Читаю газеты и радуюсь. Постарайтесь переживать все за меня, а не за себя и будете счастливы»{299}.
«Матери. Я бодр и вполне спокоен. Читаю газеты и радуюсь. Был бы вполне счастлив, если бы не мысль о вас. А вы крепитесь»{300}.
Коротенькие эти записочки дорогого стоят — так много, гораздо более, нежели пространные рассуждения, говорят они о Леониде. Что-то есть в этих записках от убийственной точности движений Каннегисера во дворце Росси.
И прежде всего эта точность проявилась в стилистике.
В записках нет ни одного незначащего слова, а фраза: «Постарайтесь переживать все за меня, а не за себя и будете счастливы» — нагружена таким большим смыслом, что на первый взгляд выглядит опиской.
И дело здесь не только в литературном таланте Каннегисера, а прежде всего в той беспощадной откровенности, которую может себе позволить человек, уже перешагнувший за грань обыденного существования.
Конечно же отношения с отцом у Леонида не были простыми.
Иоаким Самуилович Каннегисер был сыном старшего ординатора военного госпиталя, статского советника Самуила Хаимовича Каннегисера, получившего за долгую беспорочную службу потомственное дворянство. Произошло это еще в 1884 году, задолго до рождения сыновей Иоакима Самуиловича — Леонида и Сергея.
Они оба родились уже дворянами.
Эта подробность родовой истории — чрезвычайно существенна для понимания отношений между отцом и сыном.
Иоаким Самуилович хотя и не знал нужды и получил прекрасное образование (он действительно был крупным инженером и удачливым предпринимателем, возглавившим вначале Николаевский судостроительный завод, а потом правление акционерного общества «Металлизатор» в Петербурге{301}), но все, чего достиг в жизни, достиг своим трудом, своей предприимчивостью, своим умением применяться, приспосабливаться к окружающему.
Ни Сергею, ни Леониду приспосабливаться не требовалось.
От рождения они принадлежали к самому привилегированному классу.
Если добавить, что семья Каннегисеров не изменила иудейскому вероисповеданию, то получается, что и в еврейском обществе она занимала тоже весьма высокое положение.
Так что слова Марка Алданова об «очень благоприятных условиях», в которых вырос Каннегисер, — не просто слова, а реальный факт.
Другое дело, что счастливыми от этого ни Сергей, ни Леонид не стали.
По свидетельству Н.Г. Блюменфельд, знавшей Каннегисеров по Одессе, Сергей «важничал, смотрел на всех сверху вниз».
Леонид, которого в семье и среди друзей звали Левой, «любил эпатировать добропорядочных буржуа, ошарашивать презрением к их морали, не скрывал, например, что он — гомосексуалист».
Братья, как отмечает Н.Г. Блюменфельд, с культурностью, начитанностью, были «эстеты, изломанные, с кривляниями и вывертами, с какой-то червоточиной».
Воспоминания Н.Г. Блюменфельд{302} — чрезвычайно интересное свидетельство, хотя они и не лишены некоторой провинциальной пристрастности и завистливости к богатым столичным родственникам.
Но пристрастность ни в коем случае не опровергает наблюдений и выводов Н.Г. Блюменфельд об изломанности молодых Каннегисеров.
И ничего удивительного в этих кривляньях и вывертах нет. Соединение стихий потомственного русского дворянства и чистокровного иудаизма только на бумаге происходит легко, а в действительности способно порождать, как мы знаем по литературе, и более чудовищные гибриды.
Сергей Каннегисер был студентом университета и депутатом Петросовета, женился на одесской красавице Наташе Цесарской, и вот 7 марта 1918 года он пришел домой и, как рассказал на допросе отец, «разряжая револьвер, случайно застрелился, то есть ранил себя в бок и через два дня умер».
В Одессе распространился слух, будто Сергей был в списках осведомителей полиции. Боялся, что про это узнают.
«Оказывается, Сережа, заигрывая с революционным подпольем, в то же время доносил на революционеров — кажется, главным образом, на эсеров. Денег ему не требовалось, богатые родители ничего не жалели для детей. Думаю, что при своей испорченной натуре он просто находил удовольствие в такой двойной игре»…
Впрочем, как рассказывала все та же Н.Г. Блюменфельд, в Одессе ходили слухи и о том, что «Сережа Каннегисер такой же гомосексуалист, как его брат, а красавицу Наташу Цесарскую взял в жены “для вывески”»…
И вот всего через полгода пришла очередь говорить о Леониде.
«В Одессе, — вспоминает Н.Г. Блюменфельд, — все ахнули.
Мальчишка, далекий от всякой политики, элегантный эстетствующий сноб, поэт не без способностей, что его могло на это толкнуть? Кто-то его настроил?
Не Савинков ли? Существовала версия, что Лева считал своим долгом в глазах лидеров эсеровской партии искупить преступление брата, спасти честь семьи.
Старики Каннегисеры пустили, говорят, в ход все свои связи, но тщетно. Держался их сын, по слухам, до последней минуты спокойно и твердо.
Лева с тростью денди, с похабщиной на сардонически изогнутых губах — и террор… Лева — и политическое убийство… Неужели так далеко могли завести кривляние, привычка к позе?»
Но, повторим, так рассуждали в Одессе…
«Когда мы прибыли устраивать засаду на Саперный переулок, — рассказывал Ф.А. Захаров, — мать (Розалия Эдуардовна Каннегисер. — Н.К.) очень волновалась и все спрашивала нас, где Леонид, что с ним будет. Рассказывала, что одного сына уже потеряла из-за рабочих и свободы, а второй тоже борется за свободу, и она не знает, что с ним будет»{303}.
Слова эти произнесены в минуту отчаяния.
На мгновение Розалия Эдуардовна потеряла контроль над собой, и в ее речи, дамы петербургского света, явственно зазвучали одесские интонации. Так строили свои фразы героини рассказов Исаака Бабеля и одесские родственницы Каннегисеров[52]… Но всю глубину отчаяния Розалии Эдуардовне еще только предстояло постигнуть.
К сожалению, в деле сохранились не все протоколы допросов Розалии Эдуардовны, и поэтому нам придется ограничиться пересказом, сделанным следователем Э.М. Отто.
«Особое внимание обратил на себя допрос матери Каннегисера, который был произведен Геллером в присутствии Рикса, Отто и Антипова.
Геллер, успокоив мать Каннегисера, когда это более или менее удалось, когда она уже успела рассказать, что потеряла второго сына, стал ей говорить, что, как она видит, он, Геллер, по национальности еврей, и как таковой хочет с ней побеседовать по душе. Расспрашивал он, как она воспитывала Леню, в каком духе? И получил ответ, что она сама принадлежит к секте строго верующей и в таковом же духе воспитывала сына»{304} …
Геллеру, как отмечает Э.М. Отго, «ловким разговором» удалось довести Розалию Эдуардовну до полного отчаяния и, защищая сына, она начала лепетать, дескать, Леонид мог убить товарища Урицкого, потому что «последний ушел от еврейства»{305}.
Эти подробности интересны не только для характеристики самой Розалии Эдуардовны, но и для прояснения всей ситуации.
Геллер ведь так и строил «ловкий разговор»…
Он говорил, что убийство еврея евреем противоречит нормам иудейской морали. Потому-то, защищая сына, и вынуждена была Розалия Эдуардовна обвинить покойного Моисея Соломоновича в отходе от еврейства. Ничего другого, способного извинить ее еврейского сына, она придумать не могла.
Снова и снова повторяла Розалия Эдуардовна, что «…мы принадлежим к еврейской нации и к страданиям еврейского народа мы, то есть наша семья, не относимся индифферентно».
Но насчет Моисея Соломоновича Розалия Эдуардовна, безусловно, ошибалась.
Да… Так получилось, что Моисей Соломонович Урицкий действительно исполнял летом 1918 года все погромные обязанности главного петроградского черносотенца…
Так вышло, что это он инспирировал организацию «Каморры народной расправы», это его люди завалили «министра болтовни» Моисея Марковича Володарского, это он посадил под видом черносотенца еврея-выкреста Филиппова, работавшего тайным агентом Дзержинского, это он подвел под расстрел вместе с безвинными курсантами Михайловского училища еврея Владимира Борисовича Перельцвейга…
И все-таки мы должны тут заступиться за Моисея Соломоновича и засвидетельствовать, что делал все это Урицкий исключительно по широте своей чекистской души, а не потому, что куда-то ушел от еврейства.
Уйти от Ленина, Троцкого, Зиновьева и Дзержинского могла Розалия Эдуардовна Каннегисер, но никак не Моисей Соломонович…
Не только Розалия Эдуардовна мучилась вопросом, почему ее еврейский сын убил еврея Урицкого…
Об этом стонала в те дни вся большевистская пресса.
Николай Бухарин, например, свою статью так и назвал: «Ленин — Каплан, Урицкий — Каннегисер»{306}:
«Тов. Урицкий, четверть века стоявший на своем посту, как бессменный часовой, известный пролетариату по меньшей мере четырех стран, знающий чуть не все европейские языки, имеющий семилетнюю тюрьму и закаливший свои нервы, как сталь…
А с другой стороны — юнкер, бегущий после убийства пролетарского вождя под сень английской торговой палаты, человечек, заявляющий, что он — “еврей, но из дворян”, — прямо типичная фигура, про которую “глас божий” говорил когда-то “учись — студентом будешь, не научишься — офицером будешь”. Боящийся своего еврейства, напирающий на свое дворянство и в то же время объявляющий себя социалистом юный белогвардеец — разве это не достаточно “яркая” фигура? К тому же двоюродный брат Филоненки[53] — палача, того самого Филоненки, который писал когда-то палаческие шпаргалки для генерала Корнилова».
Бухарин рассуждает тут, как и положено рассуждать любимцу партии.
Но тот же Марк Алданов, человек сильного, недюжинного ума, размышляя о Каннегисере и его семье, задавая вопрос: «Почему выбор Каннегисера остановился на Урицком?», — отвечал: «Не знаю. Его убийство нельзя оправдать даже с точки зрения завзятого сторонника террора».
Действительно…
Когда Сазонов убивает Плеве, это воодушевляет, ибо понятно, за что убит Плеве…
А тут? Тут ничего не понятно…
К вопросу об оправдании поступка Леонида мы еще вернемся, а пока отметим, что в этом непонимании его даже самыми близкими и достаточно умными людьми и скрыта причина «несчастливости» Каннегисера, которую отмечают почти все знавшие его.
Для еврейского окружения Леонида потомственное дворянство было хотя и завидно притягательным, но все же чисто внешним атрибутом, никоим образом не меняющим еврейскую суть.
Для самого Леонида Каннегисера, уже рожденного в этом самом потомственном дворянстве, все оказывалось сложнее.
Две стихии — потомственного русского дворянства и чистокровного иудаизма — разрывали его душу, лишая юношу внутреннего покоя… Примирить их было невозможно, хотя бы уже потому, что и сам Каннегисер не желал никакого примирения.
Можно предположить, что с годами какая-то одна стихия все-таки восторжествовала бы над другой. Но это потом, а пока еврейская среда, иудейская мораль, сионистская организация — все это с одной стороны.
А с другой стороны — ощущение себя, с самых малых лет, потомственным русским дворянином, общение с юнкерами, дружба, презрение к смертельной опасности, любовь к России…
По словам Г. Адамовича, «Леонид был одним из самых петербургских петербуржцев, каких я знал… Его томила та полужизнь, которой он жил».
И еще конечно же была поэзия, были стихи, в которых Каннегисер и так и этак примерял на себя смерть…
А еще была революция, веселая смута, переустройство, перетряска самих основ жизни.
Но это тоже с одной стороны…
А с другой — мимикрия семейной среды, метаморфозы, происходящие с отцом, о котором едко писали в стихотворном посвящении в газете «Оса»:
И может быть, и к этому Леонид Каннегисер смог бы со временем привыкнуть, но в 18-м году ему было только двадцать два года, а кому в этом возрасте не кажется, что он сумеет переделать мир, сумеет сделать его правильнее и чище?
И кого можно отговорить, кого можно убедить в этом возрасте, что точно так же, как он, думали десятки, сотни, тысячи людей до него?
«Сын мой Леонид был всегда с детских лет очень импульсивен, и у него бывали вспышки крайнего возбуждения, в которых он доходил до дерзостей… — с глухим раздражением рассказывал на допросах Иоаким Самуилович Каннегисер. — После Февральской революции, когда евреям дано было равноправие для производства в офицеры, он, по-моему, не желая отставать от товарищей-христиан в проявлении патриотизма, поступил в Михайловское артиллерийское училище, хотя я и был против этого»{307}.
Вот этому человеку и советовал Леонид «переживать все за меня, а не за себя», чтобы быть счастливым, советовал отвлечься от сожаления по поводу пресекшегося рода Каннегисеров, советовал взглянуть на происшедшее его, Леонида, глазами…
Леонид и сам понимал конечно, что отец не способен на такое, не сумеет преодолеть сформировавшую его мораль иудаизма. И не от этого ли понимания и сквозит в каждом слове записки раздражение?
Ведь сам Леонид Каннегисер (не случайно он сказал в «завещании», что «есть одно, к чему стоит стремиться, — сияние от божественного») мораль, встроенную в пользу и выгоду, преодолеть сумел.
Еще летом 1917 года он написал стихотворение, в котором содержится весь «чертеж» его судьбы:
И вглядываясь сейчас в полустершиеся линии и пунктиры, видишь, что, набрасывая свой «чертеж», Леонид уже тогда многое понимал и не мог принять себялюбивоеврейской логики революции, ее антирусской направленности, но и отвергнуть тоже не мог, а искал выход в некоем искуплении, пусть и ценой собственной жизни, и обретении, таким образом, бессмертия…
— Есть, Леонид, обязательная воинская повинность… — говорил ему народник Герман Лопатин. — Но нет обязательной революционной повинности. Все революции обыкновенно творятся добровольцами…
Вспоминая об этом разговоре, Розалия Эдуардовна Каннегисер пояснила, что ее сын боготворил Лопатина, впитывал в себя каждое произнесенное им слово.
4
Помимо «материнской» версии, выдвинутой Розалией Эдуардовной, помимо «партийносемейной» версии «любимца партии», существовала версия следователей Эдуарда Морицевича Отто и Александра Юрьевича Рикса, предполагавших, что за спиной Леонида Каннегисера стоит мощная сионистская организация.
И хотя основания для нее давали изъятые при обыске квартиры свидетельства о связях Каннегисеров с сионистскими движениями, но версию эту следует все-таки отклонить, поскольку она не дает ответа на главный вопрос, почему был убит именно Урицкий.
Ведь, как это видно по делам ПЧК за первую половину 1918 года, сионистам Урицкий не мешал…
Более того…
Он внимательно прислушивался ко всем распоряжениям сионистской организации в России, и если и нарушал ее инструкции, то только в крайнем случае. А нарушив, старался сделать вид, что не имеет к этому нарушению никакого отношения или же совершил это нарушение по незнанию.
Вспомните, сколько изобретательности проявил Урицкий, чтобы, невзирая на многочисленные просьбы ответственных партийных, чекистских и наркомовских работников, все-таки так и не дать арестованному «черносотенцу» Филиппову возможности объяснить, что он еврей…
Так что и тут мимо… Мимо…
Не выдерживает критики и официальная версия.
Рассказывая о «заговоре» в Михайловском артиллерийском училище, мы говорили, что, отправляя курсантов на расстрел, Моисей Соломонович Урицкий сопроводил их собственноручно написанным постановлением, в котором было сказано, что он, Урицкий, отказался от участия в голосовании по расстрелу Владимира Борисовича Перельцвейга.
Значит, и мстить Леониду за расстрел Владимира Борисовича Перельцвейга следовало не Моисею Соломоновичу Урицкому, а кому-то другому.
Предвижу возражение: дескать, Каннегисер мог и не знать об этом постановлении.
Ну а как же свидетельства о загадочных телефонных переговорах Леонида Каннегисера с Урицким, как же посещении Каннегисером Урицкого на Гороховой?
«О том, что на него готовится покушение, знал сам товарищ Урицкий, — писал в своих “мемуарах”, опубликованных в “Петроградской правде” в январе 1919 года, председатель ПЧК Н.К Антипов. — Его неоднократно предупреждали и определенно указывали на Каннегисера, но товарищ Урицкий слишком скептически относился к этому. О Каннегисере он знал хороша».
И самое главное…
Если не для Каннегисера, то для кого же другого написал Урицкий свое столь необычное постановление?
К чему было идти на такую бюрократическую уловку в Чрезвычайной комиссии, где постановления на расстрелы оформлялись недели, а иногда и месяцы спустя после расстрелов?
Разбирая версии, которые выдвигали родственники Каннегисера, «любимцы партии» и чекисты, надо сказать, что психологическую основу поступка Леонида с большей или меньшей глубиной стремились постигнуть и белоэмигранты из числа лиц, близких Леониду Каннегисеру по своему воспитанию и положению в дореволюционном обществе.
Так получилось, что в первом томе «Литературы русского зарубежья» рядом с очерком Марка Алданова, рассуждающего о чувстве еврея, «желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых», помещена повесть Марины Цветаевой «Вольный поезд»{308}, герои которой тоже обсуждают ту же тему.
«Левит: — Это пережитки буржуазного строя. Ваши колокола мы перельем на памятники.
Я: — Марксу.
Острый взгляд: — Вот именно.
Я: — И убиенному Урицкому. Я, кстати, знала его убийцу[54].
(Подскок. — Выдерживаю паузу.)
…Как же, — вместе в песок играли: Каннегисер Леонид.
— Поздравляю вас, товарищ, с такими играми!
Я, досказывая: — Еврей.
Левит, вскипая: — Ну, это к делу не относится!
Теща, не поняв: — Кого жиды убили?
Я: — Урицкого, начальника петербургской чрезвычайки.
Теща: — И-ишь. А что, он тоже из жидов был?
Я: — Еврей. Из хорошей семьи.
Теща: — Ну, значит, свои повздорили. Впрочем, это между жидами редкость, у них это, наоборот, один другого покрывает, кум обжегся — сват дует, ей-богу!
Левит ко мне: — Ну и что же, товарищ, дальше?
Я: — А дальше покушение на Ленина. Тоже еврейка (обращаясь к хозяину, любезно) — ваша однофамилица: Каплан.
Левит, перехватывая ответ Каштана: — И что же вы этим хотите доказать?
Я: — Что евреи, как русские, разные бывают».
То, что сама идея убийства евреем еврея носилась тогда в воздухе, подтверждается и тем, что на роль исполнительницы теракта на заводе Михельсона была выбрана полуслепая еврейка Фанни Каплан.
И, конечно, соблазнительно объяснить это попыткой реабилитировать хоть таким образом столь замаравшее себя в большевизме еврейство. Но, бесспорно, и это объяснение может быть принято только предельно политизированным сознанием…
Размышляя сейчас, почти столетие спустя, о том, что толкнуло Леонида Каннегисера на убийство Моисея Соломоновича Урицкого, нам представляется, что все те мотивы, которые выдвигали родственники, друзья и чекисты, имели место, но они существовали не изолированно, а одновременно и как бы дополняя друг друга…
Думается, что, узнав об арестах в Михайловском училище, Каннегисер позвонил М.С. Урицкому.
«Не сомневаюсь, — свидетельствует и Марк Алданов, — ибо я знал Леонида Каннегисера. Это был его стиль».
Может быть, Леонид попал на пьяного Моисея Соломоновича, может быть, Урицкий просто опешил от такой наглости (а звонок Леонида в ЧК несомненно был наглостью!), но что-то он сказал, что Каннегисер мог истолковать как обещание исполнить его просьбу и смягчить участь курсантов…
Это в принципе и неважно.
Как мы знаем, Моисей Соломонович Урицкий человеком был «очень добрым» и, отправляя человека в тюрьму или на расстрел, любил, издеваясь над несчастным, пообещать в ближайшее время отпустить его на свободу.
И понятно потрясение, которое испытал Леонид, прочитав о расстреле…
Каннегисер, некогда исполнявший в Михайловском училище обязанности председателя юнкеров-социалистов Петроградского военного округа, скорее всего, знал не только Перельцвейга, но и расстрелянных курсантов.
И конечно он сильно переживал по поводу горестной судьбы товарищей.
Но страшнее этих переживаний для Леонида Каннегисера было осознание, что и он — бог знает, кем только Леонид Каннегисер не воображал себя в романтических мечтаниях! — мог попасть в такую же ситуацию. Точно так же, как Владимир Перельцвейг, мог и он заманить на смерть мальчишек, и — это самое ужасное! — от него точно так же, как от Перельцвейга, отказались бы те, кто руководил им.
И тут уже не только сама смерть пугала, а и то, что он — такой единственный! — мог оказаться простой пешкой в руках других людей.
Наверное, Леонид с кем-то связывался после 21 августа, кому-то из влиятельных шекеледателей высказывал свое возмущение.
И возможно, как-то эти разговоры дошли до Урицкого.
Вот тогда-то и состоялась загадочная встреча Урицкого с Каннегисером.
И ничего не значит, что Урицкий, если он и принадлежал к той же сионистской организации, что и Каннегисер, то занимал в ее иерархии гораздо более высокую ступень. Урицкий не Леонида опасался, он не хотел ссориться с весьма влиятельной в еврейских кругах семьей.
Когда Каннегисер появился в ЧК, Урицкий показал ему постановление.
Увы… Он никогда не отличался ни умом, ни достаточной тонкостью.
Самодовольно, не скрывая даже, какие бездны посвящения разделяют их, улыбался он, рассказывая пылкому молодому человеку, что по законам Талмуда он не причастен к смерти Перельцвейга…
Самодовольный глупец, он усмехался, не понимая, что становится в эту минуту живым воплощением морали, против которой восставал Леонид.
Нет сомнений, что личностные качества Урицкого и помогли Каннегисеру персонифицировать именно с ним сионистское зло. В отличие от того же Алейникова, члена ЦК сионистской организации, Урицкий был откровенным мерзавцем, использующим для достижения своих целей самые гнусные приемы.
И, возможно, именно тогда — откуда-то ведь возникли в ЧК слухи, что Урицкий знал об угрозе! — и сказал Каннегисер Урицкому, что убьет его.
Моисей Соломонович засмеялся в ответ.
Он и представить не мог, что Каннегисер, принадлежащий к ортодоксальному еврейству, сумеет переступить через главный принцип еврейства — не убивать друг друга…
Каннегисер сумел.
Через несколько дней он выстрелил Урицкому в затылок, обрывая гнусную жизнь чекистского подонка.
И стрелял он, как уже говорили мы, не только в Урицкого…
Стреляя, Леонид Каннегисер сумел перешагнуть и через иудаизм, запрещающий еврею убивать еврея, и через кодекс дворянской чести…
Этот момент в теракте, совершенном Каннегисером, тоже чрезвычайно важен. В нем гарантия, страховка от превращения теракта в политическую пошлость.
Вестибюль дворца Росси, где происходило событие, достаточно просторен.
Каннегисер видел в окно, как выходит из автомобиля Урицкий.
У него была возможность выстрелить в Урицкого, когда тот только вошел в вестибюль. У него была — он ведь лично знал Урицкого — возможность окликнуть его, пока тот шел по вестибюлю к лифту. Но Каннегисер дождался, когда Урицкий повернулся к нему спиной, и только тогда выстрелил…
Говорить о случайности тут не приходится.
Объяснение одно — перешагивая через одну мораль, Каннегисер перешагивал и через другую, в общем-то противоположную ей.
Он словно бы сбрасывал с себя таким образом тяготившие его оковы предрассудков, в себе самом, в масштабе пока только своей личности, преодолевая и зло еврейства, и зло дворянства.
Тюремные застенки ПЧК — не лучшее место для литературной работы, но перечитываешь записи Каннегисера, сделанные в тюремной камере, и видишь, как стремился он сформулировать свою мысль об обретенном — в преодолении двух враждебных друг другу, но одинаково губительных для человеческого общества стихий — сиянии…
Я не собираюсь приукрашивать Леонида Каннегисера, чтобы изобразить его русским патриотом, но Леонид жил в России, другой страны не знал, и поэтому мысли его о человеческом обществе были связаны прежде всего с
«Россия — безумно несчастная страна, темнота ее — научая… Она сладострастно упивается ею, упорствует в ней и, как черт от креста, бежит от света… А тьма упорствует. Стоит и питается сама собою»{309} …
Читаешь эти торопливые, скачущие строки и ясно понимаешь, что теракт, совершенный в вестибюле дворца Росси, и был для Леонида Каннегисера попыткой возжечь свет в нахлынувшем со всех сторон мраке.
В своей душе он ощутил сияние.
Это сияние более или менее отчетливо различали и другие люди.
Другое дело, что свет, возженный Каннегисером, не осветил ничего, кроме разверзшейся перед Россией пустоты…
5
Пребывание Леонида Каннегисера в тюрьме вполне могло бы стать сюжетом для авантюрного романа…
Не теряя присутствия духа, сразу после допроса у Ф.Э. Дзержинского Каннегисер начинает деятельно готовиться к побегу. Планы побега сочиняются в лучших традициях романов Александра Дюма.
Леонид очень искусно, как ему казалось, перевербовал охранника товарища Кумониста, и тот согласился стать почтальоном.
В адресованной сестре Ольге записке Леонид попросил ее подготовить… нападение с бомбами на здание Петроградской ЧК.
Леонид Каннегисер не был подлецом.
Судя по его письму, адресованному князю П.Л. Меликову, судя по показаниям, которые он давал на допросах, сама мысль, что из-за него пострадают безвинные люди, была мучительна для него.
И вот в тюрьме его словно подменили…
Легко, словно и не задумываясь, он втягивает самых дорогих ему людей — своих родных и друзей — в авантюру, которая неизбежно должна закончиться для них расстрелом.
Конечно, Леониду было всего двадцать два года, конечно, он увлекался романом «Граф Монте-Кристо», но ведь то, что он делает сейчас, никакой юношеской романтикой не объяснить. Прожект нападения с бомбой на Гороховую выглядит клиническим случаем тупого и равнодушного ко всему и всем идиотизма.
Это так не похоже на Леонида, но тем не менее 1 сентября он, еще не зная, что родители уже арестованы, написал им письмо с предложением заняться подготовкой налета. Охранник Кумонист это письмо 2 сентября вернул ему и сказал, что на квартире в Саперном переулке — засада.
Тогда Каннегисер написал своей тетке — Софье Исааковне…
«Софья Исааковна, — сообщал в своем отчете Кумонист, — как очень умная и предусмотрительная женщина, сказала, что боится предпринимать что-либо по этому делу, потому что арестованы все родственники и много знакомых, и не последовал бы расстрел всех за его побег. Ольга Николаевна тоже подтверждает, но более мягко, и просит переговорить с Каннегисером: берет ли он на себя последствия для отца после своего побега. И назначила она свидание в 4 часа 3 сентября»{310}.
Тут надобно остановиться и подумать…
Берет ли Леонид на себя последствия для отца после своего побега!..
Хороший вопрос…
Одесская интонация искажает его смысл, и не сразу доходит, что сестра Каннегисера не сомневается в возможности побега Леонида, а только интересуется, не расстреляют ли за этот побег арестованного отца?
Берет ли на себя Леонид эти последствия?
И Леонид, который не был ни трусом, ни подлецом, ни идиотом, тем не менее взял на себя последствия и тем самым подтвердил, что ничего плохого с отцом в ЧК не сделают…
Откуда такая уверенность в Леониде?
Отметим, что переговоры о побеге Леонид Каннегисер начал вести, когда вернулся в камеру после допроса у Дзержинского.
Феликс Эдмундович, как известно, специально приезжал допросить его…
О содержании этого допроса ничего не известно. Или разговор шел вообще без протокола, или же протокол допроса был уничтожен.
Это, конечно, очень странно.
В любом случае Дзержинский, знавший о версии мести, должен был показать Каннегисеру написанное рукой покойного Моисея Соломоновича «Постановление», доказывающее непричастность того к расстрелу Перельцвейга. Дзержинский любил подстраивать на допросах такие западни. Ведь это могло ошеломить террориста, заставить его потерять контроль над собой!
Но в сохранившихся документах об этом ни слова…
Известно только, что Каннегисер на допросе у Дзержинского отвечать на вопросы отказался.
Понял ли Дзержинский, что не в Урицкого стрелял Леонид Каннегисер из револьвера системы «кольт», а в ту мораль, носителем которой являлся и он, Дзержинский, и масса других евреев — большевиков и небольшевиков?
Едва ли…
Не этими мыслями занят был и Феликс Эдмундович…
Сам того не ведая, Леонид Каннегисер своим метким выстрелом попал в большую чекистскую игру (разговор о ней в следующей главе!), и Дзержинский для того и приехал из Москвы, чтобы понять, как связан выстрел Леонида Каннегисера с намеченной чекистами зачисткой Кремля.
Покопавшись в изъятых при обыске у Каннегисера бумагах и увидев, что среди них немало документов, связанных с деятельностью Всемирной сионистской организации, Дзержинский сделал вывод, что эта организация и направила Каннегисера, чтобы сорвать подготовленную Якобом Петерсом спецоперацию.
Поэтому и не стал Феликс Эдмундович раскалывать Каннегисера.
Но хотя сам он и уклонился от личного участия в следствии, следователями на это дело, на всякий случай, назначил двух эстонцев — Эдуарда Морицевича Отто и Александра Юрьевича Рикса.
Выбор эстонских товарищей не был случайным.
Александр Юрьевич Рикс — один из немногих в ПЧК, кто обладал достаточной профессиональной подготовкой и имел высшее — юридический факультет Петроградского университета — образование.
Товарищ Отто образованием не блистал, но в прошлом занимался электротехникой, террором и фотографией и отличался необыкновенным упорством и каким-то своим, по-эстонски понимаемым, чувством справедливости.
Свои принципы Отто формулировал предельно сжато и емко: «Расстрелифать нато фсех. И ефрееф тоже».
Этому рыцарю чекистской справедливости и передал Феликс Эдмундович меткого стрелка Каннегисера и, сделав все необходимые распоряжения об освобождении из тюрьмы своего агента А.Ф. Филиппова и, по сути, так и не допросив Леонида Каннегисера, вернулся в Москву, чтобы… опоздать на допросы Фанни Каплан.
Очень, очень странное совпадение…
Почти такое же странное, как выстрелы в один день в Урицкого и Ленина.
Почти такое же странное, как бесшабашная уверенность, появившаяся в тот день в Каннегисере, что никому из его родных ничего плохого в ЧК сделано не будет, какую бы авантюру они ни затеяли…
6
Хотя план налета с бомбами на Гороховую и был разработан Леонидом так же тщательно, как и план убийства Урицкого, но имелась в нем одна незначительная червоточинка.
Петроградские чекисты, как и солдаты из полка охраны, тоже не вписывались в поэтику романов Александра Дюма…
Оказалось, что охранник Кумонист, которого так ловко завербовал Каннегисер, был специально приставлен к нему секретарем Петроградской ЧК Александром Соломоновичем Иоселевичем.
Зачем это делалось в обход следователей Отго и Рикса — неведомо.
Возможно, Иоселевич решил установить круг знакомых Леонида, но гораздо вернее другое: Александр Соломонович просто собирался удержать пылкого юношу от необдуманных поступков.
Как бы то ни было, но письма Каннегисера Кумонист вначале заносил Иоселевичу, который снимал с них копии, а затем уже нес по адресу. Ответная почта также подвергалась перлюстрации в кабинете Александра Соломоновича.
Разумеется, ни Леонид, ни его адресаты об этом не знали, план побега составлялся по всем правилам, и 6 сентября чекистам представилась возможность захватить всех организаторов предстоящего налета.
«Докладная записка разведчика Тирзбанурта.
Время поручения — 6 сентября 5 часов вечера.
Окончание — 6 сентября 10 часов вечера.
Согласно поручению тов. Геллера мною было произведено наблюдение над тов. Кумонистом, который должен был встретиться с двоюродной сестрой убийцы тов. Урицкого в Летнем саду в 7 часов вечера.
Придя в сад, пришлось ожидать упомянутую женщину, так как она еще не пришла. В саду, исключая нас, ни одного человека не было ввиду большого дождя. И мое внимание было обращено на двух стоявших мужчин, одного по правой стороне сада, другого по левой стороне, которые внимательно следили за нами. После нескольких минут я заметил, что за мной следят еще двое мужчин. Один в студенческой форме, а другой — в офицерской.
Так как назначенный срок свидания прошел, я решил арестовать этих двух типов, подойдя к тов. Кумонисту, чтобы вдвоем арестовать их.
Но в этот момент появилась женщина, которую ждали. Придя к заключению, что нас заметили, все понимают и поэтому следить более нет возможности, я сейчас же ее арестовал. Мужчины, заметив, что мы желаем и их арестовать, скрылись. Арестованная женщина предлагала крупную сумму денег (какую именно, она не сказала), лишь бы ее освободили, но в этом ей было отказано категорически»{311}.
Почему сорвался план захвата всей группы — понятно.
Посланный Геллером разведчик Тирзбанурт действовал настолько неуклюже, что невольно закрадывается подозрение: а не специально ли для этого и был прислан он?
Основания для такого предположения есть.
Дело в том, что Александр Юрьевич Рикс и Эдуард Морицевич Отто уже установили круг знакомых Леонида Каннегисера, и вскоре, благодаря их эстонскому упорству и трудолюбию, камеры на Гороховой наполнились видными петербургскими сионистами.
Руководству ПЧК приходилось теперь заботиться, как бы от усердия эстонских товарищей не пострадали и другие руководители Сионистской организации в России.
Поскольку некоторыми исследователями опровергается само существование Сионистской организации, имеет смысл подробнее рассказать о деятельности этого «единственного «интернационала», не распавшегося под грохот пушек на полях битв и под грозными криками взаимоожесточения»{312}.
В принципе Сионистская организация в России ставила своей задачей, как и подобные организации в других странах, осуществление права евреев на национальный центр, то есть создание государства еврейская Палестина, и напрямую в политические разборки в России не включалась.
Вместе с тем, поскольку шекеледатели были, как правило, не просто гражданами России, но и активнейшими участниками происходящих здесь процессов, ЦК Сионистской организации вынужден был заботиться об их безопасности. Тем более что многие шекеледатели зачастую принадлежали к непримиримо враждебным друг другу партиям.
Обсуждению этой проблематики и был посвящен состоявшийся в июле 1918 года съезд представителей еврейских общин.
Среди изъятых при обыске бумаг Каннегисеров вшито в дело и приглашение на этот съезд{313}.
«Предполагаемый съезд имеет в виду дать посильный ответ на все вопросы и затруднения. Он будет посвящен деловой жизни общин и будет стараться избегать разделяющих еврейское общество острых принципиальных споров, выдвигая те общие условия и формы работы, без которых немыслимо плодотворное развитие общин.
С приветом Сиона.
ЦК Сионистской организации в России».
Какими должны быть «общие условия и формы работы», становится понятно из программной статьи «Три периода Сионистской организации за все время революции», помещенной к съезду в первом номере «Известий организационного рессора при ЦК Сионистской организации в России» от 15 июля 1918 года:
«Улетучились, как дым, светлые перспективы свободного строительства общероссийской жизни. Нам — руководящей партии — осталось нести тяжкое бремя ответственности за жизнь еврейства в России…
Нам предстоит борьба за обломки нашей автономии в России, охрана еврейства перед лицом грядущих политических потрясений»{314}.
Принято думать, что Всемирная Сионистская организация не представляла собою реальной политической силы в России.
В каком-то смысле это верно, поскольку она объединяла, как мы уже говорили, представителей крайне враждебных друг другу политических партий: большевиков и эсеров, кадетов и меньшевиков.
Однако о реальной, а не политической силе организации можно судить по переполоху, который поднялся в Петроградской ЧК, когда следователем Отто был арестован Михаил Семенович Алейников, один из пяти членов правления ЦК Сионистской организации.
7
Переполох этот добросовестно описал в своих «мемуарах», адресованных коллегии ВЧК, следователь Эдуард Морицевич Отго:
«На вышеуказанных основаниях был арестован Алейников.
С арестом Алейникова начались со стороны Президиума Комиссии требования дать немедленно обвинительные данные, послужившие основанием ареста Алейникова.
После явился к нам тов. Шатов и стал говорить, что Алейников ведь сионист, а сионисты — это “слякоть”, которая ни на что не способна, и значит Алейникова мы арестовали совсем зря и его придется выпустить»{315}.
Однако товарищ Отто, верный своему принципу, что «расстрелифать нато фсех честно», на эти уговоры не поддался.
В бумагах Алейникова его внимание привлекло письмо, написанное по-французски и пестрящее именами и цифрами. Ни Отто, ни Рикс сами по-французски не знали и поэтому решили отдать письмо на перевод.
«Но не суждено было этому сбыться. Вечером поздно мы были вытребованы в Президиум Комиссии для дачи ответа по делу убийства тов. Урицкого.
Присутствовали: тт. Бокий, Антипов, Иоселевич, Борщевский.
На предложенный вопрос, напали ли мы на верный след сообщников убийцы, пришлось ответить только предположениями… что, как видно из писем, убийца действовал от какой-то группы или организации… что главный контингент знакомых убийцы — разные деятели из еврейского общества, что убийца сам, как и его отец, играли видную роль в еврейском обществе».
Предположения, высказанные Александром Юрьевичем Риксом и Эдуардом Морицевичем Отто, явно не понравились членам президиума Петроградской ЧК.
«Тов. Бокий заявил, что следователи на неверном пути и что у Президиума есть два провокатора-осведомителя среди социалистов-революционеров, которые скоро доставят факты, доказывающие другое»…
«Иоселевич сказал, что ему удалось поставить часовым своего человека, бывшего каторжника, который сумел войти в доверие убийцы Каннегисера и что последний послал записку, адресованную куда-то, и что им энергично это дело ведется и это может дать больше, чем раздобыли мы — следователи»…
После этого обмена мнениями, весьма красноречиво говорящего о методах и стиле работы, заведенных в Петроградской ЧК покойным Моисеем Соломоновичем Урицким, Николай Кириллович Антипов потребовал вдруг перечислить всех лиц, арестованных по делу.
Когда была названа фамилия Алейникова, Антипов сказал, что Алейникова надо немедленно освободить, и назвал товарища Отто антисемитом.
Товарищ Отто ответил на это, что он не антисемит, но «расстрелифать нато фсех честно и еврееф тоже».
— А еще, — сказал он, — на Алейникофа есть весьма серьезные улики, в частности письмо, написанное по-французски, которое мы оттали на перефот.
Сообщение это привело членов президиума в полное смятение.
«Члены Президиума в лице Иоселевича, Антипова и Бокия удалились в соседнюю комнату и, вернувшись, заявили, что Алейникова надо завтра же вызвать из тюрьмы и экстренно допросить.
Назавтра же Алейников был освобожден и, может быть, допрошен, а может быть, освобожден без допроса, тайно от нас…
Папка с делом Алейникова осталась у Антипова и к нам в дело возвращена не была»{316}.
Напомним, что это совещание происходило в сентябре восемнадцатого года, когда чекисты каждую ночь расстреливали сотни петербуржцев только за то, что те носили офицерские погоны, занимали профессорские кафедры или вообще просто потому, что они жили…
Поэтому гуманность чекистов по отношению к арестантам, пусть и косвенно, но причастных к убийству Урицкого, и нельзя объяснить ничем другим, кроме прямой связи, а может быть, и подчиненности президиума Петроградской ЧК этому самому ЦК Сионистской организации, членом которого и состоял Михаил Семенович Алейников.
Отто и Рикс почему-то не знали об этой связи, и поведение начальства изумляло их…
Изумляло их, как и рядовых россиян, другое…
Еврея Урицкого убил еврей Каннегисер, а в еврея Ленина стреляла, как объявили, еврейка Каплан.
Но по постановлению о красном терроре, принятому 5 сентября 1918 года, тысячами расстреливали исключительно русских людей, никакого, даже самого отдаленного отношения к указанным покушениям не имевших.
Русофилами ни Рикс, ни Отто не были, но происходящее мешало их эстонскому чувству справедливости «расстрелифать фсех честно и ефрееф тоже».
И это угнетало…
Эдуард Морицевич Отто, докладывая на объединенном президиуме ПЧК и ВЧК 29 августа 1920 года, говорил:
«Приближается вторая годовщина убийства нашего глубокоуважаемого товарища Урицкого.
Я один из тех следователей, которому пришлось вести это дело, не могу обойти молчанием этот день, ибо совесть моя приказывает не молчать о том, что мне известно.
Причастные лица к этому убийству гуляют на свободе — отец убийцы Каннегисера в настоящее время служит здесь в Совнархозе, как и родственник убийцы, инженер Помпер. Сионист Алейников, тоже освобожденный т. Антиповым (тогдашним членом Президиума ЧК), направлен “Центросоюзом” за границу, как агент для закупок с крупной суммой денег… Живут здесь и другие члены этой шайки, прямо причастные к убийству. Причину освобождения всех злоумышленников по делу Антиповым (кроме убийцы) ничем не объяснить.
После убийства тов. Урицкого был объявлен массовый террор и была расстреляна масса буржуазии и, следовательно, в первую голову, логически, надо было ожидать расстрела замешанных в подготовке и организации убийства тов. Урицкого буржуазных родных и знакомых Каннегисера. Чем это объяснить?»{317}
8
После неудавшегося нападения на Гороховую Леонида Каннегисера перевели в Кронштадтскую тюрьму.
Подобно герою «Графа Монте-Кристо», оказался он в тюрьме на острове, и, должно быть, именно это обстоятельство побудило его вернуться к мыслям о побеге.
Тут надобно сказать, что и содержание арестованных по делу Каннегисера заметно отличалось от содержания прочих заключенных.
Сохранилось в деле стихотворное послание, адресованное на волю узниками, привлеченными по делу об убийстве Урицкого.
Сбоку сделана приписка: «Этот документ арестован, когда автор его хотел его отправить из тюрьмы на волю».
Разумеется, можно говорить и о бодрости, и о силе духа узников, но все равно очень трудно свыкнуться с мыслью, что стихотворение отправлено из Дерябинской тюрьмы осенью 1918 года.
Особенно, если сопоставить стихотворное послание с теми письмами и прошениями, что составляли в это время в своих камерах заключенные по делу «Каморры народной расправы».
Поэтому и рассказ о днях, проведенных в заключении Каннегисером, выглядит на этом фоне почти невероятным, словно Леонид в какой-то другой тюрьме сидел, в другое время, при другом режиме…
Снова, как и на Гороховой, придумывает он в Кронштадтской тюрьме новый план побега и снова попадает в уже испытанную на нем чекистами ловушку.
Снова часовой, которого подрядил Каннегисер носить письма, оказался стукачом. Как сообщает в своих «мемуарах» товарищ Отто, было перехвачено письмо Каннегисера Помперу. Тому самому, который в стихотворном послании «горд своим воротником».
Каннегисер излагал з письме план бегства и говорил, что 85 000 рублей на подготовку побега даст Лазарь Рабинович, который станет в стихотворном послании из тюрьмы десятским.
Участвовали (или не участвовали?) в подготовке побега и другие лица…
Из допроса бывшего прапорщика, а ныне конторщика акционерного общества Крымских климатических станций и морских купаний Григория Константиновича Попова видно, что Каннегисер предполагал привлечь к организации побега и его.
«Числа около 15 сентября ко мне пришел один господин в военной форме и передал записку от Леонида, в которой он просил помочь в материальном отношении, а также оказать помощь в побеге, который он, Каннегисер, думал совершить. Я передал принесшему записку господину 250 рублей, а также передал два адреса лиц, которые знали Леонида и которые, по моему мнению, могли помочь ему. Принимать участие в организации побега я не намеревался, так как считал это бредом больного человека»{319}.
Г.К. Попов тут, мягко говоря, лукавит. Елизавета Савельевна Банцер показала на допросе, что Попов сам приходил к ней и выяснял, кто из родственников Каннегисера остался на свободе, то есть все-таки не ограничился передачей денег, а что-то пытался предпринимать в соответствии с указаниями Леонида из тюрьмы.
Разумеется, об этом можно было бы и не говорить.
Как и в случае разрабатываемого Леонидом нападения на Гороховую, 2, вся «организация» нынешнего побега находилась с самого начала под контролем чекистов, и поэтому ни о каком побеге не могло быть и речи.
Тут Леонид ошибся.
Но зато он не ошибся в расчетах, что с его родными и друзьями ничего плохого в ЧК не случится.
Так и вышло.
Поразительно, но все лица, арестованные за попытку подготовить нападение на Петроградскую ЧК, как и все участники подготовки побега Леонида Каннегисера из Кронштадтской тюрьмы, были освобождены.
И тут понимаешь, как, должно быть, мучился Э.М. Отто, когда со своей эстонской рассудительностью он столкнулся с этой чекистской головоломкой.
Действительно…
Еврей Яков Григорьевич Блюмкин убил человека. И не простого человека, а полномочного иностранного посланника, и не просто убил, а воспользовался для этого документами ВЧК, скомпрометировав тем самым эту организацию (если ее, конечно, еще можно было скомпрометировать). За это он заочно был осужден всего на три года лишения свободы, но и того срока не отсидел, потому что, когда явился с повинной, был немедленно амнистирован и возвращен на ответственную работу.
Зато Леонида Николаевича Боброва, о судьбе которого мы писали, рассказывая о «Каморре народной расправы», расстреляли только за то, что он взял якобы у Злотникова один экземпляр прокламации для ознакомления.
Родственники Леонида Иоакимовича Каннегисера пытались организовать вооруженный налет на Гороховую, 2, где размещалась ПЧК…
Чекисты считали этот факт доказанным, тем не менее всем арестантам наказание было ограничено теми месяцами, что они уже просидели под следствием.
Зато Василия Мухина расстреляли только за то, что он якобы дал 200 или 300 рублей на печатание прокламаций.
Понять что-либо в этой логике невозможно, если не вспомнить, что и Блюмкин, и Каннегисеры были евреями, а Бобров и Мухин — русскими.
Поэтому, хотим мы того или не хотим, но необходимо признать, что законы для евреев и неевреев, установленные большевиками, были принципиально разными.
Неевреев расстреливали иногда только за то, что человек чем-то не понравился следователю, зато еврей мог застрелить иностранного посланника или напасть на ЧК и отделаться незначительным наказанием.
22 декабря 1918 года Н.К. Антипов сочиняет целую пачку постановлений, каждое из которых по гуманности своей сделало бы честь любому самому гуманному судопроизводству.
«Каннегисер Софья Самуиловна, получив от Леонида Каннегисера записку с просьбой принять меры для организации побега, стала вести разговоры с подателем записки о плане побега Леонида Каннегисера, но ввиду трудности побега отказалась.
Чрезвычайная Комиссия постановила Каннегисер Софью Самуиловну считать виновной в попытке организации побега, но ввиду того, что она действовала без соучастия в этом деле какой-либо политической организации и что она сама отказалась от этой попытки, считать предварительное заключение достаточным за совершенный проступок и Каннегисер Софью Самуиловну освободить, дело прекратить, все отобранное при аресте возвратить»{320}.
«Ввиду непричастности Каннегисер Ольги Николаевны к убийству Урицкого (к подготовке нападения на Гороховую она была причастна. — Н.К.) дело о ней прекратить, ее освободить, все отобранное при аресте возвратить»{321} …
Точно такие же «постановления» пишет Н.К. Антипов 22 декабря и по поводу Розы Львовны Каннегисер, Григория Константиновича Попова и других родственников и друзей Леонида, арестованных за попытку организовать его побег.
«Гуманизм» товарища Антипова был столь необыкновенен, что забеспокоилось даже начальство тюрьмы. Уже 21 декабря в Чрезвычайную комиссию полетели тревожные депеши:
«Уведомляю Чрезвычайную Комиссию для сведения, что согласно требования № 317 выданы конвою 20 сего декабря для доставления в Комиссию на допрос к тов. Антипову арестованные
Каннегисер Аким Самойлович,
Каннегисер Елизавета Акимовна,
Каннегисер Ольга Николаевна,
Каннегисер Роза Львовна,
Каннегисер Софья Самойловна,
Помпер Тереза,
и обратно в Дом не возвращены.
Каннегисер Софья Исааковна в Доме предварительного заключения не содержится.
Комиссар Дома предварительного заключения»{322}.
Поразительно и то, что товарищ Антипов прекращает дела лиц, связанных с убийцей «дорогого товарища Урицкого», единолично, не ставя в известность даже своего непосредственного начальника — нового шефа Петроградской ЧК Варвару Николаевну Яковлеву.
Еще поразительней, что через неделю после того, как все арестованные по этому делу были освобождены (самого Леонида Каннегисера расстреляли в октябре 1918 года), товарища Антипова назначили председателем Петроградской ЧК.
Разумеется, взлет в карьере Н.К. Антипова — а к тому времени, когда его все-таки расстреляли, он был уже заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР — только предположительно можно связать с «гуманным» отношением к судьбе Каннегисеров.
Еще в августе отец его, Иоаким Самуилович (Аким Самойлович) Каннегисер, подал прошение украинскому консулу: «Представляю при сем документ о принадлежности моей к дворянству Виленской губернии, покорнейше прошу о зачислении меня в Украинское подданство со всем моим семейством»{323}, но после расстрела Леонида надобность в перемене гражданства отпала.
Иоаким Самуилович продолжал жить со своим семейством в Петрограде, не подвергаясь никаким преследованиям.
«Через некоторое время, — как вспоминает Н.Г. Блюменфельд, — старики уехали за границу вместе с Лулу. Счастье, благополучие, почет — все осталось позади.
Знакомый работник советского торгпредства видел потом Лулу в эмиграции, толстую, грубую. Родители умерли, она неудачно вышла замуж и разошлась, очень нуждалась. Все пошло прахом. Таким был конец династии Каннегисеров».
Этому, конечно, можно и посочувствовать, но при этом отметить все-таки, что семьи Каннегисеров никакие репрессии не коснулись.
Благополучно были отпущены все лица, арестованные товарищем Отго.
Отпустили Якова Самуиловича Пумпянского.
Отпустили Юлия Иосифовича Лепа.
Отпустили Максимилиана Эмильевича Мандельштама.
Отпустили Александра Рудольфовича Помпера.
Отпустили Лазаря Германовича Рабиновича.
Отпустили Иосифа Ивановича Юркуна.
Отпустили Рафаила Григорьевича Гольберга.
Отпустили Шевелямовшу Ароновича Лурье.
Отпустили Давида Соломоновича Гинзбурга.
Отпустили Рейнгольда Эдуардовича Розентретера.
Отпустили Александра Давидовича Пергамента.
Отпустили Якова Леонтьевича Альбова.
Отпустили Виктора Хаймовича Фридштейна.
Отпустили Адель Исааковну Натансон.
Отпустили Григория Израйлевича Гордона.
Отпустили Елену Бенедиктовну Блох.
Отпустили десятки других евреев, арестованных по записной книжке Леонида Каннегисера, и все они благополучно продолжали заниматься своими делами, словно и не было никакого красного террора, словно не в кровавой замятие уже вовсю бушующей Гражданской войны жили они, а в каком-то очень уютном, удивительно правовом, как теперь любят выражаться, государстве.
Впрочем, они действительно жили в правовом государстве.
В том государстве, вход в которое неевреям был закрыт…
Но если влияние Сионистской организации в Петроградской ЧК было столь сильным, то отчего же все-таки расстреляли самого Леонида?
Так ведь потому и расстреляли, что Леонид сам переступил через запрет еврею убивать еврея, а переступив, сам вывел себя из зоны гарантированной для евреев безопасности.
Он как бы перестал быть евреем…
Если бы Моисей Соломонович Урицкий был русским или на худой конец каким-нибудь французом, англичанином или немцем, может быть, и судьба Леонида Иоакимовича Каннегисера сложилась бы иначе.
Блюмкину-то, как мы знаем, ничего не сделали и за убийство немецкого посла Мирбаха…
Но Леонид Иоакимович не немецкого посла графа Мирбаха убил, а еврея Моисея Соломоновича Урицкого.
Этого Каннегисеру Сионистская организация простить не могла.
Уместно поэтому будет напомнить тут, что по заключению Генеральной прокуратуры РФ от 20.11.92, в соответствии со ст. 4-а Закона «О реабилитации жертв политических репрессий», Каннегисер Леонид Иоакимович не реабилитирован{324}.
Поразительно…
Реабилитированы чекистские палачи, руки которых по локоть в крови, а Леонид Иоакимович Каннегисер, избавивший Россию от одного из них, по-прежнему числится среди преступников.
А с другой стороны, сейчас, когда возвращены прежние имена почти всем улицам, поселкам и городам, переименованным в честь деятелей Советского государства и героев войны, улиц, поселков и городов, названных именем Урицкого, волна депереименований не коснулась. Увы!..
9
И все-таки надо сказать, что и среди евреев не было единодушия в осуждении поступка Каннегисера.
Мы уже приводили свидетельство Марка Алданова, оценивавшего поступок Каннегисера отлично и от интернационалистских палачей Зиновьева, и от Сионистской организации.
Имеются в деле об убийстве Урицкого подобные свидетельства и из восемнадцатого года.
«При первой встрече, которая была после убийства т. Урицкого, у нас зашел разговор на политическую тему, причем Грузенберг не знал, кто я такой. Грузенберг стал говорить о большевиках и Советской власти самые грязные вещи, — доносил в ЧК член Петросовета Абрам Яковлевич Шепс. — Я ему не возражал с целью вызвать его на откровенность.
В следующий раз Грузенберг сказал: “В скором времени я (то есть Грузенберг) буду стоять во главе карательного отряда и поголовно всех причастных к Советской власти вырежу без всякой пощады…”
В ответ на мой вопрос, кто такой Каннегисер, который убил Урицкого, Грузенберг ответил: «Это из самой лучшей семьи Петрограда, и даже священный дож его был убить Урипкого. Я лаже не остановился бы благословить моего сына, чтобы он убил такого мерзавца»{325}.
Из допроса арестованного Моисея Иосифовича Грузенберга выяснилось, что Абрам Яковлевич Шепс и сам был далеко не ортодоксальным большевиком:
«Около недели назад перед моим арестом я был приглашен к детям мне неизвестного Шепса в качестве врача. При разговоре жена Шепса говорила о пользовании ее сына врачом, который во время тяжелой болезни сына нередко заводил разговоры о нарастающем в известной части русского общества антисемитизме.
На это я ответил, что и я среди своих русских пациентов замечаю резкое недовольство евреями, и ответил, как противоположность, что дело Бейлиса, напротив, произвело в свое время в известной части русского общества сдвиг в пользу евреев.
Провожая меня, Шепс продолжил разговор о деле Бейлиса, говорил об его советах моему брату, одному из защитников Бейлиса. Для меня было ясно, что это не соответствует действительности, ибо Шепс моему брату никаких советов не давал.
Тогда же Шепс стал говорить, что собирается отправить свою семью обратно в Швейцарию, и у нас зашел разговор о средствах. Шепс сообщил, что кроме службы в качестве председателя Контрольной комиссии он продолжает службу в предприятиях Бажолина… И Бажолин все возместит, потому что он, Шепс, состоя на советской службе, всячески старается отстоять интересы предприятий Бажолина»{326} …
Конфликт между Грузенбергом и Шепсом возник вовсе не из-за оценки поступка Каннегисера. Эмигрант из Швейцарии, сразу поступивший на ответственную советскую службу, Абрам Яковлевич Шепс был неумеренно самовлюблен, хвастлив, а главное — неприлично жаден.
«Прощаясь, Шепс просил разрешения зайти за рецептом на белую муку для его больного сына…
Я написал ему рецепт на муку.
Шепс указал, что по такому рецепту он получит муку в ничтожном количестве и попросил переписать рецепт на спирт… сказал, что за спирт можно получить муку в таком количестве, что он охотно бы уступил мне значительную часть»…
Разумеется, Грузенберг расценил это предложение примерно так же, как если бы Абрам Яковлевич предложил ему сообща стащить чей-нибудь кошелек, и немедленно выгнал Шепса.
Тогда обозленный Абрам Яковлевич и написал донос в ЧК.
Историю эту мы рассказали для того, чтобы показать, у каких евреев мог найти Каннегисер понимание, а у каких — нет.
Если большевиков охватил шок от сознания, что теперь евреи стреляют в евреев, то и в либеральном лагере переживали не меньший шок от сознания, какие формы обрело «равноправие» местечково-большевистского еврейства, за которое они всю жизнь боролись.
Донос Шепса показывает, что рано или поздно — вспомним слова Моисея Иосифовича Грузенберга: «Я бы благословил своего сына, чтобы он убил такого мерзавца», — Леонид Каннегисер должен был появиться. Евреи-большевики, захватившие власть в стране, сами вызывали его.
И опять-таки в сентябре 1918 года жадные, малообразованные, малокультурные евреи образца шепсов, Зиновьевых, урицких, хотя и держали в своих руках власть, были заинтересованы в еврейской взаимовыручке гораздо больше, нежели евреи, принадлежавшие к среде Каннегисеров или Грузенбергов.
Это потом, когда укрепится большевистская власть, начнутся перемены и во взаимоотношениях групп еврейства.
В 1930-е годы, когда уже вовсю разгорится еврейско-кавказская война, красный террор настигнет и эти семейства.
Многие из тех, чьи фамилии привели мы в списках освобожденных Антиповым по делу Каннегисера арестантов, снова будут возвращены в камеры НКВД, чтобы уже больше не покидать их…
Глава двенадцатая.
ФИАЛКИ ДЛЯ ИЛЬИЧА
Нам, как израильтянам, приходится строить царство будущего под постоянным страхом…
Мартин Лацис
Если до настоящего времени нами уничтожены сотни, тысячи, то теперь пришло время создать организацию, аппарат, который сможет уничтожать десятками тысяч.
Л.Д. Троцкий
Я живу тем, что стоит передо мной, ибо это требует сугубого внимания и бдительности, чтобы одержать победу.
Ф.Э. Дзержинский
Календарный разрыв 1918 года прошел по жизням людей…
Перебираешь архивные документы, перечитываешь свидетельства очевидцев и видишь, как разрываются жизни…
Тринадцать пропавших дней…
Где они? В какие вмещаются календарные даты?
И перебираешь, перебираешь в поисках их недели 1918 года.
Время деформируется, с ним происходит что-то непонятное, необъяснимое, и нужно снова и снова вспоминать хронологию событий, поскольку в клубке событий, завершающих лето самого короткого в мире года, трудно становится разобраться в очередности и взаимообусловленности событий, на долгие десятилетия определивших нашу жизнь…
1
22 августа 1918 года Ф.Э. Дзержинский снова был назначен председателем ВЧК, которая состояла теперь исключительно из коммунистов.
Предшествовало возвращению Ф.Э. Дзержинского объединение под властью Народного комиссариата по военным делам Л.Д. Троцкого всех Вооруженных сил республики.
Троцкий, как известно, тотчас же ввел в Красной армии систему «децимария», согласно которой расстреливали каждого 10-го красноармейца из отступившей части. Для расстрелов были созданы специальные латышские части. «Расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты», — с восторгом телеграфировал в Саратов в те дни В.И. Ленин.
Эта немыслимая жестокость, возвращенная большевиками из древних веков, очень точно характеризует отношение ленинской гвардии к русскому народу, и остается только дивиться бесстыдству Максима Горького, говорившего, что «когда в “зверстве” обвиняют вождей революции», он рассматривает «это обвинение, как ложь и клевету, неизбежные в борьбе политических партий», ибо «жестокость форм революции» объясняется не зверством большевиков, а «исключительной жестокостью русского народа».
Видимо, эта «исключительная жестокость русского народа», не желающего добровольно защищать Льва Давидовича Троцкого и Якова Михайловича Свердлова, и обусловила возвращение Феликса Эдмундовича Дзержинского в ВЧК.
Отметим тут другое, воистину мистическое совпадение…
Накануне возвращения Феликса Эдмундовича Дзержинского в ВЧК в «Петроградской правде» было опубликовано сообщение о расстреле курсантов Михайловского артиллерийского училища в Петрограде, которое, как известно, и подтолкнуло Леонида Каннегисера к убийству Моисея Соломоновича Урицкого.
Выстрел Каннегисера прозвучал 30 августа в 11 часов дня, и Ф.Э. Дзержинский, только-только успевший разобраться, кого следует расстрелять в первую очередь, а с кем можно немного подождать, сразу же выехал в Петроград.
Пока доехал, в Москве прогремели выстрелы на заводе Михельсона.
Совпало (совпало?), что именно в этот же день был издан приказ № 31 наркома по военным и морским делам Л.Д. Троцкого о строительстве концлагерей. Лев Давидович продолжал, подтверждая слова Максима Горького, демонстрировать дикому и исключительно жестокому русскому народу высокую культуру и истинный местечковый гуманизм.
В Петроград Ф.Э. Дзержинский приехал ночью с 30 на 31 августа.
Поскольку Я.М. Свердлов сообщение о покушении на Ленина отправил в 22 часа 45 минут, почти за час до покушения, оно уже должно было поступить в Петроград, когда туда приехал Дзержинский.
Какое-то время ушло на уточнение обстоятельств покушения и результата. В любом случае, даже если Дзержинский и знал о предстоящем событии, для него было неожиданностью, что Владимир Ильич остался жив.
Теперь, после выстрела в Ленина, и после того как В.И. Ленин все-таки остался живым, Феликсу Эдмундовичу еще важнее стало понять, кто стоит за выстрелом в Урицкого?
Но Дзержинский, как мы уже говорили, полистав изъятые при обыске Каннегисера бумаги, от обстоятельного допроса фактически уклонился.
К сожалению, точное время допроса Леонида Каннегисера неизвестно, и мы не знаем, когда, до или после допроса, Дзержинский побывал в Смольном. Известно только, что 31 августа Дзержинский связался из Смольного по телеграфу с Я.Х. Петерсом и обсудил с ним возможность ареста Локкарта.
А на Гороховой в этот день, помимо допроса Каннегисера, Дзержинский оформил бумаги на освобождение своего агента Филиппова, потом — лично проинструктировал группу чекистов, которая должна была участвовать в налете на английское посольство…
Вот тут-то и становится исключительно важной очередность событий, без этого не понять, как они связаны.
Но — увы! — с очередностью и возникают проблемы.
То, что мы знаем об августовском вояже Ф.Э. Дзержинского в Петроград, свидетельствует только о его феноменальной способности уклониться от малейшего участия в наиболее важных событиях этих дней…
Действительно…
Так и не допросив толком Леонида Каннегисера, Дзержинский вернулся в Москву, чтобы… опоздать на допросы Фанни Каплан.
Аресты работников английского посольства в Москве прошли без участия Ф.Э. Дзержинского, но не участвовал Феликс Эдмундович и в налете на английское посольство. Около 17 часов, когда петроградские чекисты оцепили здание на Французской набережной, Дзержинский уже ехал в Москву…
Все это можно было бы объяснить случайными совпадениями, но поскольку речь тут идет о разведчиках и террористах, правило, согласно которому совпадения больше двух совпадениями уже не считаются, не позволяет нам свалить события 30 и 31 августа в корзину случайностей…
И приведенная нами хронология последних дней августа 1918 года свидетельствует прежде всего о том, что самые важные события пропущены в ней, и мы можем только догадываться, что они были.
В самом деле…
Если в убийстве Моисея Соломоновича Урицкого, о котором мы рассказывали в предыдущей главе, кроме мотива убийства все ясно, то ведь с покушением на В.И. Ленина дело обстоит иначе.
2
Ленину 30 августа достались две пули, и только необыкновенная хазарская живучесть[55] спасла ему жизнь.
Одна пуля, войдя над левой лопаткой, проникла в грудную полость и, вызвав кровоизлияние в плевру, повредила верхнюю долю легкого. Эта пуля застряла в правой стороне шеи выше правой ключицы.
Другая пуля проникла в левое плечо, раздробила кость и застряла под кожей левой плечевой области.
Третья пуля угодила в кастеляншу Павловской больницы Попову и, «пройдя левую грудь, раздробила левую кость».
Ленина сразу повезли в Кремль. А Павлову перевязали и в грузовике Красного Креста отправили в тюрьму на Лубянке, туда же были посажены как заложники муж Поповой и ее сыновья.
Почему арестовали раненную вместе с Лениным кастеляншу—не ясно.
Вероятно, опасались, не разглядела ли она человека, который и стрелял в нее и Ленина.
И вот тут-то и начинается самое удивительное…
В толпе людей, окружавших главу государства, не нашлось больше ни одного свидетеля, который видел бы стреляющего террориста…
Стефан Казимирович Гиль, водитель машины В.И. Ленина, успел только заметить женскую руку с браунингом…
«Когда Ленин был уже на расстоянии трех шагов от автомобиля, я увидел сбоку, с левой стороны от него, на расстоянии не больше трех шагов протянувшуюся из-за нескольких человек женскую руку с браунингом, и были произведены три выстрела, после которых я бросился в ту сторону, откуда стреляли, стрелявшая женщина бросила мне под ноги револьвер и скрылась в толпе»{327}.
Самому Ильичу показалось, что в него стрелял мужчина.
— Поймали его или нет? — спросил он первым делом, когда очнулся.
Ильича успокоили, объяснив, что террористка арестована.
— Кто такая? — спросил В.И. Ленин.
— Эсерка… Фейга Хаимовна Каплан.
Так и прозвучало это имя, которое по-еврейски обозначает — фиалка.
Разумеется, и Фаню Каплан с оружием в руках тоже никто не видел.
Очевидец происшедшего военный комиссар 5-й Московской пехотной дивизии С.Н. Батулин{328} находился «в десяти или пятнадцати шагах от т. Ленина, шедшего впереди толпы». Когда прозвучали выстрелы и Ленин упал, Батулин принялся кричать: «Лови, держи!» и только в этот момент и увидел женщину, которая «вела себя странно».
«На мой вопрос она ответила: “Это сделала не я”. Когда я ее задержал, из окружающей толпы стали раздаваться крики, что стреляла именно она. Я спросил еще раз, стреляла ли она в Ленина. И она призналась».
Что странного было в поведении Каплан, из показаний Батурина не ясно, но обстоятельства задержания действительно выглядят очень странно. По свидетельству Батулина получается, что он начал беседовать с Фанни еще на заводском дворе, но само задержание произошло уже на Серпуховской площади, когда Фанни остановилась и начала рыться в портфеле, роняя из него бумаги…
Как остроумно заметил В. Воинов в очерке «Отравленные пули»: «Фанни Каплан была схвачена комиссаром Батулиным поодаль от места покушения лишь по классовому наитию: Фанни стояла с зонтиком под деревом в вечернем полумраке, чем и вызвала подозрения комиссара»…
Тем не менее, когда из разговора выяснилось, что задержанная — 28-летняя эсерка Фанни Ройдман Каплан — считала, что «дальнейшее существование Ленина подрывало веру в социализм», у преследователей отпали последние сомнения.
Тогда, в горячке расследования, как-то и внимания никто не обратил, что эта полуслепая еврейка не то что попасть в Ленина из револьвера не могла, но едва ли сумела бы и разглядеть его в кромешной тьме августовского вечера…
3
Покушение на В.И. Ленина удивительно напоминает убийство товарища Володарского.
Задолго до покушения начинаются разговоры о возможности покушения.
Известно, что в 14 часов 17 минут В.И. Ленину позвонил секретарь МК РКП(б) В.М. Загорский. Он предупредил о грозящей опасности и просил воздержаться от поездок на митинги.
Так и осталось неясным, знал ли что Загорский, или же его встревожило покушение на Урицкого. Хотя, если бы речь шла только о тревоге, вызванной выстрелом Каннегисера, логичнее было бы предостеречь Ф.Э. Дзержинского…
Так же, как Володарский перед смертью, В.И. Ленин переезжал в этот вечер с митинга на митинг. Стреляли в него на заводе Михельсона в Замоскворецком районе, а до этого В.И. Ленин выступал вместе с А.М. Коллонтай и Емельяном Ярославским на другом конце города, в Басманном районе, в здании Хлебной биржи.
Обстоятельство это существенное и совсем не случайное.
Ораторское воодушевление, возбуждение, которое возникает при общении с большими массами слушателей, притупляли бдительность…
Рассуждая на свою любимую тему «Две власти. (Диктатура пролетариата и диктатура буржуазии)», В.И. Ленин говорил, что — о, ужас! — местечковые «большевистские деятели отданы на растерзание чехословацким наймитам и российским белогвардейцам».
— У нас один выход, победа или смерть! — возбужденно выкрикивал В.И. Ленин.
Он не уточнял у кого это, у нас…
Не до того было.
Не до того было охваченному возбуждением В.И. Ленину, и как-то и не обратил он внимания, что с Хлебной биржи они уехали без охраны.
Более того, охраны не оказалось и на заводе Михельсона.
«Как-то получилось, что никто нас не встречал», — свидетельствовал С.К. Гиль.
Ответив на вопросы, Ленин направился к выходу. Едва он вышел, как в дверях возникла давка. Во дворе гранатного цеха было темно. Ленин направился к автомобилю, и тут прозвучали выстрелы.
Часы показывали тогда…
Увы…
Времени покушения мы тоже не знаем…
Странные дела происходят с временем последних августовских дней 1918 года. Оно как бы размывается…
В.Д. Бонч-Бруевич уверяет в своих воспоминаниях, что он узнал о покушении в 18 часов, когда Ленин выступал еще на Хлебной бирже.
Официальные историки, основываясь на опубликованном в «Правде» обращении Моссовета, долгое время утверждали, что покушение произошло в 19 часов 30 минут.
Фанни Каплан на допросе показала, что пришла на завод Михельсона около восьми часов вечера.
Водитель В.И. Ленина С.К. Гиль на допросе 30 августа 1918 года, сразу же после покушения, сказал, что они приехали на завод Михельсона около 22 часов. Выступление Ленина длилось около получаса, и получается, что выстрелы раздались примерно в промежутке 22 часа 30 минут — 23 часа 00 минут. В принципе, показания Гиля подтверждаются и тем, что первый допрос Фанни Каплан в ближайшем Замоскворецком военном комиссариате состоялся в 23 часа 30 минут[56].
Когда же тогда стреляли в Ленина и почему, если стреляли около десяти вечера, Яков Михайлович Свердлов знал об этом заранее?
Еще более запутанным выглядит вопрос об оружии.
Мы уже приводили свидетельство Стефана Казимировича Гиля, который утверждает, что заметил женскую руку с браунингом, а потом ему под ноги бросили револьвер, который он тоже почему-то не подобрал…
Обыск арестованной Каплан в Замоскворецком комиссариате производила чекистка 3. Легонькая вместе с Д. Бем и 3. Удотовой{329}.
В вещах Каплан нашли железнодорожный билет в Томилино, иголки, восемь головных шпилек, сигареты и брошку.
Ну а в портфеле у Каплан Зинаида Легонькая обнаружила «браунинг».
И все бы хорошо, да вот беда — этот браунинг появился в портфеле Каплан только после допроса Зинаиды Легонькой 24 сентября… 1919 года, а тогда, 30 августа 1918 года, о нем никто и не упоминал.
Более того, в газетах тогда появилось сообщение, что «Чрезвычайной комиссией не обнаружен револьвер, из коего были произведены выстрелы в тов. Ленина. Комиссия просит лиц, коим известно что-либо о нахождении револьвера, немедленно сообщить о том комиссии»{330}.
Самые первые допросы Фанни Каплан вели председатель Московского трибунала А.М. Дьяконов, член коллегии ВЧК, будущий начальник охраны Ленина А.Я. Беленький. Присутствовал при допросе и Я.М. Свердлов.
Как вспоминал чекист А.И. Фридман, Яков Михайлович Свердлов буквально обрушил на бедную Фанни Каплан целый шквал вопросов.
— Кто Вы?! Фамилию назовите! Кто поручил Вам совершить это неслыханное злодеяние?! Вы — эсерка?! Вы — агент мирового капитализма?!
Странно, но Яков Михайлович спрашивал у Фанни Каплан то, о чем он знал уже в 22.40, когда, может быть, никто еще и не стрелял в В.И. Ленина…
Это ведь Я.М. Свердлов написал тогда:
«Несколько часов тому назад совершено злодейское покушение на тов. Ленина… Мы не сомневаемся в том, что и здесь будут найдены следы правых эсеров, следы наймитов англичан и французов»{331}.
Должно быть, не желая расстраивать Якова Михайловича, Фанни и признала себя виновной: «Я сегодня стреляла в Ленина. Я стреляла по собственному убеждению».
Правда, протокол допроса с этим признанием она подписать отказалась.
4
Не только само покушение на В.И. Ленина сильно напоминало покушение на М.М. Володарского, но и весь ход расследования…
Просто поразительно, насколько нелюбопытными становились следователи, едва только дело касалось других, помимо Каплан, персонажей.
То, что чекистку Зинаиду Легонькую, которая, неведомо зачем, целый год хранила у себя браунинг, из которого стреляли во Владимира Ильича, допросили лишь год спустя, говорит о многом.
Впрочем, как мы помним, и в Петрограде чекиста Романа Юргенсона — брата того самого Петра Юргенсона, который и шофера Гуго Юргена уговаривал остановиться в нужном месте и которого многие свидетели происшествия опознали как убийцу, тоже ведь не мучили допросами.
Зато взращенную для Ильича «фиалку» чекисты обнюхали многократно.
Более того, ее охраняли и секретили так, что до сих пор исследователи спорят, в какой тюрьме она находилась, когда, по чьему приказу была расстреляна, и была ли расстреляна вообще…
Хотя Якоб Петерс и утверждал, что им было дано распоряжение «привезти женщину в ВЧК», но есть немало заслуживающих доверия свидетельств, утверждающих, что Фанни Каплан сразу же поместили на территории Кремля, в Кавалерском корпусе, где была устроена тюрьма для особо опасных преступников.
Здесь тогда подобрался воистину диковинный букет…
Английский дипломат и разведчик — Роберт Гамильтон Брюс Локкарт… Лидер левых эсеров — Мария Александровна Спиридонова… Знаменитый полководец — генерал Алексей Алексеевич Брусилов… Ну и наша «фиалка» — несчастная полуслепая террористка Фейга Хаимовна Каплан.
Допрашивали Фаню Каплан нарком юстиции Д.И. Курский, член коллегии наркомата юстиции М.Ю. Козловский, секретарь ВЦИК В.А. Аванесов, заместитель председателя ВЧК Я.Х. Петерс, заведующий отделом ВЧК по борьбе с контрреволюцией Н.А. Скрыпник.
Объединенными усилиями удалось выяснить, что Каплан уже бывала однажды в Кремле, что с левым эсером А.А. Биценко она вместе отбывала каторгу, что на митинг на заводе Михельсона приехала часов в восемь вечера, что в Ленина она стреляла из револьвера, что ее совершенно замучила обувь, которую она вынуждена носить…
«Бумажки, найденные у меня в ботинках, вероятно, те, которые были мне даны в комиссариате, когда я попросила дать мне что-нибудь, чтобы подложить, потому что у меня в ботинках гвозди»…
Допросы шли один за другим, и на пятом допросе, который состоялся в 2 часа 25 минут утра 31 августа (за три часа — пять допросов!), Якоб Петерс таки сломал несчастную «фиалку» и заставил подписать признание, что на каторге из анархистки она сделалась эсеркой.
«По течению эсеровской партии, — заявила Фанни Каплан, — я больше примыкаю к Чернову… Самарское правительство принимаю всецело и стою за союз с союзниками против Германии. Стреляла в Ленина я».
Фанни рассказала Петерсу и о родителях, которые с 1911 года живут в Америке, рассказала о четырех своих братьях и трех сестрах, которые остались в России. Она готова была назвать и адреса их, но товарищ Петерс даже и вопроса о местонахождении братьев и сестер Каплан не задал[57].
«В конце концов, — вспоминал товарищ Петерс, — она заплакала, и я до сих пор не могу понять, что означали эти слезы: или она действительно поняла, что совершила самое тяжелое преступление против революции, или это были утомленные нервы. Дальше Каплан ничего не говорила»{332}.
Судя по всему, Фанни Каплан так вымоталась на допросах, что готова была рассказать что угодно, лишь бы ее оставили в покое, просто она не знала, что еще рассказать товарищу Петерсу.
5
«Имя, отчество, фамилия или прозвище — Фейга Хаимовна Каплан.
Куда назначается для отбытия наказания? — Назначена в ведение военного губернатора Забайкальской области для помещения в одной из тюрем Нерчинской каторги.
Следует ли в оковах или без оков? — В ручных и ножных кандалах.
Состав семейства ссыльного. — Девица.
Рост. — 2 аршина 31/2 вершка.
Глаза. — Продолговатые, с опущенными вниз углами, карие.
Цвет и вид лица. — Бледный.
Волосы головы. — Темно-русые.
Особые приметы. — Над правой бровью продольный рубец сантиметра 21/2 длины.
Возраст. — По внешнему виду 20 лет.
Племя. — Еврейка.
Из какого звания происходит? — По заявлению Фейги Каплан она происходит из мещан Речицкого еврейского общества, что при проверке, однако, не подтвердилось.
Какое знает мастерство? — Белошвейка.
Природный язык. — Еврейский.
Говорит ли по-русски? — Говорит.
Каким судом осуждена? — Военно-полевым судом от войск Киевского гарнизона.
К какому наказанию приговорена? — К бессрочной каторге.
Когда приговор обращен к исполнению? — 8 января 1907 года.
Сколько имеет собственных денег? — 4 руб.
Какие имеет ценные вещи? — Не имеет».
Этот статейный список № 132 был составлен 30 июня 1907 года, за одиннадцать лет до покушения на В.И. Ленина. Составили его в Киевской губернской тюремной инспекции, после того как шестнадцатилетняя Фейга Хаимовна Каплан (Ройдман) вместе с Маней Школьник и Арей Шпайзманом попыталась устроить покушение на киевского генерал-губернатора Клейгельса.
1906 год можно смело называть годом апофеоза терроризма…
Всего террористами было убито тогда 768 и ранено 820 представителей и сотрудников законной власти.
Вот краткая хроника этой страшной охоты:
1 января. Взрывом бомбы террористов тяжело ранен черниговский губернатор. В тот же день ранен вице-губернатор в Иркутске, убит полицмейстер.
11 января. Тяжело ранен комендант Владивостока генерал Селиванов.
18 января. Взрывом бомбы в Тифлисе убит генерал Грязное.
26 января. Убит тремя выстрелами пензенский полицмейстер.
27 января. Тяжело ранен в Севастополе адмирал Чухнин. В тот же день в Петербурге взорвана «Тверь» — чайная «Союза русского народа»: двое человек убито, 15 ранено.
3 марта. Нападение на Купеческое общество взаимного кредита — «экспроприировано» 775 тысяч рублей.
25 марта. Благовещение. В Твери убит губернатор Слепцов.
28 марта. На даче в Озерках, под Петербургом, повешен эсером Рутенбергом организатор народного шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 года Георгий Аполлонович Гапон.
23 апреля. Брошена бомба в московского генерал-губернатора вице-адмирала Федора Васильевича Дубасова.
14 мая. Эсеры бросили бомбу на Севастопольской набережной в генерала Неплюева, коменданта Севастополя. Убито и покалечено более 100 человек.
28 июня. Канун апостолов Петра и Павла. Застрелен у себя на даче главный адмирал Черноморского флота Чухнин.
2 июля. В Петербурге убит генерал Козлов. Эсеры по ошибке приняли его за Д.Ф. Трепова.
12 августа. Петербург. Революционеры взорвали дачу П.А. Столыпина на Аптекарском острове. Убито и погибло от ран 32 человека (среди них был младенец). Ранено более 30, в том числе и дети Столыпина.
13 августа. Убит эсерами генерал Мин.
2 декабря. В генерал-адъютанта Дубасова брошена бомба.
9 декабря. В губернском земском собрании застрелен тверской генерал-губернатор граф А.П. Игнатьев.
21 декабря. Убит генерал-майор В.Ф. фон дер Лауниц, петербургский градоначальник.
27 декабря. Убит в Петербурге во время прогулки военный прокурор генерал-адъютант В.П. Павлов.
В этом списке мог оказаться и киевский губернатор, но предназначенная для него бомба взорвалась прямо в комнате Фейги Каплан.
Незадачливая террористка получила тяжелые ранения и контузию. Ее вылечили и приговорили к высшей мере наказания, которую не убитый ею губернатор заменил на бессрочную каторгу.
Псевдоним шестнадцатилетней террористки Фейги Хаимовны Ройдман указывает, как полагают некоторые исследователи, на занятия отца Нохима Ройдмана, который принадлежал к хасидам, последователям Баал Шема{333}.
«О чем надобно было думать девушке из еврейского семейства? — задаются вопросом биографы Фанни Каплан. — О женихе, детишках здоровых, об уютном домике, где в пятницу вечером будут зажигать свечи, встречая Шаббат»…
А о чем она думала?
Об убийствах, о бомбах…
И вот результат — этап от Киева до Читы.
Забайкалье.
Мальцевская каторжная тюрьма…
Здесь Каплан познакомилась с Марией Спиридоновой, которая — так получается! — была рядом с Каплан и в начале ее тюремного пути, и в конце — в Кремлевской тюрьме…
На каторге Фаня совсем ослепла…
Подруга Каплан по Нерчинской каторге, эсерка В.М. Тарасова-Бобровая, рассказала, что Фаня ослепла, «кажется, в январе 1909 года, причем до этого она хронически теряла зрение на два-три дня. Врачи разнообразно трактовали причины слепоты. Зрачки ее реагировали на свет. Это было связано с резкими головными болями»{334}.
Пока Фанни слепла в Акатуе, ее семья эмигрировала в Чикаго, и, когда Фанни вышла по амнистии, объявленной после Февральской революции, все друзья ее были — эсерки-каторжанки, с которыми Каплан сфотографировалась перед отъездом в Чите{335}.
Лето 1917 года Фанни провела в Евпатории, в санатории для бывших политкаторжан, где и выписали ей направление в харьковскую глазную клинику доктора Гершвина, где и была сделана удачная операция, частично вернувшая террористке зрение.
Примечательно, что направление Каплан на операцию выписал Дмитрий Ульянов, в брата которого, как считается, и стреляла она на заводе Михельсона.
«Октябрьская революция меня застала в Харькове… — рассказывала Каплан на допросе. — Этой революцией я была недовольна — встретила ее отрицательно. Я стояла за Учредительное собрание и сейчас стою за это»{336}.
Летом 1918 года Каплан приехала в Москву.
На процессе 1921 года утверждалось, что Фанни Каплан приехала в Москву «одержимая мыслью — убить Ленина» и ее включили в группу чекиста-провокатора Г.И. Семенова, куда входили Л.В. Коноплева, К.А. Усов, Ф.Ф. Федоров-Козлов…
Но, рассказывая, как трактовалось на этом процессе убийство Володарского, мы уже приводили свидетельство Н.П. Бухарина, «защищавшего» тогда правых эсеров, что и Л.В. Коноплева, и К.А. Усов, и Ф.Ф. Федоров-Козлов были секретными сотрудниками ВЧК.
Поскольку «любимец партии» и рекомендовал Лидию Васильевну Коноплеву в ВКП(б), у нас нет оснований сомневаться в его свидетельстве. А это значит, что на процессе сексоты-провокаторы говорили то, что было нужно чекистам, и доверять их показаниям, разумеется, нельзя…
И вспоминаем мы сейчас об этих показаниях только для того, чтобы показать, что ив 1921 году чекисты не оставляли своих попыток «повесить» на расстрелянную Фаню Каплан покушение на В.И. Ленина.
6
Просто поразительно, сколь много схожего обнаруживается в ходе расследования покушения на В.И. Ленина в Москве с расследованием убийства В. Володарского в Петрограде.
Даже эстонец свой появляется среди следователей.
Только если в Петрограде это был безвестный Эдуард Отто, то в Москве к расследованию покушения на В.И. Ленина подключили знаменитого Виктора Кингисеппа. Хотя, конечно, знаменитым Кингисепп стал позже, а тогда он тоже был просто следователем при Верховном трибунале и Президиуме ВЧК.
Мы отмечали, что расследование Э.М. Отто выгодно отличается от торопливых умозаключений М.С. Урицкого… Так и расследование В.Э. Кингисеппа отмечено гораздо большей объективностью, нежели экспрессивные допросы Фанни Каплан Я.Х. Петерсом и НА. Скрыпником.
Кингисепп не пытался вырвать у Фанни Каплан нужные ему показания, он пытался разобраться, как произошло покушение и кто мог совершить его. Для этой цели им был произведен 2 сентября следственный эксперимент. Он сам изображал на заводе Михельсона Фанни Каплан, С.К. Гиль — самого себя, Н.Я. Иванов — Ленина, а работник профкома Сидоров — Попову{337}.
В результате этого эксперимента выяснилось, что Каплан никак не могла ранить Ленина в спину, когда он подходил к подножке машины.
Выяснил Виктор Кингисепп и массу других подробностей, фактически оправдывающих Фанни Каплан, но для судьбы самой Каплан, как и для результата расследования, это уже не имело никакого значения.
На основании имеющихся документов и свидетельств сейчас можно совершенно определенно утверждать, что, если расследование убийства 3. Володарского переплеталось с попытками М.С. Урицкого скрыть следы своего участия в нем, то московские чекисты, и прежде всего Я.Х. Петерс, должны были не столько расследовать покушение на В.И. Ленина, сколько отделить это покушение от спецоперации, которая проводилась под его непосредственным руководством…
Сценарий спецоперации был задуман еще Яковом Блюмкиным и первоначально, по-видимому, не выходил за рамки жанра современного «лохотрона». Заведующий отделением по борьбе с международным шпионажем Яков Григорьевич Блюмкин и казначей ВЧК Якоб Христофорович Петерс решили тогда основательно «подоить» господ дипломатов.
Для этого в июне 1918 года в Петроград были засланы два чекиста-провокатора Ян Буйкис и Ян Спрогис. Под фамилиями Шмидкен и Бредис, выдавая себя за представителей московского контрреволюционного подполья, они встретились с морским атташе английского посольства капитаном Р.Н. Кроми и заинтересовали его рассказами о возможности перекупить латышских стрелков в Кремле.
Кроми вывел чекистов на Сиднея Рейли, Рейли — на Локкарта, который обхаживал тогда Троцкого.
К июлю 1918 года Роберт Гамильтон Брюс Локкарт уже выдал первую сумму на организацию мятежа латышских стрелков. Всего же вместе с французским генеральным консулом в Москве Фернаном Гренаром он передал около 10 миллионов рублей.
Деньги шли якобы контрреволюционному «Национальному центру», но ни Савинкову, ни генералу Алексееву, ни латышским стрелкам не достались — осели в карманах чекистов.
По мере того как из операции был выведен Яков Блюмкин (не связан ли его загадочный крюк в Гатчину по пути из Москвы в Киев с этой операцией?), простенький и довольно надежный лохотрон постепенно втянул и самих своих хозяев в смертельную игру.
В ходе операции чекистские провокации настолько переплелись со стремлением западных спецслужб внедриться в ЧК, что уже невозможно стало со стороны отличить, где тут задействованные в операции чекисты, а где иностранные шпионы.
У знаменитого английского агента Сиднея Рейли[58] (тоже, как и Яков Блюмкин, одессита) имелось, к примеру, подлинное удостоверение на имя сотрудника Петроградской ЧК Сиднея Георгиевича Реллинского, а командир 1-го латышского артдивизиона Э. Берзин часть аванса (700 тысяч рублей золотом), переданного Сиднеем Рейли на организацию восстания латышских стрелков, лично вручил Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, а часть — Якобу Христофоровичу Петерсу.
Известно также, что самый главный заговорщик Роберт Гамильтон Брюс Локкарт был очень тесно связан с Я.Х. Петер-сом и неоднократно передавал от его имени деньги живущей в Лондоне супруге Якоба Христофоровича — Мэй. В свою очередь, есть основания предполагать, что Мура Бенкендорф, любовница Локкарта, была сотрудницей ВЧК.
В результате в конце августа уже совсем невозможно стало различить, где чекистская провокация, имеющая смыслом разоблачить англо-французско-американскую буржуазию, а где настоящий заговор, организованный и управляемый чекистами.
Известно, что 22 августа командир 1-го латышского артдивизиона Э. Берзин и Сидней Рейли деятельно обсуждали детали заговора и спорили: надо ли арестовать Ленина? Или же сразу застрелить? Сошлись на том, что лучше сразу застрелить, ибо существует опасность, что за время конвоирования в Архангельск Ленин сумеет склонить на свою сторону конвойных и те его освободят…
Этот спор удивительно напоминает разговор водителя В. Володарского Гуго Юргена с Петром Юргенсоном в коридорах Смольного о том, где и как надо остановить машину Володарского, чтобы убить его.
7
Мы уже говорили, что Ф.Э. Дзержинскому пришлось уйти из ВЧК после организованного московскими чекистами налета на германское посольство и убийства посла Мирбаха.
Теперь, как только Феликс Эдмундович вернулся в ВЧК, петроградские чекисты осуществили налет на британское посольство и убили военно-морского атташе капитана Кроми…
Это, похоже, становилось традицией ВЧК, стилем работы ее председателя.
Любопытно, что произошло это как раз в то время, когда Феликс Эдмундович Дзержинский мчался на поезде, так и не успев толком допросить в Петрограде убийцу Каннегисера, чтобы… опоздать на допросы в Москве Фанни Каплан.
Если мы вспомним, что Феликс Эдмундович и после убийства посла Мирбаха предпочел просидеть наиболее острый момент так называемого восстания эсеров под так называемым арестом, то и тут усматриваются элементы традиции и стиля…
К череде загадочных событий, вызванных деформацией времени на стыке лета и осени 1918 года, надо отнести и прозвучавшее по радио обращение «ко всему цивилизованному миру от Совета комиссаров Союза коммун Северной области»…
«Фактическими убийцами Володарского, Урицкого, покушения на Левина и Зиновьева являются англо-французы… Подлые душители свободы пошли на все… Товарища Урицкого они убили потому, что товарищ Урицкий получил в свои руки нити целого английского заговора в Петрограде…
При появлении в здании посольства представителей нашей комиссии по борьбе с контрреволюцией английские заговорщики во главе с офицером Кроме открыли стрельбу, убили нашего товарища Янсона и тяжело ранили товарищей Шейкмана и Бортновского, которые в настоящий момент находятся при смерти.
Ф. Дзержинский
Военный комиссар Б. Позерн
А. Луначарский
2 сентября 1918 года».
Обратим внимание на дату.
2 сентября Ф.Э. Дзержинский точно был в Москве, и почему его подпись стоит рядом с подписями петроградских товарищей, непонятно.
Естественно предположить, что обращение это и было подписано в Петрограде, но не 2 сентября, а 31 августа, когда еще только готовился налет на английское посольство, когда Дзержинский по телеграфу связался со своим заместителем в Москве Я.Х. Петерсом и дал указание арестовать Локкарта и его подручных…
Думается, что бессмысленно обсуждать сейчас, чем же — чекистской игрой или настоящим антиленинским заговором? — была та спецоперация в Кремле, которую начинал еще Яков Григорьевич Блюмкин и которую потом проводили Яков Христофорович Петерс и Феликс Эдмундович Дзержинский…
После того, как Феликс Эдмундович узнал, что убить В.И. Ленина на заводе Михельсона не удалось, он объявил эту операцию заговором и приказал раскрыть его.
Отметим — это, кстати, очень важно для уточнения последовательности событий! — что первый раз Локкарт и капитан Хикс были арестованы до 6 часов утра 31 августа, когда Якоб Петерс устроил им очную ставку с Фанни Каплан. В 9 часов утра они были отпущены, но Петерс на всякий случай арестовал секретную сотрудницу ВЧК и любовницу Локкарта Муру Бенкендорф…
Это в Москве…
А в Петрограде — напомним, что в это время сам Феликс Эдмундович уже находился в поезде между Петроградом и Москвой! — отряд чекистов оцепил здание английского посольства на Французской набережной, у Троицкого моста.
Каким образом вооруженный налет чекистов на английское посольство связан с убийством Урицкого, говорят его результаты.
Все бумаги в английском посольстве оказались сожжены, военно-морской атташе капитан Френсис Аллен Кроми был убит, погиб при захвате посольства чекист Янсон, были ранены помощник комиссара Петроградской ЧК Иосиф Наумович Шейкман-Стодолин и следователь ВЧК Бартновский.
Но не совсем ясно, кто и в кого стрелял…
Так получилось, что пули, попавшие в чекистов, были выпущены из чекистского оружия.
Резидент английской разведки Эрнест Бойс, который должен был отвезти капитана Кроми на свою квартиру для встречи с Рейли, приехал в посольство, когда Кроми был уже мертв.
Все концы «чекистско-посольского» заговора оказались обрубленными, и теперь о подлинных намерениях Ф.Э. Дзержинского и его покровителя Я.М. Свердлова можно судить только по косвенным свидетельствам…
И тут все сразу встает на свои места.
И выстрел Леонида Каннегисера тоже…
Он, как нам кажется, и спутал все карты чекистам, и можно предположить, что вместо тщательной подготовки убийства Ленина они вынуждены были форсировать ход «спецоперации» и, когда теракт на заводе Михельсона все-таки не удался, чтобы замести следы, совершили налет на английское посольство.
Хотя, конечно, одним только налетом на посольство все проблемы решить не удалось.
У товарища Петерса в Лондоне жили жена и сын, которым Локкарт неоднократно передавал деньги, и рисковать ими Якоб Христофорович не мог даже ради бесконечно любимой им ВЧК. Локкарта он выпустил, но тут же арестовал его любовницу Муру Бенкендорф.
И не ошибся.
Оказалось, что Локкарт любит Муру и тоже не собирается рисковать ею даже ради бесконечно любимой им английской разведки.
Вот такие это благородные люди оказались.
Якоб Христофорович Петерс и Роберт Гамильтон Брюс Локкарт…
В октябре Локкарту, вместе с другими сотрудниками миссии Антанты, было разрешено вернуться в Англию.
28 сентября Петерс сам пришел к Локкарту сообщить о его освобождении.
— Вы можете быть счастливы и жить как вам захочется. Мы можем дать вам работу, — сказал он. — Вы ведь знаете, что капитализм все равно обречен.
— Не валяйте дурака! — ответил Локкарт. — Вы же хотите передать письмо своей жене? Давайте письмо… Если оставить политику в стороне, я против вас ничего не имею. Всю свою жизнь я буду помнить то добро, которое вы сделали для Муры.
О благородстве Якоба Христофоровича Петерса говорить, разумеется, не просто. Тут нельзя ни на мгновение забывать, что это благородство ближайшего подручного Дзержинского.
Чтобы иметь возможность хоть как-то скомпрометировать Локкарта в глазах его начальства, Петерс придумал произвести в немецкие агенты чекистку Муру Бенкендорф. И пока его жена Мэй находилась в Лондоне, Петерс, как он сам признавался, скрывал этот факт, даже на суде, приговорившем Локкарт, Рейли, Гренар и де Вертиман в декабре 1918 года к смертной казни.
Зато, как только Мэй удалось вывезти, Петерс сразу предал гласности факт сотрудничества любовницы английского разведчика Локкарта с немецкой разведкой. Разумеется, сделал это товарищ Петерс только в знак протеста против «ярой антисоветской кампании», которую развернул тогда Локкарт в Англии.
Вот мы и разобрались и с поразительным совпадением заговоров и терактов, и с полуслепой террористкой, и с мудрым Феликсом Эдмундовичем…
Только народу тогда понять это было невозможно…
Даже если и был этот народ и большевиками, и чекистами…
Не понимали этого следователи Огго и Кингисепп…
Не понимали и товарищи в затерянном в вятской глуши Нолинске…
Это оттуда пришло тогда письмо, которое было напечатано в «Вестнике ВЧК» и которое вызвало такой гнев В.И. Ленина, что сам журнал немедленно был закрыт.
Письмо называлось: «Почему вы миндальничаете?»
«Революция учит. Она показала нам, что во время бешеной Гражданской войны нельзя миндальничать. На своей спине мы почувствовали, что значит отпускать на свободу Красновых, Колчаков, Алексеевых, Деникиных и как мы увидели также на примере убийства Володарского, что значит благодушествовать с “домашней” контрреволюцией. И мы объявили нашим массовым врагам террор, а после убийства товарища Урицкого и ранения нашего дорогого вождя тов. Ленина мы решили сделать этот террор не бумажным, а действительным. Во многих городах произошли после этого массовые расстрелы заложников. И это хорошо. В таком деле половинчатость хуже всего, она озлобляет врага, не ослабив его. Но вот мы читаем об одном деянии ВЧК, которое вопиющим образом противоречит всей нашей тактике.
Локкарт, тот самый, который делал все, чтобы взорвать Советскую власть, чтобы уничтожить наших вождей, который разбрасывал английские миллионы на подкупы, знающий безусловно очень многое, что нам очень важно было бы знать, — отпущен, и в «Известиях ВЦИК» мы читаем следующие умилительные строки: «Локкарт (после того, как его роль была выяснена) покинул в большом смущении ВЧК».
Какая победа революции! Какой ужасный террор! Теперь-то мы можем быть уверены в том, что сволочь из английских и французских миссий перестанет устраивать заговоры. Ведь Локкарт покинул ВЧК “в большом смущении”. Мы скажем прямо: прикрываясь “страшными словами” о массовом терроре, ВЧК еще не отделалась от мещанской идеологии, проклятого наследия дореволюционного прошлого.
Скажите, почему вы не подвергли его, этого самого Локкарта, самым утонченным пыткам, чтобы получить сведения и адреса, которых такой гусь должен иметь очень много?
Ведь этим вы могли бы с легкостью открыть целый ряд контрреволюционных организаций, может быть, даже уничтожить в дальнейшем возможность финансирования, что, безусловно, равносильно разгрому их; скажите, почему вы вместо того, чтобы подвергнуть его таким пыткам, от одного описания которых холод ужаса охватил бы контрреволюционеров, скажите, почему вы вместо этого позволили ему “покинуть” ВЧК в большом смущении?
Или вы полагаете, что подвергать человека ужасным пыткам более бесчеловечно, чем взрывать мосты и продовольственные склады с целью найти союзника в муках голода для свержения Советской власти. Или, быть может, ему нужно было дать возможность “покинуть ВЧК в большом смущении”, чтобы не вызвать гнева британского правительства?
Но ведь это значит — совершенно отказаться от марксистского взгляда на внешнюю политику. Для каждого из нас должно быть ясно, что английский нажим на нас зависит только от имеющихся у английских империалистов свободных сил и от внутреннего состояния этой страны. Англичане и так жмут, как могут, и от пыток Локкарта этот нажим увеличиться не может. А что касается внутреннего состояния, то в наших интересах обратить взоры трудящихся масс Англии на возмутительные деяния их “представителя”. Пусть каждый английский рабочий знает, что официальный представитель его страны занимается такими делами, что его, официального представителя, приходится подвергнуть пытке.
И можно с уверенностью сказать, что рабочие не одобрят системы взрывов и подкупов, проводившихся в жизнь этим прохвостом, руководимым прохвостами рангом повыше.
Довольно миндальничать; бросьте недостойную игру в “дипломатию” и “представительства”.
Пойман опасный прохвост. Извлечь из него все, что можно, и отправить на тот свет»{338}.
Ссылки на это письмо можно найти во многих учебниках истории, и, как правило, комментируется оно в том духе, что вот чекисты сами признались в применении пыток и это и вызвало гнев Владимира Ильича, поэтому он на заседание ЦК РКП(б) 25 октября и потребовал закрыть «Еженедельник чрезвычайных комиссий» за разглашение в нем сведений о пытках, применяющихся в ЧК.
Но простите…
Тут же о пытках говорится только, что надо бы их ввести. То есть просто высказывается пожелание… И даже как бы и упрек чекистам — чего это вы не применяете пыток?
Так что, как нам кажется, рассердил Владимира Ильича не разговор о пытках, а подчеркнутый нами абзац…
Слишком уж откровенно было сказано и про английские миллионы, которые разбрасывал на подкупы Локкарт, чтобы взорвать Советскую власть, чтобы уничтожить наших вождей… И про то, что знал Локкарт безусловно очень многое, что неплохо было бы знать, если уж и не всему трудовому народу, то хотя бы всем большевикам и чекистам…
Вот это любопытство и рассердило Владимира Ильича.
Такого любопытства в древней Хазарии не прощали…
8
Сам В.И. Ленин, похоже, прекрасно знал, кто замыслил убрать его, и никакие фиалки, которые второпях собирали ему удалые ребята из ВЧК, не могли обмануть его.
Когда его привезли не в больницу, а в Кремль, раненый Владимир Ильич в лучших традициях хазарского двора дождался, пока приедет верный Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич со своей женой Верой Михайловной Величкиной, имевшей медицинское образование.
В ее присутствии, превозмогая невероятную боль, Ленин расспросил врачей (здесь были Минц, Вейсброд, Семашко, Баранов, Винокуров, Розанов, Обух), тяжело ли он ранен: «А сердце?.. Далеко от сердца… Сердце не может быть затронуто?»…
И только потом, и только Величкиной, разрешил сделать себе укол морфия.
Пока он расспрашивал врачей, появились признаки одышки. Поднялась температура. Когда сделали укол, Ленин впал в полузабытье, иногда произнося отдельные слова.
«И зачем мучают, убивали бы сразу…» — сказал он тихо и смолк, словно заснул{339}.
И снова остается только поражаться той феноменальной способности бороться за свою жизнь, которую демонстрирует в эти дни Владимир Ильич Ленин.
Находясь буквально на грани сознания, он стремится контролировать обстановку и не позволить врагам добить его.
«Я.М. Свердлов сообщает в 11 час 45 мин в Петроград, что состояние здоровья Ленина несколько улучшилось. Больной шутит, заявляет врачам, что они ему надоели, не хочет подчиняться дисциплине, шутя, подвергая врачей перекрестному допросу, вообще “бушует”. Сегодня мы все окрылены надеждой»{340}.
Стремительно и выздоровление В.И. Ленина.
С двумя такими тяжелыми ранениями, он, как утверждает П.Д. Мальков, начал вставать с постели уже через две недели и 16 сентября «впервые после болезни участвовал в заседании ЦК РКП(б) и в тот же вечер председательствовал на заседании Совнаркома. Ильич вернулся к работе!»{341}.
Разумеется, это нечеловеческое усилие не прошло даром для ленинского организма…
Не прошло оно даром и для его спасителей.
Вере Михайловне Величкиной пришлось заплатить своей жизнью за то, что она заслонила Ленина. 30 сентября, сразу после отъезда Ленина в Горки, Вера Михайловна умерла в Кремле, якобы от «испанки».
Многие современные историки считают непосредственным заказчиком покушения на В.И. Ленина Якова Михайловича Свердлова.
Прямых доказательств этому нет, но косвенных — предостаточно…
Мы уже говорили, что, в отличие от местечковых евреев Троцкого и Свердлова, Ленин, не отказываясь от глубинной ненависти к любому проявлению русскости и православия, тем не менее мог быть (и был!) принимаем за русского и поэтому и действовал гораздо успешнее, чем Троцкий или Свердлов.
Разумеется, Ленин превосходил их и интеллектом, но главное, он олицетворял собою будущую, удивительно способную к мимикрии еврейскость, которая в дальнейшем и займет господствующие позиции в России.
Человек идеи — Троцкий за это и ценил Ленина, а Свердлов, будучи всего лишь заурядным и ограниченным прохвостом, стремящимся прежде всего к семейному обогащению, воспринимал Владимира Ильича лишь как препятствие на этом пути.
Свердлов не мог даже подняться хотя бы до уровня Троцкого и постигнуть, что Россию надобно еще очень и очень долго преобразовывать, чтобы ее мог наконец возглавить чистокровный еврей.
Зато В.И. Ленин, владевший, кажется, всей глубиною злой хазарской мудрости, не только понимал это, но и видел, что объявления декретов и проведения реформ недостаточно, чтобы удержать власть.
Он понимал, что необходимо расколоть народ, заставить одну часть его ненавидеть другую. Более того… Необходимо создать непроходимую пропасть между классом местечковых управленцев, на который опирались большевики, и остальным населением России. И — этого Якову Михайловичу Свердлову уже никогда было не понять! — пропасть эту между классом местечковых управленцев и остальным населением России нужно было создавать вопреки частным, сиюминутным интересам евреев, специально вызывая ненависть к ним.
Для этого Ленин и подписал закон об антисемитизме в самый, казалось бы, неподходящий момент, когда возглавляемые местечковыми комиссарами продотряды громили русских крестьян, когда только-только расстреляли царскую семью…
И вот задуманное Лениным убийство царской семьи было превращено Свердловым из-за его неизбывной жадности в акт обыкновенного мародерства.
Более того…
После организации убийства царской семьи Свердлов начал входить во вкус самостоятельного правления и, как не без раздражения заметил сам Ленин, «сплошь и рядом единолично выносил решения»{342}.
Я.М. Свердлова, безусловно, беспокоило все возрастающее по отношению к нему раздражение Владимира Ильича, тем более что причин для этого раздражения у Ленина было достаточно и помимо стратегических разногласий.
С того самого момента, когда Свердлову удалось занять освобожденное Л.Б. Каменевым место председателя ВЦИК, Яков Михайлович львиную долю своих сил и времени посвящает пропихиванию на различные государственные посты своих родственников и верных людей.
Пример ему подал сам Владимир Ильич, который тоже пристроил всех своих родственников в правительство… Но у Якова Михайловича семья была больше, да и образованием, и развитием интеллекта Свердловы не утруждали себя, и поэтому практически у всех Свердловых бросалось в глаза их полнейшее несоответствие занимаемым должностям…
Зная бесцеремонность и безжалостность В.И. Ленина к любым промахам сотрудников, можно представить, сколько оскорблений пришлось вытерпеть Якову Михайловичу за свое стремление устроить небогатых умом родственников на хорошие места.
Не богат умом был и сам Яков Михайлович.
Существует множество свидетельств, что он действительно считал себя способным заменить В.И. Ленина и дело управления страной не казалось ему слишком уж сложным.
В сентябре 1918 года Свердлов сосредоточил в своих руках практически всю власть и чувствовал себя вполне комфортно.
— Вот, Владимир Дмитриевич, — говаривал он В.Д. Бонч-Бруевичу, — и без Владимира Ильича справляемся…
Большинство современных историков считает также, что и столь стремительный расстрел Каплан и, наконец, сожжение трупа, чтобы его никогда уже больше нельзя было опознать, были сделаны по непосредственному указанию Якова Михайловича Свердлова и прямо свидетельствуют о его причастности к покушению на В.И. Ленина.
В принципе, версия о причастности Якова Михайловича Свердлова к организации покушения имеет право на существование.
И, скорее всего, и сам В.И. Ленин ясно понимал это.
Более того, можно предположить, что та неожиданная болезнь, которая так стремительно в 4 часа 55 минут 16 марта 1919 года оборвала жизнь Якова Михайловича Свердлова, тоже не была случайностью, а прямо вытекала из дерзкой попытки Якова Михайловича лишить жизни Владимира Ильича.
«Не прошло и месяца, как той же испанкой заболел Я.М. Свердлов… — вспоминал В.Д. Бонч-Бруевич. — Несмотря на предупреждения врачей о том, что испанка крайне заразна, Владимир Ильич подошел к постели умирающего… и посмотрел в глаза Якова Михайловича. (Выделено нами. — Н.К.) Яков Михайлович затих, задумался и шепотом проговорил: “Я умираю… Прощайте”»{343}.
Комментируя этот эпизод из воспоминаний В.Д. Бонч-Бруевича, исследователи отмечают, что, зная Ленина, можно быть уверенным, что «в интересах революции» он никогда не пошел бы к Свердлову, если бы тот действительно был болен заразной болезнью.
Поэтому особое значение приобретают тут безобидные слова, как посмотрел Ленин в глаза Якова Михайловича, особым смыслом наполняется факт, что Ленин входит к еще живому Свердлову, а уходит уже от мертвого…
Все это подтверждает версию, согласно которой Яков Михайлович никакой «испанкой» не болел, а был, согласно доброму еврейскому обычаю, забит камнями в Орше…
Уже не раз отмечалось, что на кадрах кинохроники похорон Свердлова отчетливо видна в гробу забинтованная голова Я.М. Свердлова.
И все-таки, как мне кажется, говорить, что Я.М. Свердлов действительно был забит камнями, едва ли разумно. Скорее всего, метание камней, имевшее место на митинге в Орше, носило символическое значение, а непосредственной причиной, вызвавшей физическую смерть Свердлова, был какой-то яд…
9
А тогда, 31 августа 1918 года, в 6 часов утра, пытаясь отвести от себя подозрения, Якоб Петерс устроил Фанни Каплан очную ставку с Локкартом и его помощником, капитаном Хиксом.
Локкарт запомнил, что Фанни была одета во все черное, волосы у нее были тоже черные и «под глазами — большие черные круги».
«Мы догадались, что это была Каплан. По-видимому, большевики надеялись на то, что она узнает нас и не сможет этого скрыть. Сохраняя неестественное спокойствие, она подошла к окну и, подперев подбородок рукой, стояла неподвижно, безмолвно, глядя в окно невидящим взором, словно смирившись со своей судьбой, до тех пор, пока не пришли охранники и не увели ее».
Это последний портрет Каплан.
Эта очная ставка была последним вызовом Фанни Каплан на допрос.
Более, кроме людей, которые расстреливали ее, Каплан никто не видел…
Считается, что 3 сентября 1918 года коллегия ВЧК вынесла постановление о расстреле Ф.Е. Каплан (Ройдман).
Член коллегии ВЧК, секретарь ВЦИК В А Аванесов (С.К. Мартиросов) поручил коменданту Кремля Павлу Дмитриевичу Малькову привести данный приговор в исполнение в тот же день.
Как утверждал Янкель Хаимович Юровский{344}, который после расстрела царской семьи, кажется, безотлучно находился в квартире Якова Михайловича Свердлова, тот вызвал к себе П.Д. Малькова и лично проинструктировал перед расстрелом.
Вызвав нескольких охранников-латышей, а также одного из шоферов автобоевого отряда при ВЦИК, П.Д. Мальков приказал вести арестованную в помещение кремлевского гаража. Водитель завел машину, и Мальков выстрелил в затылок Каплан.
Было 16 часов пополудни 3 сентября 1918 года, или — время и тут рвется! — 4 часа утра 4 сентября.
Нам кажется, что 4 часа утра 4 сентября 1918 года — более реальная дата. Ведь расстрел происходил в кремлевском гараже, и днем в гараже наверняка был народ, были посторонние свидетели, а их избегали, тем более что одним только расстрелом казнь Фанни Каплан не ограничилась.
Труп ее завернули в брезент, вынесли в Александровский сад и, облив бензином, подожгли в железной бочке…
Присутствовавший при расстреле и сожжении Каплан кремлевский библиофил и поэт Демьян Бедный, почувствовав запах горелой человечины, упал в обморок.
Когда он пришел в себя, сверху из осеннего неба, кружась, падали на него белесые хлопья.
— Снежинки? — удивленно проговорил Ефим Алексеевич. — Рано снегу-то…
Орудовавший возле бочки с горящей Каплан Павел Дмитриевич Мальков засмеялся в ответ.
Хмурые, стояли поодаль латыши с винтовками…
Демьян Бедный встал с земли.
Он все понял.
Это были не снежинки…
Говорят, что Демьян Бедный напросился на расстрел Фанни Каплан для «получения творческого импульса».
Импульс этот он получил…
Под стихотворением «Снежинки» ставят в скобочках дату — 21 января 1925 года, но когда написано Демьяном Бедным это стихотворение, неизвестно…
И кто знает, может, тогда, ранним сентябрьским утром 1918 года, когда падали на лицо кремлевского библиофила белесые хлопья пепла, поднимающиеся из бочки, возле которой орудовал неутомимый Мальков, и сложились в сердце пронзительные строки:
Лично мне в стихотворении «Снежинки» видится нечто большее, чем принято видеть в нем.
Конечно, наличествует в нем и скорбь по поводу смерти В.И. Ленина, но есть еще в стихотворении и жуть великого хазарского жертвоприношения — эти тысячи лаптишек и опорок, за Лениным утаптывающих путь…
Ведь действительно, начиная с сентября 1918 года каждый день жизни хазарского вождя сопровождался жертвоприношением тысяч и тысяч русских жизней…
Нет-нет!
Говоря так, менее всего хотелось бы мне, чтобы эти рассуждения были истолкованы как некий выпад против хазарской могилы на Красной площади.
Мне близки провозглашаемые сейчас «открытым обществом» принципы толерантности, и я считаю, что не нужно разрушать ничьи святыни.
Нужно только очень отчетливо понимать, чьи это святыни, чтобы не поклоняться, как это делали русские люди почти весь XX век, святыням своих лютых врагов…
Глава тринадцатая.
НОВОЛЕТИЕ КРАСНОГО ТЕРРОРА
Она не погибнет, — знайте!
Она не погибнет, Россия.
Они всколосятся, — верьте!
Поля ее золотые.
И мы не погибнем, — верьте!
На что нам наше спасенье?
Россия спасется, — знайте!
И близко ее воскресение.
Зинаида Гиппиус
В древние времена на Руси новый год отсчитывали с первого сентября — Семенова дня…
В этом была своя, земледельческая логика. Убирали урожай, начинались заботы о новом урожае, а вместе с ним и о новом годе.
Тысяча девятьсот восемнадцатый, самый короткий в истории России год, похоже, тоже выстраивался под старинную хронологию. Все зло, трудолюбиво засеянное большевиками, уже взошло, вызрело, и наступила пора собирать кровавый урожай.
1
Чекистский налет на английское посольство и аресты иностранных дипломатов, предпринятые, чтобы скрыть участие ВЧК в подготовке покушения на В.И. Ленина, осуществлялись в духе той «революционной импровизации», на которую такими мастерами были большевики.
Конечно и тут не обошлось без накладок.
Приходится признать, что на роль террористки № 1 можно было бы подыскать и более подходящую фигуру…
С Каплан получился перебор. И не потому даже, что Фанни оказалась слепой и просто не могла бы ни в кого попасть, а потому, что она была еврейкой…
Этого подручные Феликса Эдмундовича в спешке не сообразили.
Перечитывая сентябрьские газеты 1918 года, видишь, что большевистскую администрацию Москвы и Петрограда, не посвященную в планы чекистов, в те дни охватила паника…
Порождал ее, конечно, не сам факт покушений.
Поражало, что еврей Каннегисер убивает еврея Урицкого, а еврейка Каплан стреляет в еврея Ленина…
Евреи убивали евреев — вот это действительно вызывало шок.
«Ближайший друг М.С. Урицкого» комиссар Позерн на траурном заседании Петросовета сказал:
«Нелегка была та черная работа, которую нес товарищ Урицкий и которая отрывала его от рабочих масс. В то время, когда во всех советских районах все спали, на Гороховой, 2 светилась лампада, где тов. Урицкий должен был обдумывать каждый росчерк своей руки об арестах…
Тов. Урицкий не имел личной жизни, не имел семьи. Вся жизнь, все мысли и желания его растворялись в успехах движения общего дела. Этот скромный человек был высшим идеалом человечества (курсив мой. — Н.К.), способным раствориться в целом коллективном творчестве»{345}.
Слова «человечество» и «еврейство» были для комиссара Позерна синонимами, и, когда он говорил на заседании Петросовета об идеале, он подразумевал, что Урицкий был высшим идеалом еврейства, и не понимал: как такого человека мог убить еврей…
Выходом из этого тягостного недоумения, и выходом весьма «неадекватным», и стал красный террор.
«За кровь товарища Урицкого, за ранение тов. Ленина, за покушение на тов. Зиновьева, за неотомщенную кровь товарищей Володарского, Нахимсона, латышей, матросов — пусть польется кровь буржуазии и ее слуг — больше крови!»{346}.
Анатолий Мариенгоф так вспоминал эти дни:
«Стоял теплый августовский день… По улице ровными каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано: “Мы требуем массового террора”{347}.
Поскольку террора требовали и газеты, и латыши, то большевики не смогли им отказать в этом.
Народный комиссар внутренних дел Петровский обратился ко всем Советам с циркулярной телеграммой:
«Убийство тов. Володарского, тов. Урицкого и покушение на тов. Ленина, массовый расстрел товарищей на Украине, в Финляндии и у чехословаков, открытие заговоров белогвардейцев, в которых открыто участвуют правые эсеры, белогвардейцы и буржуазия, и в то же время отсутствие серьезных репрессий по отношению к ним со стороны Советов показало, что применение массового террора по отношению к буржуазии является пока словами. Надо покончить, наконец, с расхлябанностью, с разгильдяйством.
Надо всему этому положить конец.
Предписывается всем Советам немедленно произвести арест правых эсеров, представителей крупной буржуазии, офицерства и держать их в качестве заложников. При попытке скрытия или при попытке поднять движение немедленно применять массовый расстрел безоговорочно.
Местным губисполкомам и управлениям принять меры к выяснению всех лиц, которые живут под чужой фамилией с целью скрыться.
Нам необходимо немедленно, раз и навсегда, обеспечить наш тыл от всякой белогвардейской сволочи и так называемых правых эсеров. Ни малейшего колебания при применении массового террора.
Народный комиссар внутренних дел Петровский»{348}.
2 сентября ВЦИК объявил Советскую республику единым военным лагерем, а уже 5-го числа Совнарком принял постановление о красном терроре.
«Необходимо обезопасить Советскую республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях… подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам…»
«Россией сейчас распоряжается ничтожная кучка людей, к которой вся остальная часть населения, в громадном большинстве, относится отрицательно и даже враждебно, — писала об этих днях Зинаида Гиппиус. — Получается истинная картина чужеземного завоевания. Латышские, башкирские и китайские полки (самые надежные) дорисовывают эту картину. Из латышей и монголов составлена личная охрана большевиков, китайцы расстреливают арестованных».
В картине, нарисованной Зинаидой Гиппиус, названы и латыши, и башкиры, и китайцы, и монголы… И только евреи — вот она, подлинная либеральная вышколенность! — не упоминаются.
Фигура умолчания для либеральной писательницы весьма типичная.
И тем не менее и она не в силах скрыть растерянность, охватившую людей этого круга в сентябрьские дни 1918 года.
Но было уже поздно.
Страна стремительно погружалась во мрак Гражданской войны и кровавого хаоса:
В декабре 1918 года, выступая на собрании партийного актива Курска, Л.Д. Троцкий скажет:
«Необходимо разобраться с положением дел в рядах нашей партии. К сожалению, оказалось, что там находятся такие слюнтявые интеллигенты, которые, как видно, не имеют никакого представления, что такое революция.
По наивности, по незнанию, или слабости характера, они возражают против объявленного партией террора. Революцию социальную такого размаха, как наша, в белых перчатках делать нельзя. Это нам доказывает пример Великой французской революции, которую мы ни на минуту не должны забывать.
Старые правящие классы свое искусство, свое знание, свое мастерство управлять получили в наследство от своих дедов и прадедов.
Что можем противопоставить этому мы? Чем компенсировать свою неопытность? Запомните, товарищи: только террором! Террором последовательным и беспощадным. Если до настоящего времени нами уничтожены сотни, тысячи, то теперь пришло время создать организацию, аппарат, который сможет уничтожать десятками тысяч. У нас нет времени выискивать действительных активных наших врагов. Мы вынуждены стать на путь уничтожения физического всех групп населения, из которых могут выйти возможные враги нашей власти»…
2
Чекиста товарища Я.Х. Петерса трудно было заподозрить в гуманизме, но и он назвал первые дни сентября в Петрограде «истерическим террором». Истерика захлестывала речи на заседаниях, истерика диктовала статьи в газетах, истерика определяла логику расстрелов.
В пятницу, 6 сентября, в «Красной газете» начали публиковаться списки заложников…
В этом единственном дошедшем до нас сочинении секретаря Петроградской ЧК Александра Соломоновича Иоселевича, публиковавшемся с продолжениями из номера в номер, приводятся фамилии людей, большинство из которых было вскоре расстреляно.
Списки эти нигде более не перепечатывались, и потому приведем их полностью — повторим имена невинно убиенных мучеников.
«Ниже печатается список арестованных правых эсеров и белогвардейцев и представителей буржуазии, которых мы объявляем заложниками. Мы заявляем, что если правыми эсерами и белогвардейцами будет убит еще хоть один (выделено нами. — Н.К.) из советских работников, ниже перечисленные заложники будут расстреляны.
Бывшие великие князья:
Романов Дмитрий Константинович,
Романов Николай Михайлович,
Романов Георгий Михайлович,
Романов Павел Александрович,
Романов Гавриил Константинович.
Бывший военный министр при Керенском:
Верховенский Александр Иванович.
Бывший министр при Керенском:
Пальчинский Петр Иоакимович.
Крупнейшие банкиры:
Манус Игнатий Порфирьевич,
Жданов Захарий Петрович.
Известный финансист, бывший князь:
Шиховский Дмитрий.
Сербские офицеры-монархисты:
Нигиревич Сергей,
Чийкин Сергей.
Правый ср.:
Рума Леопольд.
Правый ср., бывший начальник милиции города Петрограда:
Шрейдер Самуил.
Правые ср.:
Афанасьев Николай Алексеевич,
Берман Лазарь Васильевич,
Гешурин Ипполит Михайлович,
Пивен Яков Яковлевич,
Лаврентьев Иосиф Павлович,
Троян Борис Павлович,
Малинин Тимофей Иванович,
Анисимов Василий Иванович,
Светлов Иван Семенович,
Леонтьев Петр Иванович,
Охотин Михаил Дмитриевич,
Егоров Валентин Николаевич.
Издатель «Биржевых ведомостей»:
Пропнер Станислав.
Родственник бывшего министра:
Загрудный Сергей.
Бывший командир кавалерийского корпуса:
Хан Нахичеванский Гуссейн.
Жена полковника, член «Союза русского народа»:
Полубояринова Елена Андриановна.
Бывший купец 2-й гильдии:
Савинков Павел Ильич.
Бывшие поручики:
Новиков Павел Петрович,
Новиков Даниил Петрович,
Пичулевский Николай Васильевич,
Гончаров Иван Иванович.
Купцы 1-й гильдии:
Мехов Н. Н.,
Симонов Василий Васильевич,
Дрозжин Михаил Иванович (ювелир).
Генерал в отставке, командир 6-го артиллерийского корпуса:
Баренцев Михаил Андреевич.
Купец 2-й гильдии, бывший поручик:
Лебедев Владимир Яковлевич.
Гардемарин:
Сикунов Борис Андреевич.
Купец 2-й гильдии:
Барышников Герасим Ал.
Вдова действительного статского советника:
Смит А.Р.
Рядовой:
Крутиков Александр Афанасьевич.
Генерал-от-артиллерии, командир 1-го гвардейского корпуса:
Потоцкий Павел Петрович.
Купец 2-й гильдии:
Марголин Соломон Ильич.
Домовладелец, купец 2-й гильдии:
Вахромеев Иван Федорович.
Студент:
Беккер Дмитрий Борисович.
Купец Гостиного двора:
Якобсон Самуил Семенович.
Ювелир:
Бейлин, Левков Мох. Абрамович.
Граф:
Забелло Иосиф Генрихович.
Владелец типографии:
Юдидево Израиль Берович.
Купец 2-й гильдии:
Лившиц Максимил. Хаймович.
Фабрикант:
Гликин Бер. Матвеевич.
Купцы 2-й гильдии:
Бурцов Прохор Павлович,
Немилов Николай Федорович.
Поручики:
Малиновцев Михаил Александрович,
Максимов Дмитрий Николаевич,
Катугин Николай Васильевич,
Кручилин Александр Степанович.
Прапорщики:
Власов Ив. Алекс.
Циунолис Игнатий Иванович,
Донской Дмитрий Васильевич.
Поручики:
Носов Николай Викторович,
Третьяков Николай Федорович.
Прапорщик запаса:
Гюкке Борис Германович.
Поручики:
Васильев Сергей Алексеевич,
Васильев Владимир Алексеевич,
Балуев Василий Петрович.
Бывший офицер:
Пушкарев Кирилл.
Фабриканты:
Скосырев Иван,
Субботин Михаил Эльгерд,
Густав.
Своя торговля:
Бункин Иван.
Инженеры:
Дубовский Федор,
Слитидков Павел.
Бывший полковник, бывший комендант железной дороги:
Степанов Василий Георгиевич.
Помещик и крупный лесопромышленник:
Пименов Александр Ефимович.
Инженер, начальник котельной мастерской Путиловского завода:
Воскресенский Павел Ефимович.
Прапорщик, студент 3-го курса Политехнического института:
Беляев Виктор Руфович.
Прапорщик:
Беляев Борис Руфович.
Помощник директора Путиловского завода:
Юзефович Людвиг Осипович.
Мичман военного времени:
Глушаков Николай Петрович.
Прапорщик:
Топорнин Николай Николаевич.
Подпоручик:
Саламатников Яков Иванович.
Бывшие генерал-лейтенанты:
Комаров Владимир Александрович,
Петров Дмитрий Петрович.
Подпоручик:
Львов Дмитрий Михайлович.
Генерал-от-инфантерии:
Винтулов Николай Александрович.
Генерал:
Толь Сергей Александрович.
Мичман:
Семеленко Сергей Александрович.
Генерал флота:
Дюшен Сергей Петрович.
(Продолжение следует)
Председатель БОКИЙ
Секретарь А. ИОСЕЛЕВИЧ»{349}.
ОТВЕТ НА БЕЛЫЙ ТЕРРОР (Продолжение списков заложников)
«Гомзяков Александр Иванович — подпоручик,
Гонценаах Николай Николаевич — поручик,
Горшков Николай Иванович — подпоручик,
Гибель Виктор Федорович — штабс-капитан,
Губанов Федор Степанович — прапорщик,
Гавель Андрей Эрнестович — поручик,
Гааген Эрнест Иванович — прапорщик,
Гаврилов Петр Николаевич — прапорщик,
Гарбко Николай Петрович — полковник,
Генинг Александр Оскарович — подполковник.
Голиков Николай Иванович — прапорщик,
Грибков Дионисий Михайлович — поручик,
Грибунин Петр Петрович — полковник,
Гусев Виктор Иванович — прапорщик,
Гафферберг Борис Федорович — штабс-капитан,
Денисов Платон Самсонович — подполковник,
Дюшен 1-й Иван Осипович — прапорщик,
Дюшен 2-й Николай Осипович — подпоручик,
Дмитриев Александр Георгиевич — штабс-капитан,
Добрис Владислав Иоахимович — прапорщик,
Денкер Людвиг Александрович — полковник,
Де-Симон Анатолий Михайлович — капитан 2-го ранга,
Дитятьев Георгий Владимирович — капитан,
Дрозд-Боняцевский Александр Иванович — генерал-майор,
Дубровин Евгений Михайлович — прапорщик,
Дьяконов Павел Павлович — прапорщик,
Донер Александр Николаевич — полковник,
Дидерикс Вильгельм Максимович — подпоручик,
Егоров Иван Иванович — штабс-капитан,
Емельянов Иван Сергеевич — штабс-капитан,
Емельянов Николай Николаевич — подполковник,
Ефимов Сергей Александрович — подпоручик,
Еранцев Николай Федорович — полковник,
Жаров Владимир Константинович — штабс-капитан,
Жержен Николай Георгиевич — подпоручик в отставке,
Жуков Николай Севастьянович — прапорщик,
Зашибин Александр Степанович — прапорщик,
Зейд Михаил Иванович — прапорщик,
Змитрович Андрей Михайлович — подпоручик,
Иванов Сергей Александрович — прапорщик,
Иванов Михаил Иванович — прапорщик,
Иванов Владимир Дмитриевич — поручик,
Каратаев Александр Владимирович — прапорщик,
Канатчиков Николай Иванович — прапорщик,
Киселев Николай Алексеевич — полковник,
Комаров Иван Дмитриевич — подпоручик,
Кикинаки Федор Гаврилович — штабс-капитан,
Крейтре Петр Николаевич — подпоручик,
Кузнецов Павел Васильевич — подполковник в отставке,
Кудржицкий Федор Александрович — ротмистр,
Кулеш Владимир Васильевич — поручик,
Кукин Михаил Павлович — прапорщик,
Кутц Василий Иванович — поручик,
Корецкий Владимир Николаевич — прапорщик,
Казаков Павел Дмитриевич — прапорщик,
Калинин Александр Иванович — подпоручик,
Калугин Александр Ефимович — капитан,
Катков Степан Васильевич — капитан в отставке,
Кирепский Владимир Федорович — поручик,
Козловский Петр Петрович — подполковник,
Колосовский Николай Александрович — мичман,
Колес Михаил Иванович — подпоручик,
Кондратьев Борис Николаевич — капитан,
Красиков Сергей Константинович — поручик,
Крыловский Николай Тимофеевич — подпоручик,
Кузнецов Виктор Иванович — подпоручик,
Кузмин Павел Александрович — подпоручик,
Кузмин Порфирий Трофимович — подпоручик в отставке,
Кущев-Кущевский Александр Павлович — подпоручик,
Корнеев Евгений Павлович — штабс-капитан,
Костальский Алексей Николаевич,
Керг Адельберг Иванович — прапорщик,
Климов Евгений Сергеевич — прапорщик,
Клюпфельд Вячеслав Евгеньевич — штабс-ротмистр,
Казенцов Владимир Казимирович — поручик,
Калесников Алексей Романович — прапорщик,
Колосов Константин Александрович — мичман,
Коротков Николай Михайлович — штабс-капитан,
Кулагин Дмитрий Васильевич — прапорщик,
Копреев Николай Алексеевич — прапорщик,
Лебедев Борис Алексеевич — подпоручик,
Лебеденко Александр Гевасиевич — прапорщик,
Лейман Евгений Леонидович — прапорщик,
Лукин Дмитрий Иванович — подпоручик,
Лянин Деонисий Всеволодович — прапорщик,
Лампе Роберт Густавович — прапорщик,
Ленгвин Виктор Казимирович — прапорщик,
Лунген-Губарев Аркадий Александрович — подпоручик,
Лампсаков Леонид Сергеевич — прапорщик,
Лебедев Владимир Павлович — полковник,
Ле-Дантю Петр Васильевич — прапорщик,
Ломиковский Константин Владиславович — генерал-майор,
Лесков Яков Иванович — подпоручик,
Маслов Юрий Константинович — подполковник,
Медведев Дмитрий Петрович — прапорщик,
Молчанов Алексей Петрович — прапорщик,
Мартьянов Николай Иванович — прапорщик,
Минин Николай Григорьевич — капитан,
Михайлов Евгений Сергеевич — подпоручик,
Мурашов Михаил Степанович — штабс-капитан,
Мартенсон Емилий Рейнгольдович — капитан,
Мельников Иван Федорович — прапорщик,
Метальников Николай Иванович — прапорщик,
Миловзоров Алексей Федорович — штабс-ротмистр,
Миловзоров Дмитрий Федорович — поручик,
Мильтен Александр Оттонович — штабс-капитан,
Морозов Николай Васильевич — генерал,
Муставьев Михаил Рустамович — капитан,
Майдель Владимир Эдуардович — капитан 2-го ранга,
Малевич Александр Сергеевич — подполковник,
Мартльсен Виктор Арсентьевич — подпоручик,
Михеев Виктор Степанович — генерал,
Морозов Василий Кириллович — поручик,
Молодцов Константин Константинович — подполковник,
Мосенжук Сергей Ильич — прапорщик,
Мясников Вячеслав Александрович — поручик,
Майкефер Валентин Иванович — капитан,
Меликов Петр Леванович—генерал.
(Продолжение следует)
Председатель БОКИЙ
Секретарь ИОСЕЛЕВИЧ»{350}.
ОТВЕТ НА БЕЛЫЙ ТЕРРОР (Продолжение)
«Савитов Владимир Николаевич — поручик,
Сверчков Николай Георгиевич — корнет,
Смирнов Лев Алексеевич — штабс-капитан,
Соколов Иван Павлович — прапорщик,
Сомкин Николай Мануилович — поручик,
Савицкий Иван Константинович — поручик,
Стенин Алексей Петрович — подпоручик,
Степанов Анатолий Федорович — полковник,
Седов Иван Васильевич — прапорщик,
Сыромятников Борис Константинович — поручик.
Савицкий Дмитрий Дмитриевич — капитан,
Слижеков Павел Павлович — полковник,
Советов Николай Иванович — прапорщик,
Соловьев Николай Иванович — прапорщик,
Соловьев Александр Матвеевич — штабс-капитан,
Сырокомль-Васильевич Антон Алексеевич — капитан,
Стачу Александр Данилович — подпоручик,
Стаутнек Петр Генрихович — прапорщик,
Стрелков Николай Алексеевич — прапорщик,
Северов Михаил Иванович — штабс-капитан,
Суворин Михаил Николаевич — генерал-майор,
Терентьев Николай Алексеевич — подполковник,
Терентьев Лев Николаевич — прапорщик,
Тимофеев Александр Михайлович — прапорщик,
Торгоневич Гавриил Антонович — штабс-капитан,
Трофимов Владимир Владимирович — штабс-ротмистр,
Токмачев Николай Федорович — полковник,
Тольковский Александр Александрович — капитан,
Тобольский Афанасий Васильевич — подпоручик,
Трифонов Василий Александрович — подпоручик.
Тропилло Иван Осипович — поручик,
Трубников Петр Андреевич — прапорщик,
Труханов Виктор Николаевич — подпоручик,
Туманов Владимир Спиридонович — поручик,
Утробин Евгений Семенович — подполковник,
Ульянов Александр Григорьевич — поручик,
Фаломеев Григорий Александрович — прапорщик,
Федоров Николай Антонович — капитан,
Фок Андрей Борисович — подполковник,
Фридман Георгий Евграфович — поручик,
Фролов Михаил Николаевич — поручик,
Фуражев Алексей Иванович — штабс-капитан,
Фукалов Алексей Фалелеевич — штабс-капитан,
Федоров Борис Васильевич — прапорщик,
Узенбло Станислав Станиславович — подполковник,
Хольстрем Эрнст Карлович — капитан,
Хотинский Платон Ростиславович — подполковник,
Хроменко Константин Филиппович — подпоручик,
Цемиров Михаил Владимирович — полковник,
Цигелер Василий Петрович — прапорщик,
Цисковский Сергей Карлович — прапорщик,
Цветухин Евгений Иванович — штабс-капитан,
Цепелев Валериан Владимирович — подполковник,
Челищев Григорий Васильевич — капитан,
Чаплыгин Владимир Григорьевич — подпоручик,
Черепанов Георгий Петрович — подпоручик,
Чехонин Александр Федорович — прапорщик,
Чулицкий Виктор Михайлович — поручик,
Чупятов Николай Николаевич — подпоручик,
Швец Николай Потапович — подпоручик,
Шпилько Григорий Андреевич — полковник,
Шредер Георгий Августович — мичман,
Швабе Николай Адольфович — штабс-ротмистр,
Шилов Алексей Степанович — поручик,
Широкий Лев Федорович — подпоручик,
Шкунов Владимир Александрович — поручик.
(Продолжение следует)
Председатель Чрезвыч. Комиссии Г. БОКИЙ
Секретарь ИОСЕЛЕВИЧ»{351}.
3
Хотя товарищи Бокий и Иоселевич и обещали продолжение, но его не было.
Дальше — никаких газет не хватило бы! — расстреливали уже без всяких списков.
Вообще, надо отметить, петроградские чекисты очень быстро освоили технологию массовых расстрелов.
Это видно даже по опубликованным спискам.
Первый список тщится дать весь срез «буржуазного» Петербурга.
В нем — великие князья, бывшие министры Временного правительства, графы, банкиры, финансисты, сербские офицеры-монархисты, правые эсеры, издатель «Биржевых ведомостей», родственник бывшего министра, бывший командир кавалерийского корпуса, жена полковника, член «Союза русского народа», купцы всех гильдий, бывшие генералы, гардемарины, вдова действительного статского советника, бесконечные прапорщики и поручики, инженеры, студенты, ювелиры, рядовой, генерал от артиллерии, домовладелец, владелец типографии, фабриканты, полковники, лесопромышленники, мичман и даже генерал флота…
Задачу чекисты поставили перед собой весьма непростую…
И мы видим, как сбивается секретарь Петроградской ЧК Александр Соломонович Иоселевич, добавляя в список то еще одного купца первой гильдии, то эсера, про которого он позабыл, то каких-нибудь поручиков и прапорщиков, имена которых подсказывают ему товарищи чекисты.
Порою у этих выбранных Александром Соломоновичем для расстрела людей не хватает отчеств, а иногда и имен…
Конечно, человеку, которого должны расстрелять, все равно — по алфавиту указана в списке его фамилия или нет, безразлично — полностью указано отчество или чекисты обходятся и без отчества вообще, но с другой стороны — это явный непорядок.
И Бокий, и Иоселевич примерно представляли, кого они посылают на расстрел, но исполнители зачастую путались.
В деле о восстании на станции Вруда есть, например, любопытный документ — объяснения бывшего начальника Деря-бинской тюрьмы Петра Карповича Неведомского…
«В начале октября вечером из комиссии явились двое коммунистов, которые предъявили мандат на получение двух арестованных. Мандат был принят комиссаром Гуданис. О содержании бумаги я не знал до вызова арестованных Андреева Александра Андреевича и Скворцова Василия Ивановича. Из камеры их вызывали надзиратели…
Когда увезли Скворцова и Андреева, мне сказал Оплаксин, что Андреева взяли не того, на что я ответил, что взяли по ошибке тюремной канцелярии. Не заявлено мною в комиссию, что увезли не того Андреева, потому что думал — заявит комиссар. Тов. Евстафьев говорил: раз подходит имя и фамилия, нужно выдавать и на отчество внимания не обращать…
После двух дней было напечатано в газете о расстреле Андреева и Скворцова, и Оплаксин сказал, что расстреляли Андреева не того, кого следует»{352}.
Разумеется, для чекистов особого значения не имело, какого Андреева расстреливать… Они понимали, что и тот Андреев, которого «следовало» расстрелять, виноват не намного больше, нежели Андреев, которого пока еще не собирались расстреливать.
Имело это значение для Андреева, которого могли не расстрелять, но он все равно уже был расстрелян…
И все-таки из-за таких вот «пустяшных» ошибок начинались ненужные разговоры в городе, и Александр Соломонович Иоселевич — очень быстро молодежь набиралась опыта в ЧК! — исправил свою ошибку.
Последующие списки расстреливаемых составляются уже, как мы видим и по спискам заложников, без всяких ненужных идей — фамилия, имя, отчество, воинское звание, и никакой тебе «бывшей жены полковника», никаких членов «Союза русского народа» — все ясно и просто.
Кроме того, как заметил внимательный читатель, в первом списке заложников встречаются и еврейские имена. Обидевшись, что коренные петербургские евреи убили его наставника и благодетеля Урицкого, секретарь Петроградской ЧК Александр Соломонович Иоселевич включил в список заложников и несколько представителей коренного петербургского еврейства.
Здесь нужно сказать, что товарищ Урицкий был для товарища Иоселевича больше, чем учителем и начальником.
Александр Соломонович Моисея Соломоновича за благодетеля почитал.
Моисей Соломонович в Петроградскую ЧК не только Александра Соломоновича взял, но и брата его — Григория Соломоновича… Только фамилию другую Григорию Соломоновичу записали — Кордовский, чтобы не было путаницы…
И третьего брата, Виктора Соломоновича Иоселевича, который за половые преступления в тюрьме сидел, Моисей Соломонович тоже обещал выручить из тюрьмы и в ЧК определить…
А теперь кто-таки брата выручит?
Кровь закипала у Александра Соломоновича, когда он думал об убийце Каннегисере и о той петербургской родне его, которая поддерживала этого злодея.
Поэтому и не смог Александр Соломонович удержаться. Вставил в список заложников несколько петербургских евреев, которые, как ему казалось, были такими же нехорошими, как и убийца Каннегисер…
Александр Соломонович не сам это решил, он и со следователем посоветовался. Следователь выслушал его и намерение одобрил. «Прафильно, — сказал. — Надо иногда и евреев расстреливать. Чтобы честно было».
Так и попали питерские евреи в список заложников.
Возможно, это товарищ Петерс и имел в виду, называя террор тех дней в Петрограде «истерическим».
Эту истерику следовало немедленно прекратить.
Иоселевичу строго было указано, и он правильно воспринял критику — в последующих списках заложников евреев уже нет, а евреев, попавших в список заложников под горячую руку, тех, которых еще не успели расстрелять, — выпустили.
Хотя и совершили евреи убийство еврея, но понимаемое в большевистском смысле равноправие подразумевало, что расстреливать за это нужно все-таки не евреев.
Смысл этой головокружительной комбинации способны были постигнуть далеко не все чекисты.
Они не понимали, что хотя сама идея красного террора уже давно вынашивалась в Кремле и на Лубянке, но осуществление ее в жизни было импровизацией, и все происходило именно по законам импровизации.
Ни расследованию покушения на Ленина и убийства Урицкого, ни предотвращению подобных эксцессов в будущем красный террор помочь не мог…
Зато он позволял включить в списки расстреливаемых за покушение на Ленина и убийство Урицкого не тех, кто действительно был причастен к этим терактам, а тех, кого чекистам нужно было или просто хотелось расстрелять…
Зато этот красный террор позволял повязать русской кровью всех — и «плохих» и «хороших» — евреев…
4
Тринадцать исчезнувших дней…
Их не хватает, чтобы дополнить объяснениями хронологию событий 18-го, самого короткого в мире года…
Это были настоящие жертвоприношения…
«В ответ на убийство тов. Урицкого и покушение на тов. Ленина красному террору подвергнуты, по постановлению Сумской уездной ЧК, трое летчиков…
Смоленской областной комиссией расстреляны 38 помещиков Западной области…
В Новоржевской ЧК расстреляны Александра, Наталия, Евдокия, Павел и Михаил Росляковы…
В Пошехонской — 5 семей Шалаевых, 4 семьи Волковых…
В Псковской ЧК — 31 человек…
В Ярославской ЧК — 38 человек.
В Архангельской ЧК — 9 заложников…
В Себежской ЧК — 17 человек…
В Вологодской ЧК — 14 человек…
В Иванове-Вознесенской ЧК — 184 человека…
В Перми за Урицкого и Ленина расстреляно 50 человек…
В Пятигорске за товарища Ленина чекисты, возглавляемые Артабековым, изрубили шашками 59 человек, среди которых были генерал Рузский, сенаторы и священники…
Цифры эти к статистике никакого отношения не имеют…
Никто не составлял отчетов, сколько человек убито.
Исключение составляли чудаки, вроде немецкого лейтенанта Балка, который сохранил картотеку расстрелянных в Ярославской губернии с марта по ноябрь 1918 года. Эта картотека насчитывает 50 247 имен.
А все остальное — не отчет и не статистика, а лишь жалкие обрывки, клочки разорванной книги Русской судьбы…
Считается, что за 1918 и 1919 годы большевиками было расстреляно 28 епископов, 1215 священников. 6775 профессоров и учителей, 8800 докторов, 54 650 офицеров, 260 000 солдат, 10 500 полицейских офицеров, 48 500 полицейских агентов, 12 950 помещиков, 355 250 представителей интеллигенции, 193 350 рабочих, 815 000 крестьян{353}.
Все дни изломаны, как преступлением,
Седого времени заржавел ход.
И тело сковано оцепенением,
И сердце сдавлено, и кровь — как лед.
Так писала в ноябре 1918 года Зинаида Гиппиус.
И снова в поисках тех дней, так страшно заливших кровью Россию, обращаешься к другим временам, в других десятилетиях ищешь следы этих дней…
Из письма Е.Д. Кусковой Н.В. Вольскому (Валентинову):
«10 ноября 1955 года.
Самый трудный вопрос о масонстве. Наше молчание было абсолютным. (Здесь и далее выделено нами. — Н.К.). Из-за этого вышла крупная ссора с Мельгуновым. Он требовал от нас раскрытия всего этого дела. А узнал он об этом от тяжело заболевшего члена его партии (хоть убей, не помню фамилии, на П., народник, очень известный). Мельгунов доходил до истерик, вымогая у меня (еще в России) данные, и заверял, что ему “все” известно. Я хорошо знала, что ему ничего почти не известно, как и Бурышкину.
Потом в одной из своих книжек сделал намек, что такое существовало. Скажу Вам кратко, что это было.
1. Началось — после гибели революции 1905 г., во время диких репрессий. Вы их знаете.
2. Ничего общего это масонство с заграничным масонством не имеет. Никогда ни в какой связи не состояло на том простом основании, что это русское масонство отменило весь ритуал, всю мистику и прибавило новые параграфы.
3. Цель масонства >— политическая. Восстановить в этой форме Союз Освобождения — и работать в подполье на освобождение России.
4. Почему выбрана такая форма? Чтобы захватить высшие и даже придворные круги. На простое название политическое они бы не пошли.
5. Изменение параграфов: а) Прием женщин, впервые. В масонские ложи заграничные женщины не принимаются; б) отменить все фартуки, всю амуницию, весь ритуал; в) посвящение состояло лишь в клятве, — молчание, абсолютное. Качество — мораль, доверие. Форма — ложи по 5 человек и затем конгрессы. Ложи не должны были знать о существовании других лож. Но по встречам на конгрессах можно было судить о размахе движения и его составе, г) выход — опять с клятвой: никогда и никому, просто “заснуть”. Таких выходов не помню: интерес к движению был огромен и наша пробковая комната действовала вовсю. Характерная особенность: я знала двух виднейших большевиков, принадлежавших к движению. Когда произошла октябрьская революция, мы с С.Н. (Прокоповичем) были уверены, что все будет вскрыто. Партия ведь не терпела тайн членов. Ничего подобного! Уверена, что эти виднейшие большевики тайну соблюли, быть может из боязни репрессий и по отношению к себе. Людей высшего общества (князьев и графьев, как тогда говорили) было много. Вели они себя изумительно: на конгрессах некоторых из них я видела. Были и военные — высокого ранга.
Почему нельзя вскрыть это движение? Потому, что в России не все члены его умерли. А как отнесутся к живым — кто его знает. Движение это было огромно. Такие общества, как Вольно-экономическое, Техническое, были захвачены целиком. Это — рецепт Союза Освобождения. Ведь еще во время его действия в Вольно-экономическом обществе прочно уселись его члены: Богучарский, Хижняков (секретари); С.Н. — председатель Экономической секции. То же и в Техническом обществе: Лутути, Бауман — в центре. В земствах то же самое. Масонство тайное лишь продолжало эту тактику.
П.Н. Милюков, осведомленный об этом движении, в него не вошел: “Я ненавижу всякую мистику”. Но много членов кадетской партии к нему принадлежали. Но так как Милюков был в центре политики, его осведомляли о постановлении конгрессов. Иногда и сам он прибегал к этому аппарату: надо, дескать, провести через него то-то и то-то.
Одно из правил: не обращаться за членством к людям, казавшимся непрочными в их моральном или политическом естестве. Многие кандидаты, строго обсуждавшиеся, отвергались. Изумительно: не было там провокаторов a la Марков, которого покойный В.А. Розенберг ненавидел и звал “косоглазым лгуном “, и осуждал Сер. Ник. за то, что тот привлек его к кабинету. Ведь и до сих пор тайна этой организации не вскрыта, а она была огромна.
К февральской революции ложами была покрыта вся Россия. Здесь, за рубежом, есть очень много членов этой организации. Но — все молчат. И будут молчать — из-за России еще не вымершей. Один только Вельмин… как будто пробалтывается. Но слышала об этом мельком, и с ним по этому поводу в контакт не вступала. После смерти С.Н. получила несколько телеграмм, кратких: Fraternellement avec vous. Такой-то. Какое это “братство “, было очень ясно выражено в отношениях, хотя после октября и разошлись во мнениях. Но личный контакт из-за этого прошлого всегда поддерживается. Писать об этом не могу и не буду. Без имен это мало интересно. А вскрывать имена — не могу. Мистики не было, но клятва была. А она действительна и сейчас по причинам Вам понятным.
Много разговоров о “заговоре” Гучкова. Этот заговор был. Но он резко осуждался членами масонства. Гучков вообще подвергался неоднократно угрозе исключения. А после дела Конради, в котором он вел себя совершенно непонятно и вызвал скверные подозрения, с ним вообще старались в интимные отношения не вступать. Под конец своей жизни он близко сошелся с германским штабом, и когда приезжал к нам в Прагу, совсем больной, и просил оказать (frater nellement) услугу у чешского правительства, мы этой услуги не оказывали. Он знал, что мы знаем о его поездках в Германию, и очень запутанно об этом рассказывал. Но один раз произошел инцидент. Его принял Бенеш, и он Бенешу точно рассказал о планах Гитлера — нападение на Чехию, на Россию и т.д. Бенеш, зная о наших отношениях с Гучковым, спросил у нас, что это значит. Мы ему посоветовали с Гучковым дела не иметь. В следующий приезд Гучкова он его не принял. Потом слово в слово осуществилось то, что рассказывал Гучков Бенешу и нам.
Вот Вам рассказ, очень суммарный, через кого-нибудь историки, конечно, об этом движении узнают. Но сейчас, повторяю, писать о нем нельзя. Теперь Вы понимаете, почему здесь об этом не говорят».
Мельгунов, который как пишет Екатерина Дмитриевна Кускова, доходил до истерик, вымогая данные, и заверял, что ему «все» известно, — это историк Мельгунов, автор замечательной книги «Красный террор в России. 1918—1923», на которую мы неоднократно ссылались в настоящей работе…
И письмо Е.Д. Кусковой, которая хорошо знала, что С.П. Мельгунову ничего почти не известно о масонах, мы привели не для того, чтобы улыбнуться наивности историка, а чтобы показать, что любое знание становится бессмысленным, когда разговор касается этого вопроса.
И лучшее доказательство этому — письмо самой Кусковой.
Хотя она и пытается сказать, что это было, но кроме набора банальностей Екатерина Дмитриевна ничего не предъявляет адресату, и письмо ее интересно разве только потому, что позволяет понять, как ничтожно мало знал о своей организации, перебившей хребет могущественной империи, любой даже из самых активных представителей русского масонства.
Более того…
Хотя сейчас и опубликовано уже множество книг и исследований по данной тематике, но мы по-прежнему почти не продвинулись в осмыслении этого — я бы не стал называть масонство организацией! — явления.
Все опубликованные к настоящему времени сведения позволяют более или менее достоверно установить, что никакие факты не имеют тут никакого значения, потому что при малейшем внимании к ним они становятся призрачными, оборачиваются фикцией, маскировкой, а подлинное событие или то событие, которое кажется сейчас подлинным, совершается вдали…
И как только начинаешь говорить об этом, уже и сама принадлежность к масонской ложе, включенность в ее иерархические структуры приобретает неуклюжесть и натужность фельетонного приема, теряет жизненную наполненность.
Поэтому анализировать масонские дела более продуктивно, не углубляясь в детали, не давая заманить себя в мертвый лабиринт, где ничего, кроме сброшенных змеиных шкур, нам не найти.
Полнокровное бытие масонства гораздо яснее просматривается при общем взгляде на них. Особенно легко дается этот взгляд нам, современникам политических и государственных метаморфоз 1990-х годов.
Мы воочию видели, как легко меняли такие персонажи, как, например, Александр Яковлев или Борис Ельцин, свои взгляды. Твердолобые ленинцы, они прямо на глазах превращались в таких же твердолобых антикоммунистов.
И, может быть, по тому, как легко, без малейших потерь для себя меняют они свои взгляды, партии, убеждения, и следует различать их? Может быть, их принципы как раз и заключаются в том, чтобы не иметь таких принципов, быть свободными от них?
Но это с одной стороны, а с другой — очевидно, что в своей русофобии и Яковлев и Ельцин были гораздо более принципиальными людьми, чем многие патриоты в своих попытках защитить Россию.
Нет…
У выбранных нами персонажей отсутствуют только те принципы, которые нравственно объединяют людей, нарушая которые человеку положено испытывать муки совести…
Любви к Родине, к своему народу у них нет, но есть — верность той силе, которой и служат они…
Обратите внимание на таких, казалось бы, несхожих исторических персонажей, как Петр, Ленин, Ельцин…
Монарх, вождь большевиков, демократ…
Все отлично в них…
Национальность, происхождение, образование…
Различно и то, во имя чего проводили эти деятели свои реформы и революции, во имя чего осуществляли свою деятельность.
Но это внешние отличия.
Это то знание о них, которое навязывается нам.
А одинаково в них — только та пустыня русской жизни, которая оставалась после их правлений, только те зияющие раны народному благосостоянию и народной нравственности, которые были нанесены ими…
Когда же мы пытаемся смотреть поверх идеологических схем, мы видим, что и Петр, и Ленин, и Ельцин были прежде всего реформаторами, прежде всего, лютыми ненавистниками всего русского, всего православного…
И возникает вопрос: а может, и не надо разрушать мифы?
Может быть, лучше, если останется этот вылепленный мастерством художников, литераторов и актеров державно-грозный Петр или обаятельно-мудрый Ленин?
Ведь, наверное, и Ельцину со временем мастера исторических фальсификаций тоже сумеют подобрать какой-нибудь пристойный исторический имидж этакого государственно-мудрого симпатюги-алкаша…
Нет…
Не лучше это…
В том и беда, что историю нашей страны вершат люди-мифы, люди-призраки…
И они страшнее, чем самые страшные, но все-таки реальные персонажи.
Оттого и беды нашей страны, что мы отдали людям-призракам, людям-мифам нашу историю…
Мы знаем, что народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую. Теперь надо понять, что народ, который не желает знать свою историю, никогда не получит той истории, которой он достоин…
5
В своей книге «Сталин» Лев Давидович Троцкий с глухим раздражением пишет, как фальсифицировалась при Иосифе Виссарионовиче Сталине история Гражданской войны…
«Пять книг, в которых были собраны мои приказы, воззвания и речи, были изданы “Военным издательством” в 1923—1924 гг… С того времени это издание было не только конфисковано и уничтожено, но и все отголоски этого издания, цитаты и пр. были объявлены запретным материалом. Та история Гражданской войны, которая нашла непосредственное документальное отражение в этих документах… была объявлена измышлением троцкистов{354}».
В этом с Львом Давидовичем Троцким трудно не согласиться, как нельзя не признать и того, что сам Троцкий имел в виду под историей Гражданской войны только собственное участие в ней.
Лев Давидович вообще воспринимал Россию лишь как хворост для мирового пожара, а ее историю — лишь как постамент для возвеличения себя…
И поэтому-то, отстаивая свое авторство в неслыханных преступлениях, он совершенно искренне не понимал, что хотя Сталин и приказал переписать историю Гражданской войны, но сделал это не ради собственного возвеличения, а для пользы всей страны. Разумеется, в том смысле, как эту пользу понимал сам Иосиф Виссарионович.
И в этом и заключается различие между Троцким и Сталиным, между международным авантюристом и государственным деятелем.
Ни в 17-м году, когда был совершен переворот, ни в 18-м, И.В. Сталин не способен был противостоять шайке крикливых, повизгивающих от восторга, что они безнаказанно могут глумиться над Россией, терзать и мучить ее, компании Ленина, Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина…
Но когда пришло время, Сталин воспользовался их методами.
Размышляя над документами, чудом сохранившимися в архивах ВЧК и ПЧК, невольно по-иному начинаешь оценивать значение той еврейско-кавказской войны в политбюро, которую вел И.В. Сталин все 30-е годы.
На месте Сталина не могло оказаться никого другого.
Любой русский человек, вознамерившийся приблизиться в то время к высшим эшелонам власти, или уничтожался, или вынужден был для успешного продвижения породниться с евреями.
Как известно, Молотов, Рыков, Ворошилов, Андреев, Киров, Калинин, Ежов и многие другие имели жен евреек, и дети их, согласно Библии, были евреями.
Сталину родниться с евреями не требовалось, поскольку он сам не был русским.
И Троцкий, и Каменев, и Зиновьев унижали Сталина, смеялись над ним, всячески подчеркивали свое превосходство, прежде всего потому, что он не был евреем. Но, унижая и высмеивая, они терпели Сталина, потому что он все-таки не был русским.
Сталин терпеливо сносил все насмешки и унижения, и, на голову превосходя интеллектом большевистскую мразь, сумел занять такое положение, которое позволило ему начать свою кавказско-еврейскую войну в политбюро и — главное! — почти выиграть ее.
Нелепость и даже некая фарсовость процессов 1930-х годов смущает многих исследователей, но, с другой стороны, нельзя не признать, что эти процессы вполне в духе той морали, которую насаждали участники их, еще будучи судьями и обвинителями…
Эти процессы — приносим извинение за каламбур! — результат того процесса, который начался в сентябрьские дни 1918 года, когда за убийство евреем еврея были расстреляны десятки тысяч русских людей.
Конечно, Сталин был жесток…
Но вот вопрос: мог ли менее жестокий человек справиться с миссией — очистить страну от большевистской нечисти, которая проникла буквально повсюду?
Нельзя забывать и того, что люди, которые сидели тогда в НКВД, были прямыми родственниками тех, кого предстояло уничтожить по указанию И.В. Сталина.
И саботаж, который они вели, был изуверски-изощренным.
Не отказываясь от проведения чисток, работники НКВД зачастую доводили до нелепости сам масштаб репрессий, чтобы, потопив ее в крови, остановить эту необходимую для страны чистку.
Это, разумеется, не снимает ответственности с самого Сталина, но все-таки будем помнить о том, что Сталину почти удалось подавить заразу большевизма, удалось освободить от него страну.
И если Сталин не довел этого дела до конца, то только потому, что его убили…
С планом освобождения страны от большевизма и связаны те обиды, которые нанес Иосиф Виссарионович Льву Давидовичу.
Это касается и знакомства последнего с альпенштоком, это касается и притеснения его в истории ВКП(б) и истории СССР.
Хотя Сталин и уничтожал ленинскую гвардию, он понимал, что назад для страны пути нет, невозможно развернуть государственный аппарат. Требовалось продолжать движение, чтобы постепенно, уклоняясь в сторону от гибельного пути, выйти из сенгилейского тумана на возвратную дорогу.
И по мере этого уклонения-разворота и необходимо было переосмыслить и саму революцию, и Гражданскую войну.
Ведь если говорить о том, чтобы декларированные большевизмом принципы были уроднены страной, чтобы из программы разрушения они стали программой государственного созидания, необходимо было вместе с уничтожением большевиков, всей этой так называемой ленинской гвардии, уничтожить и саму память о ней или деформировать ее до полнейшей неузнаваемости.
Гибель страны, уничтожение ее надо было сделать частью истории страны.
И поэтому И.В. Сталин считал, что история большевизма, и вместе с Троцким и без Троцкого, вообще не нужна стране.
И вычеркивал Сталин Троцкого из истории не для себя (или не только для себя!), но для всей страны, которую он возглавляет.
И в этом и заключалось главное, что отличало Сталина от его сотоварищей.
Ну а Троцкий, как и другие творцы Гражданской войны и красного террора, и не способен был понять, что можно думать не только о собственной карьере, о собственном месте в истории, но и о чем-либо другом…
6 Нелегкое это дело — громить иностранные посольства… А если еще прибавить сюда расстрелы заложников? А если вспомнить о пытках, которые кому-то ведь надобно было проводить в ВЧК?
Совсем измотался Феликс Эдмундович за этот сентябрь-Яков Михайлович Свердлов так и сказал ему, что надо отдохнуть.
Когда отдыхать? Дел столько!!! Ну что ж… Дела делами, а отдыхать тоже требуется… «Однажды в начале октября меня вызвал к себе в кабинет советский посол Берзин и под большим секретом сообщил, что Феликс уже находится в пути к нам… — вспоминала потом Софья Сигизмундовна Дзержинская. — На следующий день или через день после 10 часов вечера, когда двери подъезда были уже заперты, а мы с Братманами сидели за ужином, вдруг под нашими окнами мы услышали посвистывание нескольких тактов мелодии из оперы Гуно “Фауст“»…{355}
Чрезвычайно трогательно эта сцена описана в очерке «Лед и пламень» писателя Юрия Германа, известного своими душещипательными романами «Дорогой мой человек» и «Россия молодая»:
«Какова же была радость Софьи Сигизмундовны, когда в Цюрихе поздним вечером она услышала под окном такты из «Фауста» Гуно! Это был старый условный сигнал, которым Дзержинский давал знать о себе.
Несколько дней отдыха…
Председатель ВЧК приехал в Швейцарию инкогнито — под именем Феликса Даманского. Здесь он впервые увидел сына. А Яцек отца не знал. Феликс Эдмундович на фотографии, которая всегда стояла на столе у матери, был с бородкой, с усами. Сейчас перед Яцеком стоял гладко выбритый человек»{356}.
Читаешь такое и не знаешь, чему больше удивляться — запредельному цинизму палача, с «горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками», отправившегося голодной, страшно-кровавой осенью 1918 года «оттягиваться» на курорте в Швейцарии, или нравственной глухоте писателя, который, кажется, и не замечает, насколько омерзительно это…
Хотя, конечно, омерзительный цинизм большевиков и породил эпидемию нравственной глухоты, которая поразила потом работников идеологического фронта…
писал в 1927 году Владимир Маяковский.
Пройдет еще десятилетие, и в декабре 1937 года, на XX годовщину органов ВЧК—ГПУ—НКВД, Ф.Э. Дзержинского назовут уже «неутомимым большевиком, несгибаемым рыцарем революции, под руководством которого ЧК не раз отводила смертельную угрозу, нависавшую над молодой Советской республикой»…
А ветераны органов со слезами на глазах будут рассказывать про пожилого солдата, который всегда пытался добыть Дзержинскому чего-нибудь повкуснее, чем ужин из столовой для сотрудников ЧК… И всегда Феликс Эдмундович бросал на дядьку-ординарца испытующий взгляд и спрашивал: «Вы имеете в виду, что это сегодня подавали на ужин всем?» — «Всем, всем, товарищ Дзержинский», — поспешно отвечал пожилой солдат, пытаясь скрыть смущение. И только тогда Феликс Эдмундович начинал кушать принесенные деликатесы…
Вот подлинное меню товарища Дзержинского:
«Понедельник. Консомэ из дичи, лососина свежая, цветная капуста по-польски.
Вторник. Солянка грибная, котлеты телячьи, шпинат с яйцом.
Среда. Суп-пюре из спаржи, говядина булли, брюссельская капуста.
Четверг. Похлебка боярская, стерлядка паровая, зелень, горошек.
Пятница. Пюре из цветной капусты, осетрина, бобы метр-д-отель.
Суббота. Уха из стерлядей, индейка с соленьем (моченые яблоки, вишня, слива), грибы в сметане.
Воскресенье. Суп из свежих шампиньонов, цыпленок маренго, спаржа»{357}.
После Великой Отечественной войны была сделана робкая попытка прекратить надругательство над памятью замученных кровавым Феликсом русских людей — из конференц-зала офицерского клуба КГБ убрали тогда стеклянный гроб, в котором были выставлены военная форма Дзержинского, посмертная маска и слепки рук…
Но уже при Н.С. Хрущеве культ «рыцаря» чекистского застенка возродился снова, и напротив центрального здания КГБ выросла многометровая статуя палача.
Не так уж и трудно понять наших обездоленных реформами соотечественников, что требуют восстановления этого памятника. Они защищают миф о Дзержинском как борце за народное счастье, который был внедрен в общественное сознание советской (или, может быть, антисоветской?) пропагандой. Они защищают памятник, потому что его снесли обокравшие их демократы…
Тут все понятно…
Но почему так активно выступают против возвращения Дзержинского на пьедестал перед зданием ФСК наши реформаторы — понять невозможно.
Ведь у них так много общего с Феликсом Эдмундовичем.
И ненависть к России такая же…
И методы…
Даже обычаи схожие. Переустраивают нашу страну, нашу жизнь, а свои семьи, своих детей, свои капиталы держат за рубежом…
Воистину, свои своего не познаша…
И ничем другим, кроме сенгилейского тумана, который, должно быть, по-прежнему струится над Лубянкой, не объяснить этого недоразумения…
7
Впрочем, существует помимо отдыха и другая версия поездки Ф.Э. Дзержинского в Швейцарию осенью 1918 года.
«В Берне, — пишет С.С. Дзержинская, — не было условий для отдыха, который был необходим Феликсу, и мы решили поехать на неделю в Лугано, где был чрезвычайно здоровый климат и прекрасные виды.
В Лугано мы совершали замечательные прогулки и катались на лодке, Феликс очень любил грести и садился на весла, а я управляла рулем. Мы сфотографировались на берегу озера, затем на подвесной дороге поднялись на вершину ближайшей горы, где провели несколько часов.
Однажды произошел неприятный случай.
В тот момент, когда мы с пристани в Лугано садились в лодку, тут же рядом с нами, с правой стороны, пристал пароходик, на палубе которого рядом с трапом стоял… Локкарт, английский шпион. В Советской России он занимал высокий дипломатический пост и был организатором ряда контрреволюционных заговоров против Советской власти. Незадолго до этого он был арестован в Москве и Дзержинский лично допрашивал его. Как официального дипломата его не подвергли заслуженному наказанию, но выслали за пределы Советского государства.
Феликс узнал его сразу. Об этой встрече он сказал мне, когда мы уже отплыли от пристани. Английский же шпион, к счастью, не узнал Феликса: так была изменена его внешность. Притом этому врагу даже в голову не могло придти, что председатель ВЧК находится в Швейцарии»{358}.
Хотя Софья Сигизмундовна и говорит, что встреча Локкарта и Дзержинского была незапланированной и Локкарт не узнал Дзержинского, но это ее слова, это она так думала…
Если бы встреча Дзержинского с Локкартом была случайной и Локкарт действительно не узнал его, зачем бы тогда было сообщать Феликсу Эдмундовичу своей нежно любимой супруге об этом, зачем волновать ее известием, что он едва не попался в руки врагов?
Все-таки не такой уж и молодой был Феликс Эдмундович, чтобы подобно юному гимназисту приводить в необходимое для ответного чувства волнение возлюбленную гимназистку. Да ведь и правило есть о случайностях и совпадениях…
Как известно, Локкарту, Бойсу и Хиллу, а также другим сотрудникам миссий Антанты было разрешено вернуться домой в октябре. Феликс Эдмундович на швейцарские курорты отправляется тоже в октябре.
Напомним о дружеском прощании Якоба Христофоровича Петерса с Локкартом перед отъездом и о том, что Локкарт повез в Англию супруге Петерса Мэй письмо мужа и деньги, собранные им нелегким чекистским трудом…
И вот Локкарт приезжает в Швейцарию, и не куда-нибудь, а именно в Лугано, куда в те же дни приезжает и Феликс Эдмундович…
А вот еще одна история из октября 1918 года.
Правда, происходит она не в Швейцарии, а в Германии, но история тоже очень интересная, и участвует в ней тоже ближайший помощник Феликса Эдмундовича — Вячеслав Рудольфович Менжинский.
«На другой день рано утром к нам явился какой-то молодой еврей и пригласил нас присутствовать при взвешивании золота, — вспоминал А. Тайгин, принимавший непосредственное участие в перевозке чекистами русского золота за границу. — На это занятие ушел весь день, т.к. взвешивание требовало большой точности и отнимало много времени.
Один за другим появлялись золотые слитки и исчезали за массивной дверью стальной кладовой. Всего было принято 47 ящиков, содержащих в себе 191 слиток, весом 3125 кг чистого золота.
Еще до того было передано немцам — 16 сентября 1918 г. — 42 860 кг золота и 30 сентября 1918 г. — 50 676 кг золота.
Кроме золота, мы привезли и сдали тому же Менжинскому 113 635 тысяч рублей денежными знаками, что по тогдашней оценке золота равнялось 48 819 кг металла.
По окончании взвешивания и подсчета мы были приглашены в контору Мендельсона за получением расписки. Нас принял полный, гладко выбритый господин средних лет, любезно усадил в кресла в своем роскошном кабинете и шумно и неискренно выражал нам свое восхищение по поводу совершившегося в России переворота, думая, очевидно, угодить нам своим восторгом.
Мой спутник не выдержал и сухо заметил, что ему, Мендельсону, как банкиру и богатому буржую, меньше всего пристало ликовать по поводу русских событий. Мендельсон пожал плечами и поторопился переменить тему разговора. Принесли расписку довольно странного содержания, в которой вместо точного указания веса золота было прибавлено слово “приблизительно”.
Секретарь отказался от принятия такой расписки.
— Но почему? — заволновался Мендельсон и сразу стал наглым и грубым. — Ведь тут же указано, что принято 47 ящиков со 191 слитком. Что же вам еще нужно?
— Мне нужно, чтобы цифра веса была обозначена совершенно точно, так, как она определена взвешиванием. Остальное вы можете даже не указывать, — заявил мой спутник.
Мендельсон загорячился, почему-то заговорил о доверии, каким он пользуется у советского правительства, и категорически отказался изменить содержание расписки, заявив, что он поговорит по этому поводу с Иоффе.
С тем мы и ушли.
Вот содержание этой расписки, с которой мне удалось снять копию:
“Мендельсон и К0. Расписка. Настоящим удостоверяем получение по поручению местного генерального консульства Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 47 ящиков и одной сумки, содержащих 191 слиток золота весом около 3125 кг. Берлин, 18-го октября 1918 г. Мендельсон”.
На денежные знаки была выдана отдельная расписка»{359}.
Когда читаешь перечисление этих бесконечных тонн русского золота, вывезенных из умирающей от голода страны товарищами Вячеславом Рудольфовичем Менжинским и Адольфом Абрамовичем Иоффе, понимаешь, что восемьдесят лет спустя ельцинской «семье» было с кого брать пример и у кого учиться… И только одно невозможно понять, как же Россия дважды за один век сумела попасть в руки одной и той же компании.
Куда шло русское золото, которое гладко выбритый господин Мендельсон предпочитал принимать ящиками, а не весом, понятно…
И Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому нужны были деньги, чтобы «оттягиваться» на курортах Лугано, и Льву Давидовичу Троцкому тоже надо было думать о будущем.
Да разве мало этих Троцких и Дзержинских было и в Кремле и в Смольном? Опять же и гладко выбритых господ мендельсонов, так восхищавшихся Октябрьской революцией, тоже ведь было вполне достаточно. И каждый их них требовал русского золота…
8
И снова поиски пропавших русских дней возвращают нас в Россию…
Итак…
5 сентября было опубликовано постановление Совета народных комиссаров о красном терроре…
Одним из первых чекисты убили в Москве главу «Русского монархического союза», одного из крупнейших деятелей «Союза русского народа» 54-летнего протоиерея Иоанна Восторгова. Его арестовали еще 15 июня 1918 года за то, что он вопреки всем угрозам продолжал служить молебны в храме Василия Блаженного над святыми мощами младенца Гавриила Белостокского, «от жидов умученного».
Насколько святой Иоанн Восторгов был ненавистен чекистам, показывают глумливые заметки, которые чекисты летом распечатывали в московских газетах…
«Преступная спекуляция протоиерея Восторгова, как уже сообщалось, была связана самым тесным образом с контрреволюционной деятельностью восторговской шайки.
Свидетельские показания установили ряд участников восторговской черносотенной деятельности, причем все эти “деятели” — по преимуществу лица “высокого духовного звания” (епископы, епархиальные миссионеры, протоиереи и т.д.).
Ныне Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией на основании полученных данных установила еще нового “деятеля” по контрреволюционной работе, епископа Павла (Уссурийского), одного из приближенных патриарха Тихона»…
«Арест Восторгова, епископа Ефрема и Варжанского был вызван исключительно их спекулятивной, мошеннической сделкой по продаже миссионерского дома. Мы арестовали их как уголовных преступников и рассматриваем это дело как чисто уголовное.
Однако ход следствия показал, что эти же самые уголовные дельцы попутно вели определенную черносотенную работу. Последняя самым тесным образом была связана с их уголовными махинациями.
Дело по продаже дома рассматривается уголовным отделом комиссии, а материалы, характеризующие контрреволюционную деятельность восторговцев, переданы в отдел по борьбе с контрреволюцией»…
И чья же подпись стоит под этим бесстыдным враньем на святого?
Якоба Петерса…
Да-да…
Того самого Петерса, который через английского шпиона Локкарта пересылал в Лондон деньги для своей супруги.
Воистину, помимо звериной жестокости подручные Дзержинского отличались каким-то запредельным бесстьщством и лживостью…
Впрочем, таких ведь и набирал в свой штат Феликс Эдмундович. Другие у него не задерживались…
Петерс расстрелял священномученика Иоанна Восторгова вместе с епископом Селенгинским Ефремом (Кузнецовым), бывшим председателем Государственного совета Иваном Григорьевичем Щегловитовым, бывшими министрами внутренних дел Николаем Алексеевичем Маклаковым, Алексеем Николаевичем Хвостовым и сенатором Степаном Петровичем Белецким…
А в Петрограде в те же дни чекисты убили другого священномученика — настоятеля Казанского собора, протоиерея Философа Орнатского. Его вместе с сыновьями расстреляли в Лигово, а тела убитых сбросили в Финский залив.
Вместе с русскими святыми ликвидировались и русские обычаи.
14 сентября, в день церковного Новолетия, декретом СНК были изгнаны из употребления русские версты, пуды, аршины, золотники, а 10 октября вышел декрет о новой орфографии. Из русского алфавита изымались буквы: «ять», «фита», «ижица» и другие.
Ну а потом большевикам стало мало глумления над русскими обычаями, над живыми людьми. Начиналась кампания осквернения ими главных святынь Русской православной церкви — мощей русских святых…
9
Километрах в двадцати от Свири, недалеко от впадения ее в Ладожское озеро находится Александро-Свирский монастырь.
Здесь подвизался великий русский святой Александр Свирский.
Велика была сила молитвы преподобного…
Однажды, когда строили мельницу на протоке между двумя озерами и раскопали перешеек, вода из Святого озера устремилась в нижнее Рощинское озеро, грозя снести своим напором все монастырские постройки. Казалось, что их уже не удастся спасти, но преподобный начертал крестное знамение на быстрине вод и — вот оно чудо! — течение остановилось.
Велика была и прозорливость святого…
Рассказывают, что после освящения построенного в монастыре храма в день сошествия Святого Духа, богомольцы делали свои пожертвования. Был среди них и некий Григорий, приехавший в монастырь из Пидьмозера. Когда Александр Свирский проходил возле него, Григорий хотел положить свой вклад в фелонь преподобного, но святой оттолкнул его руку.
После службы обиженный Григорий подошел к Александру Свирскому и спросил, почему он не принял его приношения.
— Ведь ты меня не знаешь! — сказал он.
— Верно! — ответил святой. — Я тебя не знаю, и лица твоего не видел, но рука твоя так осквернена, что от нее смрад идет. Зачем ты мать свою старую бьешь?..
Столь же безграничной была и скромность преподобного Александра Свирского.
Рассказывают, что однажды, когда он был уже игуменом основанного им монастыря, слава о котором распространилась по всей Руси, к нему пришел монастырский эконом. Он сказал, что кончаются дрова и надо бы послать в лес какого-нибудь праздного монаха, чтобы нарубить их.
— Я празден… — отвечал преподобный. Взял топор и отправился в лес.
Ну а главное чудо здесь произошло в 1507 году…
Тогда, на двадцать третьем году пребывания в пустыни, святой Александр Свирский во время своей ночной молитвы увидел трех Мужей в белых одеждах, сияющих «невыразимым светом».
Сам Господь почтил святого Троическим снисхождением-посещением.
«Александр Свирский, — заметил архимандрит Макарий (Веретенников), — пожалуй, единственный православной святой, которому так же, как и праотцу Аврааму, явилась Святая Троица»…
Мы не знаем наверняка, известен ли был этот факт жития преподобного Александра Свирского чекистам, но это и не важно.
Тем силам, чью волю исполняли большевики в растоптанной России, этот факт жития святого был безусловно известен. С разорения Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря и решено было начать сатанинскую кампанию осквернения мощей русских святых.
5 ноября 1918 года отряд чекистов под командой Августа Вагнера подошел к стенам Александро-Свирского монастыря.
Братия пыталась противодействовать надругательству над святыми мощами, но чекисты не церемонились.
«Элементы злого пошиба», как Вагнер изволил именовать архимандрита Евгения, иеромонаха Варсонофия, священника Перова, были арестованы и расстреляны. Монастырь ограблен, а рака с мощами преподобного Александра Свирского вскрыта.
Это было первое вскрытие большевиками святых мощей…
Сохранность тела преподобного, завершившего земной путь четыре столетия назад, настолько изумила Августа Вагнера, что он не придумал ничего лучше того, чтобы назвать святые мощи «восковой куклой». И хотя это противоречило очевидности, именно так и именовал мощи Вагнер в своем отчете.
Тем не менее он не решился выставить их, как полагалось по инструкции, «для разоблачения поповского обмана», а поспешил перевезти в Лодейное Поле. Здесь, в глубокой тайне, под строжайшей охраной мощи были спрятаны в больничной часовне.
На 5 ноября 1918 года, когда расстреливали во дворе Олонецкой тюрьмы монахов Александро-Свирского монастыря, назначено было в больничной часовне города Лодейное Поле и уничтожение великой русской святыни — мощей преподобного, единственного русского святого, сподобившегося при земной жизни лицезреть Святую Троицу.
Господь, однако, не попустил этого.
Осквернение мощей преподобного и ограбление монастыря вызвало сильнейший резонанс по всей России…
Святитель патриарх Тихон обратился в Совнарком и ВЦИК с протестом.
От Олонецкой ЧК затребовали разъяснения.
Начальник Олонецкой ЧК ответил, что считает «все свои действия и распоряжения вполне обоснованными, верными в смысле беспощадной борьбы с врагами коммунистических идей и социалистической мысли».
Очевидно, что подобное разъяснение вполне удовлетворяло большевистское руководство в Москве, но в ходе переписки выяснилась пикантная подробность. Август Вагнер оказался не только борцом «за коммунистическую идею и социалистическую мысль», но еще и весьма нечист на руку. Он изъял из монастыря сорок пудов серебряных изделий, а в Москву сдал только девять.
Провести кремлевскую верхушку таким разъяснением не удалось.
Началось специальное расследование…
Вагнера взяли в оборот, когда выяснилось, что сорок пудов серебра, изъятого в монастыре, Вагнер якобы передал в комитет бедноты Александро-Свирской слободы.
Ложь была настолько наглой (на каждого комбедовца должно было достаться по четыре пуда серебра), что решено было начать розыск. Поход на Александро-Свирский монастырь завершился для чекиста Августа Вагнера весьма печально.
А мощи преподобного Александра Свирского сохранились.
Целыми и невредимыми были обретены они в 1998 году.
Мы говорили, что изъятием мощей преподобного Александра Свирского начиналась кампания, в ходе которой были вскрыты и вывезены из монастырей и церквей шестьдесят три раки. И вот так получилось, что все эти мощи чудесным образом вновь обретены нашей Церковью, и шестьдесят третьими по счету были обретены мощи святого, с осквернения которых и начинали большевики свою сатанинскую кампанию.
И конечно же не случайно выбрали они для начала своей кампании единственного русского святого, лицезревшего при своей земной жизни Святую Троицу…
Но разве случайно обретение его мощей последними в чудесной череде восстановления Русской православной церковью своих поруганных тогда святынь?!
Конечно, нет…
Это знак, указывающий, что страшный путь, которым погнали нашу страну в тот самый короткий в мире русский год, завершен, и мы выбираемся из гибельной трясины на твердую землю, мы выбираемся из пространства потерянных дней в Божье время своей судьбы…
«О священная главо, ангеле земный и человече небесный, преподбне и богоносне отче наш Александре, изрядный угодниче Пресвятыя и Единосущныя Троицы, являй многая милости живущим во святей обители твоей и всем, с верою и любовию притекающим к тебе! Испроси нам вся благопотрёбная к житию сему временному, и нужная к вечному спасению нашему…
Ей, отче, молитвенниче наш присный! Не посрами упования нашего, не презри смиренная моления наша, и предстательствуй за нас пред престолом Живоначальныя Троицы, да сподобимся вкупе с тобою и со всеми святыми, мы недостойнии, в селениих райских славити величие, благодать и милость Единаго в Троице Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь».
ЭПИЛОГ
Вот и кончился, вот и отшумел кровавой метелью этот самый короткий в мире год.
В начале этого года приехал в Петроград герой рассказа Исаака Бабеля «Дорога». Позади у него был нелегкий путь из бывшей черты оседлости, впереди — служба в Петроградской ЧК у Моисея Соломоновича Урицкого. За этот год, работая в ЧК, герой рассказа И. Бабеля стал другим…
Другим стал и Петроград за этот год…
«Город был мертв и жуток… — описывал осень 1918 года в Петрограде Владислав Ходасевич. — По улицам, мимо заколоченных магазинов, лениво проползали немногочисленные трамваи. В нетопленых домах пахло воблой. Электричества не было»…
Ходасевич тогда провел в Петрограде совсем немного времени и потому не успел заметить, что электричество все-таки иногда включали, когда проводились повальные обыски.
Совсем страшным стал Петроград к концу самого короткого в мире года.
«Слухи о закрытии всех лавок, — записал 31 декабря 1918 года Александр Блок. — Нет предметов первой необходимости. Что есть — сумасшедшая цена. Мороз. Какие-то мешки несут прохожие. Почти полный мрак. Какой-то старик кричит, умирая от голоду. Светит одна ясная и большая звезда».
В этот умерщвленный чекистами голодом и холодом город вернулся в феврале 1919 года воспитанник Моисея Соломоновича Урицкого, председатель Эстляндской ЧК Эдуард Морицевич Отто…
Мы уже говорили, что в ноябре 1918 года следователи Эдуард Морицевич Отго и Александр Юрьевич Рикс были освобождены от ведения дела об убийстве Урицкого.
Это произошло в конце ноября, когда немцы покинули Нарву[59], а Красная армия заняла город и там была образована Эстляндская трудовая коммуна. Во главе эстонского правительства встали Я.Я. Анвельт и знакомый нам В.Э. Кингисепп. Ну а А.Ю. Рикса назначили наркомом финансов. Э.М. Отто стал председателем Эстляндской ЧК.
Но в Эстонии победила буржуазия, и ЧК стало не нужно.
Вот тогда-то, подобно герою рассказа Исаака Бабеля «Дорога», оголодавший, обмерзший, еле волоча ноги, Эдуард Морицевич подошел к ощетинившемуся дулами пулеметов зданию на Гороховой улице…
Во дворе дома горели костры, и Отто подошел к костру и протянул к огню озябшие руки. За месяцы, проведенные в Эстонии, Эдуард Морицевич еще более укрепился в осознании необходимости ЧК. Вместе с тем еще более окрепло в нем убеждение, что «расстрелифать нато фсех честно и еврееф тоже».
Это было особенно важно в свете резолюции ЦК РКП(б) «О непогрешимости органа, работа которого протекает в особо тяжелых условиях», принятой 12 декабря по докладу Ф.Э. Дзержинского «О злостных статьях о ВЧК».
Задумавшись, Отто не заметил солдата, который — «Подвинься, товарищ чухна!» — подошел сзади с кипой папок и, толкнув Отто, бросил их на снег возле костра.
Отто покачал головой и взял в руки одну из предназначенных для сожжения папок… Это была папка с делом об убийстве товарища Урицкого. Того самого дела, которое расследовал Отто, пока его не назначили председателем ЧК Эстляндской трудовой коммуны!
Прямо из огня обмороженными руками вытащил товарищ Отто обуглившиеся тома…
И вот, такой уж это был простодушный эстонец, что сразу заподозрил он неладное, и несколько месяцев составлял он письмо в Москву, в ВЧК, сообщая им о страшном преступлении.
Вместе с обуглившимися томами дела об убийстве товарища Урицкого отправил он это письмо в Москву, где оно и доныне хранится на Лубянке.
«В деле было много обвинительного материала, как протоколов допросов, так и вещественных доказательств, и — почему-то получилось так, что много обвинительного материала было выброшено из дела, и, как говорили, было во время уборки в столе ушедшего из ЧК Антипова. Оттуда, во время чистки комнат, с прочим мусором его стали таскать на двор для сжигания. Странно, что Антипов, хорошо зная про существование этого материала, послал дело об убийстве тов. Урицкого в Москву (то есть послал почти пустые крышки этого дела) после освобождения преступников.
Найденный нами среди хлама во время сжигания обвинительный материал тщательно подобран, сшит…
Узнав, что в Москве производится расследование по делу Каннегисера, следователи Отто и Рикс считают своим долгом составить настоящий доклад для препровождения его в Москву в ВЧК вместе с случайно уцелевшими от уничтожения вещественными доказательствами»{360}.
Мы не знаем, обрадовались ли московские следователи нежданному подарку, зато нам хорошо известна судьба самих дарителей.
Виктор Серж в книге «От революции к тоталитаризму» вспоминает, что встретил Эдуарда Морицевича Отго на одной полуподпольной сходке в Ленинграде…
«Там были молодые женщины и высокий худой мужчина со светлыми усиками, бесцветными лицом и глазами, которого я сразу узнал — Отт, начальник административных служб ЧК в 1919—1920 гг. Эстонец или латыш, анемично спокойный, он в разгар экзекуций перебирал свои бумажки»…
Виктор Серж рассказывает тут же и о некоем черногубом чекисте Константинове, с костистым носом, который время от времени садится на московский поезд, чтобы отвезти свое секретное досье каким-то людям в Кремле, которых он посвятил в страшную тайну открытой им измены…
«При жизни Ленина измена поселилась в Центральном Комитете. Ему известны имена, у него есть доказательства. Он не может сказать всего, это слишком серьезно, там известно, что он это знает… Это немыслимо опасно. Чтобы противостоять заговору, необходимы бесконечная ясность ума, инквизиторский гений, полное благоразумие. С риском для жизни он передает руководству ЦК свой анализ чудовищного преступления, которое изучал несколько лет. Он шепотом произносит иностранные фамилии — крупнейших капиталистов — и другие, наделяя их тайным смыслом. Упоминает город по ту сторону Атлантики».
Сопряжение светлых усиков Отто и черногубости неизвестного чекиста так вызывающе, что невольно возникают подозрения — не является ли нерногубый некист псевдонимом светловато-бесцветного Отто.
И этот рассказ о поездках в Москву, об ощущении заговора, зародившегося в ЧК, не от Отто ли и услышан Виктором Сержем?
Понятно, что троцкист Виктор Серж как бы переводит в рассказе стрелки, по-иному выстраивает намеки, но для осуществления этого как раз и надо было сделать анонимным рассказ о спасенном Отто из огня досье…
Тем более что тут же Серж и выходит из анонимности, и снова возвращает разговор о заговоре в ЧК к Отто.
«Стоит белая ночь, трамваи уже не ходят. Я ухожу вместе с Оттом. На мосту, между блеклым небом и туманной водой, я обнаруживаю, что мой спутник за шесть лет ничуть не изменился. Все та же долгополая кавалерийская шинель без знаков различия, все та же флегматичная походка и та же полуулыбка под бесцветными усиками, как если бы он вышел из ЧК белой ночью 1920-го.
Он полностью согласен с Константиновым. Разве что-то не ясно? В руках у нас (выделено нами. — Н.К.) нити самого гнусного и разветвленного заговора, всемирного заговора против первой социалистической республики… Все будет спасено, если… Есть еще люди в ЦК. Кто? Два часа ночи, перед нами широкие безлюдные проспекты бледного города; он кажется каким-то отвлеченным.
Холодная каменная схема, наполненная воспоминаниями. Мы миновали голубой купол мечети. На пригорке справа в 1825 году повесили пятерых героев масонского заговора декабристов. Слева, в маленьком особняке фаворитки Николая II, в 1917 году был организован заговор большевистский. Над казематами и рекой высится позолоченный шпиль Петропавловской крепости: там Нечаев, в цепях, замыслил свой колоссальный заговор против империи. Там погибли заговорщики-народовольцы: в 1881—1883 годах их оставили умирать голодной смертью. Некоторые из них, помоложе, выжили: они передали эстафету нам.
Мы приближаемся к захоронениям на Марсовом поле, окруженным стеной красного гранита. Наши надгробия. Напротив, в Инженерном замке, своими офицерами был убит Павел I.
“Заговор на заговоре, не правда ли?” — с улыбкой говорит Отт.
“Все это детские игры. Сегодня…” — Меня так и подмывает ответить (но с такого рода фанатиками это не имеет смысла): «Сегодня это гораздо сложнее. Это совсем другое. И заговоры, которые вы выдумываете, мой бедный Отт, вовсе ни к чему»{361} …
Эта зарисовка бедного Отто, сделанная Виктором Сержем, относится к тем временам, когда он вместе с А.Ю. Риксом был уже изгнан из Петроградской ЧК, и уже не в Эстляндскую ЧК, а вообще.
Александр Юрьевич Рикс некоторое время еще работал по финансовой части, а Эдуард Морицевич Отто заведовал фотолабораторией в Государственном Русском музее. Затем обоих расстреляли как участников террористической организации «Фонтанники»{362} …
И тем не менее отправленная Отто посылка все-таки дошла из 1918 года до нас… Она дошла, чтобы мы, живущие уже в другом тысячелетии, узнали тайны самого короткого в мире года, те тайны, которые столько лет скрывали от России товарищи, лучше которых нет нигде в мире, — верные ученики Моисея Соломоновича Урицкого и Феликса Эдмундовича Дзержинского.
Петербург, 1992—2004
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Авторханов А. Технология власти. Процесс образования КПСС. Мемуарно-исторические очерки. Издание Центрального объединения политических эмигрантов из СССР. Мюнхен, 1959.
Алданов Марк. Убийство Урицкого // Литература русского зарубежья: Антология в шести томах. Т. 1. Кн. 1. М.: Книга, 1990.
Бабель И. Вечер. Конармия. М.: Правда, 1990.
Бережков В.И. Внутри и вне Большого дома. СПб.: Библиополис, 1995.
Бейзер Михаэль. Евреи Ленинграда. 1917—1939. М., Иерусалим: Gesharim — Мосты культуры, 1999.
Брюс-Локкарт Р.Г История изнутри: мемуары британского агента. М., 1991.
«Будущий артист Императорских театров». Письма Александра Керенского родителям // Источник. 1994. № 3.
Валентинов Н. Малознакомый Ленин. Л.: Мансарда, Смарт, 1991.
Владимирова Вера. Год службы социалистов капиталистам // www.bibl.ru/ni/god_ sluzhby_sot-15.htm.
Воспоминания о Дзержинском. К 85-летию со дня рождения. М.: Знание, 1962.
Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в десяти томах. Т. 5. М.: Политиздат, 1990.
Горький М. О русском крестьянстве.
Гордиевский О., Эндрю К. КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева. М.: Nota bene, 1992.
Гуль Р. Дзержинский (Начало террора). Нью-Йорк: Мост, 1974.
Дзержинская С.С. В годы великих боев. М.: Мысль, 1975.
Дзержинская С.С. Вечная жажда борьбы. М.: Библиотека журнала «Пограничник». 1974. № 5.
Дзержинский Ф.Э. Дневник заключенного. Письма. М: Молодая гвардия, 1967.
Дело № 813 Байковского Владислава Александровича. №5491, СПб. Архив ФСК.
Дело о заговоре в Михайловском артиллерийском училище. СПб. Архив ФСК.
Дело «Каморры народной расправы». СПб. Архив ФСК.
Дело об убийстве Володарского в 1918 году. М.: Архив ФСК.
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК.
Дело о беспорядках на станции Вруда. СПб. Архив ФСК.
Дело по обвинению солдат Нарвского района А. Г. Ветрова (Шпаковского), И.Р. Разгонова, П.Ф. Лункевича и др. СПб. Архив ФСК.
Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь Гранат. Репринтное издание. М.: Советская энциклопедия, 1989.
Дитерихс М.К. Убийство Царской семьи и членов Дома Романовых на Урале. М.: Скифы, 1991.
Еженедельник ВЧК. М., 1918.
Зинухов А. Фарс века // Совершенно секретно. 1997. № 7.
Исбах А. Фурманов (ЖЗЛ). М.: Молодая гвардия, 1968.
Красная книга ВЧК. М.: Политиздат, 1989. Т. 1.
Какурин Н.Е. Как сражалась революция. Т. 1. 1917—1918 гг. М.: Политиздат, 1990.
Кожин Ю. Заложники в годы Гражданской войны в России // archive. Iseptember.ru/his/2000/no21.htm.
Кожурин Я., Петров Н. // От Ягоды до Берии. Правда-5. № 17. 1997. 5-18 мая.
Кутузов В.А., Лепетюхин В.Ф., Соловьев В.Ф., Степанов О.Н. Чекисты Петрограда на страже революции. Л.: Лениздат, 1987.
Ларин Ю. Евреи и антисемитизм в СССР. М.; Л.: ГИЗ, 1929.
Лацис М. Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией. М., 1921.
Лебедев Вадим. Смерть авантюриста // www. norcom. ru/ users/ spartak/ avan.html.
Лебедев В.И. Борьба русской демократии против большевиков. Нью-Йорк: Народоправство, 1919.
Ленин Н. О еврейском вопросе в России // Введение С. Диманштейна. М.: Пролетарий, 1924.
Ленин В.И. и ВЧК. М., 1987.
Луначарский А. Моисей Соломонович Урицкий // А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М.: Политиздат, 1991.
Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 г. // Вопросы истории. 1992. № 2—3.
Мелъгунов С.И Красный террор в России. 1918—1923. Издание 2-е, доп. Берлин, 1924.
Меньшикова М.В. Как убили моего мужа // Слово. 1992. №7.
Милиции С.В. Из моей тетради. Последние дни Преображенского полка // Архив Русской Революции, издаваемый И.В. Гессеном. Берлин, 1922. Т. 2. Цит. по: М.: Современник, 1991. Т. 2.
МЧК. Из истории Московской чрезвычайной комиссии. Сборник документов (1918—1921). М.: Московский рабочий, 1978.
Набоков В. Временное Правительство // Архив Русской Революции, издаваемый И.В. Гессеном. Берлин, 1922. Т. I. Цит. по: М.: Современник, 1991. Т. 1.
Новоладожский уезд: грозный 1918-й // Волховские огни. 1986. 22 ноября.
Пасманик Д. С. Чего же мы добиваемся? // Россия и евреи. Париж: YMCA-Press, 1978.
Паук (журнал). 1911—1912.
Петерс Я.Х. Воспоминания о работе в ВЧК // Париж, Былое (журнал), 1933. № 11.
ПОГАНИиОПД, ф. 90, оп. 2, д. М-22 б. Л. Цит. по: Скорбный путь Михаила Романова: от престола до Голгофы. Документы, материалы следствия, дневники, воспоминания. Пермь: Пушка, 1996.
Савинков Б.В. Борьба с большевиками. Цит. по: Литература русского зарубежья. Антология в шести томах. Т. 1. Кн. 2. М.: Книга. 1991.
Свердлов Я.М. Избранные произведения. Т. 2. М., 1959.
Серж В. От революции к тоталитаризму // www.art.uralinfo.ru/literat/Ural/Ural08_97_09.htm.
Скрябин М., Гаврилов Л. Светить можно — только сгорая. М., 1987.
Следств. дело № 7612 по обвинению Кравцова Семена Ивановича и др. Архив управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской обл. Архив. № 9465.
Следств. дело № 4388—18 г. Архив управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской области. Архив № 36330.
Солженицын А.И. Двести лет вместе. Т. 2. М.: Русский путь, 2002.
Соломон Г. Среди красных вождей. Лично пережитое и виденное на советской службе. Париж, 1930. Цит. по: Литература русского зарубежья. Антология в шести томах. М.: Книга, 1991.
Соколов Н.А. Убийство царской семьи. М.: Советский писатель, 1990.
Суворов Дмитрий. Все против всех // www.art.uralinfo.ru/ Iiterat/Ural/Ural05_98_08.htm.
Тайгин А. В Берлин с русским золотом. Цит. по: Литература русского зарубежья. Антология в шести томах. М.: Книга, 1991.
Троцкий Лев. Сталин. Т. 2. М.: Терра, 1990.
Судьба и стихи Леонида Каннегисера // Наше наследие. 1993. № 3.
Тополь Э. Во что верят евреи… // АиФ. № 26, 1997. Июнь.
Убийца графа Мирбаха Jewish.ru лехаим-95 // email.jewish.ru/10313-28.asp.
Фельштинский И. Брестский мир. М.: Терра, 1992.
Хейфец М. Наши общие уроки // Журнал еврейской интеллигенции из СССР «22». Тель-Авив, 1980. № 14.
Хлысталов Э. Находка в Кремле // Литературная Россия. 2002. 7 ноября.
Цветаева М. Вольный поезд // Литература русского зарубежья. Антология в шести томах. Т. 1. Кн. 1. М: Книга.
Шлаен А. Красная чума. Зеркало Недели (04.07.2002) // www.zerkalo-nedeli.eom/nn/show/316/28924/.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
1
Л. Троцкий. Вокруг Октября. А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М.: Политиздат, 1991. С. 99.
2
Савинков Б.В. Борьба с большевиками // Литература русского зарубежья. Антология в шести томах. Т. 1. Кн. 2. М.: Книга, 1990. С. 151—152.
3
Еврейская жизнь. 1917. 16 апреля.
4
Набоков В. Временное правительство // Архив Русской Революции, издаваемый И.В. Гессеном. Берлин, 1922. Т. I. Цит. по изд.: М.: Современник, 1991. Т. 1.С. 104.
5
Солженицын А.И. Двести лет вместе. М: Русский путь, 2002. Т. 2. С. 68.
6
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 35. С. 16.
7
Милицын С.В. Из моей тетради. Последние дни Преображенского полка // Архив Русской Революции, издаваемый И.В. Гессеном. Берлин, 1922. Т. 2. Цит. по изд.: М.: Современник, 1991. Т. 2. С. 219.
8
Стеклов Ю.М. В этот день. Клочки воспоминаний // Вечерняя Москва. № 254. 5 ноября 1927 г.
9
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд-е 5-е. Т. 35. С. 24—25.
10
Красная газета. 1920. 7 ноября.
11
Луначарский А. Лев Давидович Троцкий // А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М: Политиздат, 1991. С. 350.
12
Лев Троцкий. Ленин и старая «Искра» // А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М: Политиздат, 1991. С. 25—26.
13
Дзержинский Феликс. Дневник заключенного. Письма. М: Молодая гвардия, 1967. С. 209—210.
14
Гуль Роман. Дзержинский (Начало террора). Нью-Йорк, 1974.
15
Радек Карл. Дзержинский. // А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М: Политиздат, 1991. С. 285.
16
Феликс Эдмундович Дзержинский. Биография. М: Политиздат, 1977. С. 20.
17
Дзержинский Ф.Э. Автобиография // Чекисты. Лениздат, 1977. С. 26.
18
Троцкий Лев. Ф. Дзержинский // А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М: Политиздат, 1991. С. 292—293.
19
Горький М. Собрание сочинений в восемнадцати томах. М, 1963. Т. 18. С. 268.
20
Гуль Роман. Дзержинский (Начало террора). Нью-Йорк, 1974.
21
Балаганова Александрина. Невольник чести // http://www.smena.ru/ arc/22904-log.html.
22
Архив ФСК в Санкт-Петербурге. Дело «Каморры народной расправы».
23
Очерк «Битые» опубликован в газете «Новая жизнь» 29 марта 1918 года под рубрикой «Дневник». Цит. по: Бабель Исаак. Собрание сочинений в 2-х т. Изд-во «Альд», 2002.
24
Стенограмма слушаний в сенате США (1919 г.) о событиях русской революции.
25
Троцкий Лев. Вокруг Октября // А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М.: Политиздат, 1991. С. 72.
26
Оттокар Чернин. Брест-Литовск. Из мемуаров // Архив Русской Революции, издаваемый И.В. Гессеном. Берлин, 1922. Т. 2. Цит. по изд.: М: Современник, 1991. Т. 2. С. 136—137.
27
Дело «Каморры народной расправы». Т. 3, конверт с изъятыми у И.В. Ревенко письмами.
28
Дело «Каморры народной расправы». Т. 3, конверт с изъятыми у И.В. Ревенко письмами.
29
Дыбенко П.Е. Из недр царского флота к Великому Октябрю. Цит. по: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине: В 10 т. Т. 5. Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. М: Политиздат, 1990. С. 35.
30
Соломон Г. Среди красных вождей. Лично пережитое и виденное на советской службе // Литература русского зарубежья. Антология в шести томах. М.: Книга, 1991. Т. 2. С. 274.
31
Лев Троцкий. Вокруг Октября // А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М: Политиздат, 1991. С. 80.
32
Там же. С. 80—81.
33
Милицын С.В. Из моей тетради. Последние дни Преображенского полка // Архив Русской Революции, издаваемый И.В. Гессеном. Берлин, 1922. Т. 2. Цит. по изд.: М: Современник, 1991. Т. 2. С. 228.
34
Милицын С.В. Из моей тетради… С. 228—229.
35
Дыбенко П.Е. Из недр царского флота к Великому Октябрю. Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине: В 10 т. Т. 5. Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. М: Политиздат, 1990. С. 35.
36
Раскольников Ф.Ф. На боевых постах. М.: Военное издательство, 1964. С. 241.
37
Лев Троцкий. Вокруг Октября // А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М.: Политиздат, 1991. С. 81.
38
Раскольников Ф.Ф. На боевых постах. М.: Военное издательство, 1964. С. 254—255.
39
Лев Троцкий. Вокруг Октября. // А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М: Политиздат, 1991. С. 73.
40
Шлаен Александр. Красная чума, http://www.zerkalonedeli.com/nn/ show/316/28924/.
41
Лев Троцкий. Вокруг Октября // А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М.: Политиздат, 1991. С. 75—76.
42
Бабель Исаак. Недоноски // Новая жизнь. 1918. 26 марта. Цит. по: Собр. соч. Т. 2. С. 251—253.
43
Бабель Исаак. Недоноски… С. 254—255.
44
Кожин Юрий. Заложники в годы Гражданской войны в России // http:// archive. Iseptember.ru/his/2000/no21.htm.
45
Кожин Юрий. Заложники в годы Гражданской войны в России // http://archive. Iseptember.ru/his/2000/no21.htm.
46
Ларин Ю. Евреи и антисемитизм в СССР. М.; Л.: ГИЗ, 1929. С. 260— 262.
47
Солженицын А.И. Двести лет вместе. Часть П. М.: Русский путь, 2002. С. 76.
48
МЧК. Из истории Московской чрезвычайной комиссии. Сборник документов (1918—1921). М.: Моск. рабочий, 1978. С. 19.
49
МЧК. Из истории Московской чрезвычайной комиссии… С. 26.
50
Луначарский А. Моисей Соломонович Урицкий // А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М.: Политиздат, 1991. С. 359—360.
51
Соломон Г. Среди красных вождей. Лично пережитое и виденное на советской службе // Литература русского зарубежья. Антология в шести томах. М.: Книга. Т. 2. С. 275—276.
52
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 29, 33.
53
Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь Гранат. Репринтное издание. М: Советская энциклопедия, 1989. С. 734.
54
Луначарский А. Лев Давидович Троцкий // А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М: Политиздат, 1991. С. 347.
55
Архив ФСК в Санкт-Петербурге. Дело «Каморры народной расправы». Т. 3. Л. 136.
56
Дело «Каморры народной расправы». Т. 1. Л. 52—66.
57
Троцкий Л. Показания, данные члену ЦИК В. Кингисеппу (4 июня 1918 г.) (Дело A.M. Щастного №216). См.: http://www.1917.com/Marxism/ Trotsky/CW/Trotsky-War-I/3-2-2-2.html
58
Троцкий Л. Показания перед Верховным революционным трибуналом (20 июня 1918 г.) (Дело A.M. Щастаого №216). См.: http://www.1917.com/ Marxism/Trotsky/CW/Trotsky-War-I/3-2-2-2.html
59
Новая жизнь. 1918. 13 апреля.
60
Бабель Исаак. Дорога // 30 дней (журнал). 1932. № 3.
61
Вопросы литературы (журнал). 2001. № 2.
62
Исбах Александр. Фурманов (ЖЗЛ). М.: Молодая гвардия, 1968. С. 251.
63
Архив Петербургского управления ФСК. Дело № 813 Байковского Владислава Александровича. № 5491.
64
Хейфец М. Наши общие уроки 22 (журнал). Тель-Авив, 1980. № 14. С. 162.
65
Солженицын А.И. Двести лет вместе. Часть П. М.: Русский путь, 2002. С. 87—88.
66
Архив Петербургского управления ФСК. Дело по обвинению солдат Нарвского района А.Г. Ветрова (Шпаковского), И.Р. Разгонова, П.Ф. Лункевича и др. Т. 6. Л. 37.
67
Архив Петербургского управления ФСК… Т. 6. Л. 39.
68
Там же. Т. 6. Л. 48.
69
Бейзер Михаэль. Евреи Ленинграда. 1917—1939. М.; Иерусалим: Gesharim — Мосты культуры, 1999. С. 49, 78.
70
Соломон Г. Среди красных вождей. Лично пережитое и виденное на советской службе // Литература русского зарубежья. М.: Книга, 1991. Т. 2. С. 278.
71
Святейший патриарх // Новая жизнь. 1918. 2 июля. Под рубрикой «Дневник». Собр. соч. Т. 2. С. 194—196.
72
Известия. 1918. 28 апреля. С. 4.
73
Почта вечерняя. № 12. 1918. 23 апреля.
74
Дело «Каморры народной расправы». Т. 4. Л. 51.
75
Дело «Каморры народной расправы». Л. 148.
76
В.А. Кутузов, В.Ф. Лепетюхин, В.Ф. Соловьев, О.Н. Степанов. Чекисты Петрограда на страже революции. Лениздат, 1987.
77
Еженедельник ВЧК. № 6.
78
Дело «Каморры народной расправы. Т. 4. Л. 37.
79
Дело «Каморры народной расправы. Т. 2. Л. 145.
80
Там же. Т. 6. Л. 3.
81
Показания P.P. Гроссмана // Дело «Каморры народной расправы». Т. 4. Л. 19.
82
Показания Г.И. Солодова // Дело «Каморры народной расправы». Т. 4. Л. 34.
83
Паук. 1911. 3 декабря.
84
Паук. 1911. 3 декабря.
85
Дело «Каморры народной расправы». Т. 4. Л. 26.
86
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2. Л. 29.
87
Дело «Каморры народной расправы». Т. 4. Л. 19.
88
Скрябин М., Гаврилов Л. Светить можно — только сгорая. М., 1987.
89
Дело «Каморры народной расправы». Т. 1. Л. 15.
90
Дело «Каморры народной расправы». Т. 1. Л. 47.
91
Дело «Каморры народной расправы». Т. 4. Л. 24.
92
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2. Л. 49.
93
Вечер Петрограда. № 16. 1918. 24 мая.
94
Дело «Каморры народной расправы». Т. 1. Л. 38.
95
Дело «Каморры народной расправы». Т. 1. Л. 8.
96
Дело «Каморры народной расправы». Т. 1. Л. 22.
97
Дело «Каморры народной расправы». Т. 1. Л. 8.
98
Там же. Т. 1.Л. 15.
99
Дело «Каморры народной расправы». Т. 1. Л. 179.
100
МЧК. Из истории Московской чрезвычайной комиссии. Сборник документов (1918—1921). М: Моск. рабочий, 1978. С. 38.
101
Красная книга ВЧК. М.: Политиздат, 1989. Т. 1. С. 52.
102
Красная книга ВЧК… Т. 1. С. 52—53.
103
МЧК. Из истории Московской чрезвычайной комиссии. Сборник документов (1918—1921). М: Моск. рабочий, 1978. С. 39—40.
104
Там же. С. 40—41.
105
Савинков Б.В. Борьба с большевиками. // Литература русского зарубежья. Антология в шести томах. М.: Книга, 1991. Т. 1. Кн. 2. С. 165.
106
Там же. Т. 1. Л. 173.
107
Показания Льва Марковича Ярукского // Дело «Каморры народной расправы». Т. 3. Л. 4.
108
Дело «Каморры народной расправы». Т. 6. Л. 23—24.
109
Дело «Каморры народной расправы». Т. 4. Л. 61.
110
Дело «Каморры народной расправы». Т. 3. Л. 73—74.
111
Дело «Каморры народной расправы». Т. 4. Л. 22.
112
Дело «Каморры народной расправы». Т. 3. Л. 68.
113
Дело «Каморры народной расправы». Т. 3. Л. 98.
114
Там же. Т. 3. Л. 70.
115
Дело «Каморры народной расправы». Т. 3. Л. 69.
116
Дело «Каморры народной расправы». Т. 3. Л. 69.
117
Там же. Т. 3. Л. 91—107.
118
Дело «Каморры народной расправы». Т. 3. Л. 73—74.
119
Там же. T.3. Л. 177.
120
Дело «Каморры народной расправы». Т. 4. Л. 9.
121
Бабель Исаак. Вечер // Конармия. М: Правда, 1990. С. 179. (Впервые: Новая жизнь. 1918. 21 мая).
122
Дело «Каморры народной расправы». Т. 4. Л. 96.
123
Дело «Каморры народной расправы». Т. 4. Л. 95.
124
Петроградская правда. 1918. 29 мая.
125
Дело «Каморры народной расправы». Т. 3. Л. 63.
126
Там же. Т. 3. Л. 22.
127
Дело «Каморры народной расправы». Т. 3. Л. 22.
128
Дело «Каморры народной расправы». Т. 1. Л. 140.
129
Там же. Т.3. Л. 37.
130
Дело «Каморры народной расправы». Т. 3. Л. 44.
131
Дело «Каморры народной расправы». Т.3. Л. 47.
132
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2. Л. 82.
133
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2. Л. 81.
134
Там же. Т. 1. Л. 20.
135
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2. Л. 71.
136
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2. Л. 67—69.
137
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2. Л. 83.
138
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2. Л. 93.
139
Дело «Каморры народной расправы». Т. 4. Л. 29.
140
Дело «Каморры народной расправы». Т. 4. Л. 30.
141
ПОГАНИиОПД. Ф. 90. Оп. 2. Д. М-22 б. Л. 47—50. Цит. по: Скорбный путь Михаила Романова: от престола до Голгофы. Документы, материалы следствия, дневники, воспоминания. Пермь: Пушка, 1996.
142
Соколов Н.А. Убийство царской семьи. М.: Советский писатель, 1990. С. 330—331.
143
ГА РФ. Ф. 539. Оп. 5. Д. 1552. Л. 49—50 об., 51. Цит. по: Скорбный путь Михаила Романова: от престола до Голгофы. Документы, материалы следствия, дневники, воспоминания. Пермь: Пушка, 1996.
144
ПОГАНИиОПД, ф. 90, оп. 2, д. М-6. Л. 30. Цит. по: Скорбный путь Михаила Романова: от престола до Голгофы. Документы, материалы следствия, дневники, воспоминания. Пермь: Пушка, 1996.
145
Показания полковника И.Н. Анненкова // Дело «Каморры народной расправы». Т.2. Л. 52—53.
146
Показания С.Д. Быстрицкого// Дело «Каморры народной расправы». Т.3. Л. 13.
147
Показания Л.Т. Злотникова // Дело «Каморры народной расправы». Т. 4. Л. 26.
148
Показания Ф.А. Бронина // Дело «Каморры народной расправы». Т. 1. Л. 39.
149
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2. Л. 102.
150
Там же. Т. 2. Л. 101.
151
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2. Л. 134.
152
Луначарский А. Володарский // А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М: Политиздат, 1991. С. 279.
153
Соломон Г. Среди красных вождей // Литература русского зарубежья. Антология в шести томах. М.: Книга. Т. 2. С. 281.
154
Луначарский А. Володарский // А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М: Политиздат, 1991. С. 280.
155
Горький М. Собрание сочинений в восемнадцати томах. М: Художественная литература, 1963. Т. 18. С. 256.
156
Телеграмма № 70 в сб.: Германия и революция в России. 1915—1918. Документы из архивов министерства иностранных дел Германии. Под ред. З.А. Земана. Лондон — Нью-Йорк — Торонто, 1958. Цит. по: Был ли Ленин немецким агентом? Сост. В.И. Кузнецов, СПб.: Реал, 1994.
157
Радек К. Парвус // А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М: Политиздат, 1991. С. 252.
158
Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 103.
159
Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 100.
160
Луначарский А. Володарский // А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М: Политиздат, 1991. С. 282.
161
Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 181.
162
Там же.
163
Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 183—183.
164
Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 185—186.
165
Там же. Л. 159—160.
166
Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 160.
167
Бабель И. Я задним стоял // Исаак Бабель. Конармия. М: Правда, 1990.
168
Красная газета. 1918. 28 мая.
169
Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 61.
170
Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 73.
171
Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 61.
172
Молва. № 14. 1918. 21 июня.
173
Молва. № 5. 1918. 11 июня 1918.
174
Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 118.
175
Петроградская правда. № 132. 1918. 26 июня.
176
Луначарский А. Володарский // А. Луначарский, К. Радек, Л. Троцкий. Силуэты: политические портреты. М: Политиздат, 1991. С. 281.
177
Вечерние огни. 1918. 22 июня.
178
Вечер Петрограда. 1918. 25 июня.
179
Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 54.
180
Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 99.
181
Там же. Л. 103.
182
Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 105.
183
Там же. Л. 106.
184
Утро (газета). № 56. 1918. 26 июня.
185
Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 109.
186
Показания Г.И. Семенова на следствии. Т. I. Л. 32 и 388.
187
Материалы февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) 1937 г. // Вопросы истории. 1992. № 2—3. С. 27—28.
188
Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 44.
189
Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 127.
190
Донос Гирши Марковича Норштейна // Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 56.
191
Донос Казимира Ивановича Бейтяна // Дело об убийстве Володарского в 1918 году. Л. 57.
192
В.И. Ленин и ВЧК. М, 1987.
193
Дело «Каморры народной расправы». Т.5. Л. 80.
194
Дело «Каморры народной расправы». Т. 5. Л. 81.
195
Дело «Каморры народной расправы». Т. 5. Л. 82.
196
Там же. Т. 5. Л. 83.
197
Дело «Каморры народной расправы». Т. 4. Л. 16.
198
Дело «Каморры народной расправы». Т. 5. Л. 108.
199
Дело «Каморры народной расправы». Т. 6. Л. 85.
200
Дело «Каморры народной расправы». Т. 5. Л. 84—85.
201
Дело «Каморры народной расправы». Т. 5. Л. 96.
202
Там же. Т. 5. Л. 90.
203
Дело «Каморры народной расправы». Т. 5. Л. 63.
204
Там же. Т. 5. Л. 95.
205
Там же. Т. 5. Л. 91.
206
Дело «Каморры народной расправы». Т. 5. Л. 96.
207
Дело «Каморры народной расправы». Т. 5. Л. 96.
208
Лебедев Вадим. Из архива Лубянки. Смерть авантюриста // www. norcom. га/ users/ spartak/ avan.html.
209
Цит. по: Гордиевский О., Эндрю К. КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева. М: Nota Bene, 1992. С. 67.
210
Красная книга ВЧК. М: Политиздат, 1989. Т. 1. С. 257.
211
Гордиевский О., Эндрю К. КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева. С. 68.
212
Красная книга ВЧК. М: Политиздат, 1989. Т. 1. С. 185—186.
213
Бюллетень № 1 ЦК ПЛСР // Красная книга ВЧК. Т. 1. С. 209.
214
Воззвание ЦК ПЛСР // Там же. С. 206.
215
Красная книга ВЧК. Т. 1. С. 298—299.
216
Красная книга ВЧК. Т. 1. С. 262.
217
Красная книга ВЧК. Т. 1. С. 304.
218
Шлаен А. Красная чума // www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/316/28924/
219
Красная книга ВЧК. Т. 1. С. 201.
220
Красная книга ВЧК. Т. 1. С. 258—259.
221
Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в десяти томах. М.: Политиздат, 1990. Т. 5. С. 213.
222
Петроградская правда. 1918. № 148.
223
Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в десяти томах. Т. 5. С. 214.
224
Красная книга ВЧК. Т. 1. С. 266.
225
Шлаен А. Красная чума // www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/316/28924/.
226
Убийца графа Мирбаха //email.jewish.ru/10313-28.asp.
227
Лебедев Вадим. Из архива Лубянки. Смерть авантюриста // www. norcom. ru/ users/ spartak/ avan.html.
228
Дело о заговоре в Михайловском артиллерийском училище. Л. 55.
229
Там же. Л. 57.
230
Дело о заговоре в Михайловском училище. Л. 41.
231
Дело о заговоре в Михайловском артиллерийском училище. Л. 46.
232
Там же. Л. 45.
233
Там же. Л. 47.
234
Дело о заговоре в Михайловском артиллерийском училище. Л. 48.
235
Там же. Л. 22.
236
Дело о заговоре в Михайловском артиллерийском училище. Л. 50.
237
Дело о заговоре в Михайловском артиллерийском училище. Л. 52.
238
Дело об убийстве товарища Урицкого. Т. 1. Л. 95—96.
239
Вера Владимирова. Год службы социалистов капиталистам // www.bibl. ru/ni/god_sluzhby_sot-15.htm.
240
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2. Л. 166.
241
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2. Л. 139.
242
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2. Л. 139.
243
Там же. Т. 2. Л. 167.
244
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2. Л. 146.
245
Там же. Т. 2. Л. 150.
246
Там же. Т. 2. Л. 151.
247
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2. Л. 171.
248
Дело «Каморры народной расправы». Т. 2. Л. 164—165.
249
Там же. Т. 2. Л. 170.
250
Там же. Т. 2. Л. 173.
251
Соколов Н.А. Убийство царской семьи. М: Сирин, Сов. писатель, 1990. С. 218.
252
Соколов Н.А. Убийство царской семьи. С. 301—302.
253
Известия. 27 июня. 1918. С. 4.
254
Соколов Н.А. Убийство царской семьи. С. 300.
255
Дитерихс М.К. Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале. М.: Скифы, 1991. С. 23, 81, 82.
256
Дитерихс М.К. Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале. С. 64.
257
Дитерихс М.К. Убийство царской семьи… С. 62.
258
Суворов Дмитрий. Все против всех // www.art.uralinfo.ru/literat/Ural/ Ural05_98_08.htm.
259
Архив управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской обл. Архив № 36330. Л. 6. Следств. дело № 4388 — 18 г.
260
Архив управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской обл. Архив. № 9465. Л. 3. Следств. дело № 7612 по обвинению Кравцова Семена Ивановича и др.
261
Архив управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской обл. Архив. № 9465. Л. 3. Следств. дело № 7612 по обвинению Кравцова Семена Ивановича и др.
262
Архив управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской обл. Архив. № 9465. Л. 4. Следств. дело № 7612 по обвинению Кравцова Семена Ивановича и др.
263
Архив управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской обл. Архив. № 9465. Л. 4. Следств. дело № 7612 по обвинению Кравцова Семена Ивановича и др.
264
Там же. Л. 8.
265
Архив управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской обл. Архив. № 9465. Л. 8. Следств. дело № 7612 по обвинению Кравцова Семена Ивановича и др.
266
Там же. Л. 4.
267
Архив управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской обл. Архив. № 9465. Л. 5. Следств. дело № 7612 по обвинению Кравцова Семена Ивановича и др.
268
Следств. дело № 4388 — 18 г. Архив № 36330. Л. 2.
269
Там же. Л. 3.
270
Следств. дело № 4388 — 18 г. Архив № 36330. Л. 7.
271
Новоладожский уезд: грозный 1918-й // Волховские огни. 1986. 22 ноября.
272
Архив управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской обл. Архив № 36330. Л. 10. Следств. дело № 4388 — 18 г.
273
Архив управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской обл. Следств. дело № 7612 — 18 г. Архив. № 9465. Л. 5—6.
274
Там же. Следств. дело № 4388 — 18 г., архив. № 36330. Л. 7.
275
Архив управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской обл. Следств. дело № 7612 — 18 г. Архив. № 9465. Л. 6.
276
Владимирова Вера. Год службы социалистов капиталистам // www.bibl. ru/ni/god_sluzhby_sot-15.htm.
277
Автобиография шестого начальника Петроградской ЧК цит. по: Бережков В.И. Внутри и вне Большого дома. СПб.: Библиополис, 1995. С. 30.
278
Мельгунов С.П. Красный террор в России. 1918—1923. Изд. 2-е, доп. Берлин, 1924.
279
См.: http://memo.perm.ru/pub_st31.htm.
280
См.: http://memo.perm.ru/pub_st31.htm.
281
Архив управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской обл. Архив. № 9465. Л. 16. Следств. дело № 7612 по обвинению Кравцова Семена Ивановича и др.
282
Следств. дело № 7612 — 18 г. Архив. № 9465. Л. 20.
283
Следств. дело № 4388—18 г. Архив. № 36 330. л. 114.
284
Алданов Марк. Убийство Урицкого // Литература русского зарубежья: Антология. М: Книга, 1990. Т. 1. Кн. 1. С. 113.
285
Показания швейцара Прокопия Григорьевича Григорьева // Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 1. Л. 19 (20).
286
Показания швейцара Федора Васильевича Васильева // Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 1. Л. 21 (22).
287
Там же. Л. 23 (24).
288
Алданов Марк. Убийство Урицкого. С. 102.
289
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Т. 5. Л. 2—5.
290
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Т. 5. Л. 17.
291
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 2. Л. 231.
292
Там же. Л. 22.
293
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 1. Л. 25 (26).
294
Там же. Л. 28 (29).
295
Там же. Л. 25 (26).
296
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 1. Л. 46 (47).
297
Там же. Л. 53 (54).
298
Алданов Марк. Убийство Урицкого. С. 101.
299
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 1. Л. 58.
300
Там же.
301
Он был, как вспоминает Н.Г. Блюменфельд, большой барин. «Величественный, холеный, ничего еврейского, только европейское».
302
Запись Натальи Соколовой со слов ее матери Н.Г. Блюменфельд // Столица (журнал). 1992. № 92.
303
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 2. Л. 238.
304
Показания следователей Отто и Рикса о ведении ими дела №4040 Леонида Акимовича Каннегисера // Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 1. Л. 13.
305
Там же. Л. 14.
306
Петроградская правда. № 192. 1918. 5 сентября.
307
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 1. Л. 107—108.
308
Цветаева Марина. Вольный поезд // Литература русского зарубежья: Антология в шести томах. М.: Книга. Т. 1. Кн. 1. С. 88—89.
309
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 5. Л. 16.
310
Там же. Т. 1. Л.94.
311
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах… Т. 3. Л. 212.
312
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах… Л. 195.
313
Там же. Т. 5. Л. 190.
314
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 5. Л. 192—215.
315
Там же. Т. 1. Л. 14.
316
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 1. Л. 16.
317
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 1. Л. 12.
318
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 5. Л. 12—13.
319
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 1. Л. 153.
320
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 1. Л. 139.
321
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 1. Л. 144.
322
Там же. Т. 6. Л. 15.
323
Там же. Т. 4. Л. 31.
324
Центральный архив ФСБ РФ. 25.06. 1997 г.
325
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 2. Л. 205.
326
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 2. Л. 205.
327
ЦА МБ РФ. Н-200. Т. 10. Показания С.К. Гиля от 30 августа 1918 г. Цит. по: Источник. 1993. № 2.
328
Там же.
329
ЦА МБ РФ. Н-200. Т. 10. Протокол допроса З.И. Легонькой от 24 сентября 1919 г. Цит. по: Источник. 1993. № 2. С. 80—81.
330
Известия ВЦИК. 1918. 1 сентября.
331
Свердлов Я.М. Избранные произведения. Т. 3. М., 1960. С. 5.
332
Петерс Я.Х. Воспоминания о работе в ВЧК // Былое (журнал). Париж. 1933. №11. С. 121—122.
333
Зинухов Александр. Фарс века // Совершенно секретно. 1997. № 7.
334
Источник. 1993. № 2. С. 84.
335
Каторга и ссылка (журнал). 1921. № 1.
336
Протокол допроса от 31 августа 1918 г., 2 часа 25 минут утра. Дело Верховного трибунала Всероссийского центрального исполнительного комитета, № 196.
337
Источник. 1993. № 2. С. 76.
338
Еженедельник ВЧК. 1918. № 3. С. 7—8.
339
Бонч-Бруевич В.Д. Три покушения на Ленина. С. 81.
340
Известия. 1918. 1 сентября.
341
Мальков П.Д. Записки коменданта Кремля. С. 150.
342
Ленин В.И. ПСС. Т. 38. С. 127.
343
Бонч-Бруевич В.Д. Ленин в Петрограде и Москве. М.: Политиздат, 1982. С. 55—56.
344
Записка Юровского: Екатеринбургский летописец. (Из готовящейся к изданию книги Ю.А. Жука «Расстрел царской семьи: факты и выводы»). См.: http://history.e-burg.ru/collection/romanov/urovsky2.html.
345
Красная газета. № 187. 1918. 7 сентября.
346
Красная газета. №181. 1918.31 августа.
347
Мариенгоф Анатолий. Роман без вранья. Циники. Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги. М: Худ. лит., 1988. С. 7.
348
Красная газета. № 185. 1918. 5 сентября.
349
Красная газета. № 186. 1918. 6 сентября.
350
Красная газета. № 189. 1918. 10 сентября.
351
Красная газета. № 190. 1918. 11 сентября.
352
СПб. Архив ФСК. Дело о беспорядках на станции Вруда. Л. 127.
353
Вокруг новостей: версии, комментарии, расследования // www. vokruginfo.ru/specvyp/specvyp57p0.html.
354
Троцкий Л.Д. Сталин. М.: Терра, 1990. Т. 2. С. 58—59.
355
Дзержинская С.С. В годы великих боев. М.: Мысль, 1975. С. 284.
356
Герман Ю. Лед и пламень // Чекисты. Лениздат, 1977. С. 44.
357
РЦХИДНИ, фонд 76 (Дзержинского). Цит. по: Хлысталов Эдуард. Находка в Кремле // Литературная Россия. 2002. 7 ноября.
358
Дзержинская С.С. В годы великих боев. С. 286.
359
Тайгин А. В Берлин с русским золотом. Цит. по: Литература русского зарубежья. М.: Книга, 1991. Т. 2. С. 292.
360
Дело об убийстве Урицкого в 11 томах. Н-196. Архив ФСК. Т. 1. Л. 12,15.
361
Серж Виктор. От революции к тоталитаризму // www.art.uralinfo.ru/ Iiterat/Ural/Ural08_97_09.htm.
362
СПб. Архив ФСК. Архивно-следственное дело № П-28-949 «Фонтанники». Л. 16.