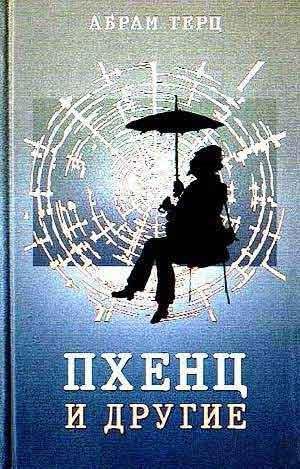
ПРЕДИСЛОВИЕ
Расскажу я вам, товарищи, о городе Любимове, который древнее, быть может, самой Москвы и только по ошибке не сделался крупным центром. Может, проведи сюда вовремя железнодорожную ветвь или просверли подходящую нефтеносную скважину, и жизнь бы в городе Любимове забила фонтаном, и вырос бы на его месте целый Магнитогорск. Но обошли нашу местность пути развития, и состоит она из простых равнин, поросших невысокой растительностью, да болот, да болотистых лесоучастков, где водятся одни дикие зайцы и разная несъедобная птица.
Правда, подальше, за Мокрой Горой, сосредоточена знаменитая утка, годная для стрельбы, и говорят, в старину эту утку возами возили и за еду не считали. Но чтобы в нашем краю водились бизоны, или тапиры, или какие-нибудь жирафы со змеевидными шеями, так это уже и старики не помнят. И хотя доктор Линде продолжает всем доказывать, что однажды на вечерней заре повстречался ему вместо тетерева доисторический птеродактиль, все это вымысел, брехня и нету у нас ничего похожего. Это в Африке, действительно, живет еще в озере один птеродактиль — читал я в одном журнальчике. А доктор Линде если и встретил кого у Мокрой Горы, то, это, наверное, была обыкновенная болотная выпь. Страшно она кричит и стонет из темноты, выпь.
Зато сам по себе город Любимов — ничего, веселый, и жители в нем развитые, интересующиеся, много комсомольцев и довольно густая интеллигентская прослойка. А в позапрошлый сезон — еще до событий — прислали из Ленинграда учительницу, Серафиму Петровну Козлову — преподавать иностранный язык в старших классах. Ее появление просто всех удивило. Во всяких скетчах, пикниках — ей первая скрипка. Бывало, на именинах хлопнет рюмку шипучки, взвизгнет, побледнеет и сейчас же — нож в зубы, прямо за лезвие, и пошла по всем правилам выбивать лезгинку, только локти летают.
Но ничего такого себе не позволяла: уж очень была гордая. По ее недоступности доктор Линде чуть с ума не сошел. «Спорю, — говорит, — на две дюжины пива, что я с этой феей в течение двух вечеров войду в интимное положение». И проиграл. Выпили мы пиво, посмеялись. Самое большее, чего он достиг, так это ручку потрогать. И то — один кончик, полтора ноготка.
Я один раз тоже ее зондировал, из спортивного интереса. Приходит Серафима Петровна в городскую библиотеку и спрашивает скучающим голосом чего-нибудь почитать. Поглядел я на нее проницательно и отвечаю:
— Не хотите ли интересный роман Ги де Мопассана «Милый друг»? Очень развратный роман из французской жизни...
Она зевнула, потянулась, так что все груди выпятились, и говорит:
— Нет, спасибо, что-то не хочется. Мне бы, — говорит, — Фейхтвангера, либо Хемингуэя...
Я даже крякнул.
— Что вы! — шепчу, — у нас такого не водится. Мы с этой гнилью покончили в сорок седьмом. Инструкция была из центра, насчет Фейхтвангера.
— Разве? а я не знала. Дайте тогда, пожалуйста, «Спартак» Джованьоли. Люблю перед сном погрузиться в приключенческую тематику.
— Вот это можно, — говорю. — Это сколько угодно. «Спартака» в нашем городе целых два экземпляра.
И злюсь на себя ужасно, прямо до исступления. Ведь я Серафиме этой в отцы гожусь. Читал я ее Фейхтвангера, и Хемингуэя читал. Ничего особенного. И женщин таких, как она, я за жизнь свою перепробовал, может, человек пятьдесят. Даже таких случалось, которые шляпки носят. А вот с ней говорю и теряюсь, и глаза вниз опускаются. А все потому, что — ленинградка, с законченным образованием. Эх, провинция, провинция!..
Между прочим, также имеются памятники архитектуры. Бывший монастырь эпохи средневековья. После революции, в 1926 году, когда святых отцов выслали в Соловки исправительным трудом заниматься, прикатил к нам профессор для научного обследования, как все это было на самом деле. Целое лето мерили и в земле ковырялись, мумию хотели найти. Мумия служила у них для отвода глаз. Золото — вот чего они докапывались под церковными плитами, титулованный металл. Берешь в руки — имеешь вещь. Но разгадать тайну клада не посчастливилось. Отрыли голый скелет одного монаха с кабаньими клыками вместо зубов, с тем и уехали.
Много у нас народу тогда интересовалось про те клыки у скелета и того профессора и лекцию бесплатно прослушать — как образовалась земля из солнца и откуда возник животный, растительный мир. Я тоже в эту сторону сделал небольшую прогулку. Повязал, помню, шелковый пояс с кистями, соломенную шляпу надел. Не торопясь, подхожу, здороваюсь. Приподнял вежливо соломенную шляпу: «Здравствуйте, — говорю. — Ну как идут вперед ваши научные розыски?»
А профессор — обыкновенный такой, простенький, в резиновых тапочках, сразу не догадаешься, что профессор, — ласково на меня смотрит и серебристую бородку почесывает, а на старческой ручке у него обручальное кольцо. Эге, думаю, — царский режим! Снял из уважения соломенную шляпу, стою, обмахиваюсь, как веером, улыбаюсь. Вдруг сам делает ко мне шаг:
— Скажите, молодой человек (мне в ту пору еще тридцати не было), — где тут у вас в старое время историческая часовня стояла и куда она исчезла, не могу понять?
И когда я, указав на чистое место, разъяснил ему подробно, как часовенку нашу взорвали на воздух в период борьбы с безграмотностью, потому что уж очень ее чтили и скапливались народные массы, в основном женщины, даже имелись факты случайного совпадения, когда чудесным способом исцелился один слепец еще до революции, да не хватило динамиту, пришлось вручную доламывать, думали пекарню поставить, к Рождеству сгорел председатель, у Марьямова Егора Тихоновича отсохла одна рука, а двух других взрывателей случайно убило в момент взрыва динамитной волной, и через год Андрюшу Пасечника, который всех подговаривал, настигло бревном по голове на лесозаготовке, привезли его домой, к утру помер, — поглядел еще более ласково и говорит:
— Вам, молодой человек, надлежит все это записывать в хронологическом порядке в отдельную тетрадь. Получится правдивая летопись из жизни вашего города, и войдет город Любимов в историю человечества. Это может пригодиться для пользы дела, и ты прославишься навеки, словно какой-нибудь Пушкин...
Поговорили мы так с профессором и разошлись. Я тогда по малолетству не придал его словам буквального значения: все барышни на уме, голые задницы и всякий флирт, самоучитель игры на гитаре в двадцать пять уроков. Велосипед. Оглянуться не успел, смотрю — из-под волос лысина показалась, вдовец, дочка Ниночка замуж выскочила, и нет уже в душе прежней любви к велосипедному спорту.
Начал я понемногу задумываться. К чему, думаю, вся эта суета? Для чего живет и борется бессознательный человек, если — возьми любую книгу, и с первой же страницы ты можешь завести себе и новую жену и детей, уехать в другой город, испытать массу ярких впечатлении, не подвергая притом свое здоровье непосредственной опасности? Ведь чем хороша книга? Пока ты ее читаешь и твоя душа витает где-то там, плавает на корабле под парусами, фехтует на шпагах, страдает и облагораживается, в это время тело твое сидит на месте и отдыхает, и даже может незаметно покуривать папироску и прихлебывать из стакана прохладительные напитки. Мы забываем себя, мы превращаемся в Спартака, в короля Ричарда Львиное Сердце из романа Вальтера Скотта, но в то же самое мгновение ничем, ну ничем не рискуем за эти самовольные отлучки и политические шаги. И, вспомнив про свою обеспеченность, мы сладко потягиваемся...
Одно лишь бывает горько — когда писатель пускается вдруг в фантазию. Ты тут сидишь, переживаешь, и у тебя, может быть, мурашки по хребту бегают, а он, оказывается, все это из головы придумал. Нет, уж если взялся писать, так пиши про то, что сам видел или хотя бы слышал из проверенных источников. Чтобы читательская душа, путешествуя по страницам, не портила понапрасну драгоценное зрение, но получала бы надежные и полезные сведения для внутреннего развития. Она жить хочет, душа-то, жить и богатеть, высасывая глазами из книги чужую теплую кровь, а не пустой воздух...
К чтению я пристрастился, когда начал заведовать городской читальней. Сперва — от нечего делать, потом — втянулся. Потом сам попробовал, стихами. Вижу: получается, даже в рифму. Но все мне как будто чего-то недостает, а чего — и сам не пойму. Тут и припомнился мне профессор, приезжавший в Любимов в 1926 году. Эх, думаю, случись в нашем городе какая-нибудь история — ну пожар хотя бы или судебное следствие, — я бы сейчас же ее на бумаге увековечил для будущего потомства. Посетителей у меня не так уж много, разве что доктор Линде заглянет поговорить о ходе науки, да припрется инструктор из райкома посмотреть, что нынче делается в газетах для увеличения поголовья скота, да — бывало — придет и сядет тихо в сторонке еще один посетитель, про которого я пока говорить не буду, потому что не подоспел еще срок о нем говорить... Здесь он с ней и подружился, с Серафимой Петровной Козловой, здесь, в моем присутствии, все и началось... Но помолчим!
Прихожу я однажды в читальню...
Нет, не так!
Однажды выхожу я из дому...
Нет, не так!
До чего же трудно бывает написать первую фразу, после которой все должно начаться. Потом будет легче. Потом, я уже знаю, дело пойдет, как по маслу, поспевай только переворачивать исписанные листы да проставлять на свежей страничке порядковый номер. Пишешь и не понимаешь, что с тобой происходит и откуда берутся все эти слова, которых ты и не слыхивал никогда и не думал их написать, а они сами вдруг вынырнули из-под пера и поплыли, поплыли гуськом по бумаге, как какие-нибудь утки, как какие-нибудь гуси, как какие-нибудь чернокрылые австралийские лебеди...
Порой такое напишешь, что страх охватывает и выпадает из пальцев самопишущее перо. Не я это! Честное слово, не я! Но перечтешь, и видишь: всё правильно, всё так и было... Господи! Да что же это такое? Нету в этом деле моего прямого участия! Может, как и весь этот милый заколдованный город, я только пущен в ход чьей-то незримой рукой?..
Если призовут меня к ответу грозные судьи, закуют мои ручки и ножки в железные кандалы, — заранее предупреждаю: я от всего отрекусь, как пить дать, отрекусь! Эх! — скажу — граждане судьи! Оплели вы меня, запутали. Стреляйте, если хотите, но я не виновен!
Может, я потому и медлю, что мне жить хочется? Может, первая фраза уже давно сидит в моей запутанной голове, а я просто притворяюсь, дурака валяю и время тяну? Пожить бы еще немножко. Покурить, попить бы пиво. Книжечку почитать в тишине, в безопасности. Читать — это вам не писать. Сходить бы на рыбалку. В бане попариться. Поговорить с доктором Линде насчет птеродактилей...
Ну вот опять! Откуда залетело сюда чуждое нам слово? Я его и произно-сить-то не умею, птеродактиля этого, и говорил ведь — не водится в наших краях ничего такого. Кыш, ты! Кыш! Лети прочь, гадина!
...Выхожу я однажды на крылечко и вижу...
Нет, погодите. Еще рано. Во-первых, почему — «я»? и почему — «выхожу»? Что это за дурная привычка во все самому соваться! И не я это выходил тогда на крылечко, а он, он, Леня Тихомиров — главный наш механик по перетягиванию велосипедов. Во-вторых, все эти подробности, ужасно они мешают. Если появилось крылечко, то, значит, надо описывать — каким оно было, крылечко, — высоким или низеньким, и не с резными ли столбиками, а уже если с резными, — то пошло и пошло, и сам не заметишь, как совсем про другое рассказываешь.
Чтобы не распыляться, в исторических книгах и летописях (так уж заведено) устраиваются особые сноски, расположенные внизу, под страницей. Зыркаешь туда глазами время от времени и все воспринимаешь. И я тоже снизу приделаю эти сноски, для читательского облегчения. Каждый читатель может туда спуститься и, немного передохнув, узнать о подробностях или еще о чем. А кто не желает, или некогда, или ему надо побыстрее понять главное содержание, тот пусть эти второстепенные сносочки спокойненько пропускает и шпарит дальше, без передышки, сколько влезет.
Итак, приступим.[1]
Ох, и страшно, голова кругом идет.[2]
Тянет меня, понимаете, тянет, словно горького пьяницу, и подкатываются к самому сердцу безответственные слова.
Ну, поехали. Вперед! Начинаю... [3]
Глава первая. О НАУЧНОМ ПЕРЕВОРОТЕ, СОВЕРШЕННОМ 1- ГО МАЯ ЛЕНЕЙ ТИХОМИРОВЫМ
Однажды утром Леня Тихомиров в костюме стального цвета, а сандалиях на босу ногу вышел на свое приземистое крыльцо. Постояв немного, будто в нерешительности, он вынул из кармана самодельный блокнот[4] и погрузился в какие-то математические вычисления.
Погода была чудесная. В лазурном небе таяли сахарные облака, и солнце сверкало с таким интегральным блеском, что в глазах все играло и прыгало, и сквозь плетень фигура Лени представлялась как бы в золотом ореоле. Но стоило присмотреться внимательнее, и всякий бы заметил, что Леня Тихомиров не просто изучает блокнот, а что есть силы туда вглядывается, и все его длинное, узкогрудое тело ритмически извивалось, а рот тяжело дышал и на лбу вздулись две жилы. Неподготовленный зритель мог бы испугаться за его здоровье, потому что эти жилы совсем уже напряглись, образуя на лбу синий остроугольник, наподобие римской цифры V.[5]
Тут донеслись звуки из громкоговорителя, подвешенного на главной площади на столбе, напоминая о приближении первомайского праздника, и эта боевая музыка возвратила Леню к действительности. Он сунул блокнот в карман и сказал: «Ага!» Что это значило, было пока неясно. Он сказал: «Ага!» и весь обвис, и жилы у него на лбу тоже утихомирились.
Мать-старушка, звякая ведрами, выползла на крылечко и спросила, не подать ли своему единственному сыну творог со сметаной.
— Нет, мамаша, я не желаю, вы сами кушайте, — отвечал Леня Тихомиров как-то очень спокойно. — Я лучше пойду натощак слегка прогуляюсь...
В его голосе сквозила неподдельная интонация.
Больше в то утро на том крылечке его никто не видал.
Но перенесемся теперь на главную площадь и посмотрим, что там. А там уже вовсю гремит боевая музыка, и возвышается посередине большой фанерный ящик, обтянутый красной материей, и на тот огромный-преогромный красный фанерный ящик вылезло все начальство со светлыми лицами. Ждут, когда взойдет секретарь горкома товарищ Тищенко Семен Гаврилович, возвестив своим появлением начало праздника.
Все пространство очищено, мокрые места посыпаны и не видно ни одной коровы или хотя бы овцы, щиплющей раннюю травку. На каланче гордо реет алый стяг, а внизу шеренга милиционеров из пяти единиц — весь гарнизон — зорко смотрит по сторонам, чтобы не просочились на площадь преждевременные пьянчуги и не испортили бы своим расхлябанным видом международную демонстрацию.
Но вот уже вдали весело клубится дорожная пыль, и народ по проспекту Володарского передвигается к центру. Впереди идут дети в белых рубашечках, и кто держит флажок, кто бумажный фонарик, а кто ничего не держит, а идет себе, не потея, и грызет леденец или пряник, размазывая по щекам розовые счастливые сопли. За детьми покачиваются кое-какие трудящиеся — леспромхоз, райпотребсоюз, работники телеграфа и почты, да еще пригнали из деревни два грузовика, набитые колхозными девками. При взгляде на эту картину, в особенности на детишек, шагающих нам на смену своими бодрыми ножками, товарищ Тищенко Семен Гаврилович чуть-чуть не прослезился от радости. Весь улыбается, сияет, точно он с утра блинов наелся, и делает народу приветственные знаки. То руку приложит к козырьку фуражки, то просто так порожняком стоит и головой кивает. Дескать, проходите, граждане, мимо, не толпитесь и дайте нам тоже немного отдохнуть от исполнения служебных обязанностей. И народ — очень довольный — пылит со всех ног под музыку, восклицая: «Ура! ура нашим доблестным воинам!»
Вдруг — стоп! — что такое? Никто не проходит мимо, а все толпятся у центра и смотрят с интересом на товарища Тищенко, который вытянул вдаль растопыренную правую руку и приоткрыл рот, будто бы собираясь что-то произнести, и на лице у него написана внутренняя борьба. И даже радио на столбе поубавило звуки, как бы предоставляя ему свободу слова.
Сначала думали — он хочет поговорить о внешней политике, поздравить с днем солидарности и все такое. Хотя не полагается нарушать порядок и держать речи под солнцем, когда давно пора по домам, к праздничному столу, но это уже не наше дело, где чего говорить и почему у них вышла небольшая задержка. Наше дело — выслушать речь, а после и выпить можно. Выпить всегда успеется, были бы деньги. Не алкоголики — погодим, а погодя — выпьем. Послушаем сперва внимательно, что нам хочет изложить товарищ Тищенко, а потом уж и выпьем без помехи, эх! и выпьем же мы сегодня! эх! и погуляем!..
Но вместо этого товарищ Тищенко сказал совсем не то. Как топор, ударил по площади его надтреснутый голос. Скажет слово и замолчит, еще скажет и опять замолчит, и потом еще скажет два слова. Будто его сию секунду дернуло за язык сделать народу экстренное сообщение, а он даже с мыслями собраться не успел и сам не понимает, куда его чорт заносит.
— Дорогие сограждане! — произнес Тищенко и умолк, и стало заметно, что он волнуется. — Дорогие сограждане... я хочу... мы хотим... объявить... с этого дня...
Он дернулся, побагровел и что есть мочи, на одной струне, выкрикнул:
— ...с этого дня в Любимове начинается новая эра. Все руководство, во главе со мной, добровольно — я подчеркиваю! — добровольно снимает себя всецело с занимаемых постов. На освободившееся место я приказываю сейчас же, немедленно, всенародным голосованием утвердить одно лицо, которое поведет нас... нашу гордость!.. нашу славу!.. приказываю... прошу...
Тут он запнулся, подпрыгнул и схватил себя за горло — в обтяжку — обеими руками, словно хотел удержать льющуюся оттуда речь. Глаза его странно выпучились. Казалось, еще миг, и он рухнет, задушенный, на помост, который звенел и колыхался под ударами его тугого, крупного тела. Но, видно, власть повыше его — разомкнула оцепеневшие пальцы и отвела назад скрюченные руки, освободив от мертвой хватки помятое, в кровоподтеках горло. Он стал похож на краба с разведенными по сторонам клешнями и в этой обезвреженной позе закончил свое выступление:
— ...избрать верховным правителем, судьей, главнокомандующим, — прошептал он, свистя бронхами, — товарища Тихомирова Леонида Ивановича, ура!
Народ безмолвствовал. Было тихо. Было так тихо, что слышалось, как стучат зубы у начальника особого отдела и секретной службы товарища Марьямова Егора Тихоновича, что стоял на охране, с краю трибуны, бледный, как однорукая статуя.[6] Да еще на задворках, далеко-далеко, мычала не ко времени отелившаяся корова.[7]
Спустя полминуты, однако, то здесь, то там раздались голоса, и скоро вся толпа задвигалась, зарокотала, выражая одобрение вынесенной резолюции:
— Да здравствует Тихомиров! Слава Леониду Ивановичу!..
Правда, один мужик сунулся было с расспросами: кто такой Тихомиров и за что ему такая почесть? Но того грубого мужика со всех сторон затолкали:
— Как? Ты не знаешь нашего Леонида Ивановича? ничего не слыхал никогда про Леню Тихомирова?! Да ведь это же наш главный механик по перетягиванию велосипедов! Стыдись! Сразу видать — из деревни, туда тебя растуда, сволочь необразованная!..
Никому не казалось странным, что вчера еще безвестный юноша, велосипедный мастер Леня, в один момент взлетел так высоко. Напротив, все удивлялись, почему до сих пор в Любимове не предоставили Леониду Ивановичу какую-нибудь руководящую должность и как посмело наше безмозглое городское начальство не оценить по достоинству его организаторский ум?!
— Это все Тищенко виноват, — говорили в толпе. — Он первый не давал проходу нашему бедному Лене. За то и поплатился... Видите? Видите? Стоит, парализованный, и ручищи свести не может. Сгорбился весь, растопырился, ровно печной ухват. Растопыр! вурдалак! поганка гнилая!
Услыхал эти слова один спящий младенец, сосунок еще двухмесячный, головку еще не держит — одна молодуха прямо в пеленках его с собой прихватила демонстрацию поглядеть. Так вот он проснулся, выпростался из пеленок, ощерил до ушей свои беззубые десны, да как запищит:
— Хочу, — говорит, — требую, чтобы Леня Тихомиров был в нашем городе царем!
Гром аплодисментов заглушил его детский лепет. Народ, обезумев, дружно хлопал в ладони, повторяя хором, по складам, дорогое русское имя:
— Ле-ня Ти-хо-ми-ров! Ле-ня Ти-хо-ми-ров!
И тогда, делать нечего, — из толпы выступила фигура Лени. Он был в своем костюме стального цвета[8], но вид имел застенчивый и как бы немного сконфуженный. Выйдя на середину поля, он поклонился по-старинному на все четыре стороны и сказал:
— Извините, братцы-товарищи, я просто не понимаю, кого вы тут выкликаете в мой адрес. Я просто недостоин такой вашей ласки. Но если вы так желаете и даже требуете, то мне остается дать вынужденное согласие. Буду вашим слугой по воле народа, и, пожалуйста, — никаких последствий культа личности. Должность министра юстиции, обороны и внутренних дел я тоже попросил бы оставить пока за мною. Конечно, государство — понятие отмирающее, но без контроля, братцы, нам тоже не обойтись — как вы считаете, Семен Гаврилович Тищенко, бывший наш начальник и отставной секретарь?..
Наступила пауза.
— Леня, пусти, — простонал с высоты Тищенко. — Пусти, тебе говорю, — повторил он с угрозой, не в силах пошевелить ни одним суставом.
Ничего не ответил Леня, только стиснул покрепче худощавые челюсти, так что на лбу выступили две жилки. Дескать, проси не проси, Семен Гаврилович, все равно я тебя никуда не пущу.
— Пусти, Леня! — просипел Тищенко в третий раз, но уже слабее.
Казалось, вся власть ушла из его тела. И вдруг — сказывали потом городские старухи — и вдруг — такова легенда, родившаяся в народном сознании, — Тищенко сделал переворот и упал с трибуны, как поверженный идол. Упал он с трибуны, ударился оземь башкой, и нет его, а из выемки, образовавшейся на месте падения, взвилась с громким карканьем черная птица-ворона, вся в перьях!..
— Ружье, дайте мне поскорее какое-нибудь ружье! — воскликнул Леня Тихомиров не своим голосом.
Ружья, как водится, поблизости не оказалось. Тогда Леонид Иванович, не будь дураком, разбежался и грянул в то же место всею расстегнутой грудью, и тотчас его руки обнаружили строение крыльев, ноги укоротились и упрятались под живот, а новенький костюм стального цвета, почти не меняя окраски, пошел на верхнее оперенье. Клюв у Лени загнулся, окостенел, глаза округлились, мигнули, и вот вам вполне готовый боевой ястреб рванулся в погоню за каркающим Семеном Гавриловичем. Вьются они над площадью, показывают чудеса пилотажа, народ снизу дивуется, новую власть подбодряет:
— Бей его, Леня, в темя! дай ему прикурить!..
Прижал его Леня к земной поверхности и уж когти ястребиные в черное сердце наставил — чтобы терзать, так нет, товарищ Тищенко — хлоп! — и на тебе: обернулся в лисицу, в настоящую живую лису с хвостом. Лучше бы он, сатана, зайцем обернулся — тут бы ему и крышка в когтях у нашего сокола. А против лисы, говорят, даже орел безвреден, настолько она хитра и коварна.
Видали вы когда-нибудь, как лисы бегают? Они так скачут, так петляют, что голыми руками их поймать нет никакой возможности. Но в городе товарищу Тищенко скрыться некуда: кругом дома, заборы, ноги, девки юбки задрали, чтобы нашему Лене было легче видеть всю перспективу. Чувствуя моральную помощь, Леня не растерялся и тоже — хлоп! — и взял на себя временно облик густопсовой собаки, из породы борзых. Она хоть и собака, но до того резвая, что не хуже антилопы. Рыло узкое, лапы длинные, а тело изогнуто наподобие вензеля и, когда бежит по земле, складываясь и раскладываясь, то пишет по воздуху китайские иероглифы.
...Он схватил его за хвост, оставшийся в зубах у собаки, а лиса, не теряя скорости, перестроилась на колеса и поехала велосипедом без участия всадника, лишь пустые педали крутились автоматически. Народ попадал друг на дружку, очистив дорогу. Недолго думая, Леня принял внешний вид мотоцикла и газанул следом за... пустые педали... по мостовой... лисий хвост... лаяла... между ног... дуй до горы!.. по спицам... вся в перьях!.. автоматически! автоматически! с нами крестная сила... затрещат под мотоциклом велосипедные хрящики...
Однако мы не будем продолжать эту погоню, потому что она, как сказано выше, не подкреплялась фактами, а была результатом народного вымысла и может рассматриваться наравне с мифом об Илье Муромце, олицетворяющем борьбу человека с природой. На самом же деле события развивались тогда по-иному, и следует возвратиться к тому месту рассказа, когда товарищ Тищенко попросил у Леонида Ивановича освободить его из-под гнета, который он испытывал.
— Пусти, Леня, — простонал он в третий раз, не в силах пошевелить ни одним суставом.
Казалось, вся власть ушла из его тела. И вдруг, словно почуяв некое послабление, он приказал отряду, расположенному под каланчой:
— Приказываю арестовать гражданина Тихомирова, и пусть смеется тот, кто смеется последний!
Лицо его, оживевшее на неподвижном туловище, изобразило злорадство...
Группа милиционеров, поскрипывая амуницией, приблизилась к Леониду Ивановичу. Двое извлекли револьверы, болтавшиеся в кобурах, и, как по команде, начали громко палить, целя в радиорупор, подвешенный на столбе. После четвертой пули тот вновь заиграл, а после шестой — хрюкнул и перестал. Так была сломлена беззаконная власть бывшего секретаря Тищенко.
Опустошенные револьверы были развинчены на составные части и в кумачовом платке вручены Леониду Ивановичу. Разоружение происходило в боевом порядке, в торжественном молчании, но с акробатической ловкостью. Подманив меня пальцем, Леня Тихомиров передоверил груз.[9]
Тем временем остальной гарнизон соорудил из еловых ветвей и флагов небольшой переносный плацдарм для триумфального шествия. Поднятый на квадратные плечи своей дюжей дружины, Леонид Иванович стал похож на бронзовое изваяние. Он мог бы процитировать вслух пророческие строки поэта, которые мы приведем здесь в исправленном и подновленном виде:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной,
Чем бывший секретарь, товарищ Тищенко, мечтал когда.
И буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые повсюду возбуждал,
Что я в Любимове навек провозгласил свободу,
И дум высокое стремленье всяк из вас через меня узнал.[10]
Проплывая мимо трибуны, где все еще торчал пригвожденный Тищенко, а прочие власти попрятались кто куда, Леня Тихомиров притормозил бравых носильщиков и наставительно произнес:
— Глядите сюда — такой удар настигнет всякого, кто осмелится посягнуть на независимость нашего города.
— Да здравствует вольный город Любимов!
Да здравствует мировой прогресс науки и техники!
Да здравствует мир во всем мире! —
Его косые глаза блуждали, волосы развевались. На лбу сиял багровый знак — римская цифра V. Через два часа городской телеграф отстукал текст:
Всем. Всем. Всем.
Город Любимов объявлен вольным городом. Свобода и автономия граждан охраняются законом. Без пролития капли крови власть перешла к Верховному Командующему Лицу — Леониду Тихомирову. Слушай мою команду.
Леонид Тихомиров.
Глава вторая. ОБЪЯСНЯЮЩАЯ ПРИЧИНЫ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ
До сих пор в глубине народа не затихают споры: кем был прислан сюда этот Леонид Тихомиров и какой таинственной властью сумел он зачаровать в один день целый город? Иные видели в нем посланца Божия. С другой стороны, есть мнение, что в могуществе Леонида Ивановича замешана более бесовская, чем ангельская, сила. Но я лично твердо стою за то, что в происхождении Лени не было ничего чудесного или сверхъестественного, а все легко объясняется с научной точки зрения.
Леонид Иванович Тихомиров родился в простой рабочей семье. Родитель его служил в артели по ремонту обуви и погиб на войне от пули фашистских извергов. Мать была простой, скромной домохозяйкой. Но, говорят, в ее роду, в девятнадцатом веке, имелся один знатный барин, дворянин Проферансов, женившийся после отмены крепостного права на крестьяночке. От него-то, говорят, Леня унаследовал страсть к науке и с детских лет мастерил разные механизмы. Один раз он склепал из консервных банок подводную лодку размером в человека, на четырех винтах, если их вертеть руками и ногами, лежа в этой лодке на животе. Закономерно, что жизненный путь Леонида Ивановича привел его в семнадцать лет в велосипедную мастерскую. Проклеить дырявую камеру, ниппель сменить, соскочившую цепь поставить на свои зубцы — было ему все равно, как нам с вами выпить стакан пива. Да что там ниппель! Он весь аппарат мог перетягивать заново: железный пустотелый каркас взять от кровати, колеса поменять местами, а заднюю втулку состряпать из пары окурков... И на все про все максимум четыре гвоздя!..
Но главной его заботой был вечный двигатель, снабжаемый от вращения Земного Шара вокруг оси. Предварительный план машины в запечатанном письме был послан в столицу, в Академию наук. Своего ответа, как водится, изобретатель не получил: рутинеры мешали приближению будущего. Что им бессонные ночи провинциального мастера! Все эти трудности и потери Леня встретил спокойно и тосковал лишь об одном: как бы американцы не похитили вечный двигатель, что могло бы потом замедлить нашу победу.
— Зря ты стараешься, Леня, — убеждал его доктор Линде, сидя за пивом. — Вот я в прошлом году своими глазами видел доисторического птеродактиля, обитающего на Мокрой Горе. Мое описание этого вымершего экземпляра до сих пор валяется без движения где-то в центральной редакции газеты «Медицинский работник». Научные открытия мало кого задевают. Каждый думает, чем бы набить карман. Человечество, в сущности говоря, все еще находится на очень низкой стадии своего сознания.
Усы доктора Линде, пепельные от пива, имели, по его уверению, солоноватый привкус. Он облизывал их, как гурман, по-кошачьи, ярко-розовым языком и высказывал о вещах цинические парадоксы. Например, он утверждал, что человек — это бесхвостая обезьяна.
— Неправда, — возражал ему Леня твердым голосом. — Человека тоже можно улучшить...
И уходил в себя. Единственная кружка пива, которую он себе позволял, всегда оставалась недопитой...
В этих беседах я занимал промежуточное положение. От человечества у меня был опыт посильнее, чем у доктора Линде. Однако упрямство Лени мне нравилось и состояние прогресса тоже не казалось безвыходным. Уж скоро, скоро, верил я, мы завоюем космос!.. [11]
Когда-нибудь наука и не такого еще достигнет, а будет нас подстерегать на каждом шагу. Когда-нибудь простой человек простым нажатием кнопки сумеет снабдить себя всем необходимым, о чем лишь можно мечтать в наше переходное время. Нажал кнопку, и тут же, в отдельном кабинете, где ты сидишь и подпрыгиваешь на пружинном диване, — не сходя с места, как призрак, возникает столик, уставленный продуктами и бутылками с десертным вином.[12] Ты кушаешь все это подряд, кушаешь так, что лопнуть хочется, и видишь, что единственно, чего недостает тебе в жизни, так это недостает на столике кокосовых орехов, и так тебе становится обидно и одиноко из-за этого невнимания к твоей потребности, что хоть удавись... Нажимаешь кнопку, и вот, без человеческого участия, подъезжает к тебе на колесиках самоходная вагонетка, заваленная доверху кокосовыми плодами всех сортов. Но ты уже расхотел и говоришь, кривясь:
— Уберите эту падаль, не нужно мне вашего одолжения! — и вновь нажимаешь кнопку, чтобы сменить кокосы на что-нибудь поинтереснее.
В ответ на твой вызов, из люка, замаскированного под паркетом, выскакивает на шарнирах белокурая дева чудной красоты. Нажимаешь кнопку, — и все в порядке. Нажимаешь вторично кнопку — и опять все в порядке. Нажимаешь ту же кнопочку в третий раз... И хотя все в порядке, но ты чувствуешь в душе какую-то тяжесть и говоришь:
— Катись ты, Люська, обратно в люк, а мне пора в путешествие подальше от цивилизации!
Нажал — Венеция. Нажал дальше — Венесуэла. Нажал совсем далеко — Венера, Меркурий или какой-нибудь Плутоний. И пока чорт тебя носит по свету со скоростью ультразвука, ты сочиняешь стихи и песни про победу над космосом, пропущенные сквозь твою мозговую сетчатку специальным таким ки-бернатором. И говоришь, кривясь:
— Ну что, допрыгались? Достигли вершины? Начинали с паровоза, а чем дело кончилось? Лучше б мне во вшах истлевать, лучше б мне в первобытном виде вниз головой, зацепись хвостом, на эвкалиптовой ветке качаться. Темноты хочу! Тени жажду! Клочок тени, куда бы укрыть обесчещенное лицо!..
А какая тогда может быть тень, когда повсюду, со всех сторон — свет?
И запьет человек, с тоски, в знак протеста. Регулированные государством спирты, водку, марафет воровать станет. Хулиганом станет. Кнопочки отверткой вывинчивать, провода ножиком резать, лампионы в небе из рогатки вышибать...
Чтобы этого не случилось, надо его переделать: старое сознание вытеснить, новое — вместить. И переделанный человек добровольно двинется по пути к совершенству, да еще за всю науку будет вам благодарен, и Леня Тихомиров это понял и рассчитал.[13] Он, Леня, догадывался, что голая буржуазная техника ни к чему не приведет, если ее не подкрепить изнутри переделкой сознания.[14] То есть, как это — слабо догадывался, когда он в один день мог всех переделать по собственному вкусу, и кто тут мне под руку посторонними словами мешает?.. [15]Да кто вы такие важные, чтобы еще командовать?.. [16]
...Так вот я и пишу, что Леня ей говорит:
— Вы мне очень нравитесь, будьте моей подругой!
Серафима Петровна посмотрела на его иронически и отвечает:
— Я сама вижу, что вам я очень нравлюсь, но придумайте чего-нибудь более оригинальное.
А сама ленивым движением поправляет прическу, отставляя локоток так, чтобы ярче оттенить свою грудную клетку, и от этого наш Леня горит пожаром и кричит, ломая свои золотые руки:
— Я вас буду на руках носить! Я вам своими руками сломанные часики починю, и, если вы не возражаете, я так устрою все двери в нашем будущем шалаше, что они сами начнут отворяться и затворяться при одном появлении... И кричит еще:
— Я человек простой, без высшего образования, но не думайте, Серафима Петровна, я тоже разбираюсь в науке и технике, но только в нашем городе нет пока института, где бы можно было выучиться и получить инженерный диплом. Но вопреки насмешкам судьбы я тоже могу прославиться каким-нибудь подвигом, и вы тогда заскучаете, что не решились ответить взаимностью, когда все начнут вокруг меня удивляться. Да если я только сделаюсь знаменитым героем, я вам всю спальню обклею трехрублевыми бумажками, вместо зеленых обоев зелененькие трехрублевки, за один ваш поцелуй, а то повешусь...
— Вы говорите пустяки, — перебила его Серафима Петровна, притворно морщась. — Причем здесь поцелуй! Поцелуй — это банально. Трехрублевки — дешево, дурной тон. Уж если оклеивать квартиру такими смешными бумажками, то лучше — сотенными. И вообще учтите: богатство, деньги я презираю, а честолюбие в человеке ценю. «Безумство храбрых — вот мудрость жизни», как сказал Максим Горький. Но смотря какой подвиг вы думаете совершить, чтобы мне было не стыдно протягивать руку дружбы и шагать с вами в ногу в жизни и в обществе. Учтите: мелкий подвиг мне не улыбается. Я не согласна с Юлием Цезарем, который сказал: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе». Лучше быть сразу первым в городе. Во всяком случае, для начала город Любимов должен лежать у моих, то есть у наших с вами общих ног.
Вся ее политика сразу переменилась: на влажных губах играла интригующая улыбка, в глазах был пьяный дурман, и в шлифованном аппетитном носике заключался какой-то утонченный, невыразимый намек...
— Я еще не знаю, чего бы мне совершить, — сказал Леня понуро. — В нашем городе еще не бывало таких великих людей, про которых вы рассказываете. Но я постараюсь!..
— Вот когда вы прийдете ко мне на щите, как Спартак, увенчанный листвой винограда, вот тогда мы поговорим более детально. Пока!.. — отрезала она категорическим тоном и, не подарив его на прощание даже рукопожатием, исчезла, вихляясь.
Тогда я вылез из-за шкафа, где сидел и читал журнал «Новый мир», чтобы не мешать их молодому делу (а больше в нашей читальне никого не было), и сказал ему как старший товарищ:
— Эх, Леня, Леня, не связывайся ты с этой изнурительной бабой. Высосет она из тебя весь твой талант, помяни мое слово. Я таких, как она, за жизнь свою перепробовал, может, человек пятьдесят. Ничего особенного. Даже еще хуже, чем безо всякого образования. Ведь у тебя, Леня, золотые руки, и за тебя любая девушка без разговоров пойдет, а Серафима Петровна, я полагаю, уже и не девушка, и, кто знает, — может, у нее уже и дети были. Она старше тебя и еще ко всему еврейка, хотя скрывает, а с еврейками, Леня, русскому человеку лучше не связываться...
Ну, он — на дыбы и пошел слюнями брызгать:
— Все это клевета, — заявляет, — клевета и невежество. Для меня все нации равны, и потом за Серафимой Петровной не замечалось еврейских повадок, и фамилия у нее самая обыкновенная, русская — Козлова, от простого русского слова «козел». А вот ваша фамилия, Проферансов, имеет иностранную форму, и еще неизвестно, кто вы такой на самом деле по национальному признаку... Но я на него за это не обиделся.
— Дурак ты, — говорю, — и больше ничего. Проферансовы в нашем городе коренная фамилия, и в ней, если хочешь знать, затаена чистопородная музыка, старинная игра. Ты вслушайся в эту игру гармонических созвучий: ПРО-ФЕ-РАН-СОВ!! — Это тебе не какой-нибудь Чижиков или Кукушкин, а полный музыкальный пасьянс. Твоя родная бабушка по материнской линии, если хочешь знать, тоже имела счастье носить в девичестве эту редкостную фамилию, и происходит она от одного ученого филантропа, женившегося потом на крестьяночке, у которого и ты, может быть, на одну восьмушку позаимствовал культурную кровь. Мы с тобою, Леня, может быть, от общего корня пошли, но только у тебя получилось научное разветвление, а во мне сосредоточилась вся сила искусства, главный исторический ствол.
— Что же мне делать теперь, Савелий Кузьмич? — спрашивает Леня упавшим голосом. — Ведь я из-за ее красоты человека могу зарезать. Мне теперь одна дорога — в разбойники и бандиты: либо грудь в крестах, либо голова в кустах!
— А ты вместо этого книжки читай, — посоветовал я ему. — Смотри, сколько тут разных переплетов. И в каждом переплете знаменитые умы человечества делятся своим жизненным опытом. Книга — все равно, что бутылка пятизвездного коньяку, одну прочитал — вторую хочется. Всю жизнь можно читать и не соскучишься, и сам не заметишь, как время пройдет.
С того дня Леня сделался злейшим читателем. Он и раньше кое-что читывал для общего уровня. Теперь же его от книжки трактором не оттащишь, все свои механизмы в небрежении бросил и знай сидит в углу, как дикий схимник, и губами шевелит. А потом и шевелить перестал, только зрачками работает с бешеной скоростью и, бывало, за один присест усиживал по пятьсот страниц кряду, что в переводе на другое измерение означает пол-литра. А литературу он брал у меня все на тему великих людей: Коперника, Наполеона, Чапаева, Дон Кихота... Роман из римской жизни «Спартак» перечитывал раза четыре и начал постепенно зачитываться в уме и требовать уже сочинения про нервную психику и магнитную физику. Вижу: пропал человек, сдвинулся от сильной любви в противоположную крайность, так что теперь на него даже Серафима Петровна не могла оказать влияния. Прилетит в библиотеку менять приключения, а Леня из-под лампы и носа не кажет. Она тотчас к нему, будто ей интересно, про что он в книжке читает, и заглядывает, и свешивается то с одного краю, то с другого, едва не задевая его грудями на какой-нибудь миллиметр. Я за своей конторкой верчусь, знаки ему показываю. Дескать, сожми пальцы в кулак — и поймана птичка. Да что толку? Сидит, как железный гвоздь в стуле, и глазищами по страницам ездит взад-вперед, а на ее танцы-реверансы ноль внимания. Ну, она повьется, повьется вокруг, почирикает и прочь улетит в досаде. Мне даже неловко за него становилось, тем более, как вспомню, что он сам недавно в пылких чувствах клялся, а нынче такую женщину на сухую бумагу променял.
Эх, напрасно, думаю, я тогда занижал ее в национальном вопросе. Да ведь и занижал-то лишь ради его спасения. Потому что по себе знаю, какая сила скрыта в еврейском племени, рассыпанном по лицу земли словно изюм в пироге или перец в супе. Я бы их еще с солью сравнил, но соль растворяется, а эти сохраняют изначальное свойство, какое им Богом дано. Может, для того они и рассыпаны по Божьему миру, чтобы свою крепость явить и терпкое упрямство, чтобы мы, наткнувшись на еврея в нашей русской каше, вспоминали бы, что не сегодня история началась, и еще неизвестно, чем она может кончиться...
Ах, была у меня в жизни одна евреечка, век не забуду той евреечки! Волосы черные, мелким бесом завитые, брови тоже черные, мохнатые, как два червяка, а кожа смуглая, в желтизну, а на ощупь — сафьян. По-русскому болтала — не отличишь, а по-еврейскому знала одно слово «цорес», что значит по-ихнему горе, неприятность, тоскливый сор какой-то, колющий сердце, и от этого сердечного сору получается «цорес». И была в ней крупинка цореса, изюминка такая невыковыренная, но всажена, вмуравлена та изюминка в состав души. Бывало, смеется, ластится, а глаза печальные-печальные и от них пустыней веет аравийской или, может, Сахарой, по которой они бежали тогда с детишками, с рухлядью на спинах, на верблюдах, и всю мировую скорбь вынесли на себе и на тех верблюдах горбоносых, надменных и тоже похожих на евреев, с тяжелыми, круглыми веками.
— О чем, — спрашиваю, — ты, крошка, тоскуешь? На что жалуешься?
— А я не жалуюсь, — отвечает крошка, — и не тоскую. С чего вы взяли? Мою четвертную вы мне все равно уплатите, да с прошлой недели за вами оставалась десятка.
То есть она говорила по правде, не разумея своим женским мозгом, что из-под черных ее ресниц, из-под верблюжьих век глядит в печальном остеклене-нии высохшая пустыня и будто ждет чего-то, и будто зовет куда-то, хоть садись на песок и плачь безутешно от исторических воспоминаний...
По такому верному признаку всегда распознаются евреи, что они в глазах пустыню носят, и у Серафимы Петровны мелькало в лице это пустынное выражение, по которому я давно приметил ее породу. Для того и Леня Тихомиров был мною уведомлен, чтобы не иссох он раньше времени, как травинка в поле, от жгучего еврейского взгляда. Но у Лени на уме было теперь иное...
Прихожу я однажды в читальню после обеденного перерыва и вижу, он уже сидит на своем стуле и страдает с карандашом над произведением Фридриха Энгельса «Диалектика природы». А слева от диалектики покоится неизвестная книга средней толщины, в кожаном облачении такой на вид твердой прочности, что если бы этой книжной кожей подшить сапоги, то двести лет не было бы тем сапогам сносу. Спрашиваю, где взял и как называется.
— Эта книга, отвечает Леня, прикрывая ее ладонью, — упала на меня в пятницу с потолка. Хорошо, что не в висок.
И рассказывав, как в прошлую пятницу приколачивал он в сенях рукомойник, а у них на потолке для теплоты жилища всякая древность свалена в несколько слоев: старые подметки, валенки, прохудившиеся на обе ноги, битые горшки, полушубки, хомуты гнилые, эт цетера, эт цетера. Должно быть, доски на потолке тоже расползлись, — и вот вам результат. Как сказала Ленина матушка, покопавшись в рыхлой памяти, неизвестная книга могла перейти на чердак по наследству от дедушки, либо отец Лени, потомственный пролетарий, заполучил ее в годы революционной борьбы, когда по всей округе разоряли гадючьи гнезда и давили в зародыше феодальный выводок.
— А ведь эта книга, — добавил я, пораскинув умом, — могла принадлежать самому барину Проферансову, который в девятнадцатом веке производил научные опыты и даже, говорят, потратил все свое состояние, чтобы поехать в Индию... Тут, слово за слово, он и признался: книга называется «Психический магнит» и писана рукою с индийского языка красивым почерком. А написано в ней про то, как иметь влияние в жизни, пользуясь мозговою силою, именуемой «магнетизм».
— Ох, Леня, смотри, — забеспокоился я, услыхав это нерусское слово. — Смотри-ка ты сам не попади под влияние чуждой идеологии. Не содержит ли эта книжица какого-нибудь колдовства, противного законам природы и научным достижениям?
Но Леня меня тотчас разуверил, сказав, что у Фридриха Энгельса в «Диалектике природы» имеются на этот счет веские подтверждения и, между прочим, написано, что сознание есть высший продукт материи, а в жизни все течет, все изменяется. Значит, сознание тоже должно изменяться и производить какой-нибудь материальный продукт...
— Так-то это так, — согласился я, подумав, — но все же на всякий случай не мешает книжечку сжечь, покуда на нее кто-нибудь не заявил. А кожу от книги можно оставить и пустить на подшивку сапог, потому что эта кожа царского производства и ей не будет сносу двести лет.
С этими словами я хотел ее пощупать, но едва лишь прикоснулся, был отброшен в грудь электрическим током на середину читальни.
— Что же ты не предупреждаешь, что книга заряжена током? — рассердился я не на шутку, трясясь и отплевываясь.
А Леня блеет от смеха и говорит:
— Это, Савелий Кузьмич, не она заряжена, что я заряжен волевой энергией, и сейчас я буду делать над вами научный опыт.
И вот я вижу, что компаса опрокинулась, а я стою на руках вниз головою, из меня летят с грохотом ключи, медяки, спички, а пиджак свесился и трет губы. Но, удивительное дело, попав в такую позицию, я не чувствовал ни боли, ни кровяного прилива, ни даже опасения за свои стариковские немощи, точно привык всю жизнь, как чемпион, стоять вверх ногами. И в то же время у меня в сознании ничего не изменилось: я не спал и не грезил, а находился в твердой памяти и в ясном уме, испытывая в душе восторг перед способностью Лени так легко и просто переворачивать человека. И, пританцовывая на руках (так они были сильны и пружинисты), я сказал Лене, что он молодец и что ему не надо больше уговаривать Серафиму Петровну выйти замуж, потому что теперь он может получить от нее даром какую угодно любовь. А еще он может нажимом волевой энергии вытребовать у директора велосипедной мастерской повышение зарплаты.
— Нет, мне этого мало! — возразил Тихомиров и принялся развивать идею, по которой выходило, что его прямая обязанность позаботиться о человечестве.
— Поймите, Савелий Кузьмич, ведь почему нам плохо, вернее — почему нам недостаточно хорошо? Потому что каждый думает, чем бы набить карман. Потому что не перевелись еще, к сожалению, в нашем прекрасном обществе рутинеры и бюрократы, очковтиратели, воры, стиляги, многоженцы и декаденты. А теперь даже тюрем не надо, чтобы всех исправить и превратить нашу землю в один цветник. Я каждому внушу правильный образ мыслей, я научу их уважать труд и любить родину. Я научу их безгранично повышать свой материальный и культурный уровень...
Я стоял перед ним вверх ногами, развесив уши, и кряхтел от удовольствия. Стоять так и слушать его речи было наслаждением. Он казался мне высоким-высоким, запрокинутым куда-то назад, в правый верхний угол, и лишь одно я не совсем понимал: зачем он безумно рискует, балансируя на двух ногах, если гораздо проще и приятнее ходить на руках, которые лучше чувствуют точку опоры? Но, наверное, так надо, думал я, наверное, он жертвует своей жизнью ради нас, простых людей, и ему поневоле приходится держать голову на высоте, чтобы смотреть вперед и озирать горизонт... Но, видно, во мне оставалось какое-то сомнение, или его внушающий аппарат был еще не вполне разработан, потому что я оторвал одну руку от пола и, по старой привычке погрозив ему пальцем, сказал:
— Только ты, Леня, со своей магнетической книжкой не впади в идеализм!
— Что вы, Савелий Кузьмич! — воскликнул он с живостью. — Да я еще раньше, до всякой книжки, пришел к этим выводам, имеющим строгое научное подкрепление. Теперь мне надо только подкрепить этот магнит таким карманным волновиком-усилителем, который бы посылал мою волю и мысли на далекие расстояния...
И Леня начал толковать о взаимодействии энергий, о том, что в нашей природе существует ритмическое колебание всех частиц — начиная от вращения Земного Шара и кончая вращением мозговых полушарий. Об этом писали Дарвин, Жюль Верн и граф Калиостро. Оставалось лишь разыскать математический знаменатель этим ритмам и, собрав всю волю в пучок, излучать ее со знанием дела по одной волне. Я уже не помню технической стороны вопроса, но помню, что примеры, приводимые Леней, звучали весьма убедительно.
Наконец он упрятал книгу в облезлый чемоданчик и сказал:
— Теперь, Савелий Кузьмич, примите свое вертикальное положение и подберите свои вещи, вылетевшие из кармана.
Я встал на обе ноги, слегка оглушенный, растерянный, но даже не поскользнувшись, и подобрал поспешно ключи, медяки, спички.
— А теперь, старик, забудь все, что ты видел и слышал, чтобы не разболтать преждевременно тайну открытия!..
...И я забыл. И про книгу его забыл, и про то, что на руках по полу бегал, тоже забыл. Это уже потом, спустя два месяца, начали у меня восстанавливаться кое-какие штрихи и краски из той картины, которую я тут нарисовал. Да и то, может быть, еще не все во мне восстановилось: как сейчас узнаешь, проверишь? А тогда, в первый момент, мне показалось, что я только-только приплелся в читальню после обеденного перерыва, а Леня уже сидит на своем стуле. Правда, я удивился, почему у меня руки грязные, липкие и болят, а в животе ощущаются слабость и тошнота. Пиджак тоже сидел на мне как-то косо. Но в мозгу был полный порядок, и я подумал, помнится, что вот и старость подходит, помирать пора.
Подпыхтел к Лене и вижу, что он тоже сидит какой-то квелый, зеленый и пот со лба носовым платочком утирает. Видать, заучился совсем.
— Что ты, Леня, читаешь? — говорю.
— Да вот, — говорит Леня, — читаю «Диалектику природы» Фридриха Энгельса.
— Ну и что же, — говорю, — Фридрих Энгельс говорит в своей «Диалектике»?
— Он, — говорит Леня, тыча в Энгельса, — говорит, что все в жизни течет, все изменяется, а сознание, говорит, есть высший продукт материи.
— Это он правильно говорит, — говорю я Лене. — Это он хорошо говорит. Ты, Леня, запомни это или запиши на бумажку, что сознание есть высший продукт...
И бряк — в обморок... Очнулся, смотрю — все тот же Леня с испуганным лицом на меня изо рта прыскает. Заботлив он к людям был, наш Леня Тихомиров, уж так заботлив... [17] Он понимал... [18]
Тьфу ты пропасть, опять этот голос из подземелья!..[19] Может, и с потолка, откуда мне знать, где вы тут скрываетесь, и вот уже второй раз...[20] Эй, не слышу! Громче, громче! Как вы сказали?..
— Я говорю — мы с вами знакомы, Савелий Кузьмич.
— Зна-ко-мы? Но я никого не вижу, лишь рука по бумаге выписывает какие-то каракули...
— А помните, мы беседовали на раскопках в монастыре? Помните встречу с профессором?..
— Так вы тот самый профессор?
— Да.
— Ой! профессор! здравствуйте! как поживаете? А я вас не узнал... ведь столько лет... Постойте, вы уже тогда, в 26-м году, стариком были... Ведь вы, извините, по времени уже помереть должны... Как же так?!.
— Всякое бывает, сударь...
— Господи, спаси и помилуй! Владычица!... А перо-то окаянное так и строчит, так и строчит — пальцы не расцепишь... Извините, профессор, вы, случайно, не хвостатым ли будете?..
— Ну зачем же?
— Мало ли зачем... на всякий случай... И не с рогами?..
— Нет-нет, смею уверить — вы заблуждаетесь.
— Как же вас величать-то прикажете?
— Зовите меня по-прежнему — профессором. Не стоит запутывать рукопись посторонними именами, событиями. И так мы с вами уже несколько отвлеклись.[21]
— Тогда знаете что, профессор, покажитесь мне на минуточку в натуральную величину. Чтоб я не сомневался, что это — вы, чтоб я вас опознал, увидал... Надо же повидаться...
— Нет, это излишне.
— А вы меня видите?
— Зачем мне вас видеть, когда я вами пишу?
— Вы мною пишете?! А что же я делаю?
— Ах, Савелий Кузьмич, какой вы, право, несносный... Ну хорошо, хорошо, мы с вами пишем совместно, слоями.
— Слоями!
— Да, слоями. Фокусы русской истории требуют гибкости, многослойного письма. Помните — на раскопках, в монастыре, один исторический пласт обнажается за другим: подметки от 18-го века, битые горшки от 16-го? Так и тут. Нельзя же все копать на одном уровне... Вот вы сами то и дело прибегаете к сноскам, к отступлениям, роете норы, погреба для сохранения фактов. Я вам помогу и часть описаний охотно возьму на себя. То есть писать-то, конечно, будете вы, но мысли через вас потекут совсем из другого бассейна. Не спорьте, мне уже приходилось поправлять и направлять вашу руку, иначе бы вы сбились и заехали Бог знает куда. Ну как вы, например, представили этого Тихомирова? Мудрецом каким-то, волшебником, в то время как ему выпала роль исполнителя, пускай талантливого, я согласен, но всего лишь исполнителя. Ведь не своею же властью он захватил город!
— Чьей же еще?
— Моей.
— Это вы бросьте! Так я вам и поверил! Может, вас-то и нет совсем. Может, у меня от всех переживаний раздвоение в голове началось, и я тут не с вами, не с профессором, а с самим собою разговариваю. Где уж вам над Леней, над русским Геркулесом, командовать!..
— Почему же непременно — командовать? Не лучше ли — одалживать? Нас всех наделяет силами кто-то постарше нас. Вот вы же сейчас пишете при моем участии, во многом индивидуально, однако, с моею помощью.
— Не нуждаюсь я в вашей помощи! Я и без вас могу! Стисну перо покрепче и начну-ну-ну сам сын сон, сам-сон, Самсон Самсонович, отпустите, пусть, капуста японская, геркулябия, кулебяка, сколько стоит, без пяти двенадцать сказала королева и самолет с жутким ревом вынырнул из-за леса, из-за леса — леса темного, калинка-малинка моя, в саду ягода-малинка моя...
— Довольно, Савелий Кузьмич, вы же пожилой человек... Вот к чему приводит людская самонадеянность. Так что не будем ссориться и повторять рискованный опыт Лени Тихомирова. Это же смешно — в вашем положении, когда город Любимов почти...
— А ты кто такой, что все критикуешь?.. Ты что — ангел? Господь Бог?
— Ну зачем же?.. Вы сгоряча не понимаете, о чем говорите... Просто мне жаль этот милый город, я тоже здесь обитал, здесь прошли годы моей...
— Одно лето, профессор, одно лето!
— Не только. Мне случалось и раньше бывать в Любимове...
— Что-то не припомню.
— Вас тогда, сударь, на свете не было. Впрочем, чтобы не задавать загадок, моя фамилия — Проферансов.
— Нет, уж позвольте!.. Моя фамилия — Проферансов! Ведь говорил я, говорил — не с вами я, а с самим собой разговариваю... Нахал какой! Не отдам! Все забрали. И город уже чужой, и Леня Тихомиров, и я уже пишу не сам, а под диктовку... Но фамилия остается моей! Моей и ничьей больше. Один здесь Проферансов, один во всем городе... Стойте, прошу прощения, совсем забыл... Может быть, вы тот самый Проферансов?
— Да, тот самый Самсон Самсонович Проферансов. И прежде чем перо выпало из моих пальцев, я услышал в воздухе короткий сухой смешок и написал:
— Хе-хе...
Глава третья. ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Я прихожу в этот город на ранней, ранней заре. Когда солнце еще не встало над монастырской стеной и всё покрыто серым воздушным слоем, пеленой, туманом, — правильнее сказать, когда любой предмет источает последнее ночное тепло и мерцание, окутывающее его грубый темный костяк наподобие мохнатого кокона.
Мохнатые дома и заборы кажутся выросшими в полтора раза, мохнатые потоки воздуха стелются по земле, и все становится большим и добрым, как в скачке, и все шевелится, и ползет, и расползается перед глазами, точно нет уже у вещей опоры и власти.
В этот час у людей сон крепок, потому что во сне вещи твердеют по мере того, как снаружи в них убывает сила. С вытянутыми босыми ногами, на спине и на брюхе, люди неподвижны, словно покойники. Но это они лишь с виду такие тихие, а что с ними делается там, внутри, под прикрытием надбровий, куда они удалились спозаранку, вереницами, затаив дыхание?.. Там теперь праздник, беготня, толкотня, кипят страсти, звенят бокалы и какой-нибудь малокровный бедняк верхом на губернаторской дочке совершает в который раз мировую революцию.
Вот он вздрогнул, пожевал губами приснившееся пирожное и задышал часто-часто, с надрывом. При взгляде на его бледное трепещущее лицо, на воспаленные жилы, прорезавшие испитой чахоточный лоб, чудится, что сию секунду он вскинется с отсыревшего ложа и, не размыкая век, шагнет на улицу. Нет, не шагнет. Они не сдвинутся со своих мест, эти босые мертвецы, присосавшиеся к снам. Посмотрите, как бледны, как бескровны их тела. Кровь отлила туда, где сейчас праздник, где справляются свадьбы, поминки, гремят залпы салюта и губернаторская дочка, только шепни ей на ушко заветную просьбу, сама при всех гостях поспешит подставить под тебя фарфоровую вазу.
Спешите, спешите спать! У вас мало времени. Уже крыши на бывшей Дворянской возымели грозный металлический отблеск, уже прогремел вдали первый залп Авроры и красные лихие знамена взмыли над монастырской стеной. Не пройдет и часа, как вы проснетесь нищими, обворованными, в одном белье и, протерев глаза, удивитесь, куда девались все сказки, все твои сладкие грезы и состояния, город Любимов, никогда, даже в свои лучшие времена, не подымавшийся до губернского чина. Заштатный город, уездный город, районного значения город, потерявшийся в оврагах, в болотах, в низкорослых лесах, да и значишься ли ты еще на географической карте или тебя давно вымарали и перекроили на новый лад, по имени какого-нибудь безвестного горюна, выскочившего из болота и пустившегося наутек, в лаптях, через всю Россию, чтобы никогда в жизни не возвращаться назад, в раскулаченную деревню, и, заслужив честным трудом звание генерал-майора, сложить боевые кости где-то под Будапештом?..
Да нет, никто отсюда еще не выскакивал, и, может быть, потому так завистливы и затейливы их предрассветные сны. Вы думаете, Любимов иссяк, замер до скончания света, вы думаете, если вы изобрели часы, пулемет и прорубили окно в Европу, то ему уже больше ничего не надо и он не мечтает сам выкинуть фортель и удивить мир небывалой утопией?.. Его бы подкормить, ему бы дать волю, да подать сигнал, да подговорить и поставить на видное место надежного человечка, и вы узнаете, что тогда будет... А в самом деле — что тогда будет? Чем удивит, чем порадует этот город, если ему сказать:
— Вставай, довольно спать! День твоей славы настал! Вот тебе сила, которой достаточно, чтобы сны твои сделались явью. На, утоли свою тоску о добром и могучем царе. Я дам тебе полководца, наделенного нечувствительной властью, о которой ты грезишь вот уже триста лет...
Никто не встал при этом возгласе, который почти невольно вырвался у меня, когда я увидел скопище полуодетых, простоволосых домишек — в низине, под ногами, в летаргическом напряжении — и похолодел от внезапности моего замысла. Горожане спали, не ведая о переменах, однако дыхание в легких заметно сгустилось, поздоровело, на висках проступила испарина, на щеках зацвел маслянистый румянец. Из отверстых ртов воздух хлестал с ревом, с шипеньем, с присвистом. Казалось, повсюду расставлены большие насосы, перекачивающие запас крови из просторных ночных убежищ на мутную зеркальную поверхность дня. Но отражение было крепче подлинника, и краски, пропадавшие там, зажигались тут с удесятеренной силой. Сны ослабевали, как девушка в объятиях незнакомца. Они теряли достоинство, не понимая, что происходит, и таяли от смущения перед дерзостью соблазнителя. А попутно, вровень с расцветающими затылками, щеками, пятками, выпячивались затвердевшие бугры подушек, уступы сундуков, и вдруг весь город выпростался из тряпья и полез на сторону, кичась объемами самоваров, благородной кожурой фикусов, драчливым переругиванием дерева и булыжника.
Юноша с испитым лбом выглянул в оконце, улыбнулся своим несуразным мыслям и сказал чуть слышным ломким голосом человека, не вполне уверенного, что он не спит:
— С добрым утром, мой голубь, мой город Любимов!
На вторые сутки после переворота, совершенного Леней Тихомировым, весть о катастрофе достигла города N-ска.[22] Принес ее однорукий беглец, поднявший чуть свет заспанного, продрогшего до мозга костей дежурного лейтенанта, который немедля, на собственный страх и риск, позвонил на квартиру подполковнику Алмазову и внятным шепотом, как принято, доложил обстановку:
— Говорит дежурный лейтенант «Б-восемь-дробь-четыре». В Любимове началось токование медведей!
— Что началось? Какое токование? — переспросил подполковник, не улавливая спросонок телефонного шифра, который он сам выдумал и ввел в служебное пользование, для соблюдения условий максимальной секретности.[23]
— Медведь чирикает по-калмыцки. Пора резать горло. Прибыл утопленник на санях, требуется вспрыскивание... — рапортовал дежурный с трагическим бесстрастием, и Алазов понял.
— Задержите утопленника. Сейчас приеду и разберусь лично, — крикнул он в трубку. — Софи, где мой водолазный костюм? РаМоп! Я хотел сказать: где мой револьвер?..
...В тесном кругу, в четырех стенах, облицованных дубовой панелью, состоялось строго секретное, коллегиальное совещание: товарищ О., товарищ У. и подполковник Алмазов. Запыленный Марьямов, однорукий беглец, унесший ноги из города, зараженного безумием, молол чушь. Из его сообщения следовало, что в Любимове разразилось восстание, которое, однако, избрало законный и мирный путь. Сам городской секретарь, железный Тищенко, передал власть проходимцу. Автономия в районном масштабе уподобила Любимов старорусскому удельному княжеству типа «Люксембург». Отложившаяся провинция ничего не желала кроме как подать пример скорейшего достижения будущего, ради которого вся страна выбивалась из сил.
— Ну а политические выступления были: что-нибудь насчет крупы, колбасы? — выспрашивал подполковник незадачливого очевидца.
Марьямов развел рукой.
— Насчет колбасы ничего не замечено. Тихомиров все больше хлопочет о поднятии мирового прогресса...
Тогда товарищ О. (вышитая рубашка, лысина во всю голову, улыбчивые голубые глаза, его побаивался сам подполковник Алмазов) проникновенно сказал:
— Елки-палки, тебя послушать, любимовские подонки заслужили фотографию на доске почета. А главаря следует наградить орденом, елки-палки. Но вот передо мною воззвание, отправленное по телеграфу вражеской агентурой и доставленное мне с опозданием на 24 часа, потому что нашему подполковнику было недосуг заниматься расследованием, да и праздники подоспели, охота на перепелок, спиннинг, елки-палки, мы тоже понять можем, хотя иностранному языку с детства не обучались.[24]
Товарищ О. развернул телеграмму, завалявшуюся на почтамте, и прочитал:
— «Всем. Всем. Всем».
Кожа по его голове перекатывалась волнами. Морщины одна за другой убегали от переносицы к темени и там собирались в тяжелые толстогубые складки.
— Что значит «всем»!? Если они обращаются ко «всем», то значит — им любы-дороги все помещики и капиталисты, все недобитые князья-бароны и поджигатели холодной войны, включая римского папу, который только ждет удобного момента, чтобы упиться кровью трудящихся масс... Читаем далее: «Свобода граждан охраняется законом». Как это понимать — «свобода»? Кому «свобода»? Куда, зачем, какая требуется «свобода» в свободном государстве?!. Значит, им нужна свобода продавать родину, торговать людьми оптом и в розницу, как при рабовладельческом строе, свобода закрывать школы, больницы и открывать церкви по указке Ватикана и жечь на кострах инквизиции представителей науки, как они уже сожгли однажды Джордано Бруно... Не выйдет! Не позволим! Слышите, гражданин Марьямов, не позволим!! Слишком много захотели, елки-палки!..[25]
По мере того, как товарищ О. проникал в тайные замыслы любимовских изуверов, его волнение возрастало. С ним случалось такое: начнет говорить вяло, через пень-колоду, с усилием припоминая слова из последней брошюры на международную тему, но стоит этим словам прозвучать, — товарищ О. под их впечатлением возбуждался, вскипал и порой до того договаривался, что принимался стучать кулаком, визжать и топать ногами, сам не понимая по какому поводу.
— Ужасно я подверженный красноречию человек, — сетовал он, бывало, по прошествии кризиса. Скажу несколько слов о происках Ватикана или о борьбе за мир во всем мире, и меня от этих слов как бы ярость охватывает. Всех бы, кажется, растерзал...
Так и теперь: не успел оратор дойти до намерений инквизиции открыть в Любимове церкви, как слушатели подняли плечи и опустили головы. Даже товарищ У., утвердительно кивавший после каждой фразы, кивал, не глядя ему в лицо. Следить за этой мимикой ни у кого не хватало духу. Нет, оно не было свирепым, это лицо, сохранявшее черты природного добросердечия и того безобидного детского самодовольства, какое свойственно простолюдину, располневшему на кабинетной работе. Но лицевая сторона у товарища О., покуда он говорил, постепенно переезжала на лысину и, не найдя места среди кишащих складок, поползла дальше по черепу, захватив бровями верхнюю часть затылка. Порвись какая-нибудь последняя связка, удерживающая на голове оболочку, и свежий комок морщинистой ткани шмякнулся бы к ногам подчиненных. Они ждали и страшились этого мига, чувствуя, что судьба их висит на ниточке и стоит выступающему дернуться посильнее, — все полетит прахом... Однако и на сей раз состояние напряженности не привело к роковому исходу. Разрядил обстановку однорукий Марьямов, сумрачно сидевший в углу, пока товарищ О. разбирал по складам телеграмму и его, Марьямова, шальные сведения о вожде мятежного города. Грязный, оборванный, заросший щетиной (полдня он провел в болоте, хоронясь от погони, а после без передышки пробежал сто километров и был возле N-ска подобран попутным самосвалом), этот злополучный свидетель районного переворота неожиданно подал голос:
— Не откроет он церквей, — пробормотал Марьямов, пользуясь ораторской паузой. — Насчет капитализма или свободы — это как вам желательно, а вот христианскую религию, будьте спокойны, Леня возобновить не захочет. Уж это я твердо знаю — не захочет...
— Что ты мелешь? почему не захочет? — удивился товарищ О. дерзости низового работника, посмевшего перебить его выступление грубой репликой с места.
Но в душе он был доволен помехой, потому что успел вернуть лицу нормальное расположение и, ощупывая себя, сожалел, что поддался припадку речи, которая вредно отражалась на его сосудистой деятельности.
— Не будет Леня церквей открывать, — повторил Марьямов, тупо глядя в пол.
— Ну-ну, говори, не бойся! Что ж, по-твоему, этот Леня Бога не признает?
Обычное, насмешливое, миролюбивое выражение промелькнуло в глазах областного руководителя. Товарищ У. и Алмазов с облегчением расправили спины.
— Да говори же ты, не бойся, — подтвердил товарищ У. и тоже пошутил: — Почему ваш Тихомиров в Бога не верует?
— А потому...
Марьямов встал, сделал шаг, споткнулся, выпрямился, и они увидали, как он стар, измучен и однорук.
— А потому, что Леня Тихомиров — колдун! Антихрист! Ему бесы помогают...
И воздев свою единственную руку, Марьямов широко, истово перекрестился.
...Когда его увели, подполковник сказал дежурному:
— Поместить в изолятор. Никого к нему не пускать до особых распоряжений. Старик немного свихнулся, но это пройдет...
И чтобы как-то смягчить бестактность своего подчиненного, он добавил, обращаясь к высоким гостям:
— По моим данным, Марьямов потерял левую руку в юности, на антирелигиозной работе. Возможно, эта травма произвела теперь обратную психическую реакцию. Что поделать! Нервы, нервы! Таков бич нашей опасной профессии...
Алмазов двумя пальцами погладил седую прядь, искусно оттенявшую глубокий бархатный тон его прически и маленьких мушкетерских усов. По счастию, товарищ О. не обратил на это внимания. Но товарищ У., у которого были все условия для шевелюры и который мог бы иметь еще более тесный контакт с женским населением N-ска, если бы не брился наголо из сочувствия к товарищу О., вздохнул и отвернулся. Елки-палки!
Голосу О. окончательно вернулись спокойная деловитость и демократическая простота.
Вражеская пропаганда заразила ваших сотрудников. Вам надлежит, подполковник, лично понюхать эту задницу. Поедете в Любимов с отрядом. Десяток-другой молодежи можно призанять у милиции. Снаружи никаких менструаций. Культурненько. Шляпы, галстуки, как в ресторане. Прогулки по свежему воздуху. Деткам захотелось на травку. Пукать из пистолета нэ трэба, пока не подопрет. Пару пулеметов все ж таки прихватите, могут пригодиться. Тихомирова и других крикунов без шума вывезти. Восстановить тюрьму. Восстановись телефонную связь с N-ском. Однако — без репрессий. Не наломайте дров. Дисциплинка. Законность. Девок за сиськи трогать разрешаю, но больше ни-ни. Чтоб никаких последствий культа личности. Даю на всю дезинфекцию 24 часа и желаю успеха. Товарищ У. — ваше мнение?
— Я, товарищ О., совершенно с вами согласен. Могу от себя добавить по вопросу, как вы остроумно выразились — хи-хи, — менструаций. Не взять ли им в дорогу рюкзаки, удочки, щипковые инструменты, баян?.. Ведь мероприятие сугубо гражданское, по сектору спортивных, культурно-массовых развлечений. Вылазка на природу. Пикничок. Песни и пляски. И чтоб никаких последствий культа личности!
...В полдень к автобусной станции протопала рота парней — в черных, застегнутых наглухо, несмотря на погоду, пальто и в черных же, низко надвинутых, покоробленных шляпах. Из-под шляп оттопыривались здоровенные крестьянские уши. Каждый сжимал в одной руке чемодан, в другой — балалайку или рыболовную снасть. Сбоку, по тротуару маршировал Алмазов — в гетрах, с рюкзаком, в пробковом охотничьем шлеме.
— За-певай!
Красноухий тенор из первой шеренги запел:
Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жены?..
— Наши жены — ружья заряжены! — подхватил, было, хор и осекся.
— Ты что, Соловьев, забыл команду?! — процедил сквозь зубы Алмазов. — Запевай лирическую!.. Соловьев неуверенно запел:
Не шей ты мне, ма-а-а-тушка,
Красный сарафа-а-ан...
Сбиваясь с ноги, рота подошла к станции. В сторонке уже ожидали три городских автобуса.
— Стой! Смирно! Справа по одному — за-гружайсь!
Стуча чемоданами, роняя шляпы, певцы полезли в машины и, как боги, разместились на мягких пассажирских подушках.
За углом свора старух обменивалась новостями:
— ...А в чемоданах — у них, девушка, ружья заряжённые, пистолеты... Два пулемета, два пулемета — мне точно известно!.. Баб ниже пояса касаться не велено... В Любимове чудотворная явилась... Епископ Леонид... Не епископ он, а блаженный, юродивый — Леня... Церкви открывает! церкви открывает! церкви открывает!.. Помоги ему, Господи! Даруй ему, Господи, победу над войском сатанинским, над войском антихристовым!..
В Любимове тем часом не прекращалось гулянье в честь Леонида Ивановича и его молодой супруги. С утра они расписались, и эта свадьба упала, как манна небесная, на вольный город, лишь ожидавший сигнала продолжать праздник и закрепить победу веселым пиром. По правде сказать, и 1-го и 2-го мая тоже не сидели без дела и начали-таки закреплять, как смогли, красную дату и новую эру. Да за всеми переворотами не успели распробовать, и потом — кто считает? Уж раз Леонидом Ивановичем установлена свобода в Любимове, то как же ее не отметить наилучшим образом, и зачем нужна свобода русскому человеку, если нет ему воли погулять да повеселиться всласть, на погибель души, на страх врагам, так, чтобы перед смертью, которая никого не минует, было что вспомнить?
Не любят русские люди мелочничать по углам, в одиночку, кустарным способом, в час по чайной ложке. Пускай так пьют алкоголики: американцы в Америке, французы во Франции. Они пьют, чтобы напиться — для затуманивания мозгов. Напьются, как свиньи, и — спать. А мы употребляем вино для усиления жизни и душевного разогрева, мы только жить начинаем, когда выпьем, и рвемся душою ввысь и возвышаемся над неподвижной материей, и нам для этих движений улица необходима, корявая провинциальная улица, загибающаяся черным горбом к белому небу.
И потому Леонид Иванович с Серафимой Петровной, выйдя из загса на улицу, ее не узнали. По проспекту Володарского, насколько хватал глаз, тянулись столы, убранные скатертями и заставленные чем Бог послал, не очень уж богато. Всё же кое-чего поднасобирали: и пироги, и капуста, и студень, и злодейка с наклейкой там имелась, потому что хозяева ради такого случая пустили на угощение все, что было за пазухой, следуя старинному правилу, про которое сказано в одной пословице: «раз пошла такая пьянка — режь последний огурец».
Однако никто не пил, не ел, а все сидели наготове под открытым небом, на чистом воздухе, ожидаючи, когда молодые соблаговолят зарегистрироваться. Едва они появились на пороге загса, их встретила депутация городской общественности, поднесшая в знак изобилия каравай на салфетке и две граненые рюмки для затравки. Поздравили, пожелали успеха в совместном жизнеустройстве. И никаких выкриков с мест или пошлых намеков на их супружеские естественные потребности, или глупых прибауток языческого происхождения — было не слыхать. Все носило, как предписано, вполне культурную форму: скромно, просто, но с достоинством.
Да и виновники торжества держались так просто, как если бы они были обыкновенными людьми. Леонид Иванович ограничился перчатками мышиного цвета и бумажной хризантемой в петлице. А Серафима Петровна даже не потрудилась осуществить к свадьбе подвенечное платье, обозначающее целомудрие, и воспользовалась светленькой шерстистой кофточкой, да захватила для приличия расписной зонтик, который придавал ей сходство с королевой на прогулке. Она, как принцесса, выступала под руку со своим принцем и поминутно оборачивала к нему влюбленный профиль.
— Леонид, смотри: каравай! И на подносе две рюмки. Браво! Браво! Это так по-русски! Ты должен со мною публично чокнуться и поцеловаться на брудершафт...
В предвкушении поцелуя она страстно расхохоталась. Но Леонид Иванович рукою в перчатке поднял рюмку, понюхал, критически поморщился и поставил обратно.
— Дикари! — сказал он грозно. — Что вы туда нацедили? и почему я не вижу вокруг плодов изобилия? Водка и огурцы! Позор! Что скажет Европа? Позвать ко мне завмага, завсклада и завресторана!..
Те уже стояли, подобрав животы, и тотчас подали рапорт о случившейся недостаче. Недоставало хмельного. Не было крупы, колбасы, кондитерских и консервных изделий, масла и мяса. Рыбы тоже не было. Комбижир подходил к концу. В балансе пищетреста образовался дебет.
Хотя, пронзенный взглядом Леонида Ивановича, заведующий магазином тут же повинился в слезах, что утаил от народа ящик туалетного мыла и два ведра тянучек «Пограничник в дозоре», эта капля росы все равно бы всех не спасла: на складе сохранились нетронутыми лишь запасы минеральной воды харьковского посола да третий год лежал без движения импортный перец в банках, такой на вид краснокожий, что взять его голым ртом ни у кого не хватало смелости. А еще оставались спички, зубная паста, деготь и полезный от малокровия витамин «Це»...
— Все раздать населению! бесплатно! за мой счет! — приказал Леонид Иванович оробевшим снабженцам. — Ну, что стоите? Народ праздновать хочет. У народа проявилась потребность выпить за Серафиму Петровну, которая нынче сделалась моей законной женой. Прошу любить и жаловать... Сегодня — я угощаю! Я накормлю город...
По его лицу пробежала мысль, похожая на судорогу.
— Подать бутылку харьковского напитка, застрявшего на складе без внимания публики. Доктор Линде, снимите пробу, чтобы все убедились в ее химическом вкусе!
Доктор Линде отделился от свиты, сопровождавшей Леонида Ивановича, и накапал столовую ложку харьковской минеральной воды, которая, как всем известно, размягчает стенки желудка, но не дает утоления уму и сердцу. Сотни глаз внимательно следили за тем, как доктор, вытянув шею и растопырив усы, глотает пробу. Он глотнул, поперхнулся, облизнул ложку, подумал и воскликнул изменившимся голосом, не допускающим фальсификации:
— Это — не вода для желудка... Не минеральный напиток... Это — самый чистый медицинский спирт!..
Да! случилось чудо: вода превратилась в спирт. То есть на самом деле, где-то в глубине существа, она как была водою харьковского производства, так и осталась ею по своему фабричному качеству. Но изменились ее роль и место в жизни общества, ее воздействие на чувство выпивающего человека. Под воздействием Леонида Ивановича каждый выпивающий испытывал в душе полноценное ощущение жгучести и сотрясение в организме и, потрясенный, продранный до нижнего позвонка, говорил, выдувая воздух: — Ф-ф-ф-у! Вот так штука капитана Кука. Жгется, словно огонь, а во рту такое чувство, что расцвели розы. Такую красоту просто жаль заедать гнилым огурцом. Ей подобает семга, балык, поросятина. А еще было бы слаще, еще впечатлительней пустить ей вдогонку ломтик мелкокалиберной краковской колбасы довоенного образца, от которой — при одном воспоминании — слюна слипается, как сметана, и внутри все скользит, язык съешь!..
И вот не успели стихнуть пожелания трудящихся, как столы покрылись роскошью сказочной сервировки. Неизвестно откуда ниспосланная перемена блюд произошла так внезапно, что человек с огурцом в зубах вдруг чувствовал всеми фибрами непреодолимый колбасный привкус и, не веря себе, выплевывал огуречный огрызок на скатерть и вопил, как зарезанный:
— Батюшки — колбаса! Родимые — колбаса!
Люди ели и плакали, и гудели набитыми ртами похвалу доброте и щедрости Леонида Ивановича. Рубленая капуста походила на буженину, картофель в мундире не уступал бархатистому персику. Но особенную аппетитность имел краснокожий перец в банках, превосходящий цветом и сочностью жареную говядину. Эта мясная новинка появилась в таком избытке, что иные кутилы на радостях ее уже и собакам под стол метали, да только зря пыжились и переводили продукт. При виде красных обрезков городские псы отворачивались и поджимали хвосты — волчья порода...
— Ешьте, друзья, пейте и ничего не бойтесь, — приговаривал Леонид Иванович, делая рукою в перчатке широкий жест. — У меня провианта на десять лет заготовлено. Каждому по потребности...
В паре с Серафимой Петровной, в окружении доверенных лиц, он двигался вдоль трапезы церемонной походкой и всюду вносил бодрое, жизнерадостное настроение. Там подбросит в тарелку порцию баклажанной икры, здесь создаст условия к танцам под звуки вальса, этого приструнит, того подтянет, — и все это едва заметным кивком головы, движением бровей, не прикасаясь руками.
Ему для управления городом не было необходимости самому следить за порядком и разрываться на части. Службу связи несли дети, наученные патрулировать стаями и врассыпную по улицам, что сообщало делу контроля дух игры, пробуждавшей детскую ловкость и любознательность. Два десятка юных разведчиков, рассаженных по чердакам, вели наблюдение за городскими окрестностями. Другие в роли гонцов доставляли факты, вызванные трением общественного колеса.
— Дядя Леня, дядя Леня, на Гурьевом огороде тетю Дашу Голикову чужой мужик лапает! — доносил с разбегу резвоногий связист.
И тотчас получал в награду конфету «Пограничник в дозоре», либо питательный шарик витамина «Це». А в направлении дальнего Гурьева огорода летел укоризненный взгляд Леонида Ивановича, и одного молниеносного взгляда, посланного туда, было довольно, чтобы остановить безобразие. Чужой мужик, спьяну напавший на беззащитную Дашу, выпускал из лап ее слабое тело и говорил, отступя:
— Извините, мадам, мое некрасивое поведение. Больше это никогда не повторится, клянусь вам своею честью!..
А вырванная из пасти у льва девушка, вместо того чтобы устраивать базар, отвечала со скромностью:
— Ничего, ничего, пожалуйста... Я даже не успела заметить... Вот, если хотите, мой адрес и фотокарточка. И могущий получиться скандал кончался ничем.
— ...Леня, прикажи для старушки подать астраханскую воблу, давно я не ела воблы! — прокричала одна старушка, выпрыгнув на середину гульбища.
Она была нетрезва, эта боевая старушка, в подоткнутом сарафане и громоздких, искривленных, как вспаханная земля, сапогах, которые удерживали ее за ноги, не позволяя взлететь, и она в сапогах раскачивалась, как деревце на ветру, и, хныча, просила воблу, без которой и жизнь ей была немила и смерть не манила.
— Ладно, Матрена, будет тебе вобла, — пообещал Леонид Иванович и хотел было ткнуть взамен какую-нибудь хлебную корку.
Но вобла в наших местах такая редкая птица, что требует заменителя, который бы выделялся на общем фоне, словно купчиха на паперти. Он достал из кармана тюбик зубной пасты.
— Где ж у ней голова, пузырь? — изумилась старуха.
— Дура, это — паста! Говоря простым языком, вобловое тесто. Без костей, без пузыря, одна мякоть. Видишь, написано: «Зубная паста». Для беззубых. Для таких, как ты!
Он сам отвинтил тюбик и выдавил густую спираль, сам размазал: на, старая, жри, соси, наслаждайся и помни Леонида Ивановича!
В его глазницах пролегли палевые тени усталости. Чело, увитое струйками пота, жестко поблескивало. И чем разгульнее становилось вокруг и ширилось людское довольство, тем крепче сдвигались брови у властелина города и, как ножницы, вперялись в толпу серые косые глаза[26]. Он один посреди пира был угрюм не ко времени, всё посматривал на часы и всё поддавал жару, точно спешил сыграть свадьбу до наступления сумерек.
— Объявляю: в течение тридцати минут по реке Любимовке потечет шампанское. Высшей марки. «Советское шампанское». Кто никогда не пробовал — про вкусноту и аромат расспроси у соседа. Не пугайтесь, это — новое достижение техники. Я перекрою русло, и вино польется рекой. Запомните: удовольствие ровно 30 минут. Засекаю время. Идите и пейте! Стойте! Не все скопом! Вы передавите друг друга, скоты! Детей поить запрещаю. Инвалидам — вне очереди. Черпать стаканами. С ногами в речку не лазить, а то потонете. А ты куда, Савелий Кузьмич? Назад! Воротись немедленно! Твое место здесь, подле меня, рядом с доктором Линде.
— Да я, Леонид Иванович, думал хлебнуть разочек, испытать, какое счастье в нашей тухлой речонке, и бежать обратно к вам, как вы велели, — отвечал Савелий Кузьмич, подавшийся, было, вслед за темной массой, забыв о долге и титуле главного историографа.
— Что ж, я хуже других? — продолжал он, кивая на берег, откуда уже доносились веселый плеск и гогот и летели под облака оранжевые брызги шампанского. — Разрешите отлучиться на две минуты. Товарищ Тихомиров! Государыня. Серафима Петровна!.. Все пьют, все пьяные. А разве ж я — не человек?[27]
— Человек, человек... — пробормотал Леонид Иванович и прикрыл веки.
На мгновение ему показалось, что все перед ним крутится, словно на карусели. Должно быть, подумал он, торопливое опьянение этих слабых, наивных и невежественных людей заразило меня. Или я один попал под свой гипноз, а все они здоровые, трезвые, и только мне, захмелевшему от безумной мечты, представляются вереницы столов по городу, и возгласы на реке, и эта свадебная прогулка, и легкая победа над сердцем женщины, еще недавно такой равнодушной к моим искренним уверениям...
— На тебе лица нет! — ужаснулась Серафима Петровна, не сводившая нежного взгляда с молодого мужа. — Выпей что-нибудь. Мы подкрепимся вместе. Я сама приготовлю пастеризованные бутерброды...
И она взяла с лавки трубочку зубной пасты, недоеденную старой Матреной.
— Не смей! — закричал Тихомиров и — пришел в себя: — Мы поедим дома, — добавил он спокойнее, окидывая косым глазом поредевшую свиту. — А теперь, товарищи, пройдемся к монастырским руинам и посмотрим на панораму сверху вниз. Тут слишком пахнет. Шампанское выделяет пары... Но нас, руководящих и доверенных лиц, нас не тянет, нам не хочется, не должно хотеться, понятно?!. Тем более тебе, Проферансов, не пристало бегать, как маленькому, за вином и за водкой. Пора отвыкать[28]. Твоя задача писателя, городского историографа — неустанно изучать действительность в ее неуклонном развитии и давать каждому факту правдивое отражение. Будь нашим зеркалом, нашим Львом Толстым, которого ведь недаром прозвали в народе «зеркалом революции». Взгляни вокруг себя, проникнись окружающей жизнью и потом отрази ее выпукло в исторических мемуарах...
Город лежал перед ними, как лоскутное одеяло, перебуторенное и брошенное в вакхическом беспорядке. Красные флаги и скатерти, малиновые сарафаны, подбитые ветерком, спорили с озимой зеленью сельского хлебопашца, которая с вышины небес вклинивалась в ложбину, рассекая надвое железную голизну кустарника. А если еще учесть излучины и рукава реки бутылочного цвета, облепленные там и сям роями горожан, да прибавить к ним искривление улочек, тупиков, задворков и съехавшую набок церквушку с провалившимся куполом и ворохом воронья, полинялое кладбище в мелких крестиках и желтый гроб больницы по соседству с кряжистой темно-бурой тюрьмой, пустырь в мусоре и безлюдный проезжий тракт, блистающий на раздолье серебристыми змейками непросохшей грязцы, плюс каланча на выгоне, заборы, возня собак, плюс гармоника с придурью, кудлатый дым из трубы и над дымом — мчащиеся, будто кони, круглогривые облака, — если, повторяю, все это сложить вместе и как следует стасовать, то мы получим картину, открывшуюся взорам нашей изумленной публики.
— Картина, достойная кисти живописца! — объявил Проферансов и перевел дух. — Сбылась, исполнилась вековая мечта народа. Вот они — молочные реки и кисельные берега! Вот оно — Царство Небесное, которое по-научному правильнее называть скачком в светлое будущее. Никогда еще в истории человечества не было такой заботы о живом человеке. Никогда еще...
— Благодарю, достаточно, — прервал его Тихомиров и потрепал по плечу. — У тебя, старина, неплохой слог. Запиши на бумажку, потом покажешь.
Он сделал знак приближенным удалиться на сорок шагов и оставить его вдвоем с прекрасной Серафимой Петровной.
— Видишь ли, дорогая, было бы нежелательно, чтобы Савелий выбалтывал запросто мои мысли. Но то, что он говорил тут по внушению свыше, недалеко от истины. Помнишь, я тебе обещал подарить, — ни много ни мало — город Любимов? Нет-нет, ты не можешь отказываться от свадебного подарка... Вот он лежит покорный у наших ног. Покорный и одновременно — представь! — свободный, вольный город и в придачу — счастливый город, потому что я, я! регулирую все его помыслы и желания. Эти люди бесплатно пользуются редкой пищей и вином, которое к тому же безвредно для их здоровья, и не испытывают чувства зависимости, угнетения, а полны доверия к нам и детской любви. Я мог бы их заставить таскать на спине кули и рыть каналы орошения, но — не хочу. Я снисходителен даже к слабостям моих сограждан. Отныне у нас в городе не должно быть голодных, больных, печальных. И первым долгом ты скажи мне — ты довольна, ты счастлива?
— Да! — прошептала она, склонив личико, миловидно порозовевшее, к нему на грудь, которая высоко вздымалась.
— Я так счастлива и благодарна, что мы наконец соединились, дружочек, и ты назвал меня своею перед целым городом[29]. Но к чему мне город и весь мир, если тебя нет? И как могла я — не понимаю — быть когда-то такой жестокой и так долго недооценивать твою гениальность, ум, доброту и внешнюю привлекательность?! Ах, Леонид, ах, я просто вся таю...
И она хотела обвить его шею своими гибкими ручками.
— Подожди! — Леонид Иванович порывисто отстранился. — Смотри: бегут связные... Сразу двое... Что-то случилось!.. Ну, что там у вас опять стряслось — говорите скорее!
— Дядя Леня, дядя Леня, на Дятловом поле, тут недалечко, чужой человек помер...
Тихомиров нахмурился:
— То есть как — помер? Это что за новости? Кто позволил? Или... может быть... ваш человек болел чем-нибудь неизлечимым... Стар был?..
— Нет, не старый, — докладывал разгоряченный подросток. — Мужики говорят — с перепою. Наглотался спирту. Даже, говорят, не размешивал, прямо так пил...
Кольцо любопытных разжалось, пропуская начальство. Доктор Линде, стоя на одном колене, спрятал дудочку в карман и развел руками.
— Финис, — сказал он, — финис. Медицина бессильна. От парня разит, как из бутылки, которую я дегустировал, и могу подтвердить: довольно двух литров этой замечательной жидкости, и вы получите самый чистый, моментальный финис. Клапаны не выдерживают.
— Брось трепаться, — хотел возразить Леня, — Мне-то известно, сколько градусов в харьковской минеральной водичке. Спирта в городе не сыщешь даже по рецепту...
Однако не возразил, лишь осведомился:
— Чей это человек? Кто его знал прежде?
Никто не знал.
Человек лежал на земле, расставив ладошки, будто Иисус Христос. Видать, его пытались откачивать, да так и бросили, перевернув для опознания на спину, кверху носом, и черты его, не успевшие помутнеть, а в особенности голубая, неугасимая майка-футболка и брючки в елочку (одна брючина вздернулась, и были видны тесемки нехитрых пролетарских кальсон) — вызвали чувство обидного нищенского равноправия перед хозяйственной расторопностью скорой на руку смерти. Но вмешаться и проверить, правда ли от покойника, как заявил доктор, пахнет спиртом, Леня почему-то не смел и все разглядывал брючки и парусиновые ботинки, обутые на босые грязноватые ноги.
— Ведь это, Леонид Иванович, вчерашний вор из тюрьмы, — догадался Проферансов. — Вы же ему вчера сами даровали амнистию вместе с тремя другими вредными паразитами. Не наш он, не городской, и к нам в тюрьму затесался, может, по дороге в Сибирь. Зря его выпускали! стрелять таких надо, вешать!..
— Так вот ты кто? — вырвалось невольно у Лени, и арестант в голубенькой маечке ожил в памяти.
Сперва он вяло поплевывал и тянул: «Начальничек, дай закурить... Начальничек, вели выдать харчи за праздник... Причитается, начальничек...» А затем громко и внятно, словно читая статью в газете, поведал, как в Мелитополе посчастливилось ему у буфетчицы подцепить золотые часы с браслетом, о чем он сожалеет и готов исправить свой необдуманный поступок и закоренелый характер...
— Будьте людьми! Не воруйте, не убивайте, не подделывайте документов и не совершайте других преступлений, роняющих ваше высокое человеческое достоинство, — уговаривал их Леонид Иванович у распахнутых тюремных ворот. — Помните: человек — это звучит гордо!..
— ...Что ж ты, чудак-человек? — мысленно продолжал он беседу с оплошавшим воспитанником. — Выпустили тебя из тюрьмы, подарили жизнь и свободу, пригласили за общий стол, сделали человеком, а ты вместо этого напился, как свинья, и умер, испортив всем нам хорошее настроение. Выходит — было бы лучше сидеть тебе под замком, на нарах, да играть в картишки с товарищами, да пить из-под полы покупную горькую водку, втридорога переплачивая несговорчивому тюремщику, и дни бы твои, чудак-человек, текли без труда и заботы? Так получается? Что ж ты теперь прикажешь всех посадить за решетку и следить в глазок, чтоб не откололи новый номер? Нет, погоди, не возражай... Свободы тебе захотелось? Какой же еще свободы, коли ты получил ее больше, чем вдоволь? Свободы от собственной жизни, от своего ума и гибельной человеческой плоти, которая, когда выпьешь, становится легка и воздушна, так что кажется, будто ты выскакиваешь из себя и витаешь вокруг тела, словно какой-нибудь дух. Ну, что — выскочил? Свободен ты теперь?..
Он присел на корточки и, поборов отвращение, наклонился низко ко рту мертвеца. Оттуда ничем не пахло.
— Да, — вымолвил Леня в некоторой задумчивости. — Да. Может быть, ты и прав. Я что-то недоучел...
— Леонид, — послышалось сзади воркование Серафимы Петровны, — я тебя прошу... Эту смерть могут принять за дурную примету. Пожалуйста, воскреси его...
Тихомиров вскочил, лязгнул зубами, черный, ощерившийся:
— С ума вы все посходили! Я вам не чудотворец!
— Но для меня, для моего спокойствия, ты мог бы что-то сделать?..
Что он мог бы сделать — осталось неизвестным. Сигнал боевой тревоги возвестил, что пришла беда, вблизи которой выходка дорвавшегося до жизни пропойцы мигом была забыта. Часовые на чердаках с четырех сторон света рвали уши горожан горластыми пионерскими горнами.
— Тревога? Наконец-то! — воскликнул Леонид Иванович, взбежав на вершину холма и пожирая очами окрестность. — О завистники-рутинеры! Я давно ждал нападения. Хорошо, что не ночью. По крайней мере сейчас противник отлично виден.
По дороге, вьющейся средь полей, медленно пробирались к Любимову подозрительные автобусы. Не отнимая бинокля, Тихомиров вполголоса посылал населению отрывистые приказы:
— Прекратить гуляние! Всем протрезветь, подтянуться, оправиться, убрать с улиц столы, посуду, снять флаги. Возможно, город начнут обстреливать. У кого слабые нервы — ложитесь спать. Разведчикам вести с чердаков круговой обзор. При появлении новых машин, конницы или пехоты докладывать лично мне.
Савелий Кузьмин Проферансов, припадая к земной поверхности, короткими перебежками добрался до командира и укрылся у него за спиной.
— Эх, Леонид Иванович, — прошептал он задыхаясь, — напрасно вы давеча велели утопить револьверы в глубине реки. Из чего мы будем стрелять? Из чего дадим достойный отпор агрессору, посмевшему сунуть свое рыло в наш огород? Говорил ведь вам: рано вы затеяли всеобщее разоружение. Вот увидите — проиграем баталию.
Автобусы один за другим скатывались в ложбину, огибая полосу темного, как мокрое железо, кустарника. От города их отделяло не более трех километров сравнительно ровного тракта. Тихомиров, прильнув к биноклю, не шевелился. Лишь подрагивала спина, да взбрыкивались в голосе истерические ноты восторга:
— Без паники, Савелий, без паники. Мы не хотим проливать кровь. Довольно трупов! Пусть внезапная смерть опьяненного тунеядца в истории нашей борьбы послужит единственной жертвой навсегда минувшей эпохи. Что ты дергаешься, как фигляр, у меня за спиной? Уйди, старик. Не нервируй. Ступай к себе на квартиру. Все ступайте. Заприте двери, заложите окна подушками и сидите. Представьте, что вас — для вашей пользы — временно поместили в тюрьму. Скажите Серафиме Петровне: пусть приляжет и ни о чем не волнуется. Марш по домам! Слышали? Оставьте меня одного, дайте сосредоточиться. Я не нуждаюсь в помощи...
У подножья холма Савелий Кузьмич обернулся. Тихомиров стоял, прижавшись спиною к выщербленной монастырской стене. Глаза его, устремленные вдаль, за городскую черту, казалось, посылали в пространство грозные синеватые вспышки. Если бы было темно, они бы, верно, горели, как горят зрачки диких зверей во мраке ночи. Но солнце, нырявшее посреди белых облаков, еще не думало заходить и бросало на одинокую фигуру Главнокомандующего порывистые лучи.
— Эй, водитель! Почему не едем, водитель? Тебе ж говорили русским языком: дуй полным ходом до райцентра, застопоришь перед почтой, возле монастыря.
— Мотор захлох, товарищ подполковник. Карбюратор барахлит.
Алмазов, чертыхнувшись, выпрыгнул из автобуса. До Любимова было рукой подать. Но задние машины тоже стали, и шоферы, закатав рукава, что-то подтягивали и колотили гаечными ключами. У второго автобуса дьявол-водитель зачем-то взялся отвинчивать переднее колесо. Алмазов повертелся, пообещал шоферам по пятнадцати суток ареста и махнул рукой.
— Вылезай, ребята! Дотопаем. Учтите: мы — отдыхающие, приехали развлечься, а кстати познакомиться с отечественной архитектурой. Соловьев, надень шляпу, как положено, и застегни пальто. Пулеметы не позабудьте.
Дорога, петляя меж кустов, своротила в лес, низкорослый, заболоченный и по-зимнему необжитой. Прошлогодняя ржавая травка, не успевшая сгнить, хрустела и хлюпала под ногами. Повсюду, точно надолбы, торчали пни да коряги, Черные деревья возникали внезапно перед самым носом, похожие на фонтаны грязи, поднятые артобстрелом.
— Стойте, черти! Где дорога? Куда вы прете? Вертай назад в поле!
Отряд пустился в обратный путь, и не прошло четверти часа, когда подполковник понял, что они заблудились. Как это могло случиться — в дрянном лесочке, почти на краю города, который только что приветливо мелькал сквозь заросли кустарника? Чудилось, сделай в сторону сотню-другую шагов, и за стволами откроются крыши, дома, заборы и гремевший когда-то в губернии люби-мовский монастырь. Город прятался под боком, в оврагах и буераках, и Алмазов то явственно слышал, как перекликаются петухи на задворках и лают собаки, то улавливал ноздрями охотника дымный запах жилья и всякий раз, чертыхаясь, кидался по следу, вконец измотав команду, одетую не по сезону тепло и не по-солдатски шикарно.
— Товарищ подполковник, разрешите обратиться, — сержант Кравцов воткнул ладонь в тулью фетровой шляпы. — Ведь это нас Леша водит, товарищ подполковник...
— Какой еще Леша?
— Леша, Леня — главный руководящий волшебник здешних болотных мест. Он-то нам глаза и отвел от своей берлоги...
— Не мели чепухи, Кравцов... Отряд! привести оружие в боевую готовность!
Но едва распаковали чемоданы с автоматами и начали собирать пулемет, как в чаще что-то ухнуло, крякнуло, поднялось с пронзительным тоскующим воплем и прокатилось мелким смехом по затрепетавшим вершинам.
— Стой! Куда? Пристрелю! Перестреляю, как цыплят! — кричал подполковник, не замечая, что и сам уже бежит сломя голову за перепуганной командой. Бросив оружие, теряя шляпы, балалайки, удочки, они неслись по дикому лесу неведомо куда.
Спроси любого из них: что заставило его удариться в бегство, рискуя провалиться в трясину или глаз просадить сучком? — и никто бы не нашелся ответить, как это вышло и почему. Разве что под старость, лет через семьдесят, одноглазый мудрец на печи растолкует внукам и правнукам таинственную историю, в которую нежданно-негаданно попал батальон в лесу, и добавит дуракам в назидание, что не было еще человека, который бы разгадал и разведал, как действует нечистая сила. Зачем она гудит в трубе зимними вечерами, зачем скребется под полом и стонет в болоте осипшим нечеловеческим голосом, когда и без того на душе тоскливо?
— Это ветер гудит, мышь скребется, лесная птица скучает о мертвом своем птенце, — скажут внуки и правнуки, полагающие, что каждая вещь имеет объяснение. Но неужто вы так считаете, любезные внуки и правнуки, что столетний дед на печи глупее вас? Что он, переживший и третью и четвертую мировую войну, и все-таки оставшийся цел, и потерявший за все это время только один глаз на военной службе, да и то налетев с разбега на еловый сук, это он-то не знает про ветер и про мышь? Да он в мышах разбирается лучше, чем вы в логарифмах, и говорит с пониманием тонких различий, что мышь — мышью и болотная птица, если хотите знать, зовется выпью, а без нечистой силы все же не обойтись. Потому-то нас душит порою неизъяснимый страх, и это не страх, а чорт нас схватил в охапку и несет по ельничку и заносит невесть куда, пока не натешится над нами и не наиграется вдосталь.
Нет, судари мои! Ваши деды и прадеды были не так наивны, как вам бы того хотелось. И если вам не привелось еще испытать лесной жути и оторопи, то просто потому, что по молодой беспечности вы ничего не успели в жизни понять и распознать. Но уже спутались за вами дорожки и затянулись тропинки, и вместо ожидаемых приятных домиков повсюду видны почернелые пни да коряги, и раскидистые деревья выбрасываются из-под земли, словно поднятые в небо каскады грязи. И скоро-скоро кто-то крикнет из темноты незнакомым голосом, и вы пуститесь бежать без оглядки, и дай вам Бог тогда не угодить в трясину...
Подполковник Алмазов присел на поваленную ольху. Размаривало. Подремывалось. Гнилые пни пахли. Прела одёвка, обувка, пропотевшая, изодранная. Накрапывал и подсыхал на припеке редкий-редкий дождичек. Подогретый, «грибной» дождик — сказали бы в июне и в августе. Но не прошла еще пора весенней тяги и ранней глухариной любви, и не странно ли, подумал Алмазов, что в этакую славную пору не слыхать птичьего щебета и шумливого перепархивания? И едва он подумал об этой странности здешнего густолесья, подумал отрешенно, безвольно, сквозь туманную полудрему, как тотчас приметил на ветке головастую птицу грязновато-зеленистой окраски, похожую на большую раскормленную жабу.
— Вот так птица. Не птица, а целый крокодил, — сказал он безо всякого, впрочем, охотничьего азарта, почти машинально фиксируя сам факт ее появления вблизи себя и уже смутно догадываясь, что именно ей, этой птице, принадлежал тот сиплый крик на болоте, навсегда покрывший его карьеру несмываемым позором. Однако ни стыда, ни боязни, ни сожаления о минувшем он теперь не испытывал, погруженный в ленивое, истомное созерцание мерзкой твари, которая сидела, приципившись, и грелась на солнышке, и смотрела на подполковника змеиным взглядом.
— Интересно, что сказали бы ученые-натуралисты, если бы я приволок им это пугало? — размышлял Алмазов, отлично вместе с тем сознавая всю отвлеченность подобных замыслов. Не то чтобы он сомневался в своей способности встать и пойти на розыски пропавшей дороги, а попросту ему не хотелось прилагать усилий и возвращаться ценою стольких затрат к тягостной свободе живого существования. Не лучше ли, думал он, покорно отдаться на волю хотя бы вот этой гадины, чей ядовитый взгляд вливает в сердце апатию и лижет усталый мозг блаженной лаской успокоения? Мы славно пожили и хорошо поработали, и заслужили законный отдых. «Спи спокойно, дорогой товарищ», — как принято говорить в этих случаях.
И скорее для регистрации, по врожденной дворянской порядочности, чем по тщеславному побуждению, он принялся, не торопясь, перебирать в уме свои труды и заслуги — все эти несколько мешавшиеся в его памяти банды, гнезда, центры, скиты, секты, заговоры, раскрытые и уничтоженные им за долгую кропотливую жизнь. А еще он вспоминал с благодарностью многих чудесных женщин, которые его любили и которых он любил счастливо, коротко, бурно и никогда не оскорблял безучастием к их прелестям и капризам. Почему-то все они, разве что кроме простоватых пейзанок, милых деревенских прыскалок-хохо-туш, легко перенимали галантные манеры Алмазова и называли его «mon атоиг» или «mon colonel», не всегда, правда, справляясь с трудным французским выговором. Теперь эти баюкающие райские голоса не волновали кровь подполковника. Без надобности и воодушевления, а только по долгу памятливой мужской чести, он вызывал на последний смотр наиболее интересные лица и тела красавиц, встречавшиеся ему в жизни, и сбивался в расчете и в построении, соединяя грудь Вавы с косами Зины и все это — с королевскими бедрами Женечки Лукашевич, особенно ему примелькавшимися за последний год.
Птица начала обнаруживать признаки нетерпения. Она пружинисто размяла перепончатые голые крылья и, вытянув тяжелую голову на рахитической шее, немного прошлась по ветке, не спуская, однако, с Алмазова неподвижного змеиного взгляда. В ее осклабленном клюве виднелся ряд рыбьих зубов.
— Разве бывают зубастые птицы? — спросил себя подполковник и не стал напрягать память. Он прекрасно понимал, что спасительный порошок, принятый час назад, уже тихо и безболезненно бродит по его охладевающим жилам, и, возможно, эта птица, внушавшая ему все большее уважение, только ждала момента, чтобы насытиться падалью. Он мог бы снять ее с дерева одним револьверным выстрелом, но ему не хотелось возиться с висевшим на спине рюкзачком, куда заботливая Софи уложила его браунинг вместе с душистым полотенцем и серебряной мыльницей. В конце концов, эта птица проявляла лояльность и вежливо дожидалась развязки, не впадая в ажиотаж дурного тона и даже, вероятно, испытывая к подполковнику невысказанную симпатию. Не в силах шевелить языком, он заговорил с нею мысленно по-французски и наделял ее интимными, ласкательными именами, какими щедро дарил когда-то милых прелестниц. И ему показалось, хотя он нисколько не сомневался, что это вступает в действие усыпительный порошок, что птица понимает его и кивает с ветки увесистой головой. Затем, раскрыв зубастую пасть, она сказала не без некоторой сипловатости, но на чистом парижском наречии:
— Bonne nuit, mon amour. Vous m'avez fait un grand plaisir, mon brave colonel.
Глава четвертая. ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
С того момента Любимов как сквозь землю провалился. Откуда ни наезжали начальники, сколько ни шастали по кустам, ни вымеряли циркулем карту местности, — ничего не могли найти. Одни поросшие ельником непролазные топи да размытые по весне котлованы наполняли одичавшую пустошь, где полагалось цвесть городу. «Видно, расселся подземный геологический пласт, — решили, посовещавшись, начальники, — и выступила из трещины влага — последствие ледниковой эпохи — и засосала районный центр с прилегающими угодьями и полдюжиной незначительных обезлюдевших деревень»[30].
— Кабы нам годик этой мирной передышки, — говаривал Леонид Иванович, разгуливая по кабинету, — и мы бы по всем статьям государственного бюджета перещеголяли Бельгию и обогнали Голландию. А там постепенно можно подумать о расширении территории и внедрении наших идей в головном масштабе. Не насилием и обманом, а только живым примером и воздействием на умы прогрессивного человечества завоюет Любимов симпатию и мировое признание. Запиши, Проферансов, эту мысль в протокол нашей борьбы и достижений.
И пока Савелий Кузьмич переписывал в тетрадь исторические афоризмы, Тихомиров выбегал на балкон и напутствовал колонны, уходившие на рытье осушительного канала:
— Выше голову! Шире шаг! Веселее улыбки! Запомните: никто вас не принуждает работать! Вам самим хочется перевыполнить норму на двести процентов. Да-да, никак не меньше! Вы чувствуете в груди подъем, в мускулах — неутомимость. Вы жаждете поскорее вонзить заступы в глину...
Когда же землекопы почти бегом устремлялись на штурм твердыни, Леня в изнеможении падал в кресло и восклицал:
— А все-таки главное для меня — не выполнение плана, не поднятие экономики, а забота о человеке! И даже этот тяжкий труд, благодаря моему руководству, рождает в них не пришибленность, но сознание титанической мощи и творческую страсть к соревнованию с подвигами Геракла. Один, один я несу бремя заботы, беспокойства, сомнений, неудовлетворенных потребностей. К тому же... сколько можно действовать мне на психику кошачьими концертами?..
Последние слова относились к бурной игре на рояле, которую затевала Серафима Петровна, затворясь в гостиной. Хотя стены барского особняка плохо пропускали звуки, они долетали порой до резиденции Леонида Ивановича, особенно ежели женщина в мечтательном уединении тешилась ариями из оперы «Кармен».
Любовь свободна.
Мир чаруя,
Законов всех она сильней...
— пела Серафима Петровна, вкладывая в голос и в клавиши всю силу молодого, необузданного темперамента.
Любовь? лю-бовь!
Любовь? лю-бовь!
Любовь! Любовь любовь любовь лю-бовь!..
— разучивала она так и эдак волнующую мелодию и доходила в ней до высшей точки, когда Кармен говорит неустойчивому возлюбленному:
Меня не любишь, но люблю я,
Так берегись любви моей!
Не прекрати Леонид Иванович эту музыку своевременно — дело кончалось руладами затяжного хохота. В штабе слышалось, как падает крышка и гудит расстроенный инструмент, и беспричинно в пустом доме смеется женщина... Старик Проферансов вздыхал и поглядывал на Леню, который, поморщившись, отрывался от руководства и посылал жене через стенку мысленное позволение войти и поздороваться. Она появлялась, бледная, подтянутая, убранная с утра в дорогой туалет, и спрашивала, устремив на своего повелителя преданный, сияющий взгляд:
— Ты звал меня, Леонид?.. Прости, пожалуйста. Я, кажется, опять помешала тебе работать, музицируя эту гамму из оперы Бизе... Не сердись, не сердись: я очень счастлива, но немного по тебе соскучилась. Ты опять ночевал здесь, в кабинете, не попрощавшись со мной... Извини, я не к тому, а просто — позволь мне тебя слегка поцеловать...
Он обнимал ее успокоительно и, выражая нежность, брал сухими губами маленькое, детское ухо и, подержав недолго во рту, выпускал. Куда мне такая роскошь? — думал он с тоской, мягко сдерживая ее настойчивость. У меня на руках город, забота о человеке, денежная реформа, посевная кампания... Что ни ночь — вскакивай по звонку, налаживай кольцо обороны. Там, быть может, лесной сыч или крот задел проволоку, а я тут не сплю, потею. Ни минуты покоя. Да еще прохлаждайся с этой куклой, трать на нее часы, энергию. Могла бы подождать. Влюбилась на мою голову — теперь цацкайся...
Но унять в Серафиме Петровне жгучие чувства, которые он сам напряжением воли вызвал к жизни, было ему жаль, и он говорил, отстраняя бережно ее фигуру, как если бы она состяла из хрусталя:
— Пошла бы ты, Симочка, развлеклась каким-нибудь женским делом. Например, вопросы культуры, морали, семьи, брака находятся на твоем попечении. И не вздумай грустить. Мы встретимся за обедом. А теперь ступай, ступай. Видишь — меня ждет аудиенция посетителей...
И она весело исчезала[31].
— Ах, сладчайшая, на вашем месте я бы не выдержала, я бы умерла от страха в первую же секунду, — признавалась жена директора любимовской средней школы, где когда-то Серафима Петровна числилась заурядной учительницей. — Гениальный мужчина требует к себе внимания, какое не всякая женщина способна оказать. Страсть и капризы гения — воображаю! — это почти как в сказке, как в клетке с тигром! Уж на что мое твердое замужнее положение, пятеро детей, возраст, опыт, но — откровенно скажу — при виде Леонида Ивановича мне кажется, у меня в груди сердце лопается. Представляю! С его запросами, с его ищущей душой, вам нужно быть балериной на сцене Большого театра... Ни о чем не хочу расспрашивать, но мой вам совет: не подпускайте к нему молоденьких девушек. Великие люди падки на красоту. Да и какая девушка сможет в чем-нибудь отказать нашему герою?
В ответ Серафима Петровна лишь загадочно улыбалась.
Посетители с утра выстраивались на заднем дворе в очередь, так что Леонид Иванович подумывал: не отменить ли эту древнюю русскую привычку тащиться за всякой дрянью к самому царю? Но при некотором размышлении сохранял традицию, памятуя, что сподручнее управлять королевством, когда народные нужды и чаяния находятся на виду. Впрочем, о нуждах не могло быть и речи, потому что Леня лучше самих просителей знал, чего им не хватает для полноты счастья. Приплетется вдовица просить соломы на поправку хлевушка, а он усадит ее в кресло, будто графиню, и делает перед нею удивленные глаза:
— Соломы? Для хлевушка? Кто же в XX веке кроет хлевушки соломой? А не желаете — толь, не хотите — шифер, или еще лучше — оцинкованное железо? Пожалуйста, не стесняйтесь. Но так ли я вас понял, уважаемая гражданка? Все ли разобрал? Может быть, у вас имеются какие-нибудь другие претензии? Требуйте, предъявляйте! Может быть, вам опостылело содержать вашу телку и двух рослых овец, прожорливых, точно крысы, и вы мечтаете покончить с мелким хозяйством, передав весь инвентарь на общественное питание? А время, освободившееся от сушки сена и чистки навоза, вам хотелось бы посвятить изучению техники внутреннего сгорания, которая вскоре забегает по нашим равнинам, направляемая рукой раскрепощенной женщины? Правильно я угадал ваши желания, гражданка? — говорите!
— Уж куда как правильно, в самую точку попал, всю мою внутреннюю механику выразил, — пела вдовица, помолодевшая лет на пятнадцать и растерянная от множества открывшихся перспектив, — поросенка-то у меня тоже заберите и курочек четыре штучки. Ну их к бесу. Замучилась я с ними. Лишают меня условий культурного развития. Эх, пойду я в комбайнерши, надену штаны, сяду за руль! где мой трактор?
— Не увлекайтесь, гражданочка, — регулировал Леня пробудившиеся в отсталой женщине новые интересы. — Всему свое время. И курочек ваших временно при себе оставьте. Чем сирот-то кормить будете, пока мы придумаем для каждого человека трехразовый рацион? А поросенка, Савелий Кузьмич, занеси в графу добровольного комплектования. Как звать-то его? Борька? Вот и отлично. Распишитесь за вашего Борьку рядом с телкой. У нас каждый винтик должен быть на учете, тем более в обстановке международного окружения[32]...
— Кто следующий? Войдите! — крикнул Леонид Иванович и присел от неожиданности. В дверях стоял подбоченясь типичный иностранный турист, каких мы никогда не видали в нашем захолустье, но зато много слыхали про их методы и замашки. В кожаной подпруге на молниях, с фотографическим аппаратом на брюхе и в желтых обвислых трусиках, из которых бесстыже торчали врозь непокрытые ноги в штиблетах на каучуковом ходу, он глядел на Леню и скалился искусственной американской улыбкой.
— Имею честь познакамливаться, хер Тихомиров, — произнес он, безбожно коверкая чудесный русский язык. — Их бин Гарри Джексон, по кличке «Старый Гангстер», корреспондент буржуазной газеты «Пердит интриган врот ох Америка». Моя заокеанский хозяев хошет иметь от вас маленький интерфью.
С присущей этой породе бесцеремонностью он развалился в кресле, ровно жеребец в конюшне, запалил толстую, черную, как высохшее дерьмо, сигару и начал задавать провокационные вопросы. Перво-наперво ему не терпелось выяснить, когда в Любимове утвердится прогнивший строй магнатов капитализма.
— Когда рак на горе свистнет! — отвечал Леонид Иванович коротко, но ясно.
Репортер заикнулся было насчет разногласий, которые, по слухам, привели отпавшую провинцию к военному столкновению с центром.
— Собака лает — ветер носит! — подсек Тихомиров под корень эту попытку вмешаться в наши семейные дела.
А на вопрос, не намерен ли вольный город Любимов вступить в Атлантический пакт и завязать с Вашингтоном шуры-муры, Леня со спокойным достоинством показал иностранцу фигу. У того моментально вся дипломатия из головы выветрилась, и он повел речь напрямки, без дураков, позабыв о скверной манере портить русский язык нецензурным произношением[33].
Затем Виталий Кочетов выключил рацию и гнусавым голосом затянул:
— Подайте копеечку убогому страннику...
Мальчуган школьного возраста, тащивший на веревке разбитного поросенка, отозвался не сразу:
— Тише, Борька! Ничего не слыхать. Вот сдам тебя на мясо — тогда ори. Что вам, гражданин? У меня нет копеечки. Или вы не знаете — всю валюту отменили. Леня Тихомиров сказал: «Деньги — это обуза, и чем быстрее мы вырвем их из нашего сознания, тем нам будет легче развивать промышленность».
— Ничего-то я не знаю, сынок. Из деревни я. Из самой дальней, сермяжной. О-хо-хо, блохи заели, спасу нет. А скажи-ка, сынок, — что это у вас в городе все копают, ломают? Эвон — у монастыря-то полстены разворотили. Уж не завод ли какой строить собрались, стратегического значения? Не зенитную ли какую воздушную батарею?
— Там стадион будет.
— Чего это?
— Футбольный стадион. Леня Тихомиров сказал: «Каждый человек имеет право развивать свои мышцы».
— Да где он прячется, Тихомиров-то ваш? Разъясни. Темный я, деревенский. Фу, как противно поросенок твой верещит!..
— Товарищ Тихомиров не прячется. Товарищ Тихомиров работает днем и ночью вон в том светлом здании. Верхние окна слева как раз генеральный штаб. Сходите к нему, папаша, просветитесь. «Каждый гражданин имеет право получать моральную помощь или разумный совет».
Когда мальчуган с поросенком удалились восвояси, Виталий Кочетов, крадучись, перебежал пустовавшую улицу и, стараясь не греметь лаптями, полез по водосточной трубе генерального штаба. Ни Леня Тихомиров, ни зарубежный репортер, ни тем более хилый старичок Проферансов, прикорнувший в уголке, не заметили, как взметнулась темная драпировка у открытого окна.
— Леня, ради Христа, продай нам свое открытие, — взмолился американец, позабыв о заграничном кривляний. — Даем два миллиона! Честное американское слово — за такие большие деньги ты сможешь себе построить дворец из мрамора с золотой инкрустацией, а все подъездные пути в радиусе тридцати километров покрыть каучуковыми прокладками в метр толщиною, чтобы никакая подземная грязь снизу не просочилась. А то у вас в России такие дороги, что пока я до Любимова добирался окольными путями, меня два раза чуть-чуть полностью не засосало и я вынужден сейчас разговаривать на государственные предметы, сидя непочтительно в одних трусах. Хорошо, по крайней мере, что прихватил я с собой из Нью-Йорка мыло «Белый клык» и ваксу «Хижина дяди Тома», благодаря которым сумел кое-как отчиститься и прийти к тебе на прием как джентльмен к джентльмену. Нам же без твоего оборудования, чью сказочную силу я наблюдаю вот уже неделю, — хоть помирай. Сам понимаешь, Лень-чик, кризис не тетка, и растущая безработица тоже поджимает. Атомным ядром всех не перещелкаешь, и надежнее будет взять человека за жабры — изнутри, за самый стержень души схватить обездоленного человека, да и поворотить его вспять исторического прогресса. Так что бери с меня три миллиона и ставь на стол магарыч за мои же деньги!..
Хотел ему Леня съездить по гладкой роже за такие резкие слова против прогресса, да подумал, как бы в результате личной вспышки не получился внешний конфликт и мировое потрясение. И потому он личность Гарри Джексона сохранил в неприкосновенности, но что он сделал с буржуазной психологией этого заядлого туриста! Он в ней живого места не оставил. Он схватил ее за жабры, за стержень души и повернул так, чтобы она сама себя опровергла по всем пунктам и доказала бы свою неспособность тягаться с русским человеком в критике чистого разума.
— Молча, будто это не от него исходит, смотрел Леонид Иванович на преобразованного американца, который, как попка, повторял все, что ему негласно диктовалось. Некоторые тезисы этого доклада Савелий Кузьмич Профе-рансов успел тогда же записать, и теперь они могут служить пособием для изучающих законы исторического развития.
§ 1. О роли дорог в истории России
Некоторые горе-критики охаивают наши дороги и пытаются утверждать, что в России весной и осенью даже грузовые машины тонут, как черви, в потоках жидкой магмы. Но если мы полистаем страницы истории, то мы увидим, что кислая грязь на дорогах не однажды спасала Россию от нашествия французов, немцев, поляков и других иноземных полчищ, застрявших со своим Бонапартом в русской почве. И надо думать, со временем кто-то еще застрянет.
§ 2. О значении денег в мировой экономике
Некоторые псевдоученые ошибочно полагают, что деньги служат приманкой в развитии экономики, и планомерно согласовывают алчные потребности со способностью человека гнуть спину. Но если мы сами научимся управлять потребностями, то зачем человеку деньги? — Только лишний соблазн. У человека, например, появилась потребность быть героем труда, а завалявшаяся в кармане десятка шепчет ему: «Не спеши! зайдем-ка сперва дерябнем 150 с прицепом!» Когда же мы отменим денежную обузу, тогда, во-первых, не останется повода к обжорству, пьянству, воровству и другим пережиткам прошлого; во-вторых, наступит всеобщее мировое блаженство, ибо у каждого гражданина внутренние потребности будут возникать и развиваться не как-нибудь, не стихийно, а в согласованном порядке, по мере нашей способности их немедленно отоварить...
— В-третьих! — уже вслух подсказывал Леонид Иванович, горя нетерпением выразить свою идею.
— В-третьих, — подхватил американец заплетавшимся языком, — никто не сможет, в-третьих, продать родину и купить свободу ни за какие миллионы...
— А в-четвертых, — выпалил Леня, поднявшись во весь рост, — мы вот что сделаем, в-четвертых, с накопленными деньгами!..
И он повел небрежно кистью царской руки, предлагая Гарри Джексону оглядеться вокруг себя.
— ...накопленными деньгами! — договорил тот, повертел очумелой башкой и слабо ахнул...[34]
Всё помещение штаба было оклеено денежными купюрами сторублевой величины. Издали получались веселенькие обои, выдержанные в приятном пятнистом колорите. Но присмотревшись, вы начинали постигать, что каждое пятнышко в этой коллекции стоит ровно сотню одной бумажкой. Лишь в области печки, за нехваткой казначейских билетов одинакового достоинства, цена снижалась и глянцевые, словно только что выигранные четвертные перемежались потертыми трешницами и залапанными пятерками. Общая сумма оклейки была громадна, и прибыль непрерывно росла, потому что процесс постепенного перехода на безвалютные рельсы еще не завершился.
— Не вздумайте отковыривать, приклеено капитально, — предостерег Леонид Иванович заморского гостя, который при виде сокровищ норовил на стенку полезть.
Затем посрамленному Гарри Джексону вежливо дали понять, что визит окончен и он без помех и проволочек может чапать в свою Америку, навсегда зарекшись выведывать чужие тайны.
— Передайте от меня привет миролюбивым народам Западного полушария и скажите, что в случае чего мы их поддержим! — добавил на прощанье Леня Тихомиров и велел Савелию Кузьмичу, выпроводив иностранца, крикнуть на заднем дворе, что прием очередных посетителей переносится на четверг.
После дискуссии ему хотелось побыть в тишине со своими мыслями, которые, как муравьи в растревоженном муравейнике, роились в его мозгу и поспешно возводили многоярусные постройки. То ему представлялось, как правительства крупнейших держав складывают оружие, открывают границы и благодарные народы, сами, без принуждения, падают в его объятья. То Леня мечтал и мучился, какое новое имя подарить Любимову, когда тот будет объявлен столицей Земного Шара, и колебался в выборе межу «Городом Солнца» и «Тихо-миргородом». Но тут же ему вспомнилось, что волевая энергия пока что по дальности действия не превышает тридцати километров, и проблема универсального электромагнитного усилителя вновь и вновь вставала перед его пытливым умом.
Как бы добиться такой энергичной мощности волевого попадания, — размышлял Леонид Иванович, кусая губы, — чтобы прямо отсюда, сидя за пультом, сдвинуть все человечество с мертвой точки, а потом постепенно заняться покорением Антарктиды, промышленной обработкой иных планет?!. Человечество ему рисовалось в виде гиганта, с цветущим торсом борца, на котором изваяна гордая, вполоборота, голова мыслителя, — не его ли, Тихомирова, министерская голова? — и он был раздосадован, когда, поворотив подбородок, нашел подле себя немощную старуху со знакомой бородавкой на сплющенном первобытном личике.
— Ленюшка! — вздохнула она. И заморгала, зашамкала в радостном испуге: — Ленюшка, я творожку со сметанкой принесла. Изголодался небось... Вот ты какой прозрачный, худущий... почернел весь...
У нее не хватало духу его обнять, и она только бегала по нему умильным, прытким взором, как будто торопливо ощупывала эту суровую худобу.
— Сама прорвалась, по задней лестнице... — ворчал Савелий Кузьмич виноватым тоном. — У меня, говорит, передача для родного сына. Передача! Что здесь, каземат, что ли — передачу носить. Ох, уж эти матери!..
Ох, уж эти матери, вечно у них на уме одна идея: как бы покормить да попотчевать родимое детище! А детище, может быть, за это время министром сделалось, властелином вселенной?! Что ей до того? Приползет в рваных калошах в царские-то хоромы и подаст узелок с нищенским гостинцем, точно ты не царь, не великий мыслитель, а всеми затравленный, бесприютный звереныш...
— Располагайтесь, мамаша. Какая у вас имеется нужда-потребность?
Леня подвинул старухе роскошное барское кресло, куда обычно усаживал оторопевших просителей. Но толку добиться не смог, сколько ни выпытывал. Все у нее пустяки на языке вертелись, домашние подробности: творожок со сметанкой поешь, рукомойник в сенях опять отлетел, а приколотить некому. Неужто она не слыхала от добрых людей, какую роль он играет в современной политике? Значит, кое-что слышала и разумела по-своему, раз невзначай обмолвилась на сыновние расспросы:
— А монастырь ты, Ленюшка, куда нарушаешь? Не тобою ставлено — не тебе бы ломать...
Он даже засмеялся:
— Ваш единственный сын, мамаша, скоро начнет светилами управлять, а вы про Бога вспомнили. Мне в вашем лице сталкиваться с этими баснями — смешно и обидно. Вы же для меня все-таки не посторонний человек, а родная мать, и должны помнить об этом, уважать мое высокое служебное положение и тоже понемногу расти и тянуться к свету.
Ее глаза-паучата мигом попрятались в темное сплетение морщинок и бородавок. Жалкая сидела, дряхлая, и, не зная, что возразить, вздыхала, покуда Леня объяснял ей популярно устройство небесных тел, говорил про гром и про молнию, которую дикие предки приписали Илье-пророку, тогда как на самом деле это гремит в тучах обыкновенное электричество[35].
— Пойми: Бога — нет! — прошептал он мысленно, стараясь, однако, смягчить остроту удара плавной, неслышной подачей магнетического внушения. Не приказ он ей диктовал, не грозный декрет вдалбливал в засоренное сознание, а лишь незаметно повеял легким, как летний воздух, внятным любому ребенку пониманием истины...
Старуха взмокла. Она скинула платок с головы и утерла испарину.
— Нет-нет, не вздумай плакать! Не терзай свое слабое сердце! — обдувал ее Леня беззвучным; обезболивающим шепотом. — Тебе хорошо. Ты испытываешь сладкую, незнакомую легкость. Ты свободна от темных страхов, которыми тебя оплетали с детства, бедная мамочка. Не бойся, ничего не бойся: Бога — нет! И ты сама, сама, своими старческими устами вымолвишь сейчас эту благодатную, освобождающую весть: Бога — нет!
— Бога нет, — проговорила она, выкатив глаза и сопровождая речь внятными, как икота, глотательными паузами. — Нет Бога. Пророка Илью застрелили. Электричество. Гром гремит из электричества. Ленюшка, поешь творожок со сметанкой. Худущий ты, прозрачный... Бога нет. И ангелов небесных тоже не-тути. Херувимов. Покушай, сыночек, подкрепи свои силушки. Похудел ты, Леня, почернел.... Бога нет. Творожок-то, творожок со сметанкой...
Была в ее просьбе покушать такая навязчивость, такая жалость к его изглоданной худобе, что ему вдруг показалось — убивай он мамашу медленной и мучительной казнью, она и тогда не позабудет сказать перед смертью: «Творожок-то, творожок, Ленюшка, пожалуйста, поешь...» А когда на земле погаснет последняя вера в Бога и мы всем кагалом попадем во власть Сатаны, только вот это противоестественное, материнское заклинание останется нам на память о горькой утрате. Постой! — спохватился он, — где утрата? откуда утрата? что за нелепые мысли мне лезут в голову! Причем тут «всем кагалом», какой еще «Сатана», какой-такой творожок со сметанкой?..
— Бога нет, — квакала старуха мертвенными губами, монотонно, тягостно, точно молилась. — Бога нет. Бога нет...
Уже Леонид Иванович оставил ее в покое, занятый неожиданным казусом в собственных мыслях, которые, как ему почудилось, наткнулись на препятствие и выскочили из орбиты, а она все вертела, как заводная, свою пластинку.
— Странно, очень странно, — бормотал Леонид Иванович и встряхивал головой. — Чрезвычайно странно...
— Товарищ Тихомиров, — промямлил Савелий Кузьмич, появляясь из полумрака, — позвольте я выйду покурю, покуда вы с мамашей по идеологическим вопросам беседуете. Сил моих нет: десятый час, курить охота...
В самом деле, в комнате порядочно потемнело. Тихомиров нагнулся к матери и помог ей прийти в себя. Старуха сморкалась, охала, поминала святых угодников и шаркала калошами, возвращаясь в свое нормальное, первобытное состояние. Всю науку с нее как рукой скинуло. А Леня, будто ушибленный, в смутном расположении, торопливой скороговоркой инструктировал Профе-рансова: проводить мамашу до дому, приколотить умывальник в сенях, попутно — не в службу, а в дружбу — организовать для старушки два ведерка воды из колодца и тут же лететь на всех парусах обратно в штаб, потому что Леонид Иванович желал эту ночь работать. При этом он упирал на досрочное выполнение плана и торопил, собирал, провожал, путал слова, рассейничал и, видать, был не в себе.
— Может, к вам на полчасика супругу прикрепить? — осведомился Про-ферансов, медля покидать командира в таком сумбуре.
Однако от женского общества Тихомиров наотрез отказался. Велел, чтоб даже обедать Серафима Петровна его нынче не обеспокоила: нам не до обеда!..
Смеркалось, летний день уходил, не спеша, вразвалку, и поминутно спохватывался. Возвращался и начинал сызнова собирать пожитки, сослепу спотыкаясь о мебель, роняя свертки. Клубки ниток, обрывки тканей разбазаренным ворохом летают в доме, наводя на подозрение, что воздух, в дневные часы неуловимый, в потемках заселяется смутной фауной. Вот что-то свесилось, вильнуло хвостиком и, медленно разрастаясь в крупную инфузорию, дефилирует с угла на угол...
У людей с тонкими нервами сии флюиды вызывают длительный звон в ушах, похожий на струны лютни, а персты испытывают покалывание и слабо мерцают, соприкасаясь с прозрачной мимолетной материей. Но допустимо ль ее свечение принимать за игру живых созданий или, утеряв равновесие воображать в клубящемся сумраке бледные копии астральных организмов, известные у профанов под именем привидений? Нет, подобный вздор противен опыту зрелого наблюдателя. Перед нами не призраки, а лишь вечерние отсветы обыкновенных мыслей, коими все вещи обмениваются между собою, наполняя комнату меланхолическим трепетом.
О, эти медитации и вопли вещей в пространстве! Сколь многими утешениями обязаны мы вашей мелодии. Сколь часто посреди житейских бурь и волнений вы приводили нас неприметно в надежную гавань. Потоки протяжных мыслей, источаемые каждым предметом в неповторимой музыкальной тональности, ему одному приличной, позволяю: нам без труда, по волшебному наитию, постигать его назначение и место в природе.
Почему бы в противном случае мы догадывались о смысле обступивших наше сознание бесчисленных феноменов? Да мы бы сбились и спутались, не успев ступить за порог. Мы бы смешали кресло, раскоряченное посреди помещения, с грудой камней и щебня, с останками башен и пагод, что обозначились в разрезе окна фиолетовым силуэтом и манят наше внимание в иную сторону.
Но кресло, обтянутое стареньким драдедамом, в глубине души исполнено деликатной чувствительности. Оно всем существом, от спинки до изогнутых ножек, бормочет — «я — кресло» и мурлыкает, чтобы мы прилепились у него на мягких коленях и вкусили покой, забыв о катаклизмах истории. И вот мы, как бабочка на цветок, летим и садимся в кресло...
А монастырская руина, напротив, воспламеняется жестокой фантазией и способна с угрюмой твердостью сносить увечья. Она еще издали машет и голосит: «Путник, помысли подле меня над загадками мироздания!» И вот мы из кресла перелетаем к руине...
Как же после этого дерзает слепой человек нарушать необдуманным шумом гармонию бытия? Как он смеет менять русла великих потоков и крушить вековые деревья, взлелеянные для высших надобностей? Да меняйте вы на здоровье ваше собственное сознание, превращайтесь всем кагалом в винтики и колесики. Но деревья! но камни! но старух — матерей ваших убогих — слышите? матерей! не смейте трогать...
— Кто здесь? — спросил Тихомиров, опасливо озираясь.[36] — Кто здесь? — повторил он раздельно и четко, стремясь придать тембру подгулявших связок спокойную деловитую строгость.
В штабе стояла гробовая тишина, говорящая о присутствии авторитетного посетителя, даже если он лишен очертаний и не намерен показываться в телесном виде.
— Кто тут ходит? Кто мне морочит голову? Приказываю, прошу отозваться!..
Тогда, не желая испытывать ярость его истерии, я произнес вполголоса:
— Извините, сударь, мое вторжение. Но я уже давненько слежу за вашей карьерой и должен сказать: вы злоупотребляете властью, которую в любой час могут у вас отнять так же внезапно, как вы ее получили. Не в моих правилах препятствовать человеку в его одержимости добрыми и дурными идеями, однако за ваши проделки, милостивый государь, я нахожусь в ответе, ибо так называемой магнитной силой вы располагаете с моего временного одолжения. Меня зовут Проферансов, Самсон Проферансов, и вы кое-что знаете обо мне от моего однофамильца, который почему-то считает меня своим дальним родственником, хотя для этого нет решительно никаких оснований. Он вам наплетет обо мне лабиринт небылиц, и в этих россказнях важна не фактическая канва, которую наш историограф заимствует из анекдотов, а лишь окутывающая атмосфера моей привязанности к земле, где все мы родились и куда нас погребают.
Прошу не путать меня с вампирами, упырями, кликунами и другими отпрысками нечистой совести. Я...
— Руки вверх! — скомандовал он резким свистящим шепотом и послал прямой наводкой, по моему голосу, весь волевой заряд, на какой был способен. — Руки вверх! Сложить оружие! Прекратить сопротивление! Признавайся: ты — шпион? Ты — сыщик, проникший сюда в специальном скафандре по указанию центра?.. Снять скафандр, немедленно снять взглядоотталкивающую покрышку!..
Его военная бдительность меня насмешила. Он крутился передо мною, тощий, косоглазый сопляк, метящий в императоры, и, пытаясь рассмотреть впотьмах нечто, не поддающееся оптическому измерению, отчаянно храбрился. У меня было искушение дернуть его за нос или потехи ради приложить спиной к потолку, но я уже давно оставил эти, по правде сказать, довольно плоские шутки. Я только ему посоветовал хорониться шпионов и сыщиков, которые пробираются в душу и оглашают ее безмолвие разнузданным улюлюканьем. А те, что откровенно слоняются следом за вами или, притаясь за пустяковой занавеской, подслушивают вашу беседу с поздним гостем, — эти скромные статисты мирового спектакля могут несколько сдобрить пикантность положения, в которое попал человек, но бессильны заполнить пропасть постигших его превратностей. С этими словами я легонько встряхнул занавеску у отворенного окна, давая понять нашему присмиревшему соглядатаю, что его роль в истории тоже не прошла незамеченной.[37]
— Сгинь! Сгинь! Пропади! — вымолвил Леонид Иванович в исступлении духа, и едва кто-то с треском выкатился из окна, он с бьющимся сердцем бухнулся в кресло.
Сорванная штора седым трофеем свисала на пол. Распахнутая луна озаряла сцену пустынным светом. И, по мере ее водворения в знакомой домашней раме, переполох становился простительным результатом бессонницы, размагниченных нервов, усталости и захожего ветерка, который хлопает ставнями и вскидывает занавески. Но Леню сосало сознание, что справиться с замешательством помогла ему детская суеверная поговорка, слетевшая с языка помимо воли. Нашел чему печалиться. Не лучше ли улыбнуться этой родимой путанице, царящей в твоей голове и позволившей тебе отклониться от слишком опасной близости к тому, чье пришествие ты напрасно торопишь...
Неужто город Любимов послужит колыбелью Дракону? Неужели русскому мозгу, закрученному, как пружина, суждено в назначенный час сдернуться со шпенька и пустить к чертям свинячим наш золоченый шарик? Или нам поможет колдовское белое зелье, на девять десятых разъевшее душу нации? Или упасет нас придурковатая поговорка, произнесенная впопыхах, в нарушение вражьих планов? Или я, твой добрый гений, брошу это гиблое место и уйду от греха подальше, без огласки, как меркнет день, оставив тебя в уверенности, что ничего не потеряно и завтра, со свежими силами, ты сможешь все наверстать?
— Трус в карты не играет, — пробормотал ни к селу ни к городу Леонид Иванович и, слегка пошатываясь, выбрался на балкон.
Кругом, насколько хватало сил, было светло и пусто. На горизонте рассеивалась розовая дымка заката. Ее забивало чистейшее, лишенное примесей, блистание ночной стражницы, вступившей в пору искристого максимального излучения. Ломило глаза. Равномерно сифонил ветер. Белесая, космогоническая пыль облаков свистала мимо луны, сообщая ей сходство с пустотелой камерой, пущенной по орбите с предустановленной скоростью.
Вот так же несется в будущее наш золоченый шарик, — прокатилось у Лени в памяти запоздалое эхо, и тотчас в унисон заговорили неподалеку мягкие аккорды рояля. Это жена-красавица, изнемогая от блеска, развивала перед сном прощальную увертюру. И на сей раз никто ей не препятствовал тренироваться: Савелий Кузьмич, воротясь, нашел Главнокомандующего в состоянии просветленной прострации.
— Зажечь, что ли, молнию с остатками керосина? А не то — включу-ка я для подъема энтузиазма лампочку Ильича...
Тихомиров промолчал, и без его указаний старик не посмел расходовать аккумулятор, питавший сеть пограничной службы, пока не наладили в городе захирелый движок.[38]
— Интересно узнать, Леонид Иванович, правда ли где-нибудь, на другом конце созвездия Гончих Псов, уже достигнуто будущее, к которому все еще приближается наша боевая планета?..
Начальник не реагировал. Расслабленно привалясь к косяку балконной двери, он следил как прикованный за полетом венценосного диска. Если б не биение синих сосудов на худосочном виске, можно было подумать, что у Леонида Ивановича отлетела душа.
Проферансов осторожно потянул его за рукав:
— Товарищ начальник! не будет ли вашей команды мне спать ложиться?..
Леня как ни в чем не бывало повернулся к секретарю:
— А, это ты, Савелий? Я все хочу, все забываю спросить тебя — знаешь о ком? — О твоем однофамильце. Помнится, в дальних родственниках ты числил ученого барина... Извини, я слишком рассеян, чтобы сейчас работать. И голова немного звенит. Стели постель живенько, тащи перину, подушки. Переночуем вместе. И расскажи мне, пожалуйста, друг Савелий, все, что о нем знаешь. Быть может, твои анекдоты скрасят мою бессонницу.
На восковом лице Тихомирова запечатлелась улыбка. Никогда он так бледно, так кисло не улыбался. Да и улыбался ли он когда-нибудь раньше? Этого Савелий Кузьмич не мог припомнить.
— Почему же анекдоты? Мне биография Самсон Самсоновича доподлинно известна. Я, если понадобится, могу про них жизнеописание составить. Из точных фактов. Только ведь вы, Леонид Иванович, все равно не поверите...
Старик от усталости с ног валился. Но ему уже не терпелось выступить этой ночью в роли историографа, оттесненной в другое время заботами секретаря, денщика, адъютанта и рассыльного на побегушках. На сияющем паркете они расстелили перину, и Тихомиров, не раздеваясь, улегся, одним глазом в окошко, где лунное пламя светило почище лампочки, вторым — на возбужденного Савелия Кузьмича. Тот как визирь в нижнем белье восседал на подушке и, приготовляясь рассказывать, затягивался папироской.[39]
Мелодичные звуки рояля, струясь в ночной тишине, аккомпанировали настроению.
— Только уж вы не перебивайте, — предупредил Савелий Кузьмич и хорошо прокашлялся.
— Не пророню ни слова, — отозвался Леонид Иванович с непонятной уступчивостью. — Ври, что хочешь: я должен знать правду.
Глава пятая. ЗЕМНАЯ И ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ С. С. ПРОФЕРАНСОВА
Давным-давно, в девятнадцатом веке, жил в родовом поместье один знатный барин — Самсон Самсонович Проферансов. Был он большой филантроп, теософ, диоген и отчасти библиоман. Производил научные опыты по отысканию камня, посредством которого дураки хотят раздобыть золото, а мудрые — докопаться, в чем же все-таки скрыт смысл жизни. В часы досуга Самсон Самсонович, сидя в драдедамовом кресле, почитывал романы Тургенева и Гончарова в подлинниках, сочинял едкий трактат «О судьбе двуногих», писал дневник и вел интимную переписку с химиком Лавуазье, который тоже был ужасный филантроп и большой оригинал, хотя поменьше нашего — по причине старческой слабости к цыганкам и ресторанам.
Наш ученый барин ненавидел шумиху и жил, затворясь в деревне, с нем-кой-экономкой и милой русской няней Ариной Родионовной. Уже в зрелом возрасте Самсон Самсонович сватался к дочери губернатора и поначалу был обнадежен светской кралей, которая, раздразнив сердце поклонника, укатила из-под венца с красивым гусаром. С тех пор он беспрепятственно погрузился в науку, и, бывало, съедутся к нему в имение любопытствующие дворянчики — Проферансов и вылезает на свет, как медведь из берлоги, небритый, в раскисших валенках, в растерзанном казакине, и тотчас каждому гостю руку сует здороваться, испачканную по локоть свежеполученным веществом. Те жмутся, мнутся, но отказаться не смеют, и, глядишь, от их манишек одна мишура болтается. А приезжих барынек за бока хватает — теми же крючковатыми пальцами, которыми только что, может быть, человеческую глисту изучал. Они визжат, бегают от него по всему замку, а он как наступит валенком на шлейф, так и оборвет к чорту. Эдак он постепенно гостей от себя отвадил...
Или, как Лев Толстой, с которым он тоже поддерживал дружескую переписку, брал Проферансов в дом обыкновенную дворовую девку, обучал ее между делом кое-какой пунктуации, а после, под видом племянницы, сплавлял в Петербург замуж, формируя тем самым кадры тогдашних интеллигентов. Но все эти вольнодумства ему с рук сходили, потому что Самсон Самсонович пользовался почетом у самого Государя. Царь Николай Павлович не раз его агитировал перебраться на постоянное жительство в нашу Северную Пальмиру, суля денежный пост придворного звездочета. Таким шахматным шагом душитель декабризма рассчитывал замедлить растущее в стране возмездие, на что неподкупный ученый категорически ему возражал:
— Нет, Ваше Величество, эта карта бита. Завтра с попутным ветром я уплываю в мои Пенаты. Мне на роду написано помереть в провинции, вблизи забытого Богом города Любимова, который — вот увидите — себя еще проявит. Вы же, Ваше Величество, и вы, господа-комиссары, сенаторы и губернаторы со своими завлекательными дочками — вы все плохо кончите.
При этом Самсон Самсонович звонко щелкал пальцами, издавая треск спущенного курка. Они думали — он шутит, и натянуто улыбались, и дивились ребусам знаменитого филантропа. То-то старик, небось, пощекотал амбицию, когда в один чудный день 1917 года прочитал в газете, что вся эта гоп-компания угодила под трибунал...
— Что ты! помилуй, братец!.. Как так — прочитал в газете? Какие могут быть газеты, когда твоего барина о ту пору наверняка и в живых-то не было?!
— Ах, товарищ Тихомиров, а еще обещали!.. Неужели ж я не вижу, не учитываю некоторой необычности в биографии Самсона Самсоновича? Да я... да он... Ну вот, я и сбился, и забыл о чем речь...
— Ладно, Савелий, — молчу. Плети дальше. Ты говорил, каким большевиком показал себя Проферансов в споре с царем Николаем...
— Ничего он не показал. Это вы сами показали. Самсон Самсонович вел невинный образ жизни, как Робинзон Крузо на своем заброшенном острове. Баррикады не строил, в барабаны не бил и лишь барабанил пальцами по стеклу, поглядывая с интересом на занесенные снегом кусты и сучья. Окна у них в усадьбе прямо в сад глядели и были заказаны в Долмации из бемского стекла. Вот он и созерцал в переплете вымыслы мироздания, покуда немка-экономка не скажет ему, повздыхав за дубовой дверью:
— Барин, кушать подано. Пожалуйте к столу. А он — совсем как вы давеча подкрепиться по-человечески не нашли свободной секунды — с горечью отвечает:
— Эх, — отвечает, — Глаша, нам не до обеда! Как вернуть на землю потерянную любовь? Я над этой тайной голову ломаю, а ты ко мне с вермишелью суешься. Куда бежать?
Отобедает и опять за мучительные раздумья, и долго ли, скоро ли барабанил он, музыканил по бемскому-то стеклу, но только вдруг говорит своей немке:
— Слушай, Фрося...
— Она же — Глаша!..
— Стало быть, за тот срок успел сменить экономок. Чего придираетесь? Итак: — Слушай, Фрося. Собери мне к завтрему саквояж с теплым бельем. С попутным ветром я уплываю в Индию.
Сказано — сделано. Раскидав по морям, по волнам свои доходы, Самсон Самсонович Проферансов на русском фрегате «Витязь» отбыл в Индию.
...Индия! Где взять слова и краски, чтобы нарисовать твою гравюру, манящую мечты путешественника? Возьмем ли мы нашу робкую весну в бутонах, или выберем пышный полдень в разгаре лета, обратимся ли к россыпям осени, соперничащей с палитрой Тициана и Левитана, — нам все равно недостанет дерзости вообразить великолепие Индии. Истинное представление о чудесах той страны способна составить лишь русская зима — с морозами свирепыми, как тропический зной, с лианами по стеклу, с козерогами по льду и волшебной кристаллографией каждой Божьей снежинки, порхающей, словно птичка, миниатюрная птичка-колибри. Под пальмами, на студеном безветрии, гнездятся слоны в сугробах, сверкают бизоны, тапиры и возвышенные жирафы тянут из ветвей заиндевелые шеи. Приедете в лес по зиме на лыжах, разинете рот и не знаете, где вы находитесь — в Индии или в России. Господи, значит все-таки — Ты любишь нашу нищую землю, если одел-нарядил ее в этакую красоту?..
Через четыре года Самсон Самсонович подрулил к родному берегу.
— Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! — обратился он ласково к няне Арине Родионовне, сидевшей у ворот, пригорюнившись, с фельдъегерем в зажатых руках.
— Проснись, Михеич. Никак барин причалил, — сказала няня и, воткнув с размаху в сугроб захмелевшего усача, пошла светить дорогу жестяным фонарем на палке.
Целый месяц Проферансов не показывался из мрака: переписывал манускрипт, полученный в Индии у тамошних атаманов. Потом слег в малярии и уж больше не вставал, лишь одно повторял обветренными губами:
— Передайте Лавуазье, сообщите Льву Толстому, мы крупно просчитались в своих расчетах. Смысл бытия состоит не в том, чтобы... а в том, что...
Тут он умолк, не сумев досказать самого главного.
Всегда так бывает. Живет человек, лелеет планы, подмигивает себе изнутри со шпионским видом: держись, Володя, еще чуть-чуть осталось! А как дойдет до выяснения, в чем главный секрет, кожу со спины обдирает о вылезающие прутья матраса, а выразить слов нету. Заколачивай!
Ну, прекрасно, заколотили, погребли по всем правилам, — стал являться. То ли его душа неустанного следопыта так соскучилась по отчизне, что не смогла одолеть притяжения, то ли ему приспичило довести до закругления найденную идею, — уж я сам не знаю, чем объяснить такой непонятный казус. Но едва наступает вечер и все садятся ужинать, Самсон Самсонович тут как тут и ворчит, и слоняется по галерее в бестелесном составе, а потом что-то пишет в запертом кабинете. Вся родня к его появлениям уже настолько привыкла, что даже пугались, ежели барин почему-то запаздывал, почитая его за доброго вестника и хранителя семейных традиций, в наш сволочной век невозвратно утраченных.
Вы спросите, конечно, — откуда взялась родня? Предвижу недоуменный вопрос и спешу рассеять. Во-первых, существует предание, что обольстительная дочь губернатора подкинула-таки жениху анонимного недоноска и Проферан-сов по-благородному покрыл женский грех. Во-вторых, у меня родилась дополнительная гипотеза, по которой Самсон Самсонович перед кончиной успел-таки жениться на родной кухарке и старой подруге детства — Арине Родионовне. Получается по этой гипотезе, как я уже толковал, что мы с вами, Леонид Иванович, имеем большие шансы принадлежать к древнему корню Российского Любомудрия. Но вернемся в наши Пенаты.
Прошло сколько-то лет, и вот однажды папа с мамой вечеряют в старинном доме, а дедушка и носа не кажет. Они, коротая часы, тревожно переговариваются, вспоминают былые дни, когда дочка Танюша гостила на каникулах и все боялась, глупышка, что призрак ее слопает.
— Что ты, Танюша, — забыла? Ведь это же наш дедушка, наше доброе привидение, и было б дурным знаком, если б оно рассердилось и перестало охранять наследственное гнездо...
Беседуют они час-два, грустят о прошлом и все прислушиваются — не заскрипят ли дощечки на галерее, по которым кроме дедушки никто уж не смел ступать. Или, сойдя с антресолей, приглядываются в надежде, не зажглась ли в пустом кабинете несгораемая свеча. Но нет, всюду темно. Тихо. Лишь могучие дубы в парке тревожно шумят.
Один вечер миновал, второй, третий... безрезультатно! Не выдержало сердце родительское: верно, с Танюшей несчастье! Сорвались в Москву, к дочке, которая уже успела кончить консерваторию и, сделав хорошую партию, имела детей. Что за притча! В Москве тоже все спокойно, дети здоровы, Танюша весела, потолстела, и между нею и затем все как будто течет нормально. Зять скалит зубы:
— Просто дедушка решил наведаться в Индию...
А спустя еще сутки прискакал на поезде управляющий, весь в копоти, и сообщил, что в первый же вечер, как папа с мамой уехали, вспыхнуло родовое поместье, точно факел, и когда бы кто ночевал в опустевшем доме, не уйти бы тому из пламени, вас чудо спасло.
Начиналась революция. От богатейшей в уезде фактории вился по ветру дым.
— Вот видите! — сказала мама, складывая чемоданы во Францию. — Я так и думала. Вы не верили в дедушку, а он потому три вечера подряд не являлся, что чуял беду и сигналил нам по-семейному, что в усадьбе неладно и пахнет керосином. Спасибо старому другу за последнее предупреждение. Что ж, спалили пристань, выкурили хозяина, прощай, изгнанный призрак, прощай навек!
Однако эмигранты ошиблись. Имение их дотла сгорело, это правильно, но Самсон Самсонович остался с нами и даже расширил поле своих вылазок.
Рассказывал мне, по пьянке, один пожилой чекист. Зашел он в начале нэпа с группой красноармейцев в чайную погреться, а кстати составить бумагу об изъятии змеевика. Вдруг у чекиста в ухе пискнуло, затарахтело, забарабанило в перепонку, как если б ему дунули в трубку, сказав:
— Але, але, позвоните Лавуазье, спросите Троцкого — кто воротит сердцу потерянную любовь? Кто охватит глазом выдумки мироздания?..
Смотрят — поодаль, возле титана, старик с интеллигентным лицом, не говоря ни звука, прихлебывает чай и читает газету. Пока сообразили потребовать документы — встал, застегнулся на все пуговицы, приладил поплотнее картуз и, выпустив струю сивого пара, исчез в чаду и гудении клокочущих кипятильников. Кинулись к месту взлета — медный пятак тускнеет перевернутым двуглавым орлом, да мокнет газета «Известия», свежий номер, вечерний выпуск. А поверху, по потолку, сырые следы валенок удаляются в направлении тарахтящего вентилятора, и чудный голос вплетается в грохот змеевиков: «Мы опять просчитались в своих расчетах. Но город Любимов себя проявит!»
За дверь — ни души, тишина, снег от луны искрится, поскрипывают полозья на другом конце России: «чекист-проспись-приснись....» Ну и мороз!
Этот чекист, между прочим, одну зиму нес караульную вахту на даче Валина в Норках, а рядом, за бревенчатой стенкой, Иван Петрович лечился и сочинял по ночам первый план патилетки. Попишет Иван Сергеевич, на счетах пощелкает и во втором часу на цыпочках выскальзывает проветриться — в простом пиджаке, без шапки, ручки в брючки. На дворе, на скрипучем снегу переминается, озирается, нет ли кого поблизости, и, закинув лысоватую голову, — начинает...
Выл на луну Галин вдумчиво и методично, выл Николай перед смертью. Всякую ночь, как была луна. Повоет, немного послушает — все ли тихо, и снова зальется и до тех пор кукует, пока вконец не иззябнет, и тогда бежит, зеленоглазый, со всех ног — на счетах щелкать и дальше писать, как нам двигаться по намеченному пути. И долго-долго не тухнет в светелке таллиннская лампада...
Вы спросите — какая внутренняя связь между этими фактами? Абсолютно никакой внутренней связи. Но коли даже у Лялина, у Петра Кузьмича — хотел бы я подчеркнуть, — бывали свои настроения, то почему бы их не иметь хорошему русскому барину, который и вреда никому не сделал, и в запредельные высоты проник более надежным путем. Просто феноменально, как это люди, верящие любой чепухе, не хотят понять серьезных вещей. Вот вы, Леонид Иванович... А ведь и в вашей биографии не все гладко. Нынче-то вечером вас так на луну потянуло, что я уж думал — как Нелин начнете.[40] Вы — святой человек, выдающийся полководец, каких не знала... Да вы никак уснули под мою песню? Вот те раз! А я еще до середины не дошел... Дрыхнет проклятый. Умаялся на генеральском посту. Ишь, бельма-то закатил, косой чорт, прости, Господи!..
Эх, Леня, Леня, дурная твоя башка! Думаешь, заполучил по наследству проферансовский манускрипт, выучил барскую азбуку — и все в ажуре? Шалишь, брат. Ослабло твое влияние. По себе чувствую. Еще неизвестно, куда повернет колесо фортуны. Ну, что вздыхаешь? Спи, укрепляй здоровье. Вот спуте-шествует моя матушка к попу Игнату, и, Бог даст, поправишься, испарится твое безумие. Потому что все это одна чара и более ничего. Потому что уже ходят слухи о твоем чернокнижии. И скоро заговорят, все заговорят: «Что с ним связываться, с Косоглазым? Еще отвечать за него придется перед военным судом!»
Да подвинься ты, кобель. Уж и во сне толкаешься. Ладно. Лягу в ногах. Можешь не волноваться. Не продам. Я тебе и сторож, и советчик, и нянька. Арина Родионовна. «Руслан и Людмила». Индия. Мне твою биографию еще хочется сочинить. А все некогда. Кипятильники. Змеевики. Самсон Самсонович. Владимир Ильич. Россия. Спи.
Глава шестая. ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА
Голубь набрал высоту, описал круг и, недолго думая, взял курс на Москву. Ему было без надобности вычерчивать план полета. Он шел наобум, по прямой, повинуясь голосу крови. Родимая голубятня влекла его — как финал неоконченной повести, восстав перед взором Автора, вытягивает в струну склизкий моток сюжета. Пусть неистовствуют герои и мечутся по жизненной сцене в бесплодных попытках продлить бремя существования. Развязка уже известна вдохновенному Мастеру, и он потирает руки, предвкушая конец работы, и мчится к цели, как голубь, выпущенный из корзины.
Зачем же в груди летуна заговорил рассудок? Зачем через крутое плечо он глянул с тревогой назад и заболтался в воздухе, будто наново выбирал скорость и направление? Не выбирай! Не обдумывай предначертанного маршрута. Доверься вечности. Не подсчитывай километры. Выключи будильник и закрой календарь. Лети напрямик, по вдохновению. Куда ты? Опомнись! Ты же — не человек, ты — голубь! О, как часто мы гибнем, не рассчитав своего мастерства...
Секунда сомнения, миг борьбы — птица, забыв о долге, уже повернула вспять, с удвоенным рвением ворочая отяжелевшими крыльями. Но измена врожденным принципам у птиц не проходит даром. Опозоренное создание, казалось, потеряло устойчивость и, снизившись, петляло, словно заяц, среди улиц чуждого города. Колокольню с грехом пополам голубю удалось миновать. Двойным прыжком он проскочил сеть проводов над крышей, и стеклянная дверь балкона ослепила предателя. Не заметив ладоней, протянутых к нему в ожидании, прыгун с налету врезался в стену и скатился окровавленным комом под ноги Леонида Ивановича.
— Что, голубчик, уйти захотел? — в другой раз не захочешь! — сказал Тихомиров, склоняясь над трупом репатрианта. — Раскусил я твою повадку, и вправду — почтовый голубь. Посмотрим, какие вести посылают через кордон внутренние враги...
Аккуратно, чтоб не испачкаться, Леня отделил от птичьей лапки латунную гильзу и вытянул тугую бумажку, перевязанную ниткой. На одной стороне квадратными буквами был обозначен адрес: МОСКВА. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК Ном. 100001. АНАТОЛИЮ СОФРОНОВУ. Почему-то составитель послания отказался от конспирации, и Тихомиров без труда разобрал ясный убористый почерк.
Здравствуй, Толя!
Пишет тебе из Любимова твой закадычный друг и бывший сослуживец Виталий Кочегов. Помнишь, Толя, как мы гуляли по притихшей Москве и, рассуждая о прочитанных книгах, обменивались новостями по технике безопасности? Что мы тогда понимали, желторотые топтуны? Я считаю, все это был один чудный сон. Однако, Толя, мы живем в такое время, когда сны сбываются. Тогда мы, как дети, мечтали об аппарате мозгового обслуживания, который бы фотографировал мысли в голове человека. Теперь могу тебя порадовать, такой аппарат существует, и даже более техничный по сравнению с нашей утопией. Чем записывать чужие мысли на пленку, лучше их сразу направлять по хорошей дороге. Верно, Толя? Мне в результате розыска стало известно, что Тихомирова оболгали завистники и догматики-рутинеры, и надо еще разобраться, не происки ли это какой-нибудь иностранной разведки? Я своими глазами видел, как он расправляется с американскими шпионами, с приведениями в скафандрах и другими пережитками прошлого, и решил здесь задержаться. Но у меня, Толя, сломалась рация, когда я в заблуждении выпрыгивал из генеральского штаба, еще не полностью овладев своими новыми мыслями. Теперь я все осознал и прошу доложить начальнику существо дела.
Посылаю с этой депешей служебного голубка. Уверен в его успехе. Ему случалось переваливать и через горные хребты. А самолеты на город Любимов, скажи начальнику, посылать не надо. С вызовом авиации я допустил ошибку. Не воевать с Тихомировым, а приветствовать его новаторский почин и повсюду внедрять его методы воспитания — вот задача нынешнего политического момента. Толя! Ты меня знаешь и сможешь объяснить в верхах, что я свой парень, а не какой-нибудь абстракционист. Передай моей жене Кате, что я ее скоро выпишу. А с евреями, Толя, мы тогда проявили недоооценку. Евреи — тоже люди. Как ты считаешь? До свидания, Толя. Когда все наладится, я считаю, ты тоже переедешь в Любимов и мы еще чокнемся с тобою красивыми рюмками за мир во всем мире.
Твой Витя.
Прочитав правдивую исповедь, Тихомиров пожалел о судьбе загубленного почтальона. Долети он до столичных высот — и, быть может, слова прозревшего очевидца возымели бы действие и ускорили бы наше признание в прогрессивных кругах. Но, с другой стороны, этот минус имел тот плюс, что Леня теперь знал о появлении в городе настоящего, верного друга, которого в последнее время ему так не хватало. Едва попав в нашу здоровую атмосферу, чуткий разведчик понял, на чьей стороне правда.
— Где ты бродишь, где пропадаешь, мой неизвестный брат? Не скрывайся! Услышь этот голос, тоскующий в одиночестве, и приди ко мне!.. Витя, приди...
И словно в ответ на зов, посланный в городские пределы, с неба донеслось отдаленное механическое жужжание. Вскоре оно перешло в мерзкий стальной скрежет, от которого стонала земля, звенело дерево и, как припадочные, тряслись кривобокие домишки, рассыпанные по косогору. В двух шагах от базарной площади, немного не добежав, Тихомиров упал, оглушенный, на спину, на булыжную мостовую...
Самолет с жутким ревом вынырнул из-за леса. Прямо скажем, то не было чудо искусства новейшей ракетной формации, а всего лишь — самый нормальный, средней руки бомбардировщик, дошедший до наших дней еще со времен Сталинграда. Распластавшись, как кошка с нацеленной мордой и прижатыми ушами, он мчался по воздуху, виляя телом, весь обтекаемый, капризный, полный неудержимых намерений. Такого красавца с добрым грузом на нашу дощатую ветхость хватило бы за глаза, а тут позади, за флагманом, гудела на подхвате целая эскадрилья. Видать, пришла резолюция оставить от Любимова одно мокрое место.
Леня лежал, глядя, как падает, метя ему в лицо, неприятельский самолет. Что было делать? Его лицо, растянутое по булыжнику, во всю ширину базарной площади, служило отличной мишенью, и летчик знал, что прикончить лежащего на спине человека так же просто, как взрыть фугасом лесную пустошь. Вот именно, знал и видел, что впалые щеки Леонида Ивановича поддаются ожогу не хуже, чем склоны оврагов, заросшие сухим молочаем. Что его губы, усеянные бугорками болотистой сыпи, бессильны отвратить занесенный над ними удар. Что глаза... Подождите! Какое сравнение нам следует срочно придумать для человеческих глаз, не имеющих иного оружия, чем это отчаяние, устремленное ввысь, в стальную, с каждым мгновением, нет, с каждой тысячной долей мгновения падающую громадину?
Вы, может быть, скажете: до сравнений ли тут, и к чему нести околесицу, когда дело ясное, и стоит ли прикрывать нескладной, старомодной метафорой поверженного героя? Не вернее ли все представить, как Фейхтвангер с Хемингуэем, в спокойном, цивилизованном тоне: «Авиатор нажал рычаг. Точка. Потекли мозги. Застегиваясь, он слушал, как в унитазе шумит вода...»
Не согласны?! Когда б у нас была хотя б одна батарея, хоть какой-никакой плохонький карабин, мы бы не стали потрясать небосвод грубыми воплями. Но где справедливость?! У них — аэропланы, газеты, журналы, радио, сумасшедшие дома, телефон, а у нас — ничего, ну понимаете, ничего нет под руками. Оголенное воображение. Так неужто же мы, придавленные к земле и ждущие смертного часа, не кинемся навстречу и не ткнем в урчащую морду первой пришедшей на ум чудовищной кровоточащей гиперболой?!.
Итак, начнем сначала и попробуем восстановить сцену битвы в ее натуральном виде, учитывая, однако, что ведь и у нашего Лени была голова на плечах с кое-какой начинкой.
Представьте сперва — высоко-высоко в небе — пикирующий бомбардировщик...[41]
Бомбардировщик, представьте, пикирует с ужасающей скоростью...[42] ...с убийцы.
Тот, все еще пикируя, с удивлением замечает...[43]
...в морду зверю, готовому впиться когтями...[44] ...и воткнулись в небо копьями остроконечных вершин. Как будто...[45]
...рычащему аэроплану...[46]
...вверх:
— Уйди, блядь, уйди, сука, а то напорешься!..
Когда машина ушла в зенит и послушными виражами отвалила за городские пределы, увлекая своим примером остальную джаз-банду, Тихомирову показалось, что у него на лбу лопнула ветвистая жила. Ему стоило напряжения приподняться на локте и послать врагам вдогонку внушительное напутствие. Те не оборачивались. Километрах в семи от города они всласть отбомбились в болото, сочтя, должно быть, что гнилые кочки подозрительны по камуфляжу и тут расположен главный любимовский арсенал. А горы лежалого хвороста померещились им с высоты бастионами монастыря...
С каким удовольствием Леня подорвал бы окаянную стаю на ее собственных бомбах. Но дальний расчет стратега возобладал в нем над жаждой мщения, и он, едва в лесах утихло эхо, утвердил в сознании летчиков приятную уверенность, что город Любимов, как сами видите, смешан с грязью и зарево пожаров, застилая картину, танцует над обугленными телами ревизионистов. В сложившейся обстановке нам было выгоднее на время притвориться погибшими и накапливать силы для сокрушительного удара.
— Товарищ Главнокомандующий, разрешите перейти в ваше распоряжение, — прозвучал над Леонидом Ивановичем негромкий тенор.
Преодолевая ломоту в спине, Главнокомандующий повернулся на другой бок. Первое, что он увидел, были ноги в лаптях и в онучах, заправленных, однако, ловкими тугим винтом, на манер солдатских обмоток. Лапти тоже были расставлены по-военному: пятки вместе, носки врозь.
— Я отставной сыщик-универсал Виталий Кочетов. Арестуйте меня. По вине моей портативной радиостанции противник получил наши координаты. За этот налет я несу политическую ответственность...
Молодой оборванец стоял навытяжку. Большепалые, тяжелые руки говорили о застарелой любви к слесарному инструменту. Курносая физиономия смотрела на командира прямым, честным взглядом. Именно таким Леонид Иванович рисовал себе недавно этот загадочный образ.
— Здравствуй, Витя. Я рад с тобой познакомиться, — сказал он, поднимаясь с земли. — Пока не попер народ изо всех щелей, давай поговорим. Хочу поручить тебе одно задание: ты должен мне помочь построить волновик-усили-тель, который бы на больших расстояниях...
— Извините, начальник, — перебил парень вежливым тенорком. — Сперва, я считаю, меня следует наказать. Я должен нести ответственность за допущенные ошибки.
— Да! — воскликнул Леня, все более радуясь редкой находке. — Ты будешь нести ответственность. Отныне, Витя, ты станешь моим другом и первым заместителем!
И подойдя к неофиту, он поцеловал его в тугие, по-мальчишески надутые губы...
Вторую неделю горели болотистые леса, подпорченные зажигалками. Пожар на болоте потушить не так просто. Загасишь в одном месте, пройдет день-другой, и вот уж новый участок начинает дымить, хотя, кажется, и дымить-то нечему: одна вода с гнилью, и вот эта гниль дымит. Бог его ведает, какими путями распространяется по лесу огонь-змееносец. Под землею он что ли просачивается от участка к участку, потому что настоящего пламени сроду не увидишь, а вся земля в куреве, ну, и деревья тоже постоят-постоят в дыму и незаметно превратятся в готовые головешки.
Большого вреда для человека от этих пожаров нету. Уж очень они медлительные, затяжные. Бывалые люди говорят: «Пущай тлеить, к жиме шамо по-гашнечь». Однако воздух в городе приправлен дымком, и от этого, как потянешь ноздрями, на душе становится беспокойно и сладко: все как будто чего-то ждешь. А чего нам ждать?..
Проводка сигнальной службы тоже частенько портилась и давала осечку. Леонид Иванович каждое утро гнал трудовые дружины в дальние лесные районы — где тушить, где починять, а где досматривать, не истлел ли за ночь какой-нибудь новый кабель. И был один случай, когда два старика не вернулись с боевого задания: ушли за границу к сродникам и там остались...
С июня дожди зарядили и гари поубавилось. Но хотя поубавилось гари, подпочвенный враг продолжал тихой сапой поджигательскую работу. Чуть ветерок подует, и, смотришь, опять донесло до Любимова прогорклый, шальной запах, а то и хлопья сажи. Вдобавок в этом году от переизбытка влаги обещали не уродиться хлеба.
Частые бури и грозы мешали подъему земледелия и скотоводства. В кол-добинском колхозе молнией убило быка. Гигантские стрелы, чиркая над сырыми полями, пугали промокших баб. У одной девки под влиянием грома получился выкидыш: сам величиною с котенка, но, между прочим, с хорошо развитым членом, а личность при бороде и усах. Ладно — дохлый! закопали. Из деревень потянулись в город конопатые ходоки.
— Что вам надо? Хотите — подымем у вас в деревне металлический громоотвод? — предлагал Тихомиров крестьянам достижение техники. Но хитрые мужички, сгрудясь на заднем дворе, шумели, что эту дуру они и сами подымут, а ты вот лучше дождик заворожи, чтобы, значит, того-сего, вызывать осадки по точному расписанию. Когда же Леня указывал, что передовая наука на ворожбе и чудесах давно поставила крест, ходоки, как сговорившись, вспоминали попа Игната. Дескать, по дошедшим сведениям, проживает этот исключительный поп за Мокрой Горой, отсюда верстах в семидесяти, и уж коли отслужит молебен, устанавливает в той глухомани — хошь вёдро, хошь ненастье, прямо по заказу. А как-то раз делегаты намекнули, почесываясь, что ежели Тихомиров чудесами заниматься уже более не способен, то на кой он ляд тогда нужен со своим чернокнижием. И кто-то засмеялся...
Безыдейные выступления Леня глушил на месте, но, вправляя мозги, замечал: в государстве появилась утечка, и почему она появилась — решить трудно. Может, в борьбе с неприятелем надорвал он свою кишку, а может, еще раньше пошла на убыль его волевая сила.
Кто скажет: где коренится падение великих династий? Когда начался закат Европы, упадок Рима? Возможно, в самый полдень, в самый что ни на есть запал славы, некий предусмотрительный гений уже отчаливает незримо от наскучивших берегов. Возможно, какая-нибудь историческая держава только-только показалась на свет и не успела еще развить свою промышленность и воздвигнуть себе на земле памятник архитектуры, а в таинственной книге уже написано заключение, что через энное число часов ее сметет иная историческая
держава, которая, в свой черед, кончит тем же смятением. Вот мы с вами сидим, лясы точим и ноги чешем, а там, за окном, быть может, по неизвестным причинам Древний Рим закатывается или, того хуже, — всему свету наступает конец и пора нам, как говорил Сергей Есенин, собирать манатки...
Леонид Иванович целыми днями пропадал на хозяйственном фронте. Либо сам следил за тишиной в городе и в сумрачном одиночестве делал обходы по улицам, истощенный, с провалившимся взглядом, с опухшими сосудами, оплетавшими его чело синим жгутом молнии. У него завелась привычка появляться в публичных местах, окутав свою персону покровом неузнаваемости. Под видом простого учетчика или колхозного бригадира, не внушавшего опасений, он заглядывал в пивные, где околачивался народ и выдавали по талонам дневную порцию водки. После печального эпизода с упившимся арестантом — ввели строгий лимит: 150 грамм на брата. Полностью упразднить эту моду — на такую затею даже Тихомиров не решался: попробуй отмени вино в России, — революция вспыхнет...
— Скажи-ка, братец, что ты думаешь о нашей внешней политике? — подсел Леонид Иванович к безногому инвалиду войны, который уже осушил свой законный стаканчик и прицеливался ко второму, добытому, видать, нелегально, по краденому талону.
— Чего о ней думать, добрый человек? Политика у нас прямая, справедливая. Миролюбивая, можно сказать, у нас политика... Будь здоров!
И, спровадив другой стаканчик, скроил вкусную рожу.
— Только винцо-то у нас, сам знаешь, — поддельное...
— Это почему же поддельное?! — изумился Леня столь откровенной наглости. Приняв двойную порцию, мерзавец раскраснелся, распарился, глаза у него тоже достаточно посоловели, язык заплетался — чего еще? Но, заплетаясь, настаивал, что винцо все равно поддельное, получаемое из обыкновенной воды — путем гипноза...
— Да откуда все это известно? Ведь ты же сейчас — пьян, ведь пьян ты, а? Ты же чувствуешь внутри физическое наслаждение?..
— Сейчас-то я чувствую, — отвечал инвалид, облизываясь, — но сам посуди: пьешь-пьешь эту фашистку, а голова с похмелья все равно не болит. Разве ж это винцо?
Калека всхлипнул. Непритворные, пьяные слезы градом покатились по промасленной гимнастерке. Напрасно Леонид Иванович пытался его ободрить:
— Ну чего ты, братец, плачешь? чего расстраиваешься?
— Да как же нам, брат, не плакать? — простонал герой войны и перешел на шепот: — Ведь царь-то у нас колдун... А царица — жидовка...
В тот же вечер между супругами произошло объяснение. Забежав перед сном поцеловать у жены ручку, Леня мимоходом затронул национальный вопрос:
— Ах, Симочкка, повремени со своими нежностями. Право же, в тебе есть что-то испанское...
— По матери и по паспорту я — русская, — пояснила Серафима Петровна со всегдашней готовностью. — А папа — наполовину грек, наполовину еврей.
— Еврей? Не может быть! Ведь ты же — Козлова!
— Моя девичья фамилия — Фишер. Козловой я стала недавно, после первого брака...
— Здрасьте! Ты была замужем? Отчего же я раньше не знал? Может быть, у тебя и дети были?
— Почему — были? У меня и теперь в Ленинграде, у родителей мужа, с которым я давно состою в разводе, воспитывается ребенок. Девочка... О, Леонид, не смотри так ужасно! Там сам никогда ни о чем не спрашивал. Я не утаивала, поверь...
Но Леня уже не верил. Иллюзии разлетелись, как шпильки, сорванные с туалетного столика заодно с салфеткой. Хрустнул флакон. Спальня наполнилась парами пролитых духов. И тогда, собирая хозяйство, женщина огрызнулась:
— Ты сам виноват... Супруг — называется... Много я от тебя видала за медовый месяц!
Из фарфоровой оболочки вдруг высунулась на митуту прежняя Серафима Петровна и, смерив Леонида Ивановича бойким, уничижительным взглядом, ретировалась. Ресницы поднялись и упали. Запылавшие ланиты погасли. Уста, готовые усмехнуться, свернулись бантиком.
— Прости, милый, прости. Я тебя безумно люблю. Я перед тобой безумно, трагически виновата, — проговорила она протяжным, немного сонным голосом. — Мои чувства к тебе нельзя передать словами...
Хлопнув дверью, Леня оставил эту куклу одну разбираться в чувствах. У себя, на штабной половине, он сменил костюм и поспешно ополоснулся. Его преследовал въедливый запах нечистых женских духов.
С тех пор Серафима Петровна не могла пожаловаться, что муж не уделяет ей времени. Он часами расхаживал перед ее тахтою, как волк в клетке, а она, поджав ножки и наморщив лобик, старательно припоминала:
— Еще на моем горизонте вращался директор клуба. Твой тезка. Леонид Григорьевич. Очень оригинальный и образованный человек. С большим чувством юмора. Мы с ним увлекались Генделем. На прощанье он подарил мне книгу японской лирики с надписью «Ты не Серафима, а Хиросима — я все в тебе имел, я все в тебе потерял». Вот видишь: потерял. Потом за мною полгода ухаживал Тевосян. Армянин. Ревнивец. Ревнивее тебя. Моряк душой и телом. Встретив меня случайно под руку с Изей, он чуть не зарубил Изю тесаком. Изя — это не в счет. Почти подросток. Ярко выраженный семит. Хилое растение. Бледно-голубой цветок Новалиса. Но если б ты мог представить, до чего живучи эти хилые стебельки. Я даже не знаю, рассказывать ли о нем. Вдруг это опять как-то тебя заденет, хотя...
— Рассказывай! Все рассказывай! Всю подноготную! — бурчал Леонид Иванович и грозно притоптывал, пробегая мимо тахты, на которой Серафима Петровна без утайки, с аккуратностью автомата, воспроизводила историю своих сердечных приключений.
— Однажды мы трое суток провели в Озерках на даче и ни разу даже не встали, чтобы полюбоваться природой. Бисквиты и крепкий бульон Изя собственноручно сервировал подле нашей худенькой раскладушки. Такую деликатность я встречала в мужчине еще только раз, у подполковника Алмазова. С ним мы познакомились по дороге сюда, в поезде, в отдельном купе. Старик, но еще очень живой. Я называла его «топ соїопеї», хотя между нами почти ничего не было. Это был почти платонический роман, еще более мимолетный, чем с доктором Линде. Представь, мой милый Леонид, пока судьба не свела меня с тобою, я от скуки немного вскружила голову нашему доктору. Но только дважды имела глупость...
— Замолчи! Забудь! — гаркнул Леня, не выдерживая этой пытки. — Всех забудь! Слышишь? Я один был у тебя в мужьях. Со мною ты должна похоронить навеки свое мещанское прошлое...
А назавтра, когда Серафима Петровна все позабывала и была чиста от дурного прошлого, как шестилетняя девочка, он требовал сызнова кое-что вспомнить, дополнить и уточнить.
— С кем ты путалась до встречи с Чингис-Ханом?
— Каким Чингис-Ханом?
— Ну, этот армянин, который чуть не зарезал... И еще конкретизируй: спала ты с Генделем или не спала? Опять ты хочешь скрыть?.. Отвечай: спала или не спала? Чего смеешься? Смех — смехом, а кверху мехом. Я тебе — посмеюсь!
Нет, не такой уж распущенной была Серафима Петровна, как это ему казалось. С чистыми помыслами, угождая его желанию, она обыскивала себя и собирала с миру по нитке все, что имела в жизни и что могло бы засвидетельствовать ее полную откровенность. А что греха таить — какая женщина, тем более живущая в самой гуще прогресса, образованная, интересная, окидывая мысленным оком свое прошлое, не сумеет сколотить приличную группировку? Мы все хотим, имея с ними дело, чтобы они оставались невинными, непорочными, ну а у них это не всегда получается...
Но он-то ведь знал, что играет с огнем, что, распаляя мужскую ревность, он изнуряет себя как общественный деятель, как глава государства. И тем не менее с упорством геолога продолжал исследовать сердце несчастной Серафимы Петровны. Ибо нету пределов дерзости, проникающей и в тайну белка, и в загадку атома, и в глубокие рудники любвеобильной женской души. Так уж устроен человек, что не может он остановиться на путях познания и удержать свой ревнивый разум, которому сколько ни подкладывай дров — все мало...
Леня до того увлекся научной работой, что даже пробовал снимать психическую блокаду и наблюдал за развитием женщины в естественной обстановке. Затаив дыхание, с ужасом и восхищением смотрел он, как оживает в фарфоровом теле куклы образ прежней, недоступной ему Серафимы Петровны. Ее движения приобретали внезапную угловатость. Она переставала следить за собою и слонялась неприбранная, разбрасывая по комнатам детали своего туалета.
Она швыряла вещи, как солдат на постое, и грубила, и покрикивала, будто не он, не Леонид Иванович, а она здесь хозяйничает:
— Подай мне чулки! Вон висят на рояле. На рояле — тебе говорят! Ты что — оглох?
И лезла в политику.
Когда-то он сам, желая избавиться от ее докучливых ласк, рекомендовал Серафиме Петровне возглавить министерство культуры. Теперь она схватилась за народное просвещение. Она немедля потребовала расширить школьные планы, утвердив для старших классов два романа Фейхтвангера и один Хемингуэя: «Фиеста», «Еврей Зюсс» и «Безобразная герцогиня»[47].
Леня без волевого нажима, а только с помощью логики и простых примеров из жизни пытался ей втолковать, почему мы не можем ввести в учебные курсы ни Фейхтвангера с Хемингуэем, ни Хемингуэя с Фейхтвангером. Получится мирное сосуществование двух разных идеологий. Что скажет Мао Цзедун, о чем подумает Пальмиро Тольятти, когда их известят, что в Любимове, в средней школе, Фейхтвангер сосуществует рядом с Хемингуэем и они между собою не борются и не вытесняют друг друга?..
— Много ты понимаешь в западной культуре! — парировала Серафима Петровна разумные доводы мужа. — И потом — подарил ты мне на свадьбу город Любимов или не подарил? Чьи тут владения? Кто здесь царица?..
Как он любил ее в эти роковые минуты! Как жаждал ответной любви, участия и одобрения этой надменной красавицы, именно этой, а не той, что в другом состоянии допекала его покорным, по-собачьи преданным взглядом. Но чтобы ее взвинтить и вывести из себя и все-таки добиться слияния той и этой, Леня напоминал, какая она царица, ежели стоит ему пошевелить бровями, и она поползет по паркету, как последняя сволочь. И он пришпоривал еще и еще молодую скакунью, дразня ее и подхлестывая, пока в бешенстве она не взлетала на дыбы и, разъяренная, прекрасная, не бросалась к нему с оскорбительными угрозами. Вот тогда, выждав, он включал передачу, и женщина, застигнутая врасплох, вертелась волчком посреди гостиной, и валилась на пол, и стенала от внезапных унизительных приступов страсти, и, как животное, ползла, извиваясь по полу, и молила о поцелуях, а он сидел неподвижно, как истукан, и до себя не допускал.
Но порою бывали сюрпризы, и чем далее шло изыскание, тем они повторялись чаще. Повалившись на пол, Серафима Петровна вместо заданной программы начинала биться и причитать, изливая душу в бессмысленном бабьем кликушестве:
— Ай-ай косой чорт приласкай косой чорт пожалей заморыш горит сладко родить щенят с клыками Фейхтвангера не могу раздавить портки танки идут выну кисту танки идут откусить хочу хохлатый бежим в Ленинград!..
И сколько бы Леонид Иванович ни включал и ни выключал передачу, он уже ничего не мог изменить в самочувствии Серафимы Петровны. Знать, кто-то другой включался на это время в работу и бесчинствовал на полу, завладев ее разболтанной нервной системой. И тогда, чтобы женщина окончательно не лишилась рассудка, Леня погружал ее в сон, и такое средство пока что действовало безотказно. А спустя пару дней в доме опять воцарялся этот, вошедший в привычку, тихий, семейный ад... Одно было прибежище у Леонида Ивановича — верный друг и помощник Витя Кочетов. Для Вити в подвале штаба нашлась келья не келья, чуланчик не чуланчик, а подсобную мастерскую он сам разгрузил от хлама и технически оснастил. Спустишься в подвал — сердце радуется: кругом в образцовом порядке лежат на верстаках, стоят на шикарных полках, висят на гвоздиках — ободья, сверла, буравы, молотки разных фасонов, пластикаты, банки с соляркой, ванночки с гальваникой, паяльная аппаратура. С краю примостились тисочки небольших габаритов и компактная наковальня. Глянешь на те тисочки — подмывает пройтись по воздуху рашпилем и надфилем. Посмотришь на ту наковальню — так бы сейчас, кажись, и фуганул кувалдой.
А посреди инструментария, когда ни зайди проведать, горбится при свете коптилки фигура друга. В разговоры не вступает, вопросов не задает, лишь насвистывает изредка вальсик из кинофильма «Юность Максима». А скажешь ему:
— Витя, — болтик!
— Есть болтик! — откликается Витя и мгновенно плоскогубцами успокаивает анархиста, не желающего смирно сидеть в своем гнезде.
— Витя, — шпандырь!
— Есть шпандырь!
Схватил, подкинул, деряб-деряб-ердык, и будь спок: пришпандорит и за-хендюпит по самую фитяску.
— Витя, — втулка!
Берет дрель и дрищет во втулку, покуда не просквозит из отверстия ответный ветер... Так незаметно, играючи, в порядке разминки, приятели отгрохали фартовый велосипед.
В передаточных механизмах, в сцеплении шестеренок Леня, тряхнув стариною, показал класс. У Вити были иные навыки: он понимал в электричестве и разбирался в теплотехнике. По его инициативе в городе починили движок. Ему же принадлежало смелое начинание по части жидкого топлива, заменяющего бензин. Движок, сколько ни жилься, без горючего не запустишь. Что же делать? — научились делать горючее из растительных масел.
Но в строительстве магнетического волновика-усилителя темпы по-прежнему отставали от жизни. Ведь строить-то выпало на пустом месте, безо всяких там арифмометров и конденсаторов. С одним сопротивлением натерпелись: козни врагов, измена друзей...
Однажды, едва на крепком велосипеде Леонид Иванович замесил по проселку налаживать урожай, в мастерскую сошла хозяйка.
— Спасибо, я — уже, — отказался вежливо Витя от приглашения завтракать. С озабоченным лицом он вмонтировал поскорее в тисочки необработанный брусок и зашваркал напильником. Дескать, прошу извинить, но неотложное производство отвлекает меня от вашего приятного аппетита. Смотреть на
Серафиму Петровну у него не поднимались глаза. Она ослепляла улыбкой, говорящей всегда одно и те же: «Будь ты хоть сам Гарибальди, а от меня, голубчик, тебе никуда не деться».
— Правда, Витюша, — Серафима Петровна поправила прическу безукоризненно точным жестом, от которого у мужчины внутри все холодеет, — правда, Витюша, вам довелось участвовать в разоружении банды Берия? Расскажите... Ах! не рассказывайте! я совсем забыла, какую высокую меру применяют к разведчикам за их несдержанность... Знаете, я тоже когда-то мечтала стать разведчицей. Это так интересно! Опасные связи... Тайные встречи... Трагедия женщины, вынужденной, рискуя жизнью, пить шампанское с каким-нибудь дипломатом, хотя как человек он ей не импонирует, но надо — значит надо, и вот она, хохоча, кладет молодое тело ему на эшафот...
— Неясно мне, хозяйка, на кого вы намекаете, — отвечал Витя сконфуженно. — Вам же известно: я оставил эту треклятую работенку...
Не отходя от станка, он покосился на коленную чашечку, выступавшую из-под пеньюара вполне благопристойно, но слишком уж как-то выпукло, мочи нету смотреть.
— Витюша, бросьте рубанок! хватит маскироваться! Я вас не выдам. Поймите наконец, — я тоже пленница, а не жена этому деспоту. Какой он муж? Я даже не жила с ним ни разу... Бежим вместе! Я помогу вам похитить бумаги у него из сейфа. Военные чертежи. Без них тиран потеряет всякую власть над нами. Он уже потерял. Я вся в вашей власти... Витюша, вы слышите? Я вся в вашей власти!..
Ручейки пота, сплетаясь на животе, опоясывали атлета. Железо жгло кожу. Раскаленный напильник, как скрипка, пел и плакал в руках. Но заглушить речь соблазнительницы — насечка была мелковата.
— ...В Ленинграде по чертежам мы сами построим двигатель. Взметнем новое знамя. Вы станете принцем-консортом. Вице-королем. Фаворитом. Уверяю вас, Мао Цзедун протянут нам руку дружбы. В крайнем случае временно пожертвуем Средней Азией. Отдадим Кавказ. Перекинем пожар в Европу. Не шутите со мной, Витюша! Я не какой-то районный центр имею в виду. Я обещаю вам...
Каких только цукатов не наобещает взбалмошная, потерявшая управление женщина? Но чего хорошенького для нашей родины она сможет предложить? Анархию. Одну анархию. И сплошную междоусобицу. Засады на дорогах, поезда под откосами. С черными знаменами. В розовом пеньюаре. Поезда, оголив коленки, падают под откос. Чашечка. Шестеренка. У нее, у заразы, небось буфера под платьем. Сперва кружева, опосля буфера. Поезда, гремя буферами, падают под откос. Тисочки б не свихнуть. До чего раскалились. Пожар. Взметнув штанами. Не отдам Кавказа. Фаворитом бы, да по Европам. Встань ко мне Европой, милка, я к тебе передом. Пожертвовать? Россией пожертвовать? Опять анархия. В кружевах, в поездах, падающих... Куда, анафема?
С напильником наперевес Витя расправил плечи и преградил дорогу твердыми, непреклонными, как плоскогубцы, губами:
— Не подходи, хозяйка, я ведь и пришибить могу. За Россию, за город Любимов, за сердечного друга Леню я жизни не пожалею...
Долго после этого насвистывал Витя вальсик и думал, насвистывая, говорить или нет начальнику, что у него жена скурвилась. И решил покуда не говорить, не расстраивать Леонида Ивановича, которому и без того расстройств хватало.
Что верно — то верно. Не по дням, а по часам таяла у нашего Лени молодецкая сила, и он уж редко-редко когда прибегал к магнетизму, а больше донимал чистым энтузиазмом. Вот и я по стариковству принес ему заявление об уходе с государственной службы, а он даже спорить не стал и лишь спросил с укором:
— Что, Савелий Кузьмич, и ты бежишь, как крыса с тонущего корабля? Все смотрят по сторонам, и ты туда же?
— Нет, не туда же, — говорю и подхожу к пульту, за которым он сидел, изучая карту местности, — а пора мне в спокойной домашней обстановке приниматься за мемуары про твои, Леня, подвиги, потому что при штабе да при лампочках сигнализации много не сочинишь. К тому же самое время за грядками присмотреть, морковка прополку любит, и народ что-то сделался очень уж вороватым, вчера гусенка уперли, которого ты сам разрешил мне иметь в единоличном пользовании. Так что приступаю вплотную к написанию нашей хроники, о чем по твоему же приказу давно хожу и раздумываю...
— Да ты, я смотрю, зафасонил, — оглядел он меня придирчиво. — В руба-шенцию нарядился, галстук завел, запонки, просто стиляга. Уж не хочешь ли за границу смотаться? Опоздал: нынешней ночью уже ушла из города партия перебежчиков...
— Говорю вам — писать собрался. Куда мне бежать от художественного объекта? Вы мне, Леонид Иванович, еще обязаны паек определить по высшей категории, поскольку я теперь творческий работник и деятель искусств...
Пригорюнился он, вспомнив, должно быть, о пайках, трудоднях и трудностях с урожаем, и поинтересовался рассеянно, какими словами намерен я описать нашу прекрасную жизнь. Вот тут-то я и вытянул из-за спины букет, приготовленный к этому случаю для торжественного прощания с Леонидом Ивановичем. И, водрузив на видное место, поправил галстук, подкрутил запонки и, жонглируя тетрадкой с конспектом, произнес такой монолог:
— Как он красив! Как он свеж! Как он дышит всеми красками и запахами природы, этот роскошный букет полевых цветов, растущих в избытке на нашей влажной почве! Приглядитесь — сколько тут хитрости, изящества и приятной пестроты. Сухопарая кашка рельефно оттеняет мясистую сочность мальвы, и шаловливый лютик целует головку застенчивой маргаритки. Пусть и в нашей повести слова, как цветы в букете, мельтешат и лепечут на все лады. Пусть одно слово будет смеющимся васильком, а другое — гордо бордовым, чванным помпоном клевера, а третье — изысканно-бледным и мечтательно-ароматным, наподобие гирлянды распустившегося жасмина. Пускай слова растут и выгибаются на тоненких ножках, мечутся в глаза, пыхтят и резвятся в дружеском хорово-де, соперничая в устройстве, красоте и отделке лепестков, бубенчиков, фестончиков и гребешочков. Ибо такая пестрота и пышность слога отвечает нашим природным потребностям и знаменует расцвет города Любимова с его красочной биографией и ярким руководством...
— Хорошо-хорошо, — говорит Леня и даже сморкается в носовой платок под впечатлением этой речи. — Пишешь ты цветисто. Но нету в тебе, Профе-рансов, настоящей идейной ясности и задушевной простоты. И слова у тебя, обрати внимание на этот художественный недостаток, все с какими-то ужимками, с каверзами какими-то, и весь ты какой-то вертлявый и ненадежный футурист. Скомороха ты, что ли, из себя изображаешь? Юродивым прикидываешься? Ехидство в тебе, что ли, неизжитое сидит?
Такую навел критику на мое искусство, что не захотел я с ним толковать, где да почему скрыты во мне гнильца и злорадство над человеком. Но что во мне кроме того стыд и совесть имеются, это я показал ему весьма прозрачно.
— А я, как скромная девушка, которая не желает целомудрие потерять! — объявил я и зачем-то выставил одну ногу. И стоя в этой позиции, нарисовал в деталях, как спасались наши девушки от фашистских поработителей. Чтобы отбить у немца охоту к своему белому телу, мазались они дегтем и коровьим пометом, разводили на себе насекомых, пускали слюни при каждом слове и в грязнухах да в дурах отсиживались, поджидая, когда вернутся с победой краснозвездные женихи. Мало ли примеров... В России умные люди издавна дураками слывут, а честные — жуликами, и это не от чего иного, как от совести нашей русской, подсказывающей, что непотребно человеку открывать стыдливую душу, не замарав ее предварительно какой-нибудь пакостью. Иной раз и выругаешься, и соврешь, и даже украдешь немножко или, бывало, на сеновале к соседской жене сделаешь безответственный шаг, и все с единственной целью — сохранить под панцирем невредимую душу, которая, как драгоценность в шкатулке, нуждается в надежном замке...
— А скажи, Савелий Кузьмич, — перебил меня Тихомиров, занятый своими печалями, — тебе не попадалась книга из нашего сейфа? та самая... старинная, в толстой коже...
Выясняется: хранил он ее запечатанную в кабинете, в железном ящике, и как выучил наизусть, больше туда не заглядывал, а ключ носил на шнурке, вместо креста нательного, будучи за все спокоен и в себе уверен. На днях загорелось ему освежить в памяти один параграф об излучении психической силы — хвать, в ящике пусто, хотя замки целы и печати не тронуты. Тут уж меня осенило, что, кроме Самсона Самсоновича, эту реквизицию произвести некому. Покойный барин подкинул нам письменное пособие, и он же, по истечение сроков, забрал свое добро.
— Опять ты с этими сказками! — отмахнулся он устало и, немного помедлив, спросил, не припомню ли поточнее, в каком именно омуте нашей мелководной реки утопили мы по весне милицейскую амуницию. Я так и обмер: ну, братцы, догавкались — кранты мозговому делу. Но вслух сказал командиру в последнее утешение:
— Ничего, не робей, начальничек. Не все потоплено. По избам поискать — еще десяток-другой берданок насобираешь... Гляди-ка — небеса посветлели. Даст Бог, разведрится, урожай сымем. Поправимся, поднатужимся, до осени дотянем. Тогда уж никакой супостат в наши леса не пролезет. Нам бы только, Леня, до осени дотянуть...
А внутри, под панцирем, душа у меня скулила: недотянем, недотянем...
Расставшись с Леонидом Ивановичем, Проферансов в глубокой задумчивости не заметил, как пересек заставу, плетни, огороды и очутился у крайней халупы, приютившейся в ивнячке, на расквашенном берегу неширокой реки Любимовки. Солнышко нежарко покачивалось в темной, тяжелой воде, склоняясь часам к шести. Попискивали комарики. Из лесу слабо несло кислым дымком. У рябоватой молодки, полоскавшей в речке белье, Савелий Кузьмич разузнал об ее сожителе. Тот вдали от шума, в увольнении от государственных тягот, отдыхал, словно дачник, посвятив себя рыболовству. Заслонясь мыльной ладонью, молодка визгливо кликнула на варварском диалекте:
— Сямен! Семка! кудай тый, пес, ухлюпал? тутось ынтылехент тебе шукаить.
— Э-ге-гей, мы здеся, — послышалось неподалеку, из прибрежного тростника.
— Доброго здоровьица, Семен Гаврилович, — поклонился Проферансов удильщику и присел рядышком, на опрокинутое ведерко.
— Здорово, — отозвался не глядя Семен Гаврилович Тищенко, всецело погруженный в созерцание поплавка.
Помолчали. Потом закурили. Угощая самосадом, Савелий Кузьмич посочувствовал:
— В экую даль, товарищ Тищенко, вас уклонисты сослали!
— Никто не ссылал, сам переехал, — возразил бывший правитель и городской секретарь. — Отсюда на рыбалку ходить способнее и воздух для здоровья чище. С чем пожаловал?
— А что? Чай первый... Учтите, Семен Гаврилович, самый первый в городе, — подпрыгнул старик на ведерке, — прибыл я заявить мою верность генеральной линии и сказать, что мы не потерпим...
— Ну, положим, не первый... Намедни доктор Линде тоже подкатывался как потерпевший от царизма. И что его угораздило?..
Савелий Кузьмич засмеялся и рассказал новость, в которую влипла наша придворная медицина. Как вскрылись прошлогодние шашни доктора с Серафимой Петровной, — его из главных врачей разжаловали в фельдшера. А хранил он свою интригу в таком строжайшем забвении, что уж на что Проферан-сов в друзьях у Линде числится и всегда находится в курсе его амурных занятий, так и тот об этом событии только сейчас узнал. И еще разнюхал, что ночью на квартиру к доктору Линде являлась недавно сама царица и уговаривала бежать... Он ее даже на порог не пустил. Выставил в форточку усатую морду и шепчет:
— Идите, идите, гражданочка. Вы — невменяемая. Какой я вам к чорту любовник? У меня с вами и не было ничего...
Тищенко сокрушенно вздохнул и сплюнул в воду.
— А ведь удалая была бабенка...
— Что вы, Семен Гаврилович, — кожа да кости, смотреть противно. Мне лично жирненькие больше по душе... Так вы уж не забудьте: я тоже пострадавший, меня за мои убеждения Тихомиров со службы уволил. Когда вы вернетесь из своего изгнания и встанете у кормила...
По флегматичной физиономии опального вождя скользнула тень недовольства:
— Какое еще кормило? Мне и тут пречудесно. Вот выйду на пенсию, усядусь на бережочке... Знаешь, приятель, — сейчас клев начнется. Бери запасную удочку. Или не мешай.
Проферансов повиновался. Он взял второе удилище и расположился в сторонке. Рыба помаленьку клевала. Река небыстро катила тинистые волны. Покусывали комары. Солнышко пригревало, ветерок обдувал. В Любимове устанавливалась нормальная погода...
С кем ушла из города Серафима Петровна — так и не дознались. В тот день ушло больше двадцати человек, среди них директор школы, бежавший на школьной лошади с казенным тарантасом. В штабе Леонид Иванович также обнаружил потери: денежные обои попорчены утюгом, бритвой, шпильками. В общей сложности беглянка сумела наковырять оклейки тысчонок на пять. Куда только, вопрос, удастся ей сбагрить свои лохмотья?
Тихомиров никого не преследовал. С равнодушием погорельца обходил он родные кварталы, всюду читая знаки несбывшихся начинаний. Вот здесь начинали строить спортивный стадион: успели вырыть канаву и разломать полстены монастырского кирпича. А вон там предполагался Дворец Брака с фонтаном Любви, основанным в честь нынешней изменницы и казнокрадки. Далее, в тумане грядущего, проектировались Дворцы: Науки, Труда, Пионеров, Реалистического Искусства и совсем небольшой Дворец Монтажа и Ремонта Велосипедных Механизмов...
Посреди недостроенных памятников, нерассаженных цветников, в щебне, в известковой пыли дети играли в салочки. Мужик с угрюмым спокойствием, откровенно, у всех на виду, мочился в котлован с незаполненным бетоном фундаментом. И никто не подумал его одернуть, да и сам Главнокомандующий лишь брезгливо поморщился и прошел стороной, не сделав замечания.
Местами, вдоль перекопанного расхристанного проспекта, лежали пьяные. Увы, не путем гипноза, а под влиянием подпольной сивухи, которую начали гнать из гнилого картофеля, довели они себя до этого разложения. И никто не поднимал и не убирал их с дороги Леонида Ивановича. Народ праздными группами скапливался на улицах, галдел, смеялся, любезничал, дулся в очко, в орлянку, резался в подкидного и рассасывался по дворам при появлении Главнокомандующего. Его побаивались. У поваленного забора Леня слышал, как ведьма урезонивает сорванца:
— Будешь фулиганить — сдадим тебя Косоглазому на мясозаготовку...
Что он им сделал? Чем не угодил? Ради них пожертвовал жизнью, надорвал здоровье, а стоило иссякнуть энергии, и сиволапые дикари спешат надругаться над обессиленным командиром. По доброму согласию и для собственной пользы приучались они к дисциплине, освобождались от недостатков, закалялись в труде, участвовали в заготовках, которые проводились с такой заботой, что у жителей, помимо государственных перспектив, сохранялась в резерве кое-какая скотинка. Ведь эта же чертовка, что сейчас внушает своему бесенку недоверие к руководству, умоляла Леонида Ивановича забрать у нее курят. Ведь она была счастлива культурно расти, технически развиваться и, как молоденькая, рвалась в комбайнерши, хотя этакой ведьме не за рулем агрегата ездить, а верхом на метле...
Паническое кудахтанье заставило его обернуться. По проспекту Володарского улепетывала курица. За нею с подоткнутой юбкой, верхом на метле гналась та самая, немолодых уже лет гражданка. Громоздкий снаряд не мешал вдове так работать ногами, что казалось — еще мгновение, и она взлетит. Неужели взлетит? — подумал Тихомиров с тревогой, и тотчас наездница, поровнявшись с начальником, оттолкнулась метлой от земли и взвилась метров на шесть. Мелькнули босые пятки, разнузданные ягодицы и с высоты рекорда баба шлепнулась на соломенную крышу сарайчика, перевела дух и разразилась в адрес курицы потоками отвратительной ругани.
— Что она, спятила? на такой скандал того и гляди народ сбежится! — произнес мысленно Леня, и едва он себе представил эту возможность, как со всех сторон побежали зеваки. — Форменное безобразие! — возмутился он при виде взбудораженной толпы, все еще не догадываясь, что начавшаяся эпидемия всецело зависит от его скачущих мыслей.
Да, на исходе власти, на закате славы — былая сила внушения вернулась к нему сторицей. Никогда еще Тихомиров не обладал такими способностями распоряжаться массами и заряжать их неслыханными запасами энергии. Лишь на свои помыслы не нашлось у него управы, и малейшая мыслишка, незаметный мозговой завиток, глупость какая-нибудь, взбрендившая в голову, принимались окружающими к немедленному исполнению.
Разве дан человеку контроль над своей душой? Может ли он учесть все прихоти фантазии, кипящей в его уме? Он приказывает населению: «Товарищи, без паники!» — а сам в это время смекает, поглядев на громадного парня: «Экий бык!» И вот уже верзила роет землю подковками пудовых башмаков, и, насупясь, мычит, как бык, и бодает прохожих, которые спокойно переносят его удары (ведь сказано — «без паники!»), что еще более запутывает и осложняет положение...
По-деловому, бригадами, или кто во что горазд, они честно выполняли задания Леонида Ивановича, в том числе и такие, о наличии которых он даже не подозревал. Одни, по преимуществу женщины, неумеренно обнажались. Другие, в основном мужчины, сойдясь в небольшие кучки, затевали драки, похожие на дружную коллективную работу: без криков, без лишних стонов. Третьи, главным образом несмышленые ребятишки, уподоблялись домашним животным, которые и в собственном облике, не отставая от человека, влились в собрание и приняли участие в этом альянсе верховной власти и народной свободы.
Куры пели петухами, козы пытались лаять. Корова, мяукнув, перемахнула через плетень. Гигант, возомнивший себя быком, воспрянул духом и устремился к подруге.
— Чтоб ты сдох, проклятый! — хотел осадить Леонид Иванович потерявшего стыд сластолюбца и немного переборщил: парень шумно взревел, опалил своего губителя ненавидящими глазами и рухнул на оба локтя с разрывом сердца.
Слишком буйных и самых последовательных Леня старался свалить с ног легким обмороком. Но все чаще помимо воли у него вместо «усни» вырывалось — «умри! умри!» И тогда усмиренные уже больше не просыпались.
На какой-то момент, собравшись с мыслями, ему удалось заставить толпу оцепенеть и не двигаться. Все замерли в позах борьбы, распутства и одичания. Перед этим лесом воздетых и перекрученных сочленений у самого режиссера не выдержали нервы. Какой-то голос шепнул ему: «А вон тот старичок, изображающий собачку, сейчас все равно тявкнет...» И от этой невольной мысли старичок, действительно, тявкнул, и Леня смешался, и тишина взорвалась новым приступом бешенства...
Бойтесь рассеянных мыслей... Не доведут они до добра... Учитесь думать внимательно, по прямой, идущей оттуда, где покоится желанный финал, по внезапной, чистой и ровной, как стрела, — прямой. Не разбрасывайтесь на мелочи. Не загрязняйте воздух вздорными помыслами. Они опасны. Вы сами не знаете, к каким последствиям они способны привести...
Тихомиров, оттесненный к сарайчику, боялся пошевелиться. Скажи он лишнее слово, сделай непреднамеренный жест, и, казалось, город Любимов сорвется с места и пустится вприсядку по лесам и болотам. Однако события уже развивались без участия Леонида Ивановича. Уже пролетела по воздуху вестница на метле, открывшая этот митинг и успевшая поднатореть в своей гимнастике. Она парила над крышами, строила фигуры и крутилась мельницей, бессвязно ораторствуя:
— Ай ай косой чорт приласкай косой чорт пожалей заморыш горит сладко родить щенят с клыками Фейхтвангера не могу раздавить портки танки идут выну кисту танки идут откусить хочу хохлатый бежим в Ленинград!..
С последним восклицанием она исчезла. И мигом обстановка разрядилась, волнение стихло. Бабы торопливо расхватывали немудрящее барахлишко и, кое-как прикрывшись, убегали на огороды. Оттуда, не появляясь, окликали детей по домам. Мужики утирали кровь, загоняли скот, уволакивали мертвых. Все тяжело дышали и были понуры, точно с похмелья. Друг на друга никто не смотрел. Но понимали они или нет, что с ними было и что теперь происходит? Тихомиров не понимал.
— Эй, что случилось? куда вы все уходите?
Никто не отзывался. Затворяли ставни, надевали засовы, захлопывали ворота. Вскоре на дороге осталась одна курица, ковырявшая мусор. «Цып-цып-цып», — поманил ее Леня и повторил громче:
— Цып-цып-цып!
Та не обратила внимания на призыв Леонида Ивановича и невозмутимо продолжала заниматься своим мусорным промыслом. Нет, она не боялась и никуда не убегала, но повиноваться ему она тоже отказывалась. И, посматривая на курицу, Главнокомандующий увидал, что земля вздрагивает. Опустился на дорогу, приложил ухо и понял: где-то далеко-далеко, еле-еле слышно погромыхивало и подпрыгивало...
До самого генерального штаба ему не встретилось ни души. Город вымер. И хотя недавнее буйство, как показывал беглый осмотр, коснулось лишь нескольких улиц, все прочие горожане тоже сидели по норам и не высовывали носа. Верно, их распугал этот дальний грохот, теперь хорошо различимый.
За два дома он услыхал, как трезвонят звонки в кабинете, и припустил рысью. Двери — настежь. Ветер гуляет. Обои — рваными ранами. Но техника связи не подвела и работала нормально. По всему пульту вспыхивали и гасли лампочки сигнализации, окружая город тревожными огоньками. Кольцо сжималось. Леня попробовал перочинным ножом отодрать сторублевку. Лезвие соскользнуло. Звонок умолк. Лампочки не загорались. Значит — уже порвали провод на ближних подступах.
— Витя! Витя! — прокричал Тихомиров, выводя велосипед. Витя не откликался.
Мастерская была пуста. На дворе под подошвами почва уже ходуном ходила.
— Витя! — позвал он еще раз и нажал на педали...
...А грохот надвигался. Танки-амфибии с трех сторон шли на Любимов. Они переваливали через овраги, проплывали болота, сминали низенький ельник, слабенький березняк и вылезали, оплетенные сучьями, грязью, тиной, кувшинками, — ископаемые бронтозавры, притом самой новой, сверхпроходимой конструкции. Тяжеловесные увальни, они топтали посевы, валили заборы, хибары, когда на них наталкивались, и в этом не было ни злого умысла, ни тактического расчета. Управляемые по радио, на большом расстоянии, они, несмотря на всевозможные фото- и звукоулавливатели, не могли разобрать в точности, где тут домик, а где деревцо, и шли бронированными стадами, напролом, без людей, пустотелые, не стреляя, только вытаптывая и вырубая проходы для будущего.
Из палисадника навстречу амфибии выскочил человек с берданкой и приложился пару раз крупной охотничьей дробью. Это был Витя Кочетов, не пожелавший, чтобы город сдался без единого выстрела. Чудовище, по которому он палил, остановилось, словно не зная, что ему делать с таким противником. Оно напрягло все свои звуко- и фотоулавливатели и ничего не уловило. Помолчало, подумало, постояло, а потом, на всякий случай, хлестнуло вдоль улицы короткой очередью. Бывший сыщик и последний защитник города Любимова упал, перерезанный пополам, даже не вскрикнув.
Глава седьмая и последняя. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ АККОРДЫ
В конце лета к попу Игнату приплелась убогая странница — из дальних, из городских, из самого, говорит, города Любимова, откуда по непроезжим дорогам будет, почитай, ни много ни мало, семьдесят семь верст, и как она прошла по тем лесным дорогам — уму непостижимо. Принесла творожок в тряпице и три рубля деньгами: отслужить молебен о здравии раба Божия Леонида да панихиду по усопшему рабу Божию Самсону.
— Новопреставленный? — уточнил поп Игнат, любивший все делать с толком, по чину, и добавил уважительно — насчет Самсона: Древнее имя!..
— Древний, батюшка, древний, древнее некуда, — обрадовалась старушка. — Какой там новопреставленный!...
— А что, матушка, — полюбопытствовал отец Игнат, — взаправду сказывают, будто в Любимове стряслись великие мятежи, кричание, стреляние, злосмрадное пребеззаконие и были приняты муки за веру Христову и святую церковь?
— Было, батюшка, было, все было, — отвечала старушка как-то неопределенно, а потолковее рассказать, что же у них стряслось, так и не сумела.
Приход у отца Игната — самый захудалый. На краю света, можно сказать, висит и держится ветхая церковка, но, может, потому и висит и держится, что — на краю света и мало к себе гостей привлекает, и одних глупых старух, которым помирать пора, пытается обнадежить. Но служил поп истово, неторопливо и управлялся один, без помощников, и на всякую службу, глядишь, три-четыре старушки обязательно набежит, а по праздникам и много более того. Вот и нынче сошлись и расползлись по храму, ровно грибы лесные, большие, трухлявые грибы, распростерлись, распластались на полу — замаливать грехи отцов и сыновей, живущих и усопших.
Отслужил поп — сперва за здравие, а после за упокой, за Леонида и за Самсона, и читал, и кадил, и пел, и возжигал свечи — все сам. И хотя всего-ничего сунула ему дальняя бабка — творожок в тряпице, да три рубля деньгами, — захотелось попу в укрепление, а может, и в нарушение чина спеть еще один заупокойный акафист, принесенный в русскую землю не откуда-нибудь, а со святой горы, с самого Афона. Уж очень любил отец Игнат тот заупокойный акафист и знал, что не повредит крепкая святая молитва ни рабу Божию Самсону, ни тому богоспасаемому граду Любимову, где нынешним летом, сказывают, стряслось, ох! и стрялось!..
«Отче наш, возвесели души ранее удрученных до конца бурями житейскими. Отче наш, да забудут они все скорби и воздыхания земные. Отче наш, утеши их в лоне Твоем, яко же мать утешает чады своя».
Земля отпускала медленно, тяжело, неохотно, но все-таки отпускала. Душа возносилась, забывая все скорби и воздыхания земные, все быстрее и быстрее, смеясь и трепеща от этой скорости и света, пронзающего ее легкий, невесомый состав, и ничего уже не ведая, ни о чем не помня, кроме этого долгожданного отпуска...
«...Спаси, Господи, скончавшихся в тяжких мучениях, убиенных, погребенных живыми, поглощенных землею, волнами, огнем, растерзанных зверями, умерших от глада, мраза, с высоты падением, и за скорби кончины их даруй им вечную радость Твою... Отче наш, даруй вожделенный покой умершим под бременем тяжких трудов. Отче наш, утоли скорби родителей об утрате чад. Отче наш, упокой всех одиноких, сирых, нищих, неимущих ближнего, молящегося за них...»
Поп Игнат пел, возглашал и трубил толстым голосом. Там, в Любимове, сказывают, содеяно большое смятение, беснование и гонение, много крови и много греха. И он старался перекрыть панихидой все, что там накопилось, и умолить Господа спасти грешных рабов Своих, какой бы смертью и каким бы грузом ни привелось им закончить свой скоротечный век. Он был не шибко учен, этот сельский поп, и мало смыслил в тонкостях богословия, но вызубрил, что, останься на всей земле одна его церквушка, он отсюда, с краю света, продолжал бы, как обычно, вызволять из беды нечестивое человечество, умершее и живущее, денно и нощно, как вол, как царь, как батрак, как Сам Господь Бог, Чьи милости неисчерпаемы, а труды непомерны. И эта полезная работа и почетная должность сделали попа важным и великодушным.
«...Отче наш, — возопил он с грозной торжественностью, — скорбим об ожесточении беззаконных хулителей Твоего Имени и Святыни. Отче наш, да будет над ними спасительная воля Твоя. Отче наш, умилосердися над уязвленными гибельным неверием. Отче наш, тяжки их грехи, но сильнее милость Твоя. Отче наш, прости скончавшихся без покаяния. Отче наш, спаси погубивших себя в помрачении ума. Отче наш, очисти их ради верных, вопиющих Тебе день и нощь. Отче наш, ради незлобивых младенцев прости их родителей. Отче наш, слезами матерей искупи грехи их чад...»
Матери были тут же, под рукою. Они ползали по полу, похожие на грибы, сыроежки, сморчки, синюшки, трухлявые, червивые, горбуньи и развалюхи. Как они живут еще? Чем дышат? Откуда черпают силы сползаться сюда? Зачем они и кому они еще нужны?..
В карманах — пусто, за душой — ни черта, позади — петля, впереди — неизвестность. Что ему посоветовать в этом сложном положении? Лишь одно: сунуть руки в карманы и вечерком, попозже, прошвырнуть по поселку на незнакомую станцию и в стороне от вокзала, чтобы ночью не встретился нежелательный милиционер, дожидаться, не пройдет ли товарный состав, а покедова погулять, засунув руки в карманы.
Эх! кармашки, интимные уголки, последнее, что осталось одинокому человеку! Кажется, что в них проку, в пустых-то карманах, а вот засунешь руку в штанину, и на сердце становится покойнее и теплее. Какой-никакой, а домик построен, конура найдена и, пожалуйста, располагайся тут со всеми удобствами. Сквозь протертую реденькую ткань подкладки доходит до тебя встречная нежность твоей ноги. Засунуть бы туда же голову, забраться бы в карман целиком и сидеть, подремывая, понюхивая коверкот, смешанный с наивным, всегда удивительным запахом собственной кожи и воздушной сухостью хлебных крошек.
Поджав к животу останное тепло, ты ходишь, озираясь, возле железного полотна и прячешься от облавы в нательные гнезда, ведущие потаенное, незримое существование. Куда скроешься глубже? Где лучше выплачешься? С кем поговоришь задушевнее, как не со своими карманами? Эх, кармашки, приютите, братишки, окажите гостеприимство обездоленному человеку!
Выпить бы. Пройтись по перрону. Кум королю. Заложив руки в карманы. Кому до нас дело? А наше дело сторона. Но вот, если остановят — «руки вверх» — вывернут карманы, лязгнут затвором — «руки вверх!» — и с вывернутыми карманами... нет, с вывернутыми карманами человеку лучше не гулять по земле.
...Товарный поезд у станции, по счастию, затормозил, подхватил его и укрыл в своих могучих сцеплениях. Прикорнув на платформе, среди высоких ящиков, Леня подремывал, поплевывал и ни о чем не думал. Никогда в жизни ему не было так свободно и уютно. Бремя власти, муки любви, заботы о будущем, память о прошлом, — все отваливалось, отпадало и оставалось на шпалах. Леня знал, что ему предстоит добывать себе деньги и документы, и какую-то одежонку, и какую-то работенку, подальше, в Донбассе, в Челябинске, в Караганде... Но его судьба — он был уверен — сложится и образуется сама собою, без усилий, и подарит ему чужой паспорт, новый угол и велосипедную мастерскую. Оттуда, из мастерской, он вызовет Витю, и тот приедет, и все опять образуется, как нельзя лучше, без усилий, по шпалам — в Донбассе, отскакивало — в Челябинске, отдавало — в Караганде. Поезд присвистнул тоненько, усыпительно, как умеет насвистывать только Витя, орудуя зубилом и напильником, и унес Леню в своих объятиях.
Профессор! Что ж вы помалкиваете, профессор, и не появляетесь больше направлять и подзуживать мое перо, подошедшее к финалу? Куда вы исчезли? Почему я не вижу никаких ваших отпечатков и дворянских гербов на моей серой бумаге? Может быть, вы полагаете, что я тоже умер, что город Любимов полностью уничтожен и больше нет здесь ничего достойного внимания? Напрасно, напрасно. Ситуация не такая уж мрачная, хотя скоро год, как мы перестали числиться самостоятельным королевством и возвратились к своему районному значению. Кое-кого, естественно, похватали, кое-кто пропал без вести. Что ж поделаешь? Лес рубят — щепки летят. Но многие дома и даже целые улицы сохранились нетронутыми, а многие — уже восстановлены и заселены пришлым народом. И монастырь все еще стоит. И я, как видите, жив-здо-ров, цел-невредим, чего и вам желаю. Ну, конечно, потаскали, помытарили немного. Как же без этого? Да вот Семен Гаврилович Тищенко, спаси его Христос, подтвердил на следствии мою непричастность. Хоть его понизили на вторые роли — это из первых-то секретарей, — все же к мнению такой выдающейся личности у нас прислушиваются. Так что можете не опасаться и по-прежнему заглядывайте к старику на огонек. И потом учтите, когда я сажусь писать, дверь всегда на запоре, никто посторонний не войдет, не помешает... Что ж вы таитесь, профессор? Ну дайте какой-нибудь условный знак, впишите одну только буковку между строк, и я все пойму и во все поверю... Эх, вы! А я-то вам ничего не жалел. Жизнеописание составил. Матушке Леонида Ивановича строго-настрого наказал для вас панихидку справить и три рубля пожертвовал на ваши удовольствия. А вы не можете товарищу помочь, когда он просит. Самсон Самсонович, не о себе я прошу и не для этой повести, которая все равно закончена и без ваших консультаций. О городе Любимове, о родной земле пекусь, о вашей земле, господин Проферансов, которой вы предательски изменили. Не сердитесь: я пошутил. Давайте совместными усилиями, как когда-то бывало, подналяжем и попробуем еще разок крутануть колесо истории. Вы только верните нам Леню Тихомирова, царя, волю, как ее? — энергию эту самую дайте, и мы вам снова в два счета построим коммунизм...
Говоря строго между нами, только уж ты, профессор, об этом никому ни гу-гу, — я соврал тебе давеча про наше хорошее положение. Положение у нас хуже некуда. Следствие продолжается. Вот-вот снова в городе начнутся аресты. Я сижу и трясусь, что обыщут и обнаружат под половицей эту рукопись, и тогда уж по ней нас всех до одного выловят. Слушай, профессор. Ты же мой соавтор. Припрячь временно где-нибудь там у себя нашу повестушку. Пускай полежит пока в каком-нибудь твоем недоступном сейфе. Взял же ты манускрипт у Лени. Есть же у тебя укромное место. Тайничок какой-нибудь. Приюти до срока. Разве это не твое добро?
1962 — 1963