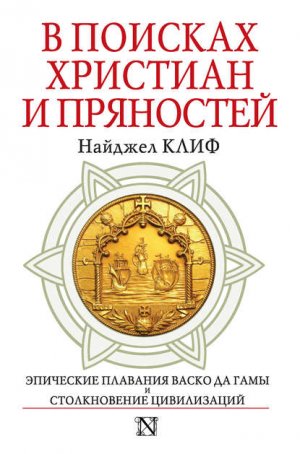
Пролог
Уже спускались сумерки [1], когда у побережья Индии появились три незнакомых корабля, но рыбаки на берегу все же смогли разобрать их очертания. Два больших были толстобрюхими, как киты, с выпирающими боками, круто уходящими вверх, чтобы дать опору мощным деревянным башням на носу и корме. Деревянные корпуса посерели от воды и ветров и с обеих сторон щетинились чугунными орудиями – точь-в-точь щупальца на огромной каракатице. Огромные квадратные паруса вздувались в темнеющее небо, и каждый был больше предыдущего, и каждый венчался капором-топселем, так что вся оснастка походила на семейство призрачных великанов. Было что-то упоительно современное и гнетуще первобытное в этих чужаках, но уж точно никто ничего подобного не видел.
На берегу подняли тревогу, и группки людей стащили на воду четыре длинные узкие лодки. Подойдя на веслах поближе к чужакам, они разглядели, что на каждом куске парусины играют огромные алые кресты.
– Из какой вы страны? – крикнул старший среди индусов, когда лодка подошла к борту ближайшего корабля.
– Из Португалии! – крикнул в ответ матрос.
Оба говорили по-арабски, на языке международной торговли. При этом у гостей было перед местными преимущество. Индусы ничего не слышали про Португалию, узкую полоску земли на самой западной оконечности Европы. А вот португальцы уж точно про Индию знали и, чтобы попасть туда, совершили самое дальнее и опасное путешествие, каких не было в истории.
Стоял 1498 год. Десять месяцев назад небольшая флотилия подняла паруса в Лиссабоне, столице Португалии, ради того, чтобы изменить мир. Сто семьдесят человек отплыли с наказом открыть морской путь из Европы в Азию, разведать древние тайны торговли пряностями и найти давно потерянного христианского короля, управлявшего сказочной восточной страной. А за этим перечнем невероятных задач крылась другая, поистине грандиозная миссия: установить связь с восточными христианами, нанести сокрушительный удар по мощи ислама и подготовить путь к завоеванию Иерусалима, самого святого города на свете. Но и это была не конечная цель: ибо если они преуспеют, их предприятие станет началом конца, призывным сигналом ко Второму Пришествию и Страшному суду, который, несомненно, за ним последует.
Время покажет, станут ли эти поиски земли обетованной чем-то большим, нежели пустой мечтой. Пока же мысли моряков занимало главным образом примитивное выживание. Странный и разношерстный люд собрался в этом путешествии в неведомый край. Среди них были закаленные искатели приключений и галантные рыцари, африканские рабы и клирики-затворники, а еще преступники, так искуплявшие свои грехи. Все они уже провели в неприятно тесном соседстве 317 дней. Начав плавание по огромной дуге по Атлантическому океану, они месяцами не видели ничего, кроме бескрайней воды. Когда они наконец достигли южной оконечности Африки, аборигены стали в них стрелять, нападали из засады и пытались брать на абордаж их корабли среди ночи. У них заканчивались вода и провизия, их косили загадочные недуги. Они боролись с сильными течениями и штормами, стремившимися разбить корабли и порвать паруса. Еще дома их заверяли, что они делают Божье дело и что им спишутся все грехи. Однако даже самых закаленных моряков обуревали болезненные суеверия и предчувствия неминуемой погибели. Они понимали, что смерть может притаиться за распухшей десной или незамеченным рифом, но и смерть была не самой страшной участью, какую рисовало разгоряченное воображение. Засыпая под незнакомыми звездами и входя в неизвестные воды, которые картографы заселили зубастыми чудовищами, они страшились потерять не жизнь, а свои души.
На взгляд индусов, чужаки с их длинными грязными волосами и обветренными немытыми лицами мало чем отличались от пиратов самого худшего пошиба. Впрочем, их недоверие быстро развеялось, когда пришельцы стали покупать огурцы и кокосы по завышенным ценам, и на следующий день четыре лодки вернулись, чтобы провести флот в порт.
Такой тест заставил бы разинуть рот самого бывалого моряка.
Для христиан Восток был колыбелью и праисточником известной им цивилизации. Его летописью была Библия, духовной столицей – Иерусалим, существующий как бы одновременно на небесах и на земле, а в Райском саду (который, как истово верили, цветет где-то в Азии) видели источник всяческих чудес. Говорили, что крыши у восточных дворцов из золота, а в тамошних лесах обитают не подвластные огню саламандры, самоуничтожающиеся фениксы и пугливые единороги. Воды восточных рек будто бы выносят на берег драгоценные камни, а с деревьев падают редкие пряности, которые исцеляют любые недуги. На Востоке будто бы бродят люди с собачьими головами, прыгают взад-вперед или сидят, укрывшись под своей единственной ногой от солнца, люди одноногие. Лощинки и ущелья там засыпаны алмазами, которые охраняют змеи и добыть которые могут лишь стервятники. Иными словами, смертельные опасности подстерегали на Востоке повсюду, но от того его сверкающие богатства становились тем более манящими.
Так, во всяком случае, утверждалось, но действительности не знал никто. Столетиями ислам практически блокировал Европе доступ на Восток, столетиями пьянящая смесь слухов и сказок бурлила, заменяя место реальных фактов. Многие погибли, стараясь отыскать правду, и теперь момент истины внезапно настал. Перед матросами раскинулся внушительный порт Каликут, международный рынок, переполненный восточными богатствами, перевалочный пункт на оживленных путях мировой торговли.
Никто не спешил первым сойти на берег. Враждебность предчувствовалась, и заглушить это чувство было нелегко. В конечном итоге побороть страх возложили на одного из тех, кого взяли на борт ради опасной работы.
Первым европейцем, проделавшим огромный путь до Индии и ступившим на ее берега, был осужденный преступник.
Люди в лодках отвезли его прямиком в дом двух мусульманских купцов из Северной Африки, самого западного места, какое они знали. Купцы происходили из древнего портового города Туниса и, к удивлению гостя, бегло говорили и на испанском, и на итальянском языках [2].
– Черт бы вас побрал! Что привело вас сюда? – воскликнул по-испански один.
Уголовник выпрямился во весь рост.
– Мы приплыли, – величественно ответил он, – в поисках христиан и пряностей.
На борту флагманского корабля Васко да Гама с нетерпением ждал новостей. Португальский командор был среднего роста, крепкий и кряжистый, с багровым угловатым лицом, как будто сваренным из медных пластин. По рождению он принадлежал к придворному дворянству, хотя из-за нависающего лба, крючковатого носа и жесткого изгиба чувственных губ походил скорее на вожака пиратов. Ему было всего двадцать восемь лет, когда ему вверили упования и мечты целой страны, и хотя такой выбор всех удивил, люди под его началом уже научились уважать его за смекалку и храбрость и бояться его вспыльчивости.
Когда он осматривал свои плавучие владения, взгляд его больших острых глаз не упускал ничего. Неиссякаемое честолюбие вкупе с железной волей провели его через опасности и переместили на расстояния, которых никто еще не преодолевал. При этом он понимал, что величайшая рискованная игра только-только начинается.
Вопроc в основе этой книги не давал мне покоя несколько лет до того, как сама книга начала обретать форму. Как и многих из нас, меня сбивало с толку вторжение религиозной войны в нашу повседневную жизнь, и чем больше я узнавал, тем больше убеждался, что нас затягивает в давний конфликт, из-за которого у нас развилась коллективная амнезия. Мы привыкли считать, что миром правит не религия, а разум, что войны ведутся из-за идеологии, экономики и непомерного эго, но не из-за веры.
Нас поймали на том, что мы проспали кусок истории, а сама история идет тем временем своим чередом. Победный марш прогресса – сказочка, которой потчуют себя победители; у побежденных память длиннее. На взгляд современных исламистов, которые видят свою борьбу не в том, чтобы прийти к соглашению с Западом, а в том, чтобы его победить, конфликт породили события пятивековой давности. Тогда в Западной Европе был уничтожен последний мусульманский эмират, тогда Христофор Колумб высадился в Америке, а Васко да Гама прибыл на Восток. Три этих события пришлись на одно бурное десятилетие, и их тесно переплетшиеся корни уходят глубоко в наше общее прошлое.
За семьсот лет до того поворотного десятилетия завоеватели-мусульмане проникли далеко в глубь Европы. На западной ее оконечности – на Пиренейском полуострове – они основали прогрессивное исламское государство, и это государство сыграло кардинальную роль в высвобождении Европы из-под гнета темных веков. Однако когда и христиане, и мусульмане в равной мере начали забывать, что бог, которому они поклонялись каждый на свой лад, по сути один и тот же, на Пиренейском полуострове запылали костры священной войны. Они пылали неистово, пока португальцы и испанцы создавали свои королевства на землях, отобранных у мусульманских стран, и все еще горели, когда португальцы отправились в эпохальный поход, чтобы преследовать своих прошлых господ через половину земного шара, – и как раз эта грандиозная миссия положила начало эпохе Великих географических открытий Европы.
Совпадение во времени было далеко не случайным. Столетиями история шагала с Востока на Запад, и накануне эпохи Великих географических открытий ритм ее барабанного боя убыстрялся. В середине XV века величайший город Европы пал под натиском ислама [3], и мусульманские солдаты вновь готовились выступить в поход, чтобы вторгнуться в сердце старого континента. В эпоху, когда никто не подозревал, что новый континент только и ждет, чтобы его открыли, мечты христианства о спасении сосредоточились на достижении Востока: в исполненных горечи фантазиях европейцев Азия превратилась в сказочное королевство, где будет выкован союз против извечного врага и наконец осуществлена мечта о вселенской церкви.
Крошечная Португалия поставила перед собой поистине геркулесову задачу: покорив океаны, обойти ислам с фланга. По мере того как перед первым плаванием Васко да Гамы накапливались коллективные старания поколений, к гонке поспешила присоединиться Испания. Поскольку ей требовалось нагонять соседей, она решила поставить на итальянского искателя приключений Христофора Колумба. В 1498 году, когда Васко да Гама отплыл на восток к Индийскому океану, Колумб взял путь на запад и в конечном итоге достиг материковой Америки.
Оба путешественника искали один и тот же трофей: морской путь в Азию, однако достижения Васко да Гамы надолго отошли в тень грандиозной ошибки Колумба. Теперь, когда мы возвращаемся в тот мир, каким он был в их эпоху, в мир, где все дороги вели на Восток, мы наконец можем восстановить равновесие. Плавания Васко да Гамы были прорывом в вековой кампании христианства пошатнуть исламское владычество в мире. Они кардинальным образом изменили отношения между Востоком и Западом и провели разделительную черту между эпохами господства мусульман и христиан – тем, что мы на Западе называем Средними веками и Новым временем [4]. Разумеется, они – еще не вся история, но составляли много большую ее часть, чем нам хочется помнить.
Эпоху Великих географических открытий обычно преподносили как бескорыстный рыцарственный поход с целью раздвинуть границы человеческого познания. Сегодня ее объясняют как стремление изменить баланс мировой торговли. Она была и тем, и другим: она преобразила представления Европы о ее месте в мире и дала толчок глобальному сдвигу в мировой расстановке сил, который не закончился и по сей день. Но это было не просто новой стадией, это была осознанная попытка свести старые счеты. Васко да Гама и его люди жили в мире, разорванном надвое религией, где война с неверными считалась высочайшим призванием человека чести. Как давали понять всем и вся кроваво-красные кресты на парусах первооткрывателей, они отправлялись на новую священную войну. Им говорили, что они прямые наследники четырех веков крестоносцев, рыцарей-паломников, обнажавших мечи во имя Иисуса Христа. Они получили наказ нанести решающий контрудар по исламу и возвестить начало новой эры – эры, когда вера и ценности Европы будут экспортироваться во все уголки земли. Это стало главной причиной, почему несколько десятков человек в деревянных лоханях отплыли за край известного мира – и в современную эпоху.
Чтобы понять страсти, гнавшие европейцев в дальние моря и сформировавшие наш сегодняшний мир, нужно вернуться к истокам. История начинается среди изъеденных ветрами песчаных барханов и опаленных солнцем предгорий Аравийского полуострова с рождением новой религии, которая стремительно ворвалась в самое сердце Европы.
Часть I
Истоки
Глава 1
Восток и запад
Когда Мухаммед ибн Абдeллах впервые услышал слово Божье в 610 году или около того, он вовсе не намеревался строить всемирную империю.
Он даже засомневался, в здравом ли он уме.
– Укройте меня, укройте меня! – сказал, жалостно дрожа, сорокалетний купец, когда подполз к жене, которая набросила на него плащ и, прижав к себе, гладила по волосам, пока он плакал. Он медитировал в обычной своей пещере под Меккой – роскошь, которую мог себе позволить благодаря женитьбе на вдове пятнадцатью годами себя старше, – когда появился ангел Джабраил, поверг его в мучительный и восторженный транс и передал ему послание бога. Мухаммед пришел в ужас, решив, что лишился рассудка, и подумывал, не броситься ли ему со скалы. Но голос возвращался снова и снова, и три года спустя Мухаммед начал проповедовать народу публично. Постепенно сложилась догма: вера Авраама и Иисуса истинная вера [5], но она была искажена. Есть только один бог, и он требует «ислам» – то есть полного повиновения законам Аллаха.
Это не сулило ничего хорошего правителям Мекки, разжиревшим на религиозном туризме в городе с 360 храмами. Мекка возникла вокруг затененного пальмами оазиса в Хиджазе, знойной пустыне с одноименным горным хребтом, которая тянется через Аравийский полуостров вдоль побережья Красного моря. Ее духовный авторитет исходил от Каабы, приземистого святилища кубической формы, где находились основные идолы арабов. Каждый год из пустыни материализовывались орды паломников, накатывали на священный город и семь раз обходили каменный куб, стремясь поцеловать каждый угол, прежде чем напор страждущих унесет их прочь. Со временем одно местное племя – курайшиты, – воспользовавшись своим положением защитников Каабы, начали выжимать все соки из коммерческой жизни Мекки, и поначалу откровения Мухаммеда были обращены непосредственно против них. Алчные курайшиты, обвинял он, разрывают эгалитарные узы арабского общества: они эксплуатируют слабых, порабощают бедных и пренебрегают своим долгом заботиться об обездоленных и угнетенных. Господь это увидел, и все они отправятся в ад.
Разъярили курайшитов не слова Мухаммеда о единственном милосердном боге и даже не его притязание на то, что он выступает рупором этого бога. К северу от Мекки уже несколько столетий существовало государство арабов-христиан, и в самой Каабе статуи Иисуса и Марии гордо стояли среди прочих идолов. Эмигрировавшие в Аравию евреи оказывали свое влияние и того дольше: так же, как и евреи, арабы считали себя потомками Авраама, через его первенца Исмаила, и многие отождествляли своего верховного бога с богом евреев. Во времена Мухаммеда по пустыням бродили поэты-проповедники, требуя от соплеменников отречься от идолопоклонства и вернуться к чистому монотеизму своих отцов. Идея единого бога не вызвала бы ни споров, ни распрей, зато уникально неприемлемым стало то, что Мухаммед был, что называется, своим. Его семейный клан Хашим – или хашимиты – был малозначительной ветвью курайшитов. Сам Мухаммед был уважаемым купцом и пусть не самым видным, но крепким столпом общества, и он обратился против своих.
Курайшиты испробовали все – от подкупов и бойкотов до попыток дискредитировать докучного проповедника – и наконец прибегли к тайному покушению. Мухаммед едва-едва успел выскользнуть из дому и, улизнув от клинков убийц, сбежал в отдаленное оазисное поселение, которое станет известно как Медина. Там, по мере того как росло число его последователей, он построил новую общину, о которой мог только мечтать в Мекке, – «умму», или общину равных, объединенных не узами родства, а союзом веры, и подчиняющуюся законам, дававшим беспрецедентные права женщинам и перераспределявшим богатства среди тех, кто нуждался более всего. Откровения следовали одно за другим, и он начал верить, что бог избрал его не только произнести предостережение, но и нести благую весть всему человечеству.
Но чтобы его весть распространилась, надо было сперва рассчитаться с Меккой. Восемь лет ожесточенных войн с курайшитами щедро полили кровью ростки ислама. В самый черный час, с разбитым в кровь лицом Мухаммеда утащил с поля боя его собственный воин, а остатки его армии спас, заставив обратиться в бегство, только слух о его смерти. Дух уммы был сломлен, и приблизительно в это время Мухаммед дал своим воинам обещание, которое эхом отдастся в истории. Погибшие в битве – так было явлено ему – будут вознесены в высочайший круг Рая: «Они будут проживать вместе в мире, среди садов и фонтанов, облаченные в богатые шелка и тонкую парчу… Мы сочетаем их с большеглазыми черноокими гуриями» [6].
Мусульмане – «те, кто повинуется» – цеплялись за свою веру, и сама эта стойкость наперекор всем бедам представлялась знаком божьей милости. Решающим моментом стала не победа на поле битвы, а зрелищный и крайне успешный ход по манипуляции мнением общества. В 628 году Мухаммед внезапно объявился под Меккой с тысячью безоружных паломников и заявил о своем законном праве араба поклоняться в Каабе. Пока он торжественно совершал ритуалы, а курайшиты хмуро стояли поодаль, правители Мекки вдруг показались скорее глуповатыми, нежели неуязвимыми, и оппозиция пошла на спад. В 630 году Мухаммед вернулся с воинством последователей. Он снова семь раз обошел храм, повторяя нараспев: «Аллах акбар!» – «Бог велик!» – потом вошел внутрь, вынес идолов и разбил их вдребезги на земле.
На момент своей смерти два года спустя Мухаммеду удалось то, о чем не мог даже мечтать ни один исторический лидер: он основал процветающую новую религию и расширяющееся новое государство, причем первая была неотделима от второго. Менее чем за год армии ислама сокрушили арабские племена, не принявшие новый порядок, и впервые в истории Аравийский полуостров был объединен под властью одного правителя и одной веры. Подстегиваемый религиозным рвением, новообретенной общей целью и отрадной альтернативой – либо огромная добыча при жизни, либо вечное блаженство после смерти, – новый богоизбранный народ начал оглядываться по сторонам.
И увидел две сверхдержавы, которые, не жалея сил, стремились стереть с лица земли друг друга.
Более тысячи лет Восток и Запад противостояли на берегах реки Евфрат в Месопотамии, плодородной земли, издавна известной как колыбель цивилизации, – сегодня она находится на территории Ирака. На Востоке лежала прославленная Персидская империя, хранительница древней утонченной культуры и первой основанной на откровениях мировой религии, монотеистической веры жреца-визионера Заратуштры (эта религия стала известна по латинизированной форме его имени Зороастр как зороастризм), который за столетия до рождения Христа проповедовал о сотворении и воскресении, спасении и апокалипсисе, рае и аде и о рожденном от девственницы Спасителе. Возглавляемые великим шахиншахом – буквально «царем царей», – персы были застарелыми противниками греков, пока Александр Македонский не разгромил их армии. Когда Персия восстановила утраченное могущество, эта империя попросту перенесла свою вражду на преемников греков римлян. Древнее противостояние стало формирующим столкновением Востока с Западом, и в 610 году, как раз когда Мухаммед получал первые свои откровения, наконец выплеснулось в тотальную войну.
Пока волны варваров бушевали на границах Западной Европы, на восточной ее окраине император Константин построил новый Рим. Сверкающий Константинополь высился над Босфором, стратегической полоской воды, ведущей от Черного моря к азиатскому Средиземноморью. Запершись за неприступными стенами, наследники Константина беспомощно смотрели, как персы завоевывают их восточные провинции и продвигаются к священному Иерусалиму. Давным-давно римляне до основания снесли иудейский Иерусалим, и на месте, отождествляемом со страстями Христа, вырос новый город; первый император Константин лично возвел храм Гроба Господня на предполагаемом месте распятия, погребения и воскресения Христа [7]. Теперь же страдания христиан сделались почти апокалиптическими, когда персы увезли Честной и Животворящий Крест Господень, на котором, как полагалось, умер Христос, равно как и священные Губку и Копье и патриарха города, оставив по себе Гроб Господень дымящимся и опустелым на фоне черных от дыма небес [8].
На последнем издыхании Восточная Римская империя постаралась дать персам отпор и вышла победительницей, а Персия погрязла в гражданской войне. Но и победители были истощены. Византийские города были разорены и переполнены беженцами, сельское хозяйство понесло огромный ущерб, торговля практически замерла, а граждане провинций ужасно страдали от непомерных налогов, которыми оплатили имперское избавление. В период бурных религиозных полемик [9] наибольший урон наносило безжалостное стремление Константинополя навязать всем странам свою ортодоксальную версию христианства. Скормив для начала христиан львам, римляне перешли к преследованию всех, кто отказался следовать официальному курсу, и на огромном пространстве Восточного Средиземноморья от Армении на севере и до Египта на юге диссиденты среди христиан скорее приветствовали перспективу нового режима [10].
С поразительным апломбом арабы напали на обе древние империи разом.
В 636 году одиннадцать столетий мощи Персии закончились атакой ревущих слонов на поле, возле которого позднее возникнет Багдад. «Горе этому миру, горе этому времени, горе этой судьбе, – будет сетовать национальный эпос Ирана, – раз нецивилизованные арабы явились обратить меня в мусульманство» [11]. Исламу открылась дорога на север до Армении, на северо-восток до азиатских степей, граничащих с Китаем, на юго-восток до Афганистана и на восток в Индию. В том же году арабская армия разгромила во много раз превосходящие ее византийские войска в битве при Ярмуке и аннексировала Сирию, где на пути в Дамаск обратился в христианство Савл из Тарса и где, приняв имя Павел, основал в Антиохии первую христианскую общину. В следующем году был взят измором и открыл свои ворота завоевателям нового толка Иерусалим [12] – всего через восемь лет после того, как византийцы победно вернули Крест Господень на его законное место. Разрываемый различными вероисповеданиями город был священным для ислама в той же мере, что и для иудаизма, и столетия борьбы иудаизма и христианства за священные места уступили дорогу столетиям столкновений между мусульманами и христианами.
Четыре года спустя арабы завоевали сказочный плодородный Египет, самую богатую из всех византийских провинций. Пока Константинополь бессильно наблюдал, свирепые пустынные племена, которые он презрительно именовал сарацинами [13] – «народом шатров» [14], – захватили все земли, которые он отвоевал так недавно и такой дорогой ценой. По мере того как рушились под натиском ислама империи и царства, даже епископы начали задаваться вопросом, не получил ли Мухаммед наказ свыше [15].
Из Египта мусульманские армии маршем отправились на запад по средиземноморскому побережью Африки, и тут их, казалось бы, неостановимый натиск неожиданно захлебнулся.
Проблемы были отчасти внутреннего порядка. Мухаммед умер, не назвав своего преемника и даже не оставив четких инструкций, как этого преемника следует избирать. Вскоре вспыхнули застарелые распри, обостренные борьбой за военную добычу, тянувшуюся бесконечными обозами по пустыням и неизменно оказывавшуюся в руках курайшитов, того самого племени, чью монополизаторскую алчность так резко обличал Мухаммед. В результате внутренних интриг и борьбы за власть первые четыре халифа – «преемника» пророка – были избраны из среды ближайших соратников и членов семьи Мухаммеда, но даже высокий статус не сумел их защитить. Некий взбешенный персидский солдат пырнул кинжалом в живот второго халифа, вспорол его как рыбу, а потом еще ударил в спину, когда тот молился. Группа мусульманских солдат-заговорщиков, разобиженных роскошным образом жизни и неприкрытым непотизмом третьего халифа, палками забила его до смерти, и в умме вспыхнула гражданская война. Четвертый халиф, которого звали Али – кузен и зять пророка и ближайший его соратник, – получил удар отравленным мечом [16] на ступенях мечети за то, что чересчур уж охотно шел на переговоры с собратьями-мусульманами. Его последователи, твердо уверенные, что Али был богоизбранным преемником Мухаммеда, со временем объединились, став известны как Ший’а Али – «партия Али», для краткости шииты – и окончательно и бесповоротно откололись от прагматичного большинства, которое стало известно по термину для обозначения «пути, указанного пророком» как сунниты.
Из последовавшего затем хаоса возникла первая династия халифов – Омейяды [17], которые перенесли столицу из змеиного гнезда на Аравийском полуострове и почти столетие правили из Дамаска, древнего, космополитичного города в бывшей римской провинции Сирия. Однако новорожденную империю продолжала теснить оппозиция, на сей раз внешняя. В Северной Африке арабские армии на десятилетия увязли в стычках с ордами голубоглазых берберов [18], древнего коренного населения Северной Африки. Берберы устраивали свирепые атаки из своих горных крепостей всякий раз, когда накатывала очередная волна завоевателей, и не собирались изменять своим обычаям только потому, что объявили о своем обращении в новую веру. Атаки берберов возглавляла грозная иудейская царица-воительница, известная арабам как Дакия аль-кахина, или «Пророчица», мчавшаяся на битву с развевающимися огненно-рыжими кудрями и раз за разом отбрасывавшая захватчиков далеко на восток, пока наконец ее не выследила огромная арабская армия. Погибла берберская предводительница, сражаясь, c мечом в руке.
Под конец VII века берберские восстания пошли на спад, и многие берберы пополнили ряды победителей. Всего за несколько десятилетий армии, обрушенные на мир Мухаммедом, неразрывным полумесяцем охватили Средиземноморье до самых берегов Атлантического океана.
Оттуда они взирали на Европу.
С потрясающей быстротой мир совершил полный оборот. Религия, внезапно возникшая в пустынях Востока, готовилась ворваться в ошеломленную Европу с запада. Если бы не буйные берберы, она могла бы бурей пронестись по континенту прежде, чем воюющие между собой племена Европы отвлеклись настолько, чтобы откликнуться на эту угрозу.
Придет время, и оборот совершится снова. Когда западное христианство наконец оправится от шока, борьба будет бушевать уже в самой Европе – и эта борьба погонит Васко да Гама в сердце Востока.
С незапамятных времен два скалистых пика отмечали самый западный конец известного мира. Древние называли их Геркулесовыми столбами и рассказывали, как могучий герой поднял их, выполняя свое десятое невыполнимое задание. Геракла послали на дальние берега Европы украсть скот у трехголового, шестиногого чудовища Гериона, и расчищая себе дорогу, он разбил гору надвое [19]. Через пролом воды единого океана, омывавшего мир, хлынули в Средиземноморье. За этими «столбами» лежали владения извивающегося, меняющего облик Морского Старца [20] и затонувшая цивилизация Атлантиды, а обрывки старых легенд терялись в тумане времен и тысячелетних страхах моряков [21].
Более двух тысяч лет портовый город под названием Сеута стоит, притулившись в тени южного Геркулесового столба. Сеута занимает клочок земли, связанный с северным побережьем Африки горной грядой, известной как Семь вершин [22]. Маленький перешеек тянется в самое Средиземное море и внезапно обрывается у большого холма, называемого Монте Ачо – Маяковый холм. С его вершины хорошо виден известняковый обрубок Гибралтарской скалы у побережья Испании. Гибралтар, северный из двух Геркулесовых столбов, подарил свое имя бурному проливу, открывающему Атлантический океан. Здесь Африку от Европы отделяют каких-то девять миль воды, и здесь раз за разом с одного континента на другой переходила История.
Сегодня мы считаем Европу и Африку двумя резко отличными друг от друга континентами, разделенными пропастью цивилизации, но до недавнего времени это разграничение не имело смысла. На протяжении столетий людей и товары легче было перевозить по воде, чем по суше, к тому же власть империи и торговля сближали народы Средиземноморья. Финикийские первопроходцы добывали серебро в Испании, а олово – в далекой Британии. Напротив Сицилии они построили легендарный Карфаген и с тем же пониманием стратегической важности узких проливов создали в качестве западного форпоста Сеуту. Вслед за ними пришли колонисты-греки, основывая поселения от Испании до Сицилии и посадив на трон Египта потомков телохранителя Александра Македонского, династию Птолемеев. Затем пришли римляне, сровнявшие с землей Карфаген и укрепившие Сеуту, которую превратили в военный лагерь на краю света. В европейских языках слово Mediterrannean (Средиземноморье) происходит от латинского выражения, означающего «середина земли», но политическая реальность, равно как и имперская гордость породили более расхожее римское название Mare Nostrum – «Наше море». От ощущения этого права собственности римлянам тем невыносимее было видеть, что варвары-вандалы прокатились по Франции и Испании, хлынули через Гибралтарский пролив, прошли по африканским провинциям Рима и вышли в самое Средиземное море, где, заселив более крупные острова, нашли свое призвание в пиратстве и в конечном итоге разграбили сам Рим.
Но какими бы ни были оживленными морские пути, ничто не могло подготовить северные побережья Средиземноморья к событиям 711 года. В том году, стянувшись у Сеуты, мусульманские армии преодолели пролив и на 781 год установили исламское правление в Западной Европе. Возглавлял экспедицию обратившийся в мусульманство бербер по имени Тарик ибн Зияд, и гора, под которой он высадился, была названа Горой Тарика – по-арабски это звучало как Джебал-аль-Тарик, или – для нас – Гибралтар.
В то время Испания, а это название средневековая Европа относила ко всему Пиренейскому полуострову, включая не возникшую еще Португалию, находилась под властью варваров-готов, отобравших ее у вандалов, которые, в свою очередь, отвоевали ее у Рима. За каких-то три года мусульмане сумели прогнать поджавших хвост готов в предгорья на севере, где у тех было в достатке времени поразмыслить над крахом своего государства, который посчитали Божьей карой за греховность правителей [23]. Покорив большую часть полуострова, арабские военачальники и их берберские войска хлынули на северо-восток через гористое ожерелье Пиренеев во Францию.
Ставкой было – ни много ни мало – само христианство.
Дважды за первые сто лет существования ислама арабские армии осаждали Константинополь [24] и дважды не смогли одолеть его монументальные стены. Дважды город на Босфоре отражал удары огромных флотилий, и дважды арабские боевые корабли ходили несолоно хлебавши по водам, маслянистым от смертоносного нового вещества, называемого греческим огнем. Константинополь теперь превратился в восточный оплот съежившегося и немощного христианства и не собирался сдаваться. Вторжение в Испанию началось как отчаянная попытка захватить хотя бы клочок земли, раз представилась такая возможность, но уже вскоре этим вторжением стали руководить из самого сердца исламской империи. Его предводители планировали пройти по всей Европе, аннексировать земли, брошенные на произвол судьбы Римом, и напасть на Константинополь с тыла – с Балкан. Если бы они преуспели, проложенный на карте полумесяц вокруг Средиземного моря замкнулся бы в полный круг.
Десять тысяч арабов и берберов ворвались во Францию, пронеслись по Аквитании, сожгли Бордо и двинулись по старой римской дороге, ведшей от Пуатье к священному городу Туру. Ровно через сто лет после смерти Мухаммеда мусульманская армия стояла в каких-то 150 милях от ворот Парижа.
В тумане войн, окутавшем Европу темных веков, известия об эпохальных событиях, разыгрывавшихся в дальних пределах Средиземноморья, приносил ненадежный ветер слухов. Сама мысль о том, что эти дальние раскаты грома предвещают молниеносный удар в самое сердце христианства, казалась невероятной, почти непостижимой. Но вот армия в тюрбанах, воодушевляемая чужой верой, скачущая под незнакомыми флагами под рев неведомых рожков и нестройное бряцанье цимбал, выкрикивает пугающие проклятия на чужом языке и все быстрее движется по осенним полям Франции.
Тот день 732 года стал поворотным в истории ожесточенной борьбы между исламом и христианством [25]. На подступах к Пуатье армии ислама натолкнулись на недвижимую стену косматых, полных решимости франков (западногерманского племени, уже давно поселившегося на римской территории), возглавляемых человеком по имени Карл Мартелл, – вторая часть его имени на самом деле прозвище, означающее «Молот» [26]. Когда волна арабской конницы ударила в передние ряды, строй пехоты прогнулся, но не прорвался. Тактика арабов, на протяжении целого столетия приносившая поразительные плоды – смять передние ряды, рассеять противника, выпуская тучу стрел, вернуться и, окружив сбитые с толку, разрозненные небольшие отряды, добивать врагов по одному, – впервые провалилась, и тела мусульман горами громоздились у франкских щитов [27]. Спорадические схватки продолжались до самой ночи, но к утру уцелевшие завоеватели истаяли, отхлынули назад в Испанию.
Десятилетиями огромные исламские армии будут снова и снова маршировать через Пиренеи, они на короткий срок дойдут до Альп и заставят Молота опять ринуться в бой. Когда пыл завоевателей наконец угас, причиной этому послужила скорее ожесточенная борьба за власть [28] среди десятков тысяч арабских и берберских иммигрантов, которые наводнили Испанию, чем воинская доблесть западного христианства. Но даже тогда мусульманские разбойники контролировали переходы через Альпы (их величайшей добычей стал аббат монастыря Клюни, самого богатого во всей Европе, чье похищение принесло им огромный куш [29]), а мусульманские пираты хозяйничали на море, тогда как христиане, как злорадствовал визирь одного халифа, «даже доску на воду не способны спустить» [30]. Но на западе битву при Пуатье будут помнить как поворотный момент.
Как раз чтобы обозначить людей Мартелла, некий хронист придумал выражение «europenses» – «европейцы» [31].
Прежде никакого такого народа не существовало. Впервые географические линии, разделяющие континенты, были прочерчены греками, которые удобства ради назвали землю к востоку от себя Азией, к югу – Африкой, а все остальное – Европой. Совершая все более дальние путешествия, они задавались вопросами, какая северная река отмечает границу между Европой и Азией и начинается ли Африка у границ Египта или у реки Нил, а еще сомневались, разумно ли разделять единую сушу на три части. Для всех прочих разделение было совершенно произвольным. Когда Северная Европа была еще дальними задворками, где дикари красили лица синей краской, а Средиземноморье – озерцом западной цивилизации, жители континента мечтали о единстве, а провинции Римской империи в Азии или Африке не были менее римскими от того, что лежали за пределами Европы. Когда учение Иисуса из Назарета распространилось во все стороны из римской Иудеи, никто не предсказывал, что вера его последователей будет провозглашаться как европейская религия; Эфиопия одной из первых приняла христианство, а Блаженный Августин, отец церкви, оказавший глубочайшее влияние на развитие христианской мысли, был бербером из Алжира. Как раз исламская империя, которую арабские армии раскинули на три континента, низвела христианство – за вычетом немногих разбросанных исключений – до веры европейской.
Не существовало и единого европейского христианства. Большинство варваров приняли сначала арианство, популярное течение, учившее, что Иисус был целиком и полностью смертным, а одно племя ариан – лангобарды или ломбардцы – даже провозгласило, что станет убивать каждого католического священника, который им попадется. Папы римские, в большинстве своем отпрыски старинных сенаторских родов, влачили жалкое существование среди зарастающих сорняками руин Рима, пока Хлодвиг, франкский король VI века, не узрел свет во время одной особо жаркой битвы с готами. Франки заключили союз с Римом, узаконивший правление их королей и обеспечивший папству военную поддержку, – сделка была скреплена на Рождество 800 года, когда внук Карла Мартелла Карл Великий на коленях поднялся по ступеням базилики Святого Петра, простерся ниц перед святым отцом и был коронован как Август, император римлян [32]. Другой император в Константинополе беспомощно кипел от злости. Папа, всего лишь епископ Рима, совершил ловкий переворот в борьбе за власть, так были воздвигнуты подмостки для раскола с ортодоксальной церковью Восточной Европы [33].
Когда распалась недолговечная империя Карла Великого и из Скандинавии волна за волной хлынули разорительные орды викингов, когда на пустошах встали каменной порослью замки, к стенам которых жалось немногочисленное население, Европа превратилась в отсталый полуостров, опасно прикорнувший между океаном и зеленым морем ислама. За неимением чего-либо другого в этом она обрела свое самоосознание. Современная концепция Европы родилась не из одной только географии и не из просто общей религии. Она постепенно рождалась из лоскутного одеяла разрозненных народов, видевших общую цель в борьбе с исламом.
Но в этом нарождающемся единстве бросалось в глаза одно исключение: на Пиренейском полуострове все еще господствовало внушительное исламское государство. С началом контрнаступления христианства именно тут возникла самая фанатичная из всех католических держав. Причина была пугающе проста. Христианство и ислам – родственные религии, и на Пиренейском полуострове они долго существовали бок о бок. Если хочешь изгнать из своего дома родственника, надо распалиться до много большей праведной ярости, чем требуется, чтобы изгнать просто чужого человека.
На западной оконечности известного мира готовились заявить о себе силы как исламского, так и христианского фундаментализма. И эхо их столкновения будет иметь последствия и в отдаленных странах, и в последующих столетиях.
А ведь все могло бы сложиться иначе. По-арабски исламская Испания называлась аль-Андалус (это название перейдет к испанской провинции Андалусия), и на протяжении трех столетий аль-Андалус была домом самого космополитичного общества западного мира.
С первых лет ислама мусульмане классифицировали христиан и евреев, принявших исламское правление, как «ахль аль-зимма» [34], или «защищенные люди», сокращенно «зимии». Язычники считались законной добычей, им предлагалась жестокая альтернатива обращения или смерти, но Мухаммед лично запретил своим последователям ущемлять религиозные свободы своих собратьев «людей книги» – Ах аль-Китаб, как названы в Коране иудеи и христиане [35]. На раннем этапе завоеватели-арабы пошли еще дальше: они как можно более затруднили для иудеев и христиан обращение в мусульманство – не в последнюю очередь потому, что любой новообращенный освобождался от уплаты джизья, ежегодного подушного налога, выплачиваемого свободными зимиями. Но когда массовое обращение стало нормой, оказалось, что у толерантности есть свои пределы. Один халиф IX века, склонный мелочно унижать слабых, приказал евреям и христианам повесить на свои дома деревянные изображения дьявола, носить желтые одежды, не насыпать могильных холмов и ездить только на ослах и мулах «на деревянных седлах, помеченных двумя гранатовыми яблоками на задней луке» [36].
В аль-Андалусе зимии не имели равных прав с мусульманами, – это шло бы в разрез с учением ислама, – но от них редко требовали чего-то помимо внешних признаков подчинения. Из этого родилась радикальная концепция: конвивенсия – или совместная жизнь и труд людей разного вероисповедания. Иудеи и даже христиане начали играть весомую роль в управлении страной как писцы и клерки, солдаты, дипломаты и советники; один рафинированный, ученый и благочестивый иудей стал неофициальным, но всемогущим министром иностранных дел [37], а одним из послов в его правление был христианский епископ. Иудейские поэты вдохнули жизнь в иврит, иссушенный столетиями литургии, и для евреев-сефардов [38] (от Сефарда, как назывался на иврите аль-Андалус) после долгой эры варварских гонений наступил золотой век свободы. Христиане с не меньшим пылом восприняли арабскую культуру [39]: они не только одевались, ели и мылись как арабы, но даже читали Священное Писание и слушали литургию на арабском. За это они получили прозвище «мосарабы», то есть «те, кто хочет быть арабами» [40], – им их наградила горстка упрямцев, поставивших себе целью оскорблять ислам. К числу множества цветистых оскорблений одного такого упрямца, монаха из среды аристократов Евлогия, принадлежит утверждение, будто Мухаммед похвалялся, что на небесах лишит девственности Деву Марию [41]. Большинство их обретали мученический конец, к которому так стремились, и различные части их трупов вывозили через границу, где они стали излюбленным сувениром в далеких христианских городах. Аль-Андалус трудно назвать «горнилом культур», однако различные традиции смешивались и вдыхали друг в друга новую жизнь в обстановке, когда вместо конформизма, навязываемого не столь уверенными в себе обществами, приветствовались различия. Здесь же из тени жестко иерархизированного мира выходили на свет отдельные личности с собственным мировосприятием и собственными желаниями [42].
Это был удивительный феномен в Европе темных веков, которая погрузилась во всеохватывающее уныние и пребывала в уверенности, что мир стареет, а на горизонте уже занимаются костры Апокалипсиса. Испания же, напротив, бурлила жизнью с экзотическими новыми растениями, завезенными с Востока [43], была пьяна ароматом апельсиновых деревьев, который разносил по стране ветер. Кордова, мусульманская столица на берегах реки Гвадалквивир, превратилась в самый величественный метрополис к западу от Константинополя, ее рынки полнились тонкими шелками и коврами, ее мощеные и ярко освещенные улицы пестрели вывесками, предлагающими услуги законников и архитекторов, лекарей и астрономов. Полки главной библиотеки – одной из семидесяти в городе – прогибались под весом четырехсот тысяч книг, и это число было в десять раз больше того, каким могли похвастаться величайшие собрания христианского Запада. Великая соборная мечеть, называемая по-испански Мескита, была готской церковью, преображенной в оптическую иллюзию, переменчивое пространство мечты с элегантными мраморными колоннами, поддерживавшими один над другим арочные своды в красные с белым полосы. Население Кордовы приближалось к полумиллиону человек, и какое-то время она была самым большим городом на земле. Она была, как писала одна саксонская монахиня, «ярчайшим украшением мира» [44].
Аль-Андалус достиг вершины своего могущества в середине X века, когда ее правитель обнаружил, что его величие слишком велико, чтобы терпеть статус простого «эмира» или «губернатора», и объявил себя настоящим халифом, законным преемником династии, идущей от Мухаммеда и главы всех мусульман. Чтобы увековечить свой новый статус, Абд аль-Рахман III построил себе обширный королевский город за пределами Кордовы. Полнящийся драгоценностями, с дверьми, вырезанными из слоновой кости и черного дерева, выходившими на окопанные рвами сады, наполненные экзотическими зверинцами, с броскими скульптурами, изготовленными из жемчуга и янтаря, и огромными садками для рыбы, обитателям которых скармливали по двенадцать тысяч свежеиспеченных хлебов ежедневно, он был ярчайшим свидетельством династических притязаний. Длинную череду послов, поспешивших принести дары, достойные нового халифа, принимали в зале, выложенном полупрозрачным мрамором, в середине которого под гигантской подвеской-жемчужиной располагался бассейн, наполненный ртутью, которую временами помешивали, чтобы в нужный момент ослепить посетителей.
Однако три столетия спустя могущественная исламская держава на европейском континенте рухнула, с точки зрения истории – в мгновение ока. Как любая страна, охваченная комплексом собственного превосходства, новый халифат, почив на лаврах, не снизошел до того, чтобы обратить внимание на признаки угрозы. Сказка, кульминацией которой стала история о том, как надменные халифы уединились в своем мраморном дворце, обрела достойный конец от рук злого придворного по имени Абу Амир аль-Мансур – «Победитель», – который и взаправду был настолько удачлив в бою, что выиграл все пятьдесят две из своих пятидесяти двух битв [45]. Большинство велись с беспрецедентным фанатизмом против потомков готов, засевших в своих крепостях на севере Испании, – слава аль-Мансура была такова, что заслужила ему западное прозвище Альманзор. Альманзор заточил юного халифа, построил себе царский город-дворец по другую сторону Кордовы, весь аль-Андалус превратил в полицейское государство и вызвал возмущение своих утонченных подданных тем, что для своих военных кампаний привлекал неотесанных берберов и даже наемников-христиан. После его смерти в 1002 году в мусульманской Испании вспыхнула гражданская война, а несколько лет спустя негодующие берберы сровняли с землей роскошный дворец халифов – всего через семьдесят лет после того, как он вырос на изумление всему миру.
Аль-Андалус распался на лоскутное одеяло соперничающих городов-государств, и христианские короли по ту сторону Пиренеев увидели свой шанс.
Христианское возрождение в Испании стало делом долгим и полным распрей, и бесконечные резни и интриги его миниатюрных королевств способны нагнать скуку. По давней племенной традиции каждый правитель завещал после своей смерти разделить земли между сыновьями, а сыновья соответственно пускались в оргии братоубийственных склок [46]. Маятник войны раскачивался из стороны в сторону, и соперничающие монархи заключали альянсы с мусульманскими рейдерами так же часто, как и с собратьями по вере. Тем не менее они понемногу продвигались на юг, на земли ослабленных городов-государств, и внезапно перед ними замаячила поразительная возможность перевернуть историю.
На стыке тысячелетий Западная Европа наконец начала сбрасывать с себя запятнанное кровью одеяло темных веков. Викинги начали оседать и обращаться в христианство. Из западных частей старой империи Карла Великого поднималась Франция, а земли к востоку понемногу прибирала к рукам Священная Римская империя, предшественница Германии. Римско-католическая церковь оправилась от своего бесславного бессилия и вновь начала мечтать об увеличении паствы. Свой шанс она увидела в Испании.
В 1064 году папство высказалось в поддержку войны против мусульман аль-Андалуса – первой христианской войны, которая откровенно определялась верой. С того момента испанцы выступали под знаменем папства, которое, возможно, защищало их, но не вполне объединяло. В бой они шли с непробиваемой гарантией наместника Христа на земле: массовой индульгенцией для всех погибших, которая освобождала их от наказания за грехи и твердо обещала немедленное принятие в рай.
Война вскоре получила собственное название – Реконкиста, то есть «Отвоевание»: отчасти оно позволяло отмахнуться от того неудобного факта, что значительная часть полуострова гораздо дольше была мусульманской, чем христианской. Шквал бессистемных сражений, которые велись ради личной славы и территориальной экспансии, преобразился в войну за религиозное освобождение [47] и мог похвастаться собственным святым покровителем в лице апостола Иакова. Святой Иаков – по-испански Сант-Яго – был обезглавлен в Иерусалиме через несколько лет после распятия Христа, но некий отшельник, ведомый звездой, чудесным образом выкопал его кости на одном поле в Испании [48]. В этой невероятной «жизни после смерти» апостол Иисуса преобразился в «Сантьяго Матамороса» («Святой Иаков Мавробойца»), где «моро» происходило от латинского обозначения берберов и стало общим ярлыком, который иберийские христиане навешивали на всех мусульман, будь то бербер или араб. «Мавробойца» подарил свое имя ордену Сантьяго, одному из многих военизированных монашеских братств, возникших на волне войны с исламом, а сам орден взял себе волнующий девиз: «Да покраснеет меч от арабской крови». С тех пор апостол регулярно показывался в разгар битв, облаченный в сияющие доспехи, и верхом на белом коне призывал своих последователей пронзить этим самым мечом неверных.
Но даже тогда христиане Испании не понимали толком, кому именно подчиняться. Это была эпоха Эль Сида Кампеадора, увенчавшего себя славой героя Испании невзирая на то, что подвизался платным наемником как у мусульман, так и у христиан [49]. В 1085 году коварный и амбициозный король Кастилии и Леона Альфонсо Храбрый, время от времени нанимавший Эль Сида, посулами получил контроль над городом-крепостью Толедо, и Толедо занял место разрушенной Кордовы как столицы культуры. В синагоге, спроектированной архитекторами-мусульманами [50], христиане, мусульмане и иудеи этого города бок о бок отправляли свои ритуалы. В толедской школе переводчиков мусульмане и иудеи совместно переводили с арабского на латынь тексты по медицине, науке и философии. Путешественники пересекали Пиренеи, знакомя с исламской культурой и ученостью остальную Европу, и преобразили ее интеллектуальную жизнь, равно как и ее декоративное искусство, рецепты, моды и песни [51]. На закате конвивенсии испанцы стали хозяевами современного, по нынешним меркам, мира.
Толедо стал конечным ярким сполохом того, что можно назвать последним ярким взрывом творческого взаимовлияния культур. По мере того как христианские армии продвигались все дальше на юг, правители уцелевших мусульманских государств Пиренейского полуострова начали опасаться, что их дни сочтены. Когда энтузиазм Альфонсо Храброго завел его слишком далеко и он провозгласил себя императором всей Испании, аль-Андалус наконец прибег к помощи извне [52].
Это стало фатальной ошибкой.
Альморавиды были свирепым мусульманским братством из пустыни Сахара, сложившимся вокруг бескомпромиссного проповедника, настаивавшего на жесткой дисциплине и регулярных покаяниях и чистках. Секта уже распространила свое влияние на юг, на области Африки южнее пустыни Сахара и на север в Марокко, и только и ждала того, чтобы перенести его через Гибралтарский пролив в Испанию. Едва прибыв туда, альморавиды решили, что их собратья по вере – свора полоумных гедонистов, и вернулись домой, чтобы вооружиться фатва – решением муфтиев, основанном на принципах ислама или прецедентах мусульманской юридической практики, которое подтвердило бы их право сместить испанскую элиту. По их возвращении гордые арабы аль-Андалуса скрепя сердце повиновались. Новый халифат династии Альморавидов [53] должным образом объединил сварящиеся города-государства и отбросил христиан, пока сам не обленился и не был изгнан альмохадами [54], еще одной берберской династией, чьи войска хлынули через Сеуту [55].
Альмохады были еще более фанатичными фундаменталистами, чем альморавиды, и взялись преобразовывать аль-Андалус в государство джихада.
Давным-давно, когда ислам распространился за пределы Аравии, его ученые разделили весь мир на Дар аль-Ислам, или «дом ислама», и Дар аль-Харб, или «дом войны». Согласно этой доктрине, долг первого воевать со вторым, пока второй не исчезнет совсем. Вооруженный джихад (само слово «джихад» переводится как «борьба» и часто обозначает внутреннее стремление к благодати) был божественно санкционированным инструментом экспансии. Когда «дом ислама» распался на фракции и мусульмане начали воевать с мусульманами, зачахла сама сильная рука священной войны. Но движение альмохадов отвергало подобную немощь и не только подвергло жестокой критике собратьев-мусульман, но и объявило вечный джихад против испанских христиан и евреев. Согласно лишившемуся корней и безжалостно обкорнанному вероучению альмохадов, христиане были ничем не лучше язычников: раз они почитали божественную Троицу, а не единого истинного Бога, то не заслуживали статуса защищенных зимиев. Еще остававшиеся в аль-Андалусе зимии были поставлены перед ультиматумом: обращение или смерть. Поставленные перед таким выбором, многие бежали на отвоеванные у мусульман территории.
Сходную трансформацию претерпело и западное христианство. Начавшись как смиренное движение иудеев-сектантов, оно было признано официальной религией Римской империи и довольно скоро примирилось с войной. Легионы Рима маршировали на битву под знаком креста, и так же поступали последовавшие одна за другой волны варваров, многие из которых сами обратились в католичество под острием меча. Святой Августин, первый христианский мыслитель, сформировавший концепцию справедливой войны, осуждал сражения, ведущиеся ради власти или богатства, приравнивая их к грабежу, но признавал, что на насилие надо отвечать насилием ради сохранения мира. Дорожка от Августина пролегла извилистым путем через мародеров-варваров и викингов, через грандиозные папские чаяния и Европу в тени военных лагерей, пока войну за христианскую веру не стали считать благородной борьбой против Антихриста. Католические теологи, когда наконец взялись разгадывать тайны ислама [56], не видели в примирении двух религий ни доктринального, ни практического смысла: если мусульмане хотя бы признавали христиан cвоими, пусть и заблудшими, предшественниками в вере, христианам их религия неумолимо твердила, что мусульмане безнадежно заблуждаются.
При всех их различиях противопоставило друг другу христианство и ислам как раз их сходство. В отличие от прочих крупных религий каждая из них притязала на эксклюзивное владение высшим божественным откровением. В отличие от большинства обе они были религиями миссионерскими, стремившимися донести свою весть до неверующих, на которых навешивали ярлык язычников или неверных. Как вселенские религии и географические соседки они были естественными соперницами. На западе это соперничество сдерживалось горсткой просвещенных правителей, неповоротливостью протяженной исламской империи и кровавой обращенностью во внутрь себя Европы. Но последний отблеск терпимости быстро угасал, исламский мир расщеплялся на более острые осколки, а Европа наконец всколыхнулась.
Папа призвал к оружию воинов западного христианства. Десятки тысяч христианских солдат двинулись на юг по Испании [57], одержимые мстительным и фанатичным порывом изгнать ислам из Европы.
На западной оконечности мира священная война была провозглашена одновременно по обе стороны все расширяющейся пропасти. Не случайно, что потомки борцов за свободу Пиренейского полуострова переплывут океаны, чтобы завоевать дальние страны во имя Христа. Война с исламом была у них в крови: на ней зиждилось само существование их государств.
Когда битва за Запад достигла своей кульминации, воодушевленные европейцы обратили свои взоры на Восток. Ответный удар по исламу, начавшийся в Испании, переносился на сам Иерусалим и теперь получил имя, под знаком которого пройдут последующие столетия: крестовые походы.
Глава 2
Святая земля
Под палящим зноем лета 1099 года тысячи обожженных солнцем христианских солдат прошли всю Европу, переправились в Азию и стеклись к Иерусалиму. Проливая слезы радости, распевая молитвы и усматривая видения в небесах, они, пригибаясь под дождем ядер из мусульманских катапульт, подвели деревянные осадные башни к высоким белым стенам святого города. Разрушив укрепления, они прорубали себе дорогу по отмеченным шрамами времени улицам, пока, казалось, не закровоточили сами камни. Едва покончив с резней, пошатываясь под грузом награбленного, они собрались в церкви Гроба Господня и молились у гробницы Христа. Через 461 год после того, как стал мусульманским, Иерусалим снова был в руках христиан.
Всплеск европейского религиозного рвения, давший начало Первому крестовому походу, зародился четырьмя годами ранее, в лесистых горах Центральной Франции. Там холодным ноябрьским утром 13 архиепископов, 90 аббатов, 225 епископов и бряцающая оружием процессия сеньоров и рыцарей собрались послушать торжественное воззвание папы римского. В церковь все не поместились, и собравшиеся перебрались на соседнее поле, чтобы услышать громкий призыв к оружию, который обрушит на Восток столетия священной войны.
Папа Урбан II [58], в миру Одо Шатильонский, происходил из рыцарской семьи в Шампаньи. На великий замысел его вдохновила иберийская Реконкиста, а действовать подтолкнула настоятельная просьба из Константинополя.
Шесть столетий спустя после падения Рима Константинополь все еще считал Западную Европу имперской провинцией под временной оккупацией варваров и наотрез отказывался признать папу римского верховным главой христианства. Каких-то сорок лет назад легаты папы все еще обивали пороги под головокружительным куполом кафедрального собора Константинополя Святой Софии и в приступе раздражения отлучили от церкви патриарха [59], что раз и навсегда разделило восточное православие и римско-католическую церковь. Просить помощи у Рима было мучительно, но у Константинополя не оставалось иного выбора.
С его площадями и улицами, украшенными греческими и римскими скульптурами, с его ипподромом, обрамленным позолоченными статуями всадников, и рядами, способными вместить сотню тысяч человек, с церквями, сияющими золотом мозаик, и мастерскими, заполненными утонченными иконами и шелками, Константинополь знал только одного соперника за титул самого великолепного метрополиса известного мира. Этот соперник был построен Аббасидами, арабским кланом, изгнавшим халифов династии Омейядов [60] с их престола в Дамаске и нанесшим завершающий удар, пригласив восемьдесят свергнутых кузенов на пир: после обеда принцев зарезали, затем столы накрыли вновь и новые правители пировали под стоны умирающих. В VIII веке Аббасиды бросили враждебный Дамаск ради места на реке Тигр, там, где она ближе всего подходит к Евфрату, и в двадцати милях от громоздящихся руин древней персидской столицы Ктесифона. Новая столица была оптимистично наречена Мадина-аc-Салам, или «Город мира», и позднее была переименована в Багдад, или «Божий дар».
Как наследник столетий культурного великолепия и место пересечения потоков знаний, текущих из конца в конец исламской империи, Багдад быстро стал интеллектуальным центром всего мира. Ученые самых разных национальностей собирались в его Доме Мудрости переводить огромное собрание греческих, персидских, сирийских и индийских текстов по науке, философии и медицине на арабский язык, а исламские теологи опробовали Коран на Аристотеле. Математики завезли из Индии и усовершенствовали десятичную позиционную систему счисления и раскрыли секреты алгебры и алгоритмов. У взятых в плен китайцев здешние ученые вызнали секрет изготовления бумаги, и межбиблиотечный обмен распространял все растущий свод знаний. Инженеры и агрономы усовершенствовали водяное колесо, улучшили ирригацию и собирали урожаи новых культур; географы наносили на карты сушу, астрономы – звездное небо. Эхо багдадского ренессанса учености волнами расходилось по всему миру, – но и тогда он уже загнивал изнутри.
Халифы династии Аббасидов построили Багдад как абсолютно круглый город, и в его сердце находился монументальный дворцовый комплекс, Золотые Врата. По мере того как их образ жизни становился все более царским, Золотые Врата стал дворцом удовольствий, вина, женщин, песен и поразительных пиров; в мире, описанном в сказках «Тысяча и одна ночь», придворные целовали землю, приближаясь к халифу, за которым повсюду следовал палач и который сбегал от общественных обязанностей в огромный гарем, полнившийся звуком мягких шагов собранных со всего света наложниц и капризных, остроумных певиц. В 917 году посольство из Константинополя принимал военный эскорт всадников на лошадях с золотыми и серебряными седлами, слонов в попонах из парчи и атласа, сотни львов и двух тысяч черных и белых евнухов. Слуги разносили вино со льдом и фруктовые соки. Дворец был увешан 38 тысячами занавесей из золотой парчи и устлан 22 тысячами ковров, а в выложенном оловом озере плавали четыре золотых с серебром корабля. Из другого пруда росло искусственное дерево, с которого свисали плоды из драгоценных камней, а на золотых и серебряных ветвях сидели золотые и серебряные птицы; по приказу халифа дерево начинало раскачиваться, металлические листья шелестели, а металлические птицы чирикали [61]. Все это плохо сочеталось с идеалами равенства мединской уммы, и по мере того как росло возмущение, халифы решили обезопасить себя, создав личную армию гулямов, турецких рабов, захваченных в стычках с дикими племенами, кочевавшими в степях Центральной Азии. Новая армия решила проблему, но лишь на короткий срок. Турки обратились в ислам, переняли местную культуру и совершили серию военных переворотов: за девять лет по меньшей мере четыре из пяти халифов были убиты. Когда возмущенные багдадцы восстали, турки дотла сожгли целые районы города. Центр Багдада не смог устоять, как не устоял и центр широко раскинувшейся исламской империи. На западе секта шиитов [62] завладела контролем над Тунисом и Египтом; их правящая династия, называвшая себя Фатимидами, поскольку претендовала на происхождение от дочери Мухаммеда Фатимы, распространила свое владычество на Сирию, Палестину и большую часть самой Аравии и на протяжении двух столетий правила как соперничавший халифат со столицей в Каире. На востоке на время ожила Персидская держава [63], пока экспансия Китая на запад не вытолкнула тюркские племена в Иран, где они создали собственные независимые царства и лишь на словах подчинялись халифам. В 1055 году тюркское племя сельджуков, получившее название от имени своего первого вождя Сельджука, наконец захватило Багдад, посадило там своего вождя султаном, которому принадлежала вся полнота светской власти, оставив халифам лишь отправление религиозных ритуалов.
За всеми этими потрясениями Византийская империя наблюдала удовлетворенно. Она вернула себе кое-что из давно утраченных земель, и ее армии почти достигли врат Иерусалима. Однако падение Багдада обернулось для его соперницы далеко не триумфом. Вскоре сельджуки хлынули через восточные границы Византии, за два десятилетия они разгромили ее армии [64] и в десять раз сократили ее территорию. Теперь их силы стягивались к самому Константинополю, и сокровищница античности как будто оказалась на грани уничтожения.
Скандальные слухи [65], что будто бы турки заставляют христианских мальчиков мочиться в крестильные купели и насилуют духовных лиц, монахов и даже епископов, бередили Европу годами, но для тех, кто их пропустил, папа Урбан все разложил по полочкам. «Турки, – зловеще проповедовал он с импровизированной кафедры, – до основания разрушили одни храмы Господни, а другие приспособили к отправлению собственного культа. Они оскверняют алтари нечистотами и испражнениями. Они подвергают христиан обрезанию и кровью от обрезания обмазывают алтари или сливают ее в крестильные купели. Им нравится убивать, вспарывая животы жертвам, вытаскивая конец внутренностей и привязывая их к столбу. После они кнутами гонят свои жертвы вокруг столба, пока внутренности у них не вывалятся и они не упадут замертво. Других они привязывают к столбам и пускают в них стрелы; еще других они хватают и вытягивают за шею и проверяют, смогут ли отсечь им голову одним ударом меча. И что мне сказать об ужасном насилии над женщинами?» [66]
Такого перечисления ужасов хватило бы, чтобы у христиан вскипела кровь. Но Урбан на этом не остановился. Уговорить католических рыцарей отправиться на помощь православному Константинополю и его известному своими интригами императору было непросто, и папа направил крестовый поход в иное русло – на Иерусалим [67].
В эпоху, когда мужчины и женщины ревностно совершали паломничества, чтобы прикоснуться к божественной благодати, исходящей от реликвий малоизвестных святых, город, где Иисус проповедовал, умер и воскрес, был святым граалем всех кающихся. Столетиями мусульманские правители Иерусалима довольствовались взиманием с христиан платы за разрешение помолиться в святых местах, но новые власти исламского мира порвали со старой традицией. В 1009 году некий египетский правитель [68] возмутился, что повсюду расхаживает множество христианских паломников, и приказал снести до основания храм Гроба Господня. Храм восстановили после выплаты огромной дани, но вскоре после этого у врат Иерусалима объявились турки и с новым пылом взялись преследовать паломников. Как плененная девственница, папа Урбан играл на душевных струнах рыцарей: Иерусалим, дескать, молит об освобождении и «не перестает взывать к вам о помощи» [69].
То, как обращались с христианами в святом городе, было дьявольски унизительным, но в реальности Урбану так же отчаянно нужно было убрать европейских рыцарей с Запада, как и отправить их на Восток. Когда закончились наконец темные века, обширному классу хорошо обученных и дорого вооруженных воинов оказалось нечем заняться, разве только нападать друг на друга, терроризировать беззащитное население или – к возмущению Рима – совершать набеги на церковную собственность. «От того, – корил собравшихся рыцарей папа, – вы убиваете друг друга, от того ведете войну и от того часто погибаете от взаимных ран. Пусть отныне ненависть уйдет промеж вами, пусть ваши ссоры окончатся, пусть прекратятся войны и пусть утихнут все разногласия и споры. Ступите на путь, ведущий ко Гробу Господню; отберите эту землю у нечестивого народа и покорите ее себе… ради отпущения грехов ваших, в уверенности славы вечной в царстве небесном» [70]. Далее он объявлял, что сам Христос приказывает им истребить мерзостных турок в его земле.
– Deus lo volt! Этого хочет Бог! – вскричали рыцари.
При всей зажигательной риторике Урбана идея войны во имя Христово была не нова. Беспрецедентным было сочетание военного похода с пожизненным паломничеством. Перспектива была такой манящей, что тысячи бедных мужчин, женщин и детей стекались к подстрекателям-проповедникам вроде Петра Пустынника, имевшего, как повсеместно полагалось, послание с самих небес, в котором Господь приказывал его людям напасть на турок. Вооруженные лишь верой в то, что Господь рассеет неверных у них на пути, поход нищих отправился на Восток еще до того, как начали собираться европейские войска. По пути многие паломники практиковали резню в богатых иудейских общинах, пока не добрались до Константинополя, где пришедший в ужас император спешно отослал их прочь из города, и они приняли ужасный конец от рук турок.
Когда в следующем году начался настоящий крестовый поход, страшные тяготы пути превратили гордых воинов в оголодавших зверей, отрезавших гниющие ягодицы зарубленных мусульман и зажаривавших их на костре, а после вгрызавшихся в еще полусырое мясо. Однако сама атака на Иерусалим гарантировала возмещение. Память о том дне резни лета 1099 года не умрет никогда: ни в мусульманском мире, авторы которого стенали, что погибли сотни тысяч человек, ни среди христиан, которые с мрачным упоением писали домой о «чудесных делах» [71], сотворенных во имя Господа. По сообщениям очевидцев, горы голов, рук и ног загромождали улицы. Убегающих женщин насаживали на мечи. Видели, как рыцари «за ноги хватали младенцев с коленей матерей или из колыбелей и разбивали их о стены и ломали им шеи» [72] или вскрывали животы умершим, чтобы достать золотые монеты, которые те «протолкнули себе в мерзкие горла, пока были живы» [73]. В мечети аль-Акса [74], почитаемой мусульманами как храм, куда ночью прискакал на крылатом скакуне Мухаммед перед тем, как вскарабкался с расположенной неподалеку скалы [75] на небеса, резня была такова, что очевидцы спорили, были ли крестоносцы в крови по щиколотку, по колено или по поводья лошадей [76]. Вонь витала в воздухе еще месяцами, даже после того, как тысячи гниющих тел были сложены – силами уцелевших мусульман – под стенами города «кучами размером с дома» [77] и сожжены на медленно горевших кострах, дым которых застилал небо и с которых потом собрали еще больше проглоченного золота. Размах резни только раздул веру крестоносцев в то, что благословение сияет на них с небес; один восторженный монах заявил, что завоевание Иерусалима было величайшим событием в истории со времен Распятия, предвестником прихода Антихриста и наступления Последних дней [78].
Иерусалим стал столицей христианского королевства, и длинная череда французских королей, большинство из которых звались Балдуинами, была коронована в храме Гроба Господня. К северу от Иерусалима вдоль восточного побережья Средиземноморья протянулись еще три государства крестоносцев: Эдесса, Антиохия и Триполи. На знойных землях Сирии и Палестины вырос кордон замков, один монументальнее другого и каждый на расстоянии не более дня пути верхом от предыдущего. Гарнизонами в самых больших стали славящиеся своей дисциплиной и баснословным богатством военные ордена, выросшие из братств, чьей первоначальной целью были уход за больными паломниками и охрана их в пути. Рыцари-госпитальеры и рыцари-тамплиеры стали элитными подразделениями святого воинства, подотчетными только папе римскому. Тамплиеры скакали в авангарде крестоносцев на лошадях, налобники которых были снабжены стальными шипами. Идя в атаку с развевающимися за спинами белыми плащами, на которых был нашит красный крест, они выставляли перед собой копья и неслись во весь опор безмолвным, сомкнутым строем на передовые линии противника [79].
Тамплиеры и госпитальеры жили как монахи [80] и сражались как дьяволы, но зачастую были ожесточенными соперниками. Земля, которую люди Запада называли Отремер – «За морем», с самого начала являлась курьезной аномалией. Эту Европу в миниатюре, пересаженную на Восток и одетую в экзотические цвета, терзало то же соперничество высокомерных правителей, которое заставляло сеньоров вцепляться в глотку друг другу дома, и вскоре Отремер пал жертвой обычных распрей. Одни крестоносцы постоянно интриговали друг против друга, остальные же оставили идею священной войны и ассимилировались. Кровожадные новоприбывшие возмущались, обнаружив, что их предшественники повязывают головы арабскими платками, опрыскивают себя благовониями и сидят по-турецки на плиточном полу подле плещущих фонтанов, пока их развлекают танцовщицы. Для них было придумано унизительное наименование «пулины», или «дети», – и растущая отчужденность неминуемо должна была закончиться скверно.
Государства крестоносцев в плане выживания всегда полагались на разобщенность мусульман, окружавших их с трех сторон. На севере турки-сельджуки погрязли в свирепых внутренних конфликтах. На востоке лежали враждующие между собой города-государства Сирии, а на юго-западе Египет с шиитской династией Фатимидов переживал последний губительный скандал. В этом хаосе процветала отколовшаяся от шиитов секта [81], которая с большей охотой вонзала нож в спину собратьям-мусульманам, чем убивала христианских захватчиков. Их штаб-квартира располагалась в гористой области у побережья Сирии, в крепости, построенной на горном уступе, откуда их глава, призрачная фигура, известная европейцам как Старец Горы, якобы приказывал своим последователям прыгать и разбиваться насмерть, чтобы произвести впечатление на проезжающих мимо крестоносцев. Остальному мусульманскому миру секта была известна как гашишины, или «поедатели гашиша», – общепринятое уничижительное прозвище, которое крестоносцы переделали в название «ассасины». Отсюда был лишь один шаг до фантазий западных баснописцев, утверждавших, что членам культа давали в ходе оргий в дыму гашиша мельком увидеть Рай, а после посылали c самоубийственным заданием, по выполнении которого им будет раз и навсегда открыта дорога на небеса. Находились они под действием наркотика или нет, но ассасины устранили большое число видных мусульман, равно как и множество крестоносцев.
Второй крестовый поход объединил мусульман много лучше, чем они сумели бы это сделать сами. Возглавляемый лично королями Франции и Германии, он начался в 1477 году ради попыток вернуть Эдессу, крестоносное государство, которое первым было завоевано и первым потеряно, и завершился фарсом – атакой на богатый Дамаск, единственный мусульманский город, который действительно был дружески настроен к христианам. Устранив свои разногласия и разгромив рыцарей-паломников, сирийцы вторглись в процветающий, распадающийся Египет, который с отчаяния призвал на помощь крестоносцев, а те сперва защищали Египет, а потом сами же принялись его грабить.
Египтянам пришлось позвать врагов, чтобы изгнать союзников, но на сей раз сирийцы пришли, чтобы остаться. Племянник и правая рука их командующего, молодой курд по имени Юсуф ибн Айюб стал визирем Египта и в 1171 году изгнал последнего правителя династии Фатимидов. Затем Юсуф, который станет известен на Западе как Саладин, уже сам захватил Сирию. Когда в 1176 году сельджуки закопали топор междоусобной войны на достаточно долгий срок, чтобы нанести новое сокрушительное поражение Византийской империи [82], Саладин заключил альянсы с обеими сторонами. За десять лет он объединил соседей крестоносцев, устранил потенциальные угрозы своей власти и захлопнул ловушку вокруг христианских государств.
Саладин стал тем противником, которого крестоносцы страшились больше всех: прекрасный тактик, он был заодно глубоко верующим человеком. Он так же фанатично был предан оживлению выдохшегося джихада, как самые ревностные христиане – крестовым походам. Подобно папе Урбану, он поместил Иерусалим в сердце своей кампании по строительству новой исламской супердержавы, но планы у него были еще грандиознее, чем у папы римского. Он заявил, что после завоевания святого города разделит свои земли, cоставит завещание и будет преследовать европейцев в их далеких странах, «дабы освободить землю ото всех, кто не верует в Бога, или умру пытаясь» [83].
В 1187 году Саладин исполнил первую часть своего обещания. Тем летом он форсировал реку Иордан во главе тридцатитысячной армии, большую часть которой составляла быстрая легкая конница. Навстречу ему вышли двадцать тысяч крестоносцев, включая тысячу двести рыцарей в тяжелых доспехах.
Две армии сошлись неподалеку от Назарета.
Одного только названия доставало, чтобы пульс христиан участился предчувствием неминуемой победы. Но Бог – или тактическое искусство – был не на их стороне. Знать препиралась, следует ли пересекать пустыню под палящим зноем или лучше подождать, пока мусульмане сами придут к ним. Cаладин же выманил крестоносцев на иссушенную равнину к западу от Тивериадского озера. Когда у христиан кончилась вода и наступила ночь, мусульманский авангард осыпал их оскорблениями, выпустил поверх их голов дождь стрел и поджег кусты вокруг лагеря, чтобы они задыхались в дыму. На следующее утро ослабевшая христианская пехота беспорядочно сбежала, вскарабкавшись на склоны потухшего вулкана, известного как Хаттинские Рога, и отказывалась спускаться. Рыцари атаковали снова и снова, но свежие мусульманские войска разгромили их за несколько часов [84].
Три месяца спустя Иерусалим капитулировал перед курдским завоевателем. Папа немедленно созвал Третий крестовый поход, и на его призыв откликнулся могущественный триумвират: английский король Ричард Львиное Сердце, французский король Филипп II и император Священной Римской империи Фридрих I. Престарелый Фридрих упал с лошади при переходе вброд реки в Турции и скончался от сердечного приступа; по обычаю того времени плоть с его костей выварили и похоронили, а сами кости зашили в мешок, – так они сопровождали двинувшуюся дальше армию. Ричард осадил прибрежный город Акра, пообещав пощадить его жителей, а после учинил резню трех тысяч пленных, когда город сдался. Филипп рассорился с английским королем из-за награбленного и отбыл восвояси, и крестовый поход угас, не достигнув своей цели.
Новые волны вооруженных паломников накатывали из Европы ради возвращения святого города – с равно плачевными результатами. Самым вопиющим был Четвертый крестовый поход, по распоряжению своих венецианских казначеев свернувший на Константинополь и даже близко не подошедший к Иерусалиму. В 1204 году крестоносцы впервые за девять веков проломили мощные стены Константинополя и разграбили величайший христианский город мира. В величественной Святой Софии пьяные рыцари порубили сверкающий алтарь и топтали бесценные иконы, пока шлюха раздвигала ноги на престоле патриарха. Монахинь насиловали прямо в монастырях, в домах убивали женщин и детей. Венецианцы вывезли с античного ипподрома золоченых коней, чтобы установить над входом в собор Святого Марка, и подчинили себе коммерческую жизнь города. Одного из числа своих оккупанты провозгласили императором, и на протяжении пятидесяти лет существовали три Римские империи: низложенные правители Константинополя в изгнании, Священная Римская империя в Германии и так называемая Латинская империя крестоносцев. Разумеется, ни одна из них не имела власти над самим Римом.
Великое движение Запада на Восток, которое инициировал папа Урбан II, нанесло смертельную рану тому самому городу, который позвал их на помощь.
И вновь все могло бы сложиться иначе. В 1229 году император Священной Римской империи Фридрих II прибыл в Иерусалим и сел за стол переговоров с мусульманскими правителями, чтобы договориться об аренде священного города. При всей своей религиозности Фридрих II был скептиком, выросшим на космополитичной Сицилии [85], в единственном христианском государстве под стать аль-Андалусу в том, что благосклонно смотрело на плодотворный обмен между тремя религиями Ветхого завета, и его уже отлучал от церкви папа за то, что он отказался отправиться в крестовый поход. Фридрих пировал с султаном, говорил на арабском языке, который неплохо знал, и на следующее утро муэдзины, призывавшие на молитву правоверных с минаретов городских мечетей, из уважения промолчали. В ответ Фридрих настоял, чтобы вечером звучали только мелодичные арабские песни. Договор об аренде был подписан, и на пятнадцать лет Иерусалим вернулся под контроль христиан – к возмущению фанатиков с обеих сторон.
Фридрих – известный среди равных, которые, впрочем, не всегда им восхищались, как Stupor mundi, или «Чудо света», – был свободомыслящим человеком, а потому аномалией. На какое-то время вспышка мирного света осветила возможный силуэт совершенно иного будущего, но и она скоро угасла. Вмешательство Фридриха в конечном итоге еще более взбудоражило Европу, и крестовые походы потянулись к своему неизбежному концу. Для многих последним шокирующим прозрением стал провал Седьмого крестового: его армии уничтожили голод, болезни и военное поражение в Египте, который так самоуверенно взялся покорить Людовик IX Французский.
«Горе и ярость поселились в моем сердце, – писал в душевных терзаниях один тамплиер, – укрепились так прочно, что я едва смею оставаться в живых» [86].
«Казалось, Господь пожелал поддержать турок к нашему урону… О, Господь Всемогущий… увы, королевство Востока утратило так много, что ему уже не подняться больше. Они превратят в мечеть монастырь Пресвятой Девы, и поскольку кража угодна Сыну ее, кто будет над этим плакать, подчинимся и мы тоже… Любой, кто желает воевать с турками, безумен, ибо Иисус Христос больше с ними не воюет. Они завоевали, и они будут завоевывать. Что ни день они преследуют нас, зная, что Бог, который бодрствовал, ныне спит, а Мухаммед прирастает силой».
Хотя Людовика выкупили за астрономическую сумму и позднее канонизировали, некоторые святые воины утратили всяческую надежду и перешли на сторону мусульман.
Когда последние твердыни крестоносцев вот-вот должны были пасть и тысячи христианских беженцев осадили побережье Палестины, казалось, только чудо способно спасти Европу от поглощения исламом.
И в этот момент на Восток ворвалась орда свирепых всадников.
Изо всех вторжений кочевых племен, волнами накатывавшихся на запад через Азию, приход племен, объединенных Чингисханом, оказался не только самым неожиданным, но и самым опустошительным. В начале XIII века военная машина монголов прокатилась по Китаю, повернула на запад и выжгла себе дорогу через Иран и Кавказ. Всадники пронеслись через Русь в Польшу и Венгрию, где стерли с лица земли внушительную европейскую армию, в рядах которой были большие отряды тамплиеров и госпитальеров. В 1241 году они дошли до Вены – и внезапно растворились так же быстро, как появились, отозванные домой смертью своего великого хана [87].
Европа, убежденная, что Апокалипсис уже близок, в последний момент получила передышку. Исламскому миру повезло меньше. Там монголы остались, а в тех областях, по которым неудержимо прокатывалась орда, лежали тлеющие руины бесчисленных великих городов.
Халифы еще укрывались в своих багдадских дворцах, когда у их ворот объявилось новое бедствие из степей. В 1258 году монголы разграбили Багдад и внезапно положили конец пяти векам правления Аббасидов. У победителей было табу на пролитие королевской крови, поэтому последнего халифа закатали в ковер и до смерти затоптали лошадьми. Багдад сожгли, его население вырезали, его дворцы разграбили и превратили в руины. Ирригационную систему, превратившую Месопотамию в один из самых плодородных регионов мира, разрушили раз и навсегда, и земля, более пяти тысячелетий служившая колыбелью цивилизаций, лежала разоренная и опустевшая.
Исламская цивилизация так и не оправилась от этого удара. Реакцией многих мусульман на потрясения стал уход в себя: это было время вертящихся дервишей, мистиков, превративших ощущение изгнания и отчужденности во внутреннюю битву, способ избавиться от эгоистического эго ради того, чтобы раскрыть безграничное божественное начало. Пока одни смотрели внутрь, другие оглядывались назад. С утратой накопленных за столетия знаний, последовавшей за уничтожением бесчисленных библиотек, улемы (так собирательно называют мусульманских богословов) отошли на позиции консерватизма, искавшего стабильности в фундаментализме. Ранняя готовность ислама жить бок о бок с иудаизмом и христианством была окончательно отброшена, и теперь улемы учили, что всех чужеземцев следует держать под подозрением, и немусульманам воспретили посещать Мекку и Медину.
К середине XIII века силой боевых топоров, скимитаров и луков монголы построили крупнейшую лоскутную империю, какую только знал мир. Осажденные крестоносцы, цеплявшиеся за остатки своих былых государств, начали видеть во врагах своих врагов потенциальных союзников и десятилетиями питали надежды выковать опоясывающий мир монголо-христианский альянс против ислама. Монголы сами предложили совместно напасть на Египет, которым правила теперь военная каста мамлюков, династия солдат-рабов турецкого происхождения, изгнавшая потомков Саладина. Однако крестоносцы настаивали, чтобы монголы крестились, прежде чем христиане пойдут с ними на битву, и еще одна удачная возможность была утрачена из-за непримиримости Запада. В результате многие монголы обратились в ислам и восстановили разрушенные ими же города с еще большим размахом. Губители цивилизаций, монголы оказались на удивление способными управляющими, и на протяжении столетия Pax Mongolica, или «Монгольский мир», господствовал во всей Азии.
Со временем насытились и почили на лаврах сами монголы, и их империя пала жертвой внутренних усобиц. Когда она распалась на множество крупных и мелких владений (одно из них, государство Золотая орда, владело Русью до 1480 года), исламский мир постиг новый катаклизм. В середине XIV века в Азию пришла бубонная чума, завезенная стремительно передвигающимися монгольскими армиями и унесшая около трети населения. Цивилизация рухнула снова, и уже ослабленные династии утратили свою власть. «Они приближались к полному уничтожению и распаду, – сетовал мусульманский историк Ибн Хальдун, родившийся в семье беженцев из аль-Андалуса и потерявший родителей в результате эпидемии Черной смерти. – Города и строения приходили в запустения, дороги и веховые знаки были уничтожены, селения и усадьбы опустели, династии и племена ослабли. Весь обитаемый мир изменился» [88].
Точно так же XIV столетие отбросило назад и Европу. Тут Черная смерть забрала не меньше жизней, чем на Востоке, и некогда процветающие города внезапно опустели, а коммерция замерла. Династическая бойня Столетней войны между Францией и Англией тянулась бесконечно. Снова подняли голову суеверия: это было время, когда семнадцать церквей похвалялись, что владеют крайней плотью Господней, и никто не видел в таком утверждении ничего необычного. Моральная власть церкви рухнула: папство уже поступилось своим авторитетом, когда в 1309 году под давлением французского короля перебралось во Францию. Католическая церковь была ввергнута в собственный Великий раскол, когда законность папы все больше оспаривали враги французской короны, которые поддерживали второго папу, посаженного на престол в Риме. Через сто лет после переезда папского престола во Францию Пизанский собор объявил обоих пап – и французского, и римского – еретиками и избрал третьего папу; нечестивая неразбериха разрешилась лишь восемь лет спустя на Констанцском соборе, затянувшемся на три года празднестве, где присутствовали 72 тысячи заинтересованных лиц, включая 2 пап, 1 короля, 32 принцев, 47 архиепископов, 361 юриста, 1400 торговцев, 1500 рыцарей, 5000 священников и 700 проституток [89]. Когда первый за несколько поколений бесспорный папа вернулся в Рим, то застал его в таком упадке, что его едва можно было признать городом. Повсюду выросли строительные леса, Вечный город превратился в вечную стройку [90].
На более чем сто лет священная война уступила место борьбе за простое выживание. Тем не менее под фасадом всеобщего разорения глубоко укоренившееся соперничество между исламом и христианством вовсе не зачахло. Если уж на то пошло, оно лишь обострилось от того, что вынужденно стало подспудным.
К тому времени, когда ужасы стерлись из памяти, новые мусульманские правители обратили свои взоры на запад. Безудержные амбиции монголов расширили их горизонты, и они снова начали мечтать о новом мировом порядке, который родился бы из распада старого. Одна династия – Оттоманы – консолидировала свою власть во всей Турции и двинулась на Европу через Балканы, а первой ее целью стал Константинополь.
Османский султан Баязет I, прозванный за военные успехи Джильдерим, что означает «Молния», объявил новый джихад. Чрез три столетия после того, как крестоносцы отправились их изгнать, турки вновь стягивали силы к берегам Босфора.
По мере того как линия фронта между христианством и исламом медленно, но верно сдвигалась на запад к границам Венгрии, Европа наконец начала откликаться. В 1394 году папа в Риме (тогда еще существовал второй папа во Франции) провозгласил новый крестовый поход против быстро наступающих мусульман. Привычной уже главной целью похода было изгнать турок с Балкан, снять осаду Константинополя и пройти по Турции и Сирии, чтобы освободить Иерусалим.
И исход был вполне предсказуемым.
Столетняя война замерла в период очередного спорадического мира, и Филипп Храбрый, могущественный герцог Бургундии и де-факто правитель Франции, увидел в папском призыве к оружию еще один способ похвалиться своим богатством. Вопрос о том, как победить турок, занимал его гораздо меньше, и Филипп решил послать вместо себя своего старшего сына, двадцатидвухлетнего Иоанна Бесстрашного.
В апреле 1396 года несколько тысяч французских крестоносцев направились к Будапешту, останавливаясь по пути ради череды роскошных пиров, и соединились с потрепанными отрядами короля Сигизмунда Венгерского. Также на стороне западного воинства выступил большой отряд рыцарей-госпитальеров, а кроме того, прибыли отряды из Германии, Польши, Испании и разрозненные группки энтузиастов всей Европы. Венецианский флот поднялся вверх по Дунаю, чтобы встретить сухопутные войска, и объединенная армия стала держать военный совет о тактике в столкновениях с турками.
И тут же разгорелись ожесточенные споры. Первой проблемой стало то, что турок нигде не было видно. Разослали разведчиков, но и они вернулись ни с чем. Венгры утверждали, что крестоносцам надо стоять на месте и пусть враг измотает себя долгим переходом, – урок, который стоило бы усвоить из битвы при Хаттине. Жадные до славы французы уже сочли турок трусами и переубедили своих союзников. Армия вторглась в Болгарию и на территорию мусульман, где французы принялись с жаром грабить и вырезать местное население. Наконец 12 сентября крестоносцы подошли к стенам Никополя, города-крепости, построенного на крутой известняковой скале, возвышавшейся над низовьями Дуная. Поскольку осадных машин у них не было, они разбили лагерь, устроили роскошный пир и стали ждать, когда защитники сдадутся. Большинство их были еще пьяны, когда прибыли гонцы с известием, что огромная турецкая армия находится всего в шести часах пути от Никополя.
Битва была столь страшная, что средневековые хронисты позднее утверждали, будто в ней участвовало четыреста тысяч человек.
К тому времени французы препирались промеж собой из-за того, кому достанется честь возглавить наступление. Как водится, верх одержали голоса безрассудных. Пока венгры, рыцари-госпитальеры и остальные их союзники держались позади, французские рыцари галопом понеслись к холму, вниз по склону которого наступали турки. Они атаковали слабый турецкий передовой отряд, однако их кони налетели на заостренные колья, а сами они оказались беззащитны под убийственным шквалом стрел. Половина рыцарей была выбита из седла, но они сражались храбро и сумели обратить в бегство основную часть хорошо обученной турецкой пехоты. И вновь, презрев совет старших, молодые рыцари вскарабкались на холм в своих неуклюжих доспехах, убежденные, что битва уже позади. Когда они взобрались на гребень, забили барабаны, завыли трубы и с криками «Аллах акбар» на них, громыхая, вылетела турецкая конница.
Многие французы бежали назад вниз по склону. Остальные отчаянно сражались, но в конечном итоге даже телохранители Иоанна Бесстрашного, видя, что их вот-вот растопчут, простерлись ниц, моля пощадить их господина. Лишенные всадников лошади метались по равнине, остальные ряды крестоносцев были окружены и порублены. Многие бежали к Дунаю, но толкотня среди спешивших попасть на борт ожидающих кораблей была такова, что несколько кораблей перевернулись, и тем немногим, кто удержался на борту, приходилось обороняться от своих же крестоносцев. Лишь небольшому числу удалось перебраться на другой берег, где большую их часть ограбили, уморили голодом или убили.
Среди тех немногих, кому улыбнулась удача, оказались король Сигизмунд Венгерский и великий магистр ордена госпитальеров, бежавшие на рыбацкой лодке. «Мы проиграли битву, – жаловался позднее Сигизмунд своему спутнику, – из-за гордости и тщеславия французов» [91]. Однако французы заплатили дорогую цену. Самых молодых солдат Баязет оставил в качестве рабов для собственной армии; сотни остальных были раздеты, связаны и лишены головы или конечностей на глазах у султана и французских дворян, которых взяли в плен. Когда в Париж прибыли ужасные известия, колокола там звонили день напролет.
Никополь оказался Пуатье наоборот: эта битва стала катастрофическим провалом в попытке задержать продвижение ислама в глубь Европы. Шокирующее своим размахом поражение знаменовало последний предсмертный хрип средневековых крестовых походов. Только смерч монгольского возрождения при Тимуре Хромом, или Тамерлане, подарил Константинополю и Восточной Европе последнюю передышку. Тимур, объявивший себя прямым потомком Чингисхана, обменялся долгой чередой оскорбительных писем с султаном Баязетом, победителем при Никополе, прежде чем захватить его в битве и оставить гнить в тюрьме, где тот умер в 1403 году.
Теперь никто больше в Европе не предлагал всерьез послать армию на Восток. Пройдет еще сто лет, прежде чем в Азии снова увидят алые кресты, – но тогда они будут нашиты на паруса тех, кто придет морем.
Совершенно неожиданно, но они отплывут с самой западной оконечности известного мира.
Крестовые походы начали рыцари Пиренейского полуострова, но полтора века они были слишком заняты, сражаясь с исламом у себя дома, чтобы ринуться в бой за Святую Землю. Но к середине XIII столетия христианское завоевание аль-Андалуса продвинулось уже достаточно далеко, и слишком многие рыцари были слишком заняты войнами друг с другом за новые территории, чтобы обращать внимание на то, что творится в остальном мире. Однако вскормленный ими крестоносный дух никогда их не покидал, и их не тяготило бремя поражений на Востоке, повергшее в уныние остальную Европу.
Когда в XV веке новые правители Пиренейского полуострова начали мечтать о большем, они смотрели через Гибралтарский пролив на Африку и земли своих бывших хозяев. В данном случае не было никакой внезапной лихорадки завоеваний, какой прежде в них никто не заподозрил бы. Вначале ими руководила та же ненависть к исламу и та же жажда его богатства, что и святыми воинами до них. Но, нащупывая каждый шаг, череда неординарных правителей объявит новый крестовый поход, который приведет их на другую сторону земного шара.
Глава 3
Семейная война
Король Жуан Португальский размышлял, как посвятить в рыцари трех старших своих сыновей на манер, подобающий наследникам амбициозной новой династии.
Португалия была самым западным из пяти так называемых Королевств Испании, возникших на волне испанских крестовых походов. Три из оставшихся четырех – Кастилия-и-Леон, Наварра и Арагон – были христианскими, и только одно, Гранада, – мусульманским. Более ста лет отряды закаленных, фанатичных воинов сражались, чтобы выковать новую страну из старых земель аль-Андалуса, лишь с незначительной поддержкой крестоносцев из Северной Европы [92], задерживавшихся тут на пути в Святую Землю, и люди этой страны люто гордились своей добытой тяжким трудом независимостью. Папа римский достаточно рано признал Португалию и дал ей божественное соизволение отвоевывать земли у мавров, и ее правители считали себя верными союзниками Рима. По утверждению одного королевского хрониста [93], «Господь повелел и пожелал устроить Португалию ради великого таинства служения ему и ради возвышения святой веры».
Божьим велением или нет, но это была первая христианская страна на диком западе Европы. Король Педру I, в разные времена носивший прозвища Справедливый, Мстительный, Жестокий и Влюбленный-до-Конца-Света, после того как приспешники отца застали его в укромном месте для свиданий и обезглавили его любимую метрессу, прекрасную кастильку по имени Инес де Кастро, обезумел настолько, что, едва взойдя на престол в 1357 году, разыскал убийц и смотрел, как им вырывают сердца – одному через спину, другому – из груди. Несколько лет спустя он приказал эксгумировать останки Инес, завернуть в королевские облачения и посадить рядом с собой на трон. Он заставил придворных выстроиться в очередь, и по его ужасному крику «Королева Португалии!» они должны были один за другим поцеловать костлявую руку. Наследник Педру Фернанду Прекрасный был не многим лучше. Нарушив обещание жениться на наследнице престола Кастилии, самого крупного соседа Португалии и ее заклятого недруга, он взял себе женой прекрасную, но замужнюю Леонор Телеш. Свою головокружительную карьеру преступницы Леонор начала с того, что уговорила мужа сестры убить эту самую сестру, упирая на ее неверность, а когда дело было сделано, заявила, что все выдумала. Затем она сама завела тайный роман, и когда незаконнорожденный брат Фернанду Жуан поймал ее на супружеской неверности, то состряпала письмо, которое облыжно обвиняло его в государственной измене и в результате которого его арестовали. Когда муж отказался казнить сводного брата, Леонор подделала указ за подписью короля, и Жуан избежал казни только потому, что его тюремщики заподозрили неладное и отказались исполнить распоряжение.
После смерти Фернанду Прекрасного Леонор сделалась регентшей при своей одиннадцатилетней дочери Беатриш, обрученной с королем Кастилии. Трудно сказать, кого португальцы ненавидели больше – королеву Леонор или кастильцев; а поскольку и та, и другие открыто стояли заодно, португальцы восстали и обратились к единственному человеку королевской крови, еще не запятнанному чужеземными узами. Как незаконнорожденный сын, Жуан имел очень незначительные права на корону, но при могучих телосложении и подбородке выглядел истинным королем. Покинув свое тайное убежище, он вломился во дворец королевы и собственными руками убил ее любовника. При большом стечении народа ему предложили трон, и, спросив совета у святого отшельника, – поскольку был не только патриотичным, но и благочестивым, – он его принял. Кастилия расценила это избрание как объявление войны и вторглась в Португалию; летом того же 1385 года армия Жуана разгромила всемеро превосходящие ее силы противника [94] и упрочила выживание Португалии как независимой страны.
Новой династии требовалась королева, и Жуан обратился к Англии. Англичане и португальцы были союзниками [95] еще до того, как Португалия обрела статус полноценной страны: многие крестоносцы, пополнившие ее ряды в войнах с маврами, были англичанами, а недавно страны заключили договор о вечной дружбе и взаимной защите. Невестой себе Жуан избрал Филиппу, старшую дочь Джона Гонта, герцога Ланкастерского. Гонт приходился дядей английскому королю и был самым богатым и непопулярным человеком в своей стране, и его дочь, выросшая в переездах между крепостями Ланкастеров с их полками защитников и слуг, получила непревзойденное политическое образование.
Филиппа прибыла в Португалию с должной помпой, но начало брака было малообещающим [96]. Жуан в брачную ночь не объявился, вместо него для скрепления союза в постель Филиппы улегся придворный, положив между собой и невестой меч безбрачия. Двор был настроен враждебно, в свои двадцать семь новая королева была чересчур уж стара для средневековой невесты. Однако воли Филиппе было не занимать, и вскоре она заставила знать говорить по-французски и привила ей подобающие застольные манеры. Будь то из любви или из уважения, Жуан не предпринимал ничего, не посоветовавшись с ней, и королевская чета, в которой супруги так сильно различались внешне (Жуан чернобородый и кряжистый, Филиппа белокожая, с рыжевато-золотистыми волосами и «маленькими голубыми глазами англичанки» [97]), была практически неразлучна. Что до главной ее обязанности – упрочить преемственность трона, – немолодая уже королева родила одного за другим восемь детей, из которых пятеро мальчиков и одна девочка пережили опасные годы младенчества. Она взяла на себя их воспитание, внушив им любовь к поэзии, которую усвоила на коленях у Джефри Чосера (еще она в юности изучала науки, философию и теологию) и кодекс рыцарственности, в соответствии с которым прожила всю свою жизнь. Мать принцев, которые войдут в историю как Славное поколение, была одной из самых замечательных женщин средневекового мира.
После долгих раздумий король Жуан решил отпраздновать вступление своих сыновей в пору рыцарства целым годом празднеств с пирами, танцами, играми и дарами для приглашенных из Европы особ голубых кровей.
Перспектива столь изнеженного вступления во взрослую жизнь пришлась не по вкусу самим принцам [98]. Они перешептывались, мол, их гордому роду не подобает играть в игры. Тем летом 1412 года в своем дворце среди прохладных холмов за пределами Лиссабона принцы Дуарте, Педру и Энрике держали совет. Старшему Дуарте было двадцать дет, младшему Энрике едва исполнилось восемнадцать. Они решили пойти к отцу и попросить придумать что-нибудь более подходящее, что-нибудь, что подразумевало бы «великие подвиги, отвагу, смертельные опасности и пролитие вражеской крови» [99], когда вошел один министр короля. Принцы ему доверились, и он набросал план.
Его слуга только что вернулся из Сеуты, куда был послан получить выкуп за группу мусульманских пленников, захваченных в открытом море. Португальские сеньоры и даже епископы, как и их собратья по всей Европе, не считали ниже своего достоинства временами заниматься прибыльным пиратством, впрочем, не чурались этого и их враги. Мусульманские корсары веками терроризировали Европу; их дурная слава была так велика, что африканское побережье Средиземноморья еще долго будет известно по имени берберских пиратов как Берберия.
Через семь столетий после того, как исламская армия вскарабкалась на южный Геркулесов столб и алчно уставилась на Европу, название Сеута еще сохраняло свой символический смысл. Возвращение ее христианскому миру стало бы актом изощренной мести. А кроме того, указал министр, она была баснословно богата, и добавил, что однажды уже выдвигал эту идею, но тогда король только посмеялся.
К тому времени Сеута превратилась в крупный торговый порт. Ее знаменитые зернохранилища полнились пшеницей, выращенной вдоль Атлантического побережья Марокко. У ее сухопутных ворот заканчивались караванные пути из Сахары, по которым поступали слоновая кость, черное дерево, рабы и золото. Еврейские, итальянские, испанские купцы регулярно заходили в ее порт для торговли. Вдоль берега выстроились фактории, комплексы зданий, в которых купцы жили, хранили свои товары и заключали сделки. Временами накал религиозных страстей возрастал, и жизнь иностранцев становилась затруднительной, но Сеуту едва ли можно было считать рассадником радикалов. Изгнавшая альмохидов из Марокко династия Маринидов объявила джихад против испанцев и оккупировала несколько прибрежных городов, включая сам Гибралтар. Но начиная с 1358 года, когда султана задушил его собственный визирь, Марокко погрузился в безнадежную анархию.
Для принцев – помимо приятных перспектив добычи и славы – довольно было и того, что Сеута город неверных. Троица отправилась прямиком к отцу, но тот опять расхохотался. Несколько дней спустя они попытали счастья снова, на сей раз вооружившись перечнем оправданий и аргументов. Они указывали, что нападение на Сеуту позволит им заслужить рыцарские шпоры в реальном сражении. А еще позволит рыцарям и сеньорам страны попрактиковаться в рыцарских умениях, которым грозит опасность заржаветь, ведь после изгнания мавров и мира с Кастилией они оказались в пагубном положении, когда у них нет врага, с которым можно было бы воевать. Война, по выражению старшего из братьев, «отличное упражнение в оружии, через отсутствие которого были утрачены многие люди и королевства, но которое послужит также, дабы отвлечь наших подданных от праздности, коей недостает добродетели» [100]. Кроме тогo, имея крестьянское население около миллиона человек, Португалия была слишком мала и слишком бедна, чтобы содержать рыцарское сословие в подобающей роскоши, а новый крестовый поход открывал новые перспективы грабежа. И, что равно важно для людей, выросших на богобоязненной рыцарственности, эта война докажет остальному миру, что Португалия так же решительно и громогласно, как и любая другая христианская страна, заявит о своей ненависти к неверным.
Жуан и сам беспокоился, что его закаленные в битвах рыцари обратятся друг против друга, если не найдут иного выхода своей энергии. Но и теперь он предусмотрительно позвал за своими исповедниками, учеными и советниками. Им он сказал, мол, желает знать, будет ли завоевание Сеуты богоугодным деянием. Еще в период расцвета крестовых походов в умы христианских теологов и законоведов закралось сомнение относительно права папы как самопровозглашенного суверена мира простирать свою власть на нехристиан и одобрять завоевательные войны против них. Равно неясно было, могут ли христианские короли по закону вести войну против неверных, не представляющих для них прямой угрозы; лагерь противников войны указывал, что в Писании говорится, дескать, их следует обращать в христианство силой не оружия, а проповеди. Папство, еще только оправляющееся от последствий раскола XIV века, разумеется, придерживалось иной точки зрения. Оно всегда рьяно поддерживало правителей, готовых претворить в жизнь папские прерогативы, и неоднократно жаловало буллы на крестовые походы португальцам, позволявшие им открыть новый фронт против ислама, когда только пожелают [101].
Поразмыслив еще несколько дней, королевские советники приняли сторону папы, иными словами, утверждения, что христианские правители наделены неограниченным правом – даже обязанностью – нападать на неверных или язычников просто потому, что они неверные или язычники. Когда с юридическими формальностями было покончено, принцы разбили каждый пункт из длинного перечня практических возражений короля (не последнюю роль тут играли непомерные затраты на все приключение), и началось планирование кампании.
Военный совет быстро пришел к выводу, что лучшим шансом на успех станет элемент внезапности. К тому же никто в Португалии ровным счетом ничего не знал об оборонительных укреплениях, якорных стоянках или условиях мореплавания в окрестностях Сеуты. Король Жуан составил план. Вдовствующая королева Сицилии, которой тогда управляли из Арагона, намекала на возможность брака с принцем Дуарте, наследником португальского престола. Было подготовлено посольство, но вместо руки Дуарте послам – приору и капитану, за которыми шла заслуженная слава хитрецов, – наказали предложить руку принца Педру, второго сына, который не наследовал ничего.
Две галеры разукрасили вымпелами, драпировками и балдахинами цветов короля, матросов нарядили в ливреи тех же цветов. Галеры направились в Гибралтарский пролив и бросили якорь в Сеуте. Приор напоказ делал вид, что отдыхает, а на самом деле изучал и запоминал береговую линию Сеуты, а капитан, взяв лодку, под прикрытием ночи обплыл Сеуту с моря. Завершив свою миссию, они отбыли на Сицилию, где королева была – вполне предсказуемо – не в восторге, и вернулись в Лиссабон. Когда их вызвали во дворец, приор попросил два мешка песка, моток ленты, полбушеля бобов и таз. Запершись в зале, он построил огромный песчаный замок и в миниатюре воспроизвел холмы, долины, здания и фортификации Сеуты.
Даже на песке зрелище расхолаживало. Невысокая гора Монте-Ачо была окружена сетью круговых укреплений: стен, переходов и башен, которые поднимались от самой воды к цитадели на вершине. Другие стены окружали внутренний город, расположенный на полуострове, выгнувшемся между горой и материком. В самом узком месте перешейка тянулся ров, отделяя город от предместий на берегу, а со стороны суши подступы к нему охранял замок. Корабли могли вставать на якорь по обеим сторонам полуострова, но часто налетали или неожиданно меняли направление ветра, и от португальцев потребуется менять место причала и тактику почти без предупреждения. Это была устрашающая перспектива для небольшой страны, которая никогда не вела войн на море.
И требовалось преодолеть еще одно препятствие – в лице королевы. Филиппа очень любима в народе, торжественно объяснил Жуан сыновьям, и ничего не может быть сделано без ее согласия. Принцам был прекрасно известен решительный характер матери, и они прибегли к хитрости. Они изложили ей свой план и с невинными лицами попросили заступиться за них и за их план перед королем.
– Сир, – обратилась Филиппа к мужу, – у меня есть просьба не из тех, с какими матери обычно обращаются в отношении своих детей, ибо обычно мать просит отца, чтобы он удержал сыновей от любых опасных поступков, страшась, как бы не случилось с ними беды. Я же, – продолжала она, – прошу вас удержать их от забав и удовольствий и подвергнуть их тяготам и опасностям.
Далее она объяснила, что принцы приходили в тот день ее повидать. Они сказали, что король медлит принять их план и что они просят ее о заступничестве.
– Что до меня, сир, – утверждала Филиппа, – то, учитывая род, из которого они произошли, род великих и великолепных императоров, королей и прочих принцев, чьи имя и слава известны по всему миру, то я ни в коей мере бы не хотела, чтобы они испытывали недостаток в возможностях совершить своими трудами, своей отвагой и своим умением великие подвиги, какие были совершены их предками. А потому я приняла на себя миссию, которую они на меня возложили, и их просьба мне в великую радость [102].
Жуан сделал вид, что поддался на уговоры, и приготовления начались. В план было посвящено только ближайшее его окружение, и поползли самые разные слухи: о готовящемся нападении на принадлежащую Арагону Ибицу или Сицилию, на мусульманскую Гранаду или даже на кастильскую Севилью. Наконец был созван большой совет, которому как свершившийся факт представили идею вторжения и с которого взяли клятву хранить тайну. Товарищи Жуана по оружию давно уже состарились, но, как писали хронисты, даже девяностолетние старцы ухватились за шанс последней схватки на поле брани. «Вперед, седобородые!» [103] – будто бы воскликнул один престарелый советник, и все покатились со смеху. Сколь бы забавна ни была перспектива увидеть, как старые вояки будут втискивать себя в доспехи, в качестве меры предосторожности Жуан потихоньку распустил слух в рыцарских кругах Европы, что намечается благородное рыцарское приключение.
По приказу короля был проведен смотр численности и состояния португальских кораблей. Отчет производил удручающее впечатление, и были отданы приказы вырубить значительную часть королевских лесов и нанять всех свободных плотников, конопатчиков и бочаров. Корабельные плотники в Португалии были привилегированным классом: ее порты стали жизненно важной остановкой в пути между Средиземноморьем и Северной Европой, и в них осели многие итальянские купцы и моряки [104], привезя с собой познания в навигации и строительстве различных типов судов. Однако им было далеко до венецианского Арсенала, государственного конвейера, который выдавал гигантские галеры со скоростью, поражавшей гостей Венеции. Довольно быстро стало ясно, что единственным способом собрать большой флот в короткие сроки будет нанять его, и Жуан отправил доверенных лиц в Испанию, Англию и Германию, чтобы зафрахтовать столько морских кораблей с высокой осадкой, сколько удастся собрать. Чтобы их оплатить, он приказал португальским солеварам продать ему свои запасы по ценам ниже рыночных, а после сам перепродал соль с огромной выгодой, а чтобы урезать дополнительные расходы, приказал всем, кто держал запасы меди и серебра, передать их в казну. Монетный двор гремел и сиял огнями день и ночь, а монета поступательно девальвировалась. Многим португальским купцам это предприятие казалось разорительным капризом рыцарственной глупости [105].
Поскольку крупный флот трудно подготовить незаметно, советники короля придумали еще один план для отвода глаз. Под довольно шатким предлогом, дескать, в Голландии были украдены товары португальских купцов, отправили посольство объявить войну Голландии. Сразу по прибытии посол договорился о тайной встрече с графом, наместником Нидерландов, и посвятил его в планы португальцев. Затем в ходе заранее срежиссированной сцены при дворе он сыграл свою роль так убедительно, что его собственным советникам пришлось его сдерживать, и Голландия сделала вид, будто готовится к войне.
В Португалии же Энрике, самого младшего из августейших заговорщиков, послали на север в старинный город Порту собирать половину флота. То же задание дали его брату Педру в Лиссабоне. Сам король занялся надзором за вооружением и артиллерией, переложив на старшего сына Дуарте управление страной, – задача, стоившая хрупкому двадцатидвухлетнему принцу многих месяцев бессонных ночей и едва не доведшая его до нервного срыва.
По всей стране чистили оружие, ткачи и портные выдавали стопы форменной одежды, плотники сколачивали ящики под снаряжение, канатчики чесали и свивали коноплю. Морские сухари, основная пища моряков, сушили в огромных количествах. Сотнями забивали быков и коров, а мясо снимали с костей, засаливали и затаривали в бочки. В доках выпотрошенная рыба вялилась на солнце – точь-в-точь насыпи серебристых лепестков. Страна гудела все новыми слухами об истинной цели загадочного похода: поговаривали о крестовом походе в Святую Землю за возвращение Гроба Господня и даже о маловероятной войне с Голландией.
Соседи Португалии были скорее встревожены, чем заинтригованы. Королю Арагона Фердинанду I сообщили сначала, что Португалия намерена напасть на его остров Ибицу, потом – на его королевство Сицилию и, наконец, на саму Кастилию, которой он правил в сорегентстве со сводной сестрой Филиппы Катериной Ланкастерской. Фердинанд направил в Лиссабон тайного агента, желая знать, собирается ли Португалия напасть на какое-либо из его владений. Мусульманские правители Гранады тоже решили выяснить, что происходит. То ли из фанатичного нежелания лебезить перед маврами, то ли из ощущения, что именно такая дымовая завеса ему на руку, Жуан совершенно запутал посланников, сказав им сначала, что ни в коей мере не собирается нападать на Гранаду, а затем отказавшись представить какие-либо гарантии. Смущенные подобной уклончивостью послы отправились к Филиппе. Старшая жена эмира Гранады, сказали они королеве, молит ее заступиться перед мужем, поскольку ей прекрасно известно, что мольбы женщин обладают большой властью над мужчинами. В благодарность она пошлет Филиппе самый дорогой наряд для свадьбы ее дочери.
«Не знаю, – надменно ответила Филиппа, – как обстоят дела между вашими королями и их женами. Но не в обычае христиан, чтобы королева или принцесса вмешивалась в дела своего супруга». Старшая жена эмира, добавила она в конце своей длинной диатрибы, может делать со своими подарками что пожелает [106]. Наконец послы попытались извлечь желаемые заверения у Дуарте, обещая еще более богатые подношения. «Те в моей стране, кто на высоких местах, – пожурил их он, – не имеют обыкновения продавать свою добрую волю за деньги, ведь поступай они иначе, то заслуженно звались бы торговцами, а не властителями и принцами». Даже предложи они все королевство Гранада, присовокупил он для острастки, он его не принял бы – хотя, добавил он, их королю нечего бояться.
В начале июля недавно закончивший сборы флот молодого Энрике снялся с якоря и поплыл на юг вдоль пустынного атлантического побережья Португалии. Пройдя две сотни миль, он обогнул скалистый мыс и по узкому каналу вышел в просторное устье реки Тахо. Впереди простиралась спокойная водная гладь залива, который два тысячелетия служил живописной гаванью, где за выстроившимися вдоль кромки воды на северном его берегу новыми верфями и складами поднималась вверх по склонам невысоких холмов столица Португалии. На противоположном берегу ожерелье укрепленных уступов поднималось к цитадели, некогда мусульманской аль-касова, возродившейся как замок Святого Георгия.
Когда весть о прибытии флота достигла города, толпы жителей сбежались посмотреть на морской парад. Процессию возглавляли двадцать шесть грузовых судов и многочисленные пинасы (небольшие парусно-гребные суда), за которыми следовали шесть двухмачтовых кораблей, парад замыкали – под рев фанфар – семь трехмачтовых боевых галер. Над каждым кораблем реял штандарт, украшенный восьмиконечным крестом крестовых походов, а флаги поменьше были украшены золотом и регалиями Энрике. Навесы, на которых был вышит его новый девиз «Власть творить благо», затеняли палубы семи галер, и каждый матрос красовался его шелковым значком – гирляндой дубовых листьев с серебрением на белом с черным и синим фоне. Принц и его капитаны были облачены в простое шерстяное платье: искренне благочестивый Энрике уже в молодые годы мастерски умел создавать благоприятное о себе мнение.
Принц Педру присоединился к нему с восемью королевскими галерами и десятками судов поменьше – эти несли на флагах более сдержанные эмблемы самого короля. Рыболовецкие и речные суда экспроприировали для перевозки войск, лошадей и провианта. Учитывая, что Англия вот-вот должна была выступить против Франции, где ее ожидала слава победы при Азенкуре, объявилось всего несколько иностранных рыцарей, по большей части обычных сорвиголова, которые пойдут куда угодно, где пахнет хорошей дракой. И тем не менее в собравшейся армии было 19 000 человек [107]: 5400 рыцарей, 1900 конных лучников, 3000 пеших лучников и 9000 пехотинцев. Это была огромная армия для маленькой страны, которая едва-едва могла содержать постоянную армию в 3000 человек.
Под пение труб объединенный флот бросил якорь в нескольких милях от атлантического побережья. Для Энрике это был миг упоения, поскольку вскоре все мысли о праздновании вылетели у него из головы. Один из иностранных кораблей привез в Португалию чуму, и паж прибежал с известием, что его мать умирает. Жуан велел перевезти жену в монастырь на холме к северу от Лиссабона, и Энрике погнал коня галопом, чтобы воссоединиться с семьей.
Незадолго до болезни Филиппа приказала выковать три прекрасных клинка, а специально изготовленные для них ножны и навершия рукоятей были позолочены и инкрустированы жемчугом и драгоценными камнями. Она надеялась увидеть, как ее сыновей посвятят ими в рыцари перед самым отплытием. Теперь она знала, что уже не станет свидетельницей этого великого события, и призвала к себе детей. Говорили, что предсмертные муки не помешали ей на смертном одре подарить мечи, а также снабдить четкими инструкциями, как ее убитые горем сыновья должны держаться после ее смерти.
Филиппа скончалась 19 июля 1415 года в возрасте пятидесяти пяти лет. Еще одним недобрым предзнаменованием сочли то, что ее смерть совпала с продолжительным солнечным затмением. Растревоженные советники Жуана настаивали, чтобы отложить отплытие на месяц, пока не завершатся траурные церемонии и не утихнет чума. Вместо этого королеву похоронили с почти неприличной поспешностью среди ночи (как объяснялось, из-за летнего зноя), и краткая похоронная церемония состоялась на следующий день, под стенания огромной толпы за стенами церкви. Памятником Филиппе станет крестовый поход, за который она так рьяно ратовала; еще будет время ее оплакать.
Как всегда, приняв на себя руководство, Энрике пригласил братьев отобедать на борту его флагмана. Он поднял флаги, приказал свернуть навесы, а трубачам – залезть на мачты и оттуда играть что-то бравурное. Было воскресенье, что смутило капитанов. Все они прибыли на флагман и, узнав, что отплытие вот-вот состоится, поспешили назад, чтобы сбросить траур.
Три дня спустя, в пятницу 26 июля – в день Святого Иакова, – флот поднял якоря и медленно двинулся прочь от притихшего Лиссабона. Пока толпы зрителей смотрели с холмов на удаляющиеся корабли, пошли шепотки. Как король мог допустить такие проявления ликования, когда тело его супруги еще не остыло? Не повлиял ли на него молодой Энрике, который в глазах короля всегда был более мужчиной, чем все его братья разом? Охотиться на диких кабанов в королевских лесах – это одно, но схватиться с вооруженными воинами – совсем другое. Неужто юные принцы считают, что надвигающаяся битва лишь еще один турнир, где никто не смеет выбить их из седла? Может, и впрямь все закончится скверно.
Опасения сомневающихся как будто вскоре подтвердились, потому что великий поход быстро превратился в кошмарное фиаско.
Через два дня после выхода из порта король Жуан приказал бросить якорь и наконец просветил войска о цели их похода. Духовник короля произнес трогательную проповедь [108] и зачитал новую папскую буллу [109], дающую Португалии право на крестовый поход против неверных и дарующую отпущение грехов всем, кто падет в битве. Многие солдаты были настолько сбиты с толку, что сочли это очередной уловкой.
Едва удалось сподвигнуть армию на славное варварство, как ветра стихли. Около недели флот дрейфовал возле южного побережья Португалии. Наконец 10 августа он вошел в Гибралтарский пролив – к ужасу мусульман, которые все еще контролировали Геркулесов столб напротив Сеуты. В сторону галеры короля отправились суда и лодки со всевозможными драгоценными дарами. Дары король принял, но обещать мир наотрез отказался.
В равной мере огромная армада потрясла кастильцев, живших на островке Тарифа у самого побережья. Согласно одной хронике, они легли спать, полагая корабли фантомами, и проснулись туманным утром, когда на море вообще ничего было не видно, и последний сон с них стряхнуло, когда солнце вдруг ярко осветило флот, проплывающий под их стенами. Когда португальцы бросили якорь возле расположенного поблизости кастильского порта Алгесирас, губернатор спустился на берег с внушительным стадом коров и овец и послал своего сына предложить их португальскому королю. Жуан объявил, что очень этим доволен, но объяснил, что на его кораблях достаточно провизии. Полагая, что тоже должен проявить добрую волю, сын губернатора вскочил на коня и поскакал по берегу, на скаку закалывая скот. Жуан вежливо похвалил его старания и поблагодарил за такой поступок.
После этой драматичной интерлюдии король собрал совет, на котором было решено атаковать Сеуту в следующий понедельник. Паруса подняли, как раз когда с Атлантики накатил густой туман. Худшее было еще впереди. Cильные течения и крепкий ветер обеспечили проливу дурную славу труднопроходимого места, но нехватка опыта у португальских моряков делала проход практически невозможным. Корабли с пехотинцами под командованием принца Педру унесло в сторону Малаги, главного порта мусульманской Гранады, а королевские галеры бросило прямо на Сеуту, но там внезапная смена ветра заставила их поднять якорь и пробираться к противоположной стороне полуострова. Флаги города развевались с цитадели на холме, два ключа на них символизировали контроль Сеуты над входом в Средиземное море и над выходом в Море-Океан. Cо стен летели пушечные ядра, но кораблям удалось остаться вне досягаемости канониров.
Когда остальная армада так и не объявилась, король отправил Энрике на поиски. Половину экипажей на кораблях братьев Энрике одолевала чума, другую – морская болезь. Учитывая, что к этому прибавились туман и коварные течения, они практически готовы были сдаться. Энрике разослал приказы отца на корабли, и со временем транспортные суда добрались до Сеуты.
Тут же налетел шторм и загнал весь флот назад к Испании. Король и его командиры сели в лодки и сошли на кастильский берег держать совет прямо на песке. Одни советники Жуана уговаривали его внять знамениям и вернуться домой, другие предлагали – для спасения лица – совершить рейд на близлежащий Гибралтар. Но король несгибаемо ответил, что лучше предпочесть верную смерть, чем отказаться от своего христианского долга. На самом деле у него просто не было выбора: он поднял слишком большой шум, чтобы в последнюю минуту все бросить, в противном случае он рисковал выставить себя на посмешище всей Европе.
Наконец флот вернулся к побережью Африки.
Со своих наблюдательных постов защитники Сеуты недоуменно смотрели, как первые португальские корабли сперва приблизились, потом быстро исчезли. Престарелый губернатор [110] решил, что назревает по меньшей мере что-то недоброе, и ради предосторожности послал на материк за подкреплением. Подкрепление пришло, но Марокко одолевали чума и голод, и в городах и крепостях серьезно не хватало людей. А поскольку христиане как будто не в состоянии были повести свои корабли в нужном направлении и явно отступили за пролив, он большую часть своих новых войск отправил назад. Непогода обернулась для португальцев замаскированным благом.
Той ночью жители Сеуты зажгли лампы в каждом окне, чтобы создать видимость, будто город защищает огромное число людей. Тем временем на море свет факелов и фонарей ложился на воду, пока португальцы готовились к наступлению. На заре португальцы принялись натачивать мечи, облачаться в тяжелые доспехи, размахивать для разминки боевыми топорами, а также исповедоваться в грехах священникам и вскрывать бочки, чтобы полакомиться самой вкусной провизией. Пришел день первой европейской колониальной войны со времен крестовых походов на Восток.
Неумелые действия флота выявили, насколько мало король Жуан смыслил в навигации, но в том, что касалось войны на суше, у него за спиной был опыт всей жизни. Ненамеренная задержка перед Сеутой дала ему время выработать план. В общих чертах он был прост. Главная цель – захватить цитадель. Пока она стоит, ее защитники могут атаковать португальцев, но как только португальцы ее возьмут, город будет у их ног [111].
Большую часть своего боевого флота король подвел к городским стенам. Это был обманный маневр: наступление должно было начаться с атаки на Монте-Ачо. Меньшая группа кораблей обошла гору и стала на якоре у ее подножия. В числе этих кораблей была галера Энрике. Задолго до того, как армада отплыла, он умолял отца позволить ему возглавить первое наступление, и король, как обычно, не смог ему отказать.
Пока высадившиеся потели под жарким солнцем, а враги насмехались над ними, размахивая оружием с берега, несколько горячих голов спустились в лодки, не дожидаясь приказа атаковать. С огромным раздражением Энрике пришлось смотреть с борта своей галеры, как те высадились на берег и завязался бой. Прыгнув в лодку, он приказал трубить сигнал атаки и сам бросился в схватку.
Португальцы быстро оттеснили защитников к стене, окружающей подножие холма, и хлынули вслед за ними в ворота. Среди всеобщего хаоса Энрике вдруг увидел, как впереди него сражается и его брат Дуарте. Когда он его нагнал, братья, согласно хроникам, нашли время обменяться любезностями. Энрике, скрывая свое разочарование, благодарил Бога, что дал ему такого доброго товарища и брата. «И тебя, Господь мне свидетель, – ответил Дуарте, сыпя соль на рану позднего прибытия брата, – я тысячу раз благодарю за твою добрую волю, что ты пришел к нам на помощь» [112].
Один воин-мусульманин на голову выше всех остальных безжалостно расправлялся с христианами: под рукой у него были только камни, но бросал он их с силой катапульты. Португальский хронист живописно отметил, что он был наг и «черен как ворона, и у него были очень длинные и белые зубы, а губы, весьма мясистые, были вывернутые» [113]. В целом он представлял собой пугающее зрелище, но пал, пронзенный копьем, а его теснимые товарищи отошли через вторые ворота, которые вели в сам город.
Следом за ними на узкие улочки протиснулись пять сотен португальцев. Вскоре они безнадежно заблудились, и, чтобы оглядеться, Энрике с братом вскарабкались на насыпь, похожую на холм, но оказавшийся городской свалкой нечистот. Когда на них надвинулись защитники города, они стояли на своей горе отбросов, отражая наскоки в ожидании, что кто-нибудь придет их спасти. Никто не пришел. Значительная часть отряда Энрике решила покрыть себя славой, презрев открытые ворота и атаковав надежно запертые. Пока они рубили их топорами и пытались поджечь доски, защитники бросали со стен им на головы камни, и многие были убиты.
Принцы разделили свои отряды на более мелкие группы и наконец пробились со своей свалки. Дуарте направился к лестнице, ведущей к городским стенам, развязав и сбросив доспехи, чтобы легче было карабкаться на все поднимающейся жаре. И снова Энрике остался позади, но потом сбросил кольчугу и побежал догонять брата.
Король Жуан все еще находился на своей галере по другую сторону города, не зная, что битва уже началась, и нетерпеливо ожидая, когда на берегу покажутся какие-нибудь враги. Наконец он послал ко второму флоту Педру, приказывая сыновьям атаковать. Когда принц вернулся и объяснил, что на кораблях никого не осталось, король дал сигнал трубить всеобщее наступление. Жуан, как дипломатично писали хронисты, «никак не выдал своей радости», но тем яснее проявили свои чувства его рыцари. Они бросились на стены, завидуя, что вся слава достанется их товарищам, и паникуя, что лучшая добыча уже захвачена. Едва оказавшись внутри, они рассеялись, чтобы с жаром грабить. А задержать их было чему: вдоль улиц Сеуты выстроились роскошные дома и дворцы. «Наши жалкие дома все равно что свинарники в сравнении с ними» [114], – откровенно высказался один очевидец. Все новые солдаты проламывали низкие, узкие дверные проемы домов поменьше и сталкивались лицом к лицу с десятками перепуганных семей. Одни были вооружены, другие просто кидались на захватчиков. Третьи бросали узлы с пожитками в колодцы или закапывали где-нибудь, надеясь вернуть имущество, когда город будет отвоеван. Понемногу атакующие одолели их, и многие были убиты.
Король не сумел бы навести порядок, даже если бы и захотел. Едва он сошел на берег, как был ранен в ногу, а потому остался сидеть у городских ворот. Ради сохранения его достоинства позднее писали, что он решил приберечь свою королевскую особу до атаки на саму цитадель, а не присоединяться к мелким схваткам, когда город уже практически взят.
Пока Дуарте и его отряд пробивались на верх городских стен, Энрике решил вернуть себе инициативу, собственноручно штурмовав крепость. Продвигаясь по ведущей к цитадели главной улице, он наткнулся на несколько сотен португальцев, бегущих от толпы разгневанных марокканцев. Энрике опустил забрало и закрепил на руке щит. Выждав, когда его минуют соотечественники, он атаковал их преследователей. Узнав своего принца, португальцы развернулись и бросились следом за ним, и теперь уже мусульмане бежали, а христиане их преследовали. Когда защитники достигли задов купеческих факторий вдоль берега, они развернулись и атаковали снова. Энрике в ярости бросился на врага, и защитники отступили через ближайшие ворота, ведущие к цитадели.
Ворота были прорезаны в толстой зубчатой стене, позади них располагалась башня с амбразурами, которая защищала вторые ворота, а уже от них проход тянулся к третьим и последним воротам, ведущим в саму цитадель. Когда со стен начали лить подожженную смолу, Энрике пробился за первые ворота всего с семнадцатью людьми – так, во всяком случае, писали хронисты. Многие из его отряда рассеялись в поисках добычи или воды, другие попросту устали. Некоторые были убиты, в том числе управляющий двора самого Энрике, который погиб, спасая своего опрометчивого молодого господина. Энрике попытался оттащить раненого и ввязался в отвратительную схватку за труп.
Два с половиной часа, как утверждалось позднее, молодой принц пробивался вперед в рукопашном бою. Из семнадцати его спутников осталось четверо, но каким-то образом (возможно, потому, что защитники не стреляли, опасаясь попасть в своих же) они сумели пробиться за вторые ворота. Они рванулись вперед, прошли третьи ворота и захватили цитадель. Когда на место прибыл наконец король Жуан, то застал цитадель уже покинутой. Так, во всяком случае, утверждается в официальной хронике, – гораздо вероятнее, что немногие уцелевшие защитники поняли, откуда ветер дует, и решили, что будет и другой день для схватки. К тому времени, когда гарнизону был отдан приказ отойти, большая часть гражданских уже бежала, остальные, если смогли, последовали их примеру.
На следующий день по городу эхом отдавались крики раненых и ругательства солдат, пытавшихся выкопать все новые сокровища. В своей одержимой жажде золота они умудрились уничтожить гобелены, шелка, масла и пряности огромной ценности. «Это разорение породило большой вой среди людей низкого происхождения», – сообщал хронист, должным образом, но неубедительно добавляя, что «особы респектабельные и благородные не утруждали себя подобным» [115]. Несколько генуэзских купцов, оказавшихся под перекрестным огнем, запоздало предложили помощь завоевателям, но одурманенные победой португальцы обвинили их в вымышленном преступлении, дескать, они ведут торговлю с неверными, и по меньшей мере одного подвергли пыткам, чтобы заставить рассказать, где он прячет свои ценности. Ватага солдат ворвалась в огромную подземную цистерну и, восхищенно рассматривая стены, покрытые расписными изразцами, и своды, поддерживаемые тремя сотнями колонн, увидела вдруг прячущихся в ее недрах марокканцев. Они обрушили цистерну, не выпустив из нее горожан [116].
В воскресенье король Жуан приказал служить мессу под высоченным куполом главной мечети Сеуты. Но сначала ее следовало отскрести дочиста. Мавры, как объяснял хронист, имели обыкновение укладывать новые циновки поверх изношенных старых, и их приходилось поднимать лопатами и выносить в корзинах. После ритуальной уборки король, принцы и знать собрались посмотреть, как священники солью и святой водой изгоняют призраков ислама. Потом под рев труб и «Te Deum» [117] они посвятили здание Христу.
После мессы трое принцев надели доспехи и опоясались подаренными матерью мечами. Они прошли в новую церковь мимо рядов трубачей и барабанщиков, преклонили колени перед отцом и были посвящены в рыцари. Вскоре после этого они отплыли домой, оставив три тысячи солдат защищать город от марокканцев, которые уже стреляли по ним из укрытий.
Завоевание знаменитого города-крепости всего за один день поразило всю Европу, пусть даже эта победа несколько отошла в тень перед известием, что другой внук Джона Гонта, английский король Генрих V вторгся во Францию [118], чего, впрочем, давно ждали. Три молодых принца красивым жестом заявили о вступлении своей страны на арену крестовых походов, и по меньшей мере один из трех не собирался на этом останавливаться. Португальцы преследовали своих бывших хозяев через тот самый бурный пролив, через который они прибыли, и – спотыкаясь поначалу, но набирая уверенность и силу – они будут преследовать ислам по всей земле.
Только много лет спустя нападение на Сеуту будут рассматривать как краткую характеристику всей заморской одиссеи Португалии. Она родилась из ожесточенной борьбы христиан и мусульман на Пиренейском полуострове. Она вылупилась из юношеского пыла. Ее вскормили общие усилия всей страны, желала она того или нет. Она едва не встретила мучительный преждевременный конец. Благодаря отчасти упорной отваге, отчасти сущей удаче она оставила по себе след в истории мира. А еще она оставила наследие, которое будет тяготить амбициозную молодую нацию в последующие века.
Глава 4
Море-Океан
Э нрике, принц Португалии, стоял на продуваемом ветрами скалистом мысу на юго-западной оконечности Европы. Одинокая фигура в монашеском облачении, он смотрит на Африку, планирует новый поход, чтобы разведать доселе неизвестные пределы мира. За спиной у него – огромная основанная им школа, где самые выдающиеся светила космологии, картографы и навигаторы того времени собираются, чтобы развивать искусство навигации. Когда его экипажи возвращаются из рискованных экспедиций, он подробно расспрашивает их и прибавляет новейшие сведения к своему непревзойденному собранию карт моря и звездного неба и отчетов путешественников. Он более не Энрике Крестоносец, он – Энрике Мореплаватель, открыватель новых миров.
Так рассказывает тщательно лелеемая легенда [119]. Правда выглядит несколько иначе. Нога Энрике никогда не ступала на борт океанского корабля. Его школа никогда не существовала как официальное учреждение, хотя он интересовался астрономией и давал работу многим ведущим картографам. Он носил власяницу и, как поговаривали, всю жизнь хранил целибат, рьяно изучал теологию, но в равной мере любил закатывать экстравагантные застолья. Он был первым, кто осуществил согласованную кампанию по исследованию Моря-Океана (как тогда назывался Мировой океан), однако его исследования начались всего лишь с примитивного пиратства как дополнительного источника дохода.
Карьера Энрике Корсара началась вскоре после того, как он заслужил рыцарские шпоры в Сеуте. Его суда отправились обчищать побережья Марокко и перехватывать мусульманские грузы в Средиземноморье, хотя временами он не считал низким нападать и на христианских купцов, что в одном случае даже вызвало горькие жалобы короля Кастилии. Первое его открытие неведомых земель проистекло непосредственно из пиратства. В 1419 году шторм забросил двух его капитанов на необитаемый архипелаг посреди Атлантического океана, и в следующем году была отправлена уже настоящая экспедиция, чтобы объявить острова собственностью короны. Мадейра, восхищался один матрос, была «одним большим садом, и каждый тут пожинает золотые плоды» [120], хотя больше всех этих плодов пожал сам Энрике, владевший ею до конца своей жизни. Мадейра была быстро заселена, и первых мальчика и девочку, родившихся у колонистов, назвали Адам и Ева.
У Энрике быстро развилась тяга к открытию новых земель, но доходов от пиратства не хватало для финансирования дальних плаваний. Его финансовое положение изменилось, когда в 1420 году король Жуан подал прошение папе римскому назначить его любимого сына главой португальского отделения печально известного ордена монахов-воинов.
Повсюду в Европе рыцари-тамплиеры переживали падение столь же стремительное, каким был их головокружительный взлет. Когда тамплиеров выставили из Святой Земли, их аура безгрешной неприкосновенности быстро потускнела. Однако они сохранили огромную сеть принадлежавших им крепостей, поместий и даже целых городов, проникнув глубоко в сердце европейского общества. Темпл, их отделение в Лондоне, был хранилищем значительной части богатства и казны Англии, включая ценности королей, многих аристократов, епископов и купцов и даже какое-то время драгоценности короны [121]. Тампль в Париже представлял собой мощную крепость, окруженную рвом и стеной, за которой укрылся комплекс построек размером с небольшую деревню, – отсюда орден ведал казной и финансами Франции. Могущество ордена поражало, и видные коронованные особы Европы начали наконец негодовать на присутствие среди них столь многих облаченных в кольчуги магнатов с их монашеской дисциплиной и постоянной армией, c их пугающей казной и подчинением непосредственно папе римскому. В начале XIV века французский король Филипп Красивый, который – так уж вышло – чересчур много задолжал тамплиерам, приказал арестовать рыцарей по часто расхожему тогда обвинению в ереси, святотатстве и содомии и принудил папу распустить орден [122]. Десятки тамплиеров были сожжены в Париже, включая великого магистра, престарелого человека, сознавшегося во всем на дыбе, а после отказавшегося от признаний и настаивавшего на своей невиновности, пока его пожирало пламя, а руки были связаны как для молитвы.
Только на Пиренейском полуострове положение монахов-воинов осталось прочным. Хотя их слава зиждилась на защите Святой Земли, тамплиеры с самых первых дней основания ордена вели активную деятельность на дальнем западе Европы. Они шли в авангарде Реконкисты, стояли гарнизонами в замках на границах с исламским миром и заселяли огромные участки недавно захваченных земель [123], и для молодых христианских стран их пыл и глубокие карманы были незаменимы. В Португалии никто и не думал распускать орден. В качестве уступки веяниям времени они просто сменили свое название на орден Христа. Все остальное, включая их солидное богатство, осталось в целости [124].
Когда папа римский согласился на просьбу короля, в распоряжении Энрике оказались ресурсы под стать его амбициям, в то время как тамплиеры в своей новой ипостаси обрели новую жизнь в роли спонсоров эпохи Великих географических открытий. И все же открытие новых земель стояло далеко не на первом месте среди забот Энрике. Он растратил огромные денежные и людские ресурсы на ожесточенную борьбу за Канарские острова с Кастилией, которая на них претендовала, и с жителями островов, чья культура находилась на уровне каменного века и которые нанесли большой урон воинской доблести Энрике, отбив его армии три раза кряду. С еще большим пылом он устраивал кампанию за кампанией, чтобы повторить свой героизм в Сеуте в ходе нового крестового похода за завоевание Марокко.
Сеута обернулась для Португалии «золотом дураков». Мусульманские купцы быстро перенесли торговые операции в соседний Танжер, и прибрежные склады Сеуты упорно пустовали. Колония находилась в постоянной осаде; очень скоро все дома за пределами стен пришлось снести, поскольку местное население использовало их для вылазок. Гарнизон плохо кормили, к тому же он должен был сносить насмешки с проходящих испанских кораблей, и этот пост стал настолько непопулярен, что гарнизон пришлось укомплектовывать осужденными, отбывающими срок своего наказания. Постоянное содержание изолированного форпоста, снабжаемого из-за моря, легло тяжким бременем на скудные ресурсы Португалии, и многие португальцы жаловались, что цепляться за нее сущая глупость.
Но не Энрике. Для жадного до славы принца фиаско Сеуты было поводом делать не меньше, а больше. Исламский мир уже не контролировал Геркулесовы столбы, эти каменные стражи великого неведомого. Впервые за семь столетий христианство зацепилось за африканский континент. Победа, как настаивали он сам и его сторонники, доказывает, что благословение Господа сияет их народу, а вера и честь требуют двигаться дальше. В конце-то концов Северная Африка некогда была христианской территорией; уж конечно, завоевание ее – всего лишь продолжение Реконкисты [125].
Годами Энрике тщетно уговаривал отца выступить против Танжера. Когда Жуан умер, повсеместно оплакиваемый, в 1433 году и на престол взошел склонный к книгочейству Дуарте, всю свою силу убеждения Энрике обратил на своего старшего брата. Дуарте поддался, и Энрике лично взял на себя командование новым крестовым походом. Он ринулся в него очертя голову, как всегда чрезмерно самоуверенный, но без хитростей и уловок, которые принесли столь богатые плоды в Сеуте. Когда не объявились зафрахтованные транспортные корабли, он отказался задержать отплытие, пусть даже половину армии пришлось оставить в Португалии. Семь тысяч человек набились на имеющиеся суда и отплыли в Африку, а Энрике разжигал их гнев все более фанатичными диатрибами в адрес ислама. Однако когда, размахивая знаменем, на котором был изображен Христос в доспехах, и присланным папой куском Креста Господня, португальцы подошли к воротам Танжера, даже Энрике начал понимать, что одной только верой ему не победить. Танжер был гораздо больше и гораздо лучше укреплен, нежели соседняя Сеута. Португальская артиллерия была слишком легкой, чтобы пробить мощные стены, имеющиеся лестницы – слишком короткими, чтобы их преодолеть, и осаждающие вскоре сами подверглись осаде в собственном лагере на берегу. По мере того как в город входили все новые свежие силы, а обычные видения крестов в небе не произвели желаемого чуда, cотни рыцарей Энрике, включая нескольких человек из его собственной свиты, cели на корабли и бросили крестоносца. Единственной разменной монетой у него оставалась Сеута, и его переговорщики пообещали сдать ее в обмен на безопасный проход для оставшихся войск. Энрике отдал своего младшего брата Фернанду в качестве заложника и ушел в Сеуту, а там слег в постель, отказываясь отвечать на многократные вызовы домой, где пришлось бы держать ответ за катастрофу.
Он вовсе не намеревался выполнять условия соглашения [126]. Фернанду прозябал в марокканской тюрьме, Сеута приходила в упадок в руках португальцев. В следующем году в возрасте сорока шести лет умер король Дуарте, скорее всего от чумы, а не от разбитого сердца, как полагали повсеместно. После пяти лет, на протяжении которых с ним обращались все хуже и хуже и на протяжении которых он в душераздирающих письмах умолял братьев договориться о его освобождении, судьба смилостивилась над принцем Фернанду, и он скончался от смертельной болезни. Сколь бы ни мучился Энрике в одиночестве, на людях он всегда утверждал, что его младший брат – которого посмертно окрестили Верным принцем – всем сердцем готов был стать мучеником за их дело.
Энрике, младший сын, который мог бы стать королем, запросил ужасную цену за свои необузданные амбиции. Однако в эпоху религиозного фанатизма его непреклонная жажда славы в войне с неверными, в какие бы темные и адские глубины она его ни завела, многим казалась признаком истинного рыцарственного героя, достойного одних лишь похвал.
Энрике снова обратится к морю. Каждый год его рейдерские экспедиции заходили чуть дальше вдоль африканского побережья Марокко, и понемногу у него созрел новый грандиозный план.
Как и многие образованные европейцы, он знал про настойчивые слухи о баснословно богатых золотых копях, расположенных в недрах Африки южнее пустыни Сахара, огромном регионе, который португальцы вслед за берберами называли Гвинея. Одна весьма авторитетная карта, «Каталонский атлас» 1375 года [127], изображала мусульманского купца верхом на верблюде, приезжающего к легендарному императору Мансе Мусе в его столицу Тимбукту. На карте Манса Муса, на голове у которого покоится огромная тяжелая корона и который сидит на своем троне в самом сердце континента, протягивает купцу огромный самородок. «Столь изобильно золото, находимое в этой стране, – гласит подпись на карте, – что он самый богатый и самый благородный король в тех краях» [128].
Притягательность легенды вполне объяснима. К тому времени Европа практически истощила собственные золотые копи и отчаянно нуждалась в золоте, чтобы поддерживать ликвидность экономики. Две трети импортируемого ею золота привозили в сумах, переброшенных между горбами верблюдов, бороздивших пустыню Сахара, однако сами христиане практически не имели доступа в глубь Африки. Надежный доступ к источнику золота принес бы двойную выгоду: это обогатило бы страну Энрике и привело бы к обнищанию мусульманских купцов, получавших наибольшую выгоду от этой торговли.
Но местонахождение копей оставалось тщательно охраняемым секретом, и все растущее разочарование – вполне предсказуемо – сменилось хороводом домыслов и бредовых выдумок.
Начиная с IV века картографы Европы стали прочерчивать на картах невероятно длинную реку, которая практически разделяла Африку надвое с востока на запад. Река называлась Рио-дель-Оро, или Золотая река, и в середине континента на карте она расходилась на два рукава, которые, сливаясь вновь, образовывали большой остров, весьма похожий на пупок на теле Африки. Энрике был убежден, что именно там найдется искомое золото, и по мере того как его корабли заходили все дальше на юг, он начал мечтать, как поплывет по Золотой реке и сам зачерпнет от источника.
Но имелось одно вопиющее препятствие. Почти на каждой мировой карте Атлантика представляла собой небольшую лужицу голубизны слева, а под ней за край карты уходил африканский континент. Последним известным ориентиром был скромный выступ приблизительно в пятистах милях южнее Танжера под названием мыс Божадор [129].
Само это название внушало страх поколениям моряков, и его окружали жутковатые легенды. Бескрайнее мелководье не позволяло подойти к побережью, не попав на мель. Бурные прибрежные течения уносили корабли в неведомое. В море изливались огненные потоки, от которых закипала вода. Морские змеи только и ждали, чтобы сожрать тех, кто вторгся в их владения. Из океана вставали великаны и поднимали корабли на ладонях. От палящего зноя белые люди обращались в черных. Повсеместно считалось, что ни один, отправившийся туда, не вернулся, чтобы поведать о своем приключении.
Но Энрике не желал отступать. Когда в 1434 году его оруженосец Жил Эанеш приплыл домой и признался, что его экипаж испугался приблизиться к жуткому мысу, принц отправил его назад с новым наказом не возвращаться, пока дело не будет сделано.
Небольшой кораблик Эанеша опасливо подползал к страшному мысу [130]. Волны и течения были сильными, тени с берега ложились далеко на воду, водяная дымка и туман затрудняли видимость, и чудилось, что направление ветров скорее всего помешает им вернуться домой. Но за красными дюнами мыса побережье тянулось с однообразной монотонностью. Опасности оказались мифом, возможно, распространяемым мусульманами, желавшими держать христиан подальше от своих караванных путей. Эанеш вернулся с победой и был посвящен в рыцари, а Энрике громогласно провозгласил, что тот, мол, превзошел поколения мудрецов и мореплавателей.
Девять лет спустя, в 1443 году он уговорил своего брата Педру, тогда регента после смерти Дуарте, даровать ему личную монополию на все судоходство к югу от мыса Божадор.
Затребовать себе в личную собственность море было самонадеянным шагом даже для предприимчивого принца, и притязания требовалось подкрепить делом. Португальских моряков, обладавших достаточным опытом и к тому же жаждой новых ощущений, было не так уж и много, и Энрике пришлось искать новых рекрутов за границей. Удобно было то, что его личные владения находились в Алгарве (название происходит от арабского аль-Гарб, или «запад»), совсем близко к Сагрешу, плоскому мысу в самом юго-западном уголке Португалии [131]. В непогоду суда, направляющиеся из Средиземноморья в Северную Европу, искали укрытия под его отвесными скалами, и Энрике высылал своих людей навстречу каждому кораблю. Они показывали образцы товаров, какие выменяли или собрали его первопроходцы, рассказывали о том, как принц открыл новые земли и какое там можно составить себе состояние, и улещивали матросов записываться в его флот.
На самом деле корабли Энрике возвращались всего лишь со шкурами и жиром от ставшего уже ежегодным массового боя морских котиков, хотя в 1441 году один капитан вернулся с «десятью чернокожими, мужчинами и женщинами… толикой золотой пыли и щитом из бычьей шкуры, а еще с несколькими страусовыми яйцами, так что однажды к столу принца подали три блюда из них, и они были так же свежи и вкусны, как от любой другой домашней птицы. И мы вполне можем предположить, – добавлял наш информатор, – что ни у одного другого принца в христианском мире не было к столу подобных блюд» [132]. И все равно множество сорвиголов среди моряков не смогли устоять перед посулами Энрике. Альвизе Кадамосто, искатель приключений благородных кровей из Венеции, направлялся во Фландрию, когда его галеру вынесло на берег Алгарве. К нему тут же обратились рекрутеры Энрике и начали расписывать чудеса Африки. «Они столько сообщили в этом духе, – записал он, – что я и остальные премного дивились. И тем они пробудили во мне большое желание отправиться туда. Я спросил, дозволяет ли их господин плыть туда любому, кто пожелает, и мне ответили, что дозволяет» [133].
Денег, как и людей, в Португалии всегда не хватало, и даже имея ключи от казны тамплиеров, Энрике не мог бесконечно оплачивать дорогостоящие экспедиции. В Лиссабоне открыли свои представительства богатые итальянские финансисты, и Энрике выдал лицензию генуэзцам, флорентийцам и венецианцам на оснащение кораблей и спонсирование плаваний, всегда, впрочем, оставляя за собой долю в прибылях. Новая политика оправдалась: в 1445 году к Африке направилось целых двадцать шесть кораблей под парусами с красными крестами ордена Христа, принадлежавшего Энрике.
К тому времени корабельщики и экипажи принца нашли идеальное судно для исследования побережья и – что равно важно – для возвращения домой. Каравелла была изящным судном с низкой посадкой, способным идти вдоль берега и входить в устья рек. Она была оснащена латинским, или треугольным, парусом, позаимствованным через арабов из Индийского океана [134] и который откликался на малейший бриз и позволял идти ближе к линии ветра, нежели обычная квадратная оснастка. А еще, учитывая, что на корме имелась одна-единственная каюта, оно было чудовищно некомфортно и двигалось мучительно медленно. Пока корабли ползли вдоль побережья Сахары, приходилось постоянно выставлять дозорных, которые высматривали бы буруны, говорящие, что впереди косяки рыбы либо мели. Требовалось наносить на карту линию берега, а также исследовать лежащие возле берега острова. Надо было бросать лоты, чтобы замерить глубину, а ночью всю работу вообще приходилось прекращать. Дальше к югу сильные течения тащили каравеллы к берегу, и им пришлось поднять паруса и отойти за пределы видимости суши. Чтобы вернуться домой, им потребовалось углубиться в Атлантический океан, борясь (они шли галсами) с северо-восточными пассатами, пока не зашли достаточно для того, чтобы поймать западные, которые пригнали их назад в Лиссабон.
Награда, однако, была немалой. Например, разрешилась старинная загадка, куда деваются птицы: в Сахаре зимой моряки видели ласточек, аистов, горлиц и грачей, а летом – соколов, цаплей и лесных голубей, на африканскую зиму улетавших в Европу. В их сетях бились странная рыба-меч и диковинные рыбы-прилипалы, а мясо и яйца снежных пеликанов и грациозных фламинго составляли экзотичное дополнение к рациону. Сойдя на берег, они дивились бескрайним песчаным просторам песка и животным, обитавшим среди камней. Они видели крыс размером больше кролика и змей, способных проглотить козла, пустынных антилоп и страусов, бесчисленные стада газелей, ланей, без счета ежей, диких собак, шакалов и прочих тварей, совершенно человеку неведомых. От туч желтой и красной саранчи воздух темнел на мили вокруг, на дни скрывал солнце, и где бы они ни опускались, уничтожали все на поверхности земли. После бурных гроз голая земля расцветала за один день, песчаные смерчи ревели, как ужасные пожары, и бросали черепах и птиц, точно листья.
Вбив в землю деревянные кресты, чтобы объявить ее собственностью Христа, первопроходцы отправились устанавливать контакт с туземцами, и их ошеломила ложная чехарда мелких царств и племен и сбивающее с толку многообразие их языков. Поскольку для начала знакомства они, высадившись на берег, подходили, лязгая доспехами, к пустынным пастухам, ужинавшим верблюжьим молоком, или к мирным рыбакам, жарящим на костре из водорослей рыбин или черепах, и с криком «Португалия и Святой Георгий!» захватывали пару пленников как информаторов и переводчиков, непонимание было взаимным.
Когда европейцы расхрабрились и стали продвигаться в глубь материка, то наткнулись на гористые местности, где росли лучшие на свете финики, но обитали там, по слухам, каннибалы, и на пустынные города мусульман, где дома и мечети были построены исключительно из блоков соли [135]. Временами им встречался какой-нибудь из прославленных верблюжьих караванов. Верблюды служили для перевозок и пропитания разом: тех животных, которым повезло меньше, не поили месяцами, затем заставляли напиваться чрезмерно, чтобы после их можно было убить во время перехода и брать воду из них. Смуглые купцы носили тюрбаны, отчасти скрывавшие их лица, и белые плащи с красной полосой, а еще ходили босыми. Это были мусульмане, торговавшие серебром и шелками из Гранады и Туниса в обмен на рабов и золото, и они были полны решимости держать чужаков подальше от своих путей.
Со временем пустыня сошла на нет, и, миновав устье реки Сенегал [136], флот вошел в более густонаселенные тропики. Внезапно все стало казаться больше и красочнее. «Мне это представляется весьма чудесным, – писал преисполненный надежд венецианский искатель приключений Кадамосто, когда флот еще проплывал Сахару, – что за рекой все люди очень черные, высокие и крупные, их тела хорошо сложены, а сама земля зелена, полна деревьев и плодородна; тогда как на этой стороне люди коричневатые, маленькие, худощавые, недокормленные и малого роста; а земля здесь бесплодна и безводна» [137].
Перед глазами европейцев предстал новый мир, какой не могло нарисовать даже самое буйное воображение. Здесь мужчины прижигали себя раскаленным железом, а женщины татуировали себя раскаленными иглами. Туземцы обоих полов носили золотые кольца в проколотых носах, ушах и губах, и еще больше золотых колец звенело у женщин между ног. Новоприбывшие изумлялись тянущимся к небу деревьям, раскидистым мангровым лесам и говорящим птицам с ярким оперением. Они купили мартышек и бабуинов, чтобы отвезти домой; они глазели на бегемотов, стали свидетелями охоты на слона и отведали мяса этого гигантского животного, которое оказалось жестким и безвкусным. Вернувшись домой, они поднесли экзотические дары принцу Энрике, в том числе ногу, хобот, шкуру и засоленное мясо слоненка. Бивень и ногу взрослой особи Энрике преподнес своей сестре.
Поначалу африканцы были в равной мере зачарованы новоприбывшими. Они терли им конечности слюной, проверяя, не является ли их белизна краской. Они как будто сочли их волынки своего рода музыкальными животными. Они на весельных лодках подходили к каравеллам, приняв их (или так казалось португальцам) за огромных рыбин или птиц, пока не увидели матросов и не сбежали.
К немалому смятению европейцев, вскоре выяснилось, что и тут тоже исповедуют ислам. Тем не менее вера туземцев была далека от фанатизма, они были по большей части бедны, и по меньшей мере некоторые – счастливы вести дела с христианами. Во время одной экспедиции в глубь Сенегала Кадамосто пригласили в столицу ближайшего королевства [138], где – типично для его собратьев-первопроходцев – он ожидал увидеть монархию европейского типа и настоящий двор. Подходя к трону, он увидел, как просители бросаются на колени, склоняют головы до земли и посыпают песком обнаженные плечи. Пресмыкаясь таким образом, они ползли вперед, объявляли свое дело, после чего их бесцеремонно отсылали прочь. Поскольку выяснилось, что жен и детей подданного здесь могут схватить и продать в рабство в наказание даже за самый мелкий проступок, Кадамосто решил, что волнение и дрожь просителей вполне уместны. Царю и его приближенным, одобрительно отметил он, повинуются с много большей готовностью, чем в Европе, хотя, добавил он, люди тут «большие лжецы и обманщики».
Если многие обычаи Африки казались примитивными, то расценить другие оказалось гораздо сложнее. Вскоре Кадамосто уже оказался втянут в дебаты о тонкостях религии с придворными мусульманскими священниками. Как всегда, дискуссию открыли европейцы, сообщив царю, что он исповедует ложную веру. Если христианский Бог справедливый господин, со смехом ответил им царь, то у него и его людей много больше шансов попасть в рай, чем у них, поскольку Европа была наделена много большими богатствами в земной юдоли. «В этом, – отметил Кадамосто, – он проявил большой здравый смысл и глубокое понимание людей» [139]. Царь выказал понимание иного рода, когда в знак доброй воли подарил венецианцу «красивую молодую негритянку двенадцати лет от роду, сказав, что дает ее мне для услуг в моей комнате. Я ее принял, – записал Кадамосто, – и отправил ее на корабль» [140].
Не все африканские правители были настроены столь доброжелательно, и первопроходцы вскоре обнаружили, что подвергаются постоянным нападениям. Из леса возникали воины, вооруженные круглыми щитами, обтянутыми кожей газели, копьями с зазубренными железными наконечниками, обмазанными змеиным ядом и соком неведомых растений, похожими на палицы дротиками и скимитарами наподобие арабских. Одни пускались в боевые танцы и песнопения, другие незаметно подплывали на лодках. Все были бесстрашны и предпочитали смерть бегству. Каждая каравелла была оснащена небольшой пушкой, стрелявшей маленькими каменными ядрами, но множество рыцарей, оруженосцев, солдат и матросов погибло под натиском туземцев, а пленников, которых посылали на берег в качестве переводчиков, неизменно забивали до смерти.
По мере того как каравеллы, теряя все больше людей, едва-едва добирались домой, Энрике начало тревожить нарастание враждебности. Он приказал солдатам стрелять только для самообороны, но к тому времени слухи о кровожадности белых уже распространились. Когда следующая экспедиция прибыла к широченному устью реки Гамбия (на расстоянии более чем полутора тысяч миль от Лиссабона), то обнаружила, что слухи ее опередили и что белых здесь считают каннибалами с особым пристрастием к черному мясу. Когда корабли начали подниматься вверх по реке, из леса появилось множество туземцев, которые стали забрасывать их дротиками и выпустили град отравленных стрел. Навстречу незваным гостям вышел на веслах флот боевых плоскодонок. Крепкого телосложения воины были одеты в белые хлопчатые рубахи и шапки с белыми перьями и, как отмечал Кадамосто, «были чрезвычайно черны» [141]. В ходе последовавших затем переговоров европейцы поинтересовались, почему на них, мирных купцов, привезших дары, напали. Африканцы, по сообщению Кадамосто, ответили, что «ни на каких условиях не хотят нашей дружбы, но желают вырезать всех нас, а наше имущество поднести в дар своему господину» [142]. Даже грохот выстрелов, как оказалось, был не в силах отпугнуть их надолго, и нежеланным гостям снова пришлось поспешно отступить.
По мере того как ширились торговые контакты Португалии на побережье, в Лиссабон начали поступать немногочисленные мешочки золотого песка; скоро на лиссабонском монетном дворе будет отчеканена первая за почти сто лет португальская золотая монета, удачно окрещенная крузадо, то есть «крестоносец». Однако Золотая река обернулась миражом, и еще меньше Энрике продвинулся в своей второй по значимости миссии – в поисках могущественного союзника против ислама.
Где-то далеко за морем, как гласили древние легенды, лежала затерянная христианская империя баснословных могущества и богатства. Ее правитель был известен как пресвитер Иоанн.
Слово «пресвитер» по-гречески означает «священник», но Иоанн был необычным священнослужителем. Европейцы твердо верили, что он могущественный христианский царь и скорее всего потомок одного из трех волхвов, которые поднесли золото, благовония и мирру младенцу Христу. Столетия догадок и домыслов наделили царство пресвитера всяческими чудесами, включая источник молодости, который веками поддерживает его жизнь, зеркало, в котором отражается весь мир, и изумрудный стол, освещенный драгоценным бальзамом, горящим в бесчисленных лампах, за который он усаживает по тридцать тысяч гостей за раз. В эпоху, когда отпущенный Ною срок жизни [143] считался общепризнанным фактом, сверхъестественное существование пресвитера Иоанна представлялось совершенно логичным; или по меньшей мере оно придавало весу мечтам Запада о вселенском христианстве.
Легенда о пресвитере Иоанне была не просто популярной сказкой. Она выросла из череды слухов, мошенничеств и недопонятых фактов, но многие могущественные люди, включая целую череду пап римских, воспринимали ее как непреложную истину.
Известные факты были таковы. В 1122 году некто, объявивший себя Иоанном, епископом Индии, предстал перед папой римским и описал свою землю как богатые христианские владения. Два десятилетия спустя один немецкий епископ [144] поведал, что некий христианский царь ведет войну с Ираном; по словам его информатора, добавлял епископ, царя зовут пресвитер Иоанн и он имеет скипетр, вырезанный из цельного изумруда. Ни та ни другая информация не наделала большого шума до 1165 года, когда по всей Европе начали появляться копии письма, подписанного пресвитером Иоанном. Написано оно было надменным тоном, подобающим тому, кто утверждал, будто правит над 72 царями, и величал себя «императором трех Индий». За столом ему, как сообщал он читателям, прислуживают «семь царей, каждый в свой день, шестьдесят два герцога и триста шестьдесят пять графов… В нашем зале ежедневно обедают по правую нашу руку двенадцать архиепископов и двадцать епископов по левую» [145]. Сосчитайте звезды в небе и песчинки на дне морском, любезно предлагал он, и сможете угадать размеры его владений и мощи.
Поскольку европейцы Средних веков жили на постоянной диете из диковин и чудес, от подобных чрезмерных и чудесных утверждений письма делались тем более достойными доверия. Далее пресвитер объяснял, что его царство может похвастаться «людьми рогатыми, людьми одноглазыми, людьми, имеющими глаза и на лице, и на затылке, кентаврами, сатирами, пигмеями, великанами, циклопами, фениксами и любыми животными, каких видывали на земле» [146]. Среди прочих упоминались львы с птичьими крыльями, называемые грифонами, которые способны унести к себе в гнездо целого быка, а еще птицы, именуемые тиграми, которые способны убить рыцаря с лошадью, и пара царских птиц с оперением цвета пламени и крыльями острыми, как бритвы, которые шестьдесят лет правили всем птичьим царством, пока, отказавшись от короны, не бросились в море, где нашли свою погибель. Раса пигмеев вела ежегодную и как будто одностороннюю войну с птицами, а народ лучников имел то преимущество, что ниже пояса имел туловища и конечности лошадей. На другом краю царства сорок тысяч человек были заняты разведением костров, согревающих червей, которые изрыгают серебряные нити.
После двенадцати лет раздумий над этим поразительным посланием папа римский решил направить ответ. Депешу он доверил своему личному лекарю, который отправился на поиски прославленного царя, – и с тех пор о нем ничего не слышали. Тем не менее письмо с Востока завладело воображением Европы: его перевели на разные языки и с интересом читали столетиями. Всякий раз, когда Европе угрожала опасность с моря, почти ожидалось, что пресвитер Иоанн придет на помощь и раздавит неверных. Во время крестовых походов ходили слухи, что он планирует напасть на Иерусалим. Когда на Европу напали монголы, его царство сместилось в Центральную Азию, где, как одно время полагали, он был приемным отцом Чингисхана, c которым тот рассорился [147]. Недолгое время его считали погибшим [148], когда дошли слухи, что он вызвал гнев Чингисхана, отказавшись отдать за него свою дочь, и потерпел поражение в войне, которая из этого воспоследовала, но когда Европа начала мечтать об обращении монголов в христианство, он восстал как новый монгольский правитель.
Утверждалось, что популярность пресвитера Иоанна [149] в три раза больше, чем всего западного христианства, вместе взятого. Его постоянная армия будто бы насчитывала сто тысяч человек, а его воины сражались оружием из чистого золота. Если потребуется, он способен вывести в поле миллион бойцов; от слухов, что они сражаются голыми, эти бойцы становились тем более устрашающими. Он будто бы был самым могущественным человеком на свете, распоряжавшимся неистощимыми запасами ценных металлов и драгоценных камней. Объединившись с его непобедимыми армиями, Европа непременно стерла бы ислам с лица земли.
Если бы только его удалось найти.
К тому времени, когда Энрике отправил свои экспедиции искать пресвитера Иоанна, владения великого царя переместили в Восточную Африку. Сдвиг, по сути, был не так уж велик. Это мало чем отличалось от веры в то, будто он правит в Индии, поскольку европейцы постепенно поверили, что Индия и Африка соединены друг с другом. Восточная Африка была известна также как Средняя Индия, а еще более запутывало ситуацию то, что Среднюю Индию идентифицировали с Эфиопским царством [150].
Эфиопия считалась древней христианской страной, но, учитывая, что ислам блокировал все пути туда, Европа утратила с ней контакты, и постепенно ее окружило множество легенд. Одни говорили, что она отделена от Египта и лежит по ту сторону пустыни, а чтобы пересечь ее, требуется пятьдесят дней [151]; другие утверждали, будто эфиопы невосприимчивы к болезням и живут по двести лет. В 1306 году, после столетий тишины при папском дворе во Франции внезапно объявился посол из Эфиопии, и пресвитер Иоанн тут же был помазан патриархом эфиопской церкви – без сомнения, чтобы доставить удовольствие обеим сторонам. Поскольку для него это был шаг на ступеньку ниже, его вскоре произвели из патриархов в самодержцы и идентифицировали со всемогущим императором бескрайнего и могущественного государства Эфиопия. К 1400 году гипотеза утвердилась настолько, что английский король Генрих IV писал пресвитеру в его новом качестве, исходя из слухов, что великий правитель вновь собирается походом на Иерусалим. То, что европейцы упорно называли их монарха пресвитером Иоанном, постоянно приводило в замешательство эфиопских послов, которые время от времени добирались в Европу на протяжении XV столетия (так, приезд одного из них произвел большой переполох в Лиссабоне в 1452 году), хотя, несомненно, им льстило, что их принимают как особ много более важных, чем они могли бы предполагать.
И вновь чаяния Европы взмыли в небеса, ведь священник-царь непременно должен стать решающим союзником против ислама. Но даже если он согласится на союз, оставалась проблема, как до него добраться. Затруднение как будто разрешилось, когда начали появляться карты, на которых в западное побережье Африки врезался полумесяцем огромный залив. Названный Sinus Aethiopicus, или Эфиопский, этот залив как будто вел в самое сердце владений пресвитера.
Годами, пока португальские корабли плавали к тому месту, где полагалось быть разверстому зеву залива, принц Энрике давал наказ за наказом расспрашивать всех о новостях об Индиях и их священнике-царе пресвитере Иоанне. Когда в 1454 году принц подал папе петицию (которая была дарована) об Атлантической монополии, он обещал, что его экспедиции вскоре дойдут «до самих индийцев, которые, как говорят, поклоняются Христу, так что мы сможем войти с ними в сношения и убедить их помочь христианам против сарацин» [152]. Христианская Индия, которую португальцы будут искать еще десятилетия, была вовсе не Индией, а Эфиопией.
Энрике так и не нашел свой Sinus Aethiopicus, прямой путь в земли пресвитера. Поиски великого царя будут продолжаться, и западное христианство и впредь будет стараться дотянуться до чудес, чтобы утвердить свое господство на земном шаре.
Гвинея оказалась совсем непохожей на ослепительную Эфиопию европейских фантазий. Ее торговые посты были разбросаны по бескрайним диким землям, а сезонные караваны – практически невозможно проследить. За исключением толики золота, товары, которые привозили домой первопроходцы – шкуры антилоп, янтарь, живых виверр и их мускус, смолу гуммиарабик, сладкую смолу, черепаший и тюлений жир, финики и страусовые яйца [153], – были экзотическими, но едва ли могли перевернуть мир. Хуже того, сами африканцы так пренебрежительно относились к тюкам грубой материи, которые предлагали в обмен португальцы, что Энрике был вынужден покупать товары хорошего качества в Марокко для перепродажи в Гвинее. Когда его экспедиции натолкнулись на согласованное сопротивление и были вынуждены идти на уступки, он объяснял, что торговля просто еще один способ вести борьбу против ислама [154]. Но теперь даже эта отговорка становилась опасно неубедительной.
Рокот недовольства в самой Португалии уже невозможно было игнорировать. Колоссальные расходы денежных и людских ресурсов, на которых настаивал Энрике, как будто ни к чему не вели.
Недовольство улеглось с появлением товара почти столь же ценного, как золото: людей.
Первая полноценная экспедиция Энрике Мореплавателя по захвату рабов отплыла в 1444 году и жестоко напала на мирные рыбацкие поселки острова Аргуин в одноименном заливе. Спустив под покровом ночи шлюпки, солдаты напали на островитян на рассвете с яростными криками «Португалия, святой Иаков и святой Георг!». Хроники зафиксировали жуткую сцену: «Можно было видеть, как матери бросают своих детей и мужчины оставляют на произвол судьбы жен, и каждый думал только о том, чтобы бежать со всей возможной поспешностью. И одни бросались в море, а другие искали укрытия в хижинах, а третьи прятали детей своих под грязью, надеясь так уберечь их от глаз врага, а после за ними вернуться. И наконец Господь наш, Кто вознаграждает любое правое дело, повелел, чтобы труды того дня проделаны были нашими людьми на службе Его, и даровал им победу над их врагами и награду за их старания и невзгоды в том, что взяты были сто шестьдесят пять пленников, мужчин, женщин и детей, не считая тех, кто умер или убил себя» [155].
Вознеся благодарственные молитвы, захватчики перебрались на соседний остров. Обнаружив, что поселок заброшен, они подстерегли девять мужчин и женщин, потихоньку пробиравшихся с ослами, груженными панцирями черепах. Один из девятерых сбежал и предупредил жителей соседнего поселка, который тоже опустел к тому времени, когда объявились португальцы. Жителей они вскоре заметили на песчаной мели, куда те бежали на плоту. Поскольку залив был слишком мелок, чтобы добраться до них на лодке, португальцы вернулись в деревню и вытащили восемь прятавшихся женщин. На следующее утро они вернулись для рейда на рассвете. Деревня была все еще заброшена, и они пошли на веслах вдоль берега, время от времени высаживаясь на поиски новых жертв. В конечном итоге они наткнулись на большую группу беглецов и захватили семнадцать или восемнадцать женщин и детей, «ибо они не могли бежать чересчур быстро» [156]. Вскоре после этого видели, как большое число туземцев спасается на плотах. Радость португальцев, как сетовали хроники, вскоре обернулась горем, когда они поняли, какой упущен будет шанс заслужить славу и прибыль, когда оказалось, что все пленники не помещаются на кораблях. Тем не менее их на веслах перевезли на борт и, «движимые жалостью, пусть даже плоты были заполнены неверными мусульманами, убили лишь немногих. Однако следует полагать, что многие мавры, охваченные страхом, бросились с плотов и погибли в море. И христиане потому, проходя мимо плотов, выбирали превыше всего детей, чтобы как можно больше из них увезти к себе на корабль, и из них взяли четырнадцать».
Возблагодарив Господа за победу над врагами веры и «более чем когда-либо желая потрудиться на службе Господа», португальцы на следующий день отправились захватывать новых пленных. Пока они этим занимались, на них набросилась толпа туземцев, и им пришлось бежать. Вовсе не выставляя агрессоров дураками, хроники утверждали, что рассерженные туземцы были посланы Богом, чтобы отвадить христиан до того, как на место прибыли три сотни вооруженных воинов. И тем не менее только они прыгнули в лодки, как «на них напали мавры, и все сражались в великом беспорядке». Португальцам удалось убраться целыми и невредимыми и захватить новых пленников, включая юную девушку, которую забыли односельчане. Всего они согнали 240 мужчин, женщин и детей, которых предстояло связать и загнать на ожидающие корабли, где переполненные трюмы и палубы, кишащие крысами и тараканами, воняющие стоялой водой и гниющей рыбой, теперь воняли еще испражнениями дрожащих и паникующих рабов.
Когда живой груз доставили в Португалию, молва о нем разошлась широко. Взбудораженные зеваки запрудили гавань, сам Энрике приехал надзирать за распределением добычи. Сидя верхом на прекрасном жеребце и выкрикивая приказы, он превратил омерзительную сцену в апофеоз паблик-рилейшнс.
После мучительного плавания рабы являли собой жалкое зрелище, и по мере того как их нагими выводили на набережную и заставляли показывать свою силу, даже португальцы пришли в ужас. «Что за сердце может быть столь жестоко, чтобы его не пронзило жалостное чувство при виде этого сборища?» – писал хронист Гомеш Ианиш ди Зурара, очевидец происходящего, признавшийся, что оно тронуло его до слез.
«Ибо одни понурили головы и их лица были омыты слезами, когда они смотрели друг на друга; иные жалостно стонали, поднимая взоры к небесам и громко крича, точно взывали о помощи к Матери-Природе; третьи били себя ладонями по лицу и всем телом бросались наземь; еще иные возносили свои сетования заунывным пением, как это заведено в их стране. И хотя мы не понимали слов их языка, звуки его вполне передавали суть их печали. Но чтобы еще более усилить их страдания, явились те, на кого было возложено разлучить пленников и кто начал отделять одних от других… И тогда потребовалось отделить отцов от сыновей, мужей от жен, братьев от братьев. Никакого снисхождения не было выказано ни дружеским, ни семейным узам, но каждый отправился туда, куда выпала ему участь. Кто мог бы завершить такое разделение без весьма больших трудов? Ибо нередко в одну сторону отводили сыновей, а в другую – отцов, и последние тогда вскакивали с большой живостью и бежали к ним; матери сжимали в объятиях детей и бросались с ними на землю, получая удары без жалости по собственному телу, лишь бы детей у них не отнимали» [157].
Энрике глядел удовлетворенно. Он дал свой ответ критикам: пусть он не нашел золотых россыпей, зато поставил Португалию в один ряд с основными работорговыми державами мира. Когда в следующем году в Лиссабон доставили новый человеческий улов, скептиков наконец заставили замолчать. «Теперь, – отмечал ди Зурара, когда на борт кораблей хлынули любопытные, – не нашлось никого, кто согласился бы признать, что некогда был в числе недовольных. Когда видели, как связанных веревками пленников ведут по улицам, столпотворение было таково, что толпы славили великие добродетели принца, и ежели кто-то посмел бы вслух говорить противное, его быстро заставили бы замолчать» [158].
Закованные в кандалы невольники спасли поход Португалии за освоение океанов.
Рабство в Средние века было довольно распространенным явлением. Целые мусульманские сообщества были построены на рабстве: размах его был так велик, что в середине IX века в Ираке взбунтовалось полмиллиона рабов. Невольников продавали в торговых итальянских республиках: среди них особо выделялась Генуя, не церемонившаяся из-за того, откуда прибывает человеческий груз, и на торгах там регулярно появлялись крупные партии православных христиан. Еще большее число рабов привозили через Кавказ и Сахару, или же их захватывали пираты Берберского побережья [159]; по неким подсчетам, для продажи на невольничьих рынках Северной Африки пираты похитили в общем и целом более миллиона мужчин, женщин и детей. Мало какая страна не запятнала себя подобной торговлей, и мало кто видел в ней что-либо дурное. Большинство отмахивались от жертв как от людей низшего порядка; многие (включая африканских военных вождей, продававших своих врагов ради пшеницы, тканей, лошадей и вина) полагали законной добычей любого пленного. Чувствительные христиане утешали себя, воображая, что рабов спасли от безбожного существования, когда они жили ничуть не лучше животных, и никто не видел ничего странного в том, чтобы отобрать у человека свободу, лишь бы спасти его душу. Слезливый ди Зурара напоминал себе, что рабство произошло от проклятия, которое Ной после Потопа возложил на своего сына Хама: чернокожие, объяснял он, происходят от Хама и потому на веки веков подчинены всем прочим народам. Любые лишения, какие они терпят, заверял он своих читателей, бледнеют в сравнении с «чудесными новшествами, которые их ожидают» [160]. При жизни Энрике было захвачено или куплено и привезено в Португалию приблизительно 20 тысяч африканцев [161]; к началу следующего столетия их число выросло до 150 тысяч.
Новая ипостась принца Энрике как главы работорговцев никогда не давала его почитателям усомниться в его убеждениях крестоносца. Даже напротив: в этом они видели непреложное подтверждение тому, что его исследование Атлантики является прямым продолжением его пожизненного крестового похода. Поскольку Энрике был занят постоянной войной с неверными, и поскольку война с неверными была по определению справедливой, любой, захваченный им, являлся законным пленником и по обычаям того времени подлежал порабощению. В противоположность обычным работорговцам Энрике удостаивался высших похвал за постоянные напоминания, дескать, торговлей он занялся лишь для того, чтобы нести Евангелие злополучным язычникам. В глазах его соотечественников устраиваемые им рейды по захвату рабов были великими деяниями рыцарственности, достойными похвал не меньше, чем захват пленных на поле битвы. Сам Энрике, без сомнения, верил, что его новый вид коммерции не только прибылен, но и бесконечно угоден Господу.
Церковь не просто соглашалась, а прилагала немало усилий, чтобы ясно выказать свое одобрение. В 1452 году папа римский издал буллу, наделяющую португальцев властью и правом нападать, завоевывать и подчинять любых «сарацин, язычников и всех прочих неверующих» [162], каковые им встретятся, захватывать их имущество и земли и порабощать их в наследственное рабство, – пусть даже они приняли христианство. Рим уже даровал полное отпущение грехов всем христианам, отправившимся в поход под крестом ордена Христа, и в 1454 году передал ордену Энрике исключительную духовную юрисдикцию надо всеми недавно открытыми странами.
Поразительная мысль, что африканцы, которые почему-то не сумели прийти к истинной вере, находятся «за рамками законов Христа и в распоряжении, насколько речь идет об их телах, любой христианской страны», – была знаменем, которое первые европейские колонисты несли с собой по всему миру. Они путешествовали не только ради удовольствия новых открытий или торговых выгод: они плыли крестить и завоевывать именем Христа. Религиозное рвение вкупе с шансом грабежа эпического размаха было смертоносным стимулом, и он неумолимо погонит португальцев в Индию и за ее пределы.
Дорогой ценой инаугурации атлантической работорговли Энрике радикально расширил горизонты Европы. Делу, которому он положил начало, предстоит еще долгая жизнь, и внезапно оно станет тем более настоятельным, когда с Востока придет ошеломляющее известие.
Глава 5
Конец света
22 мая 1453 года солнце село над осажденным Константинополем [163]. Час спустя в прозрачном небе поднялась полная луна, но внезапно ее затянула чернота затмения, оставив лишь узкий нездоровый серп. Всю ночь напролет паникующие толпы метались по древним улицам, освещенным лишь мигающими красноватыми отсветами вражеских костров за стенами. Воздевая к небу драгоценные иконы и распевая молитвы Богу, Пресвятой Деве и всем святым, последние римляне знали, что древнее пророчество наконец свершилось. Небеса застились, конец подступал.
Более тысячи лет о твердыню стен Константинополя разбивались волны варваров и персов, арабов и турок. Он пережил опустошительные поветрия болезней, кровопролитные династические неурядицы и мародеров-крестоносцев. Золотой город кесарей постепенно превратился в выхолощенный остов, его население, составлявшее теперь десятую часть того, что жило тут в пору расцвета Византийской империи, было разбросано по полям, усеянным обломками былого величия. Но он все же держался. Давным-давно он утратил свой латинский язык и перенял греческий, на котором говорила большая часть его населения. Европейцы Запада давно уже называли эту империю греческой. Позднее историки окрестят ее Византией, по имени города, на месте которого вырос Константинополь. Но для своих гордых граждан он всегда был римским, последним живым и дышащим осколком античного мира.
Османскому султану двадцати одного года от роду, который раскинул свой шатер в четверти мили к западу от города, рисовались блестящие перспективы: не столько окончательное падение Римской империи, сколько ее возрождение под его собственной эгидой. Мехмед II, крепыш среднего роста с пронзительным взглядом, орлиным носом, маленьким ртом и громким голосом, бегло говорил на шести языках и усердно изучал историю [164]. Он уже овладел почти всеми старыми римскими землями на Востоке, и история подсказывала ему, что завоеватель восточной столицы римлян унаследует мантию великих императоров былых времен. Он станет полноправным цезарем, а его ретивое честолюбие вернет громовую властность священному, но выхолощенному имени.
Пока турки смыкали кольцо, византийский император в последний раз воззвал к Западу. От отчаяния он лично посетил папу римского [165] и согласился воссоединить ортодоксально православную и римско-католическую церкви. Его мольбы разбились о столетия давнишней вражды между греками и итальянцами, и даже в свой последний час жители Константинополя развязали бурную общественную кампанию против примирения. Кроме того, если папство, как всегда, было не прочь использовать ситуацию с возможно большей для себя выгодой, Европа пресытилась поражениями от рук турок. На сей раз не будет ни папской коалиции, ни крестоносной армии, которые защитили бы восточный оплот христианства.
На подступах к городу с суши турки установили чудовищных размеров пушку со стволом в двадцать шесть футов длиной и дулом таким широким, что туда мог заползти взрослый мужчина, а весом таким, что потребовалось тридцать тягловых быков и четыреста человек, чтобы водрузить ее на отведенное место. На протяжении семи недель ее ядра весом в тысячу двести фунтов ударяли в древние стены и сотрясали землю с силой удара метеорита. Бесчисленные пушки поменьше обращали в пыль внешние укрепления, заставляя солдат, монахов и матерей семейств бросаться залатывать бреши. Монументальные стены были серьезно повреждены, но еще стояли, и в последний раз несколько тысяч уцелевших защитников собрались с духом.
Для православных столица восточного христианства была не только новым Римом, она была Новым Иерусалимом, колыбелью христианства как такового. Сам город представлялся сокровищницей священных реликвий, которым приписывали чудесную силу [166]: предположительно среди них находились большие куски Честного и Животворящего Креста Господня и святые гвозди, сандалии Христа, алое одеяние, терновый венец и покров, а еще остатки рыб и хлеба, которыми были накормлены пять тысяч человек, а также голова Иоанна Крестителя целиком, с волосами и бородой, и сладко благоухающие одежды Девы Марии, которую часто видели ходящей по стенам и вдохновляющей защитников. В дни расцвета Константинополя Святой Андрей Юродивый, бывший раб, ставший аскетом, чье очевидное безумие воспринималось последователями как знак его крайней святости [167], пообещал, что до скончания времен великому городу нечего страшиться врагов. «Ни один народ не поработит и не захватит его, – возвестил он своему ученику Епифанию, – ибо он вручен Богородице, и никто не вырвет его из ее рук. Многие народы станут подступать к его стенам и ломать свои рога, и уходить со стыдом, хотя и возьмут от даров его и множество богатств» [168]. Лишь перед Страшным судом, добавлял он, Господь подсечет под ним землю могучим серпом; и тогда воды, столь долго носившие священное судно, обрушатся на него и закрутят как жернов на гребне волны, а после низвергнут в бездонную пропасть. Для истинно верующих падение Константинополя было равносильно концу света.
Через неделю после затмения, в котором многие увидели знак Божий, конец наступил.
Под покровом темноты, под рев рожков и дудок, под грохот пушек сто тысяч турецких солдат перешли во фронтальное наступление. Пока христиане и мусульмане сражались в рукопашной на горах щебня, бывших некогда самыми мощными стенами в мире, судьба сыграла с Константинополем последнюю, жестокую шутку. В общей суматохе защитники оставили открытыми одни из ворот, и через них хлынули турки. Когда в клубах пыли, дыма и серы наступил рассвет, последние римляне отхлынули в измученный город и пали на колени.
Турки волной неслись по Месе [169], центральной улице города, более тысячи лет назад проложенной Константином Великим. Разбегаясь направо и налево, они врывались в дома, распоряжались в них по-хозяйски и пошатывались после под грузом награбленного. Они резали мужчин и насиловали женщин – среди последних оказалось немалое число монахинь. По обычаям войны город на три дня отдавался на разграбление победителей: Мехмед – с оглядкой на историю – прекратил грабеж в полдень и настоял, чтобы выживших обратили в рабов. Никто не протестовал: даже закаленные в битвах солдаты застывали полюбоваться в немом восхищении. Почти через восемь столетий после того, как исламская армия впервые осадила Константинополь, город наконец принадлежал им.
Под конец золотого майского дня Мехмед верхом проехал по Месе и спешился перед собором Святой Софии. Наклонившись подобрать горсть земли, он посыпал ею свой тюрбан и вошел в тяжелые бронзовые двери, которые висели на частично сорванных петлях. Когда его глаза свыклись с полумраком огромного пространства с его уносящимися ввысь стенами сверкающих, ветшающих мозаик, он собственным мечом заколол солдата, выковыривавшего из пола мраморную плиту. Отныне величайшая церковь христианского мира станет мечетью.
В Европе известие об окончательной гибели античности было воспринято как трагичное, но неизбежное. Ветхий город, казалось, давно уже принадлежал иному миру.
«Но что за ужасные известия сообщили недавно о Константинополе? – писал тогдашнему папе римскому ученый Эней Сильвий Пикколомини, будущий папа Пий II – Кто усомнится, что турки изольют свой гнев на храмы Божьи? Горько, что самый знаменитый храм, Святая София, будет разрушен или осквернен. Горько, что бесчисленные базилики святых, чудеса архитектуры окажутся в развалинах или будут подвергнуты осквернению магометанства. Что мне сказать про книги без счета, еще неизвестные в Италии? Увы, сколько имен великих людей теперь будут утрачены безвозвратно? Это станет второй смертью Гомера и вторым уничтожением Платона» [170].
Как оказалось, книгам – в отличие от большинства церквей – ничего не грозило. От турок бежало множество ученых – в основном в Италию, куда они привезли охапки томов, содержавших античные тексты и подстегнувших набирающий силу Ренессанс [171]. Мехмед Завоеватель, как он был известен своему народу, стерег оставшееся в своей лелеемой библиотеке, и этот образованный тиран вскоре вознамерился восстановить то, что разрушил. Как правитель единственной сверхдержавы Ренессанса, он мог привлечь любое число талантливых людей. Новый город, который будет назван Стамбулом, восстанет из пепла Константинополя, – прославленная столица под стать амбициям Завоевателя. Большой Базар (Капалы Чарши), мировой торговый центр XV века, накроет арочными сводами древние улицы, а в мастерских станут изготавливать товары с быстротой, какой тут не видели столетиями. Христиан и евреев пригласят назад как умелых ремесленников и администраторов, патриарх возобновит свои попечения о православной пастве, а главный раввин займет свое место в Диване, государственном совете, позади религиозных старшин мусульман.
Но у Мехмеда вся жизнь была впереди, и он не намеревался почивать на лаврах изукрашенного трона. Человек, сам себя произведший в цезари, не довольствовался Константинополем, вторым Римом античности. Чтобы подтвердить свои притязания, ему требовалось покорить и первый Рим тоже.
Некоторые европейцы разглядели в надвигающейся катастрофе выгодный шанс. Георгий Трапезундский [172], неуживчивый греческий эмигрант, превратившийся в прославленного итальянского гуманиста и секретаря папы римского, был убежден, что Мехмед исполнит старинное пророчество, став единовластным правителем мира. По общепринятому мнению, долгое царство террора установится перед появлением последнего христианского императора, который станет править в эпоху мира, предшествующую Концу Времен. Углядев шанс перескочить через два столетия ада на земле и перейти прямо в век блаженства, Георгий написал серию писем османскому султану. Обращаясь к нему как полноправному цезарю, он предлагал примирить ислам и христианство, с тем чтобы Мехмед мог креститься и сам стать «последним царем земли и небес». Хотя эсхатологическая затея Георгия была чересчур амбициозна, не он один пытался обратить в христианство Завоевателя: еще несколько греческих теологов и даже папа Пий II писали Мехмеду, предлагая то же самое.
Остальное западное христианство, не подозревая, что спасение подстерегает его в стремительном натиске турок, и раздираемое обычными своими внутренними войнами, могло лишь с ужасом смотреть, как армии Мехмеда вторглись глубоко в пределы Восточной Европы и приплыли к берегам самой Италии [173]. Султан-победитель был в одном шаге от воплощения мечты, которая семь столетий назад оборвалась на полях Франции.
Рим – неизбежно – призвал к новому крестовому походу. На сей раз план папского геноцида заключался в том, чтобы не только вернуть Константинополь, но и вторгнуться глубоко в земли османов и раз и навсегда изничтожить турецкий народ.
В феврале 1454 года Филипп Добрый, могущественный герцог Бургундии – и муж Изабеллы, сестры Энрике Мореплавателя, – устроил самый впечатляющий за все XV столетие пир, чтобы разрекламировать обсуждаемую священную войну. Сотни знатных людей собрались в Лилле на «Праздник Фазана» [174], где их угощали и развлекали с размахом, приставшим человеку, одержимому рыцарскими романами. В большом зале было накрыто три стола, и каждый был украшен миниатюрными диковинками, на какие только способна фантазия кукольных дел мастера. Один только верхний стол мог похвалиться замком, ров которого был заполнен апельсиновым пуншем, стекавшим с его башен, примостившейся на вращающемся крыле ветряной мельницы сорокой (попасть в нее не удалось ни одному из многочисленных желающих поупражняться в стрельбе из лука), сражающимся со змеей тигром, оседлавшим медведя шутом, арабом верхом на верблюде, кораблем, который плавал взад-вперед между двумя городами, двумя влюбленными, лакомившимися птицами, которых вспугнул из куста человек с палкой, хитроумной бочкой, из которой лилось то сладкое, то кислое вино: «Отведай, если посмеешь», – гласила на ней надпись. Для особо стойких в зал вкатили колоссальный пирог: когда с него сняли верхнюю крышку, внутри оказался оркестр из двадцати восьми музыкантов. Пока гости в масках пробовали сорок восемь перемен блюд, для их увеселения кувыркались акробаты, разыгрывали интермедии актеры, живой лев взрыкивал подле статуи женщины, из правой груди которой било приправленное пряностями вино, и были выпущены два сокола, которые убили цаплю, – последнюю поднесли герцогу. Когда подошло время кульминации пира, великан, одетый мусульманином, ввел на поводке слона. На его спине была закреплена модель замка, а в нем сидел актер, изображающий женщину, одетую монахиней. Актер объявил себя Святой Церковью, а затем произнес «жалобу и сетование трогательным и женским голосом» на беззакония турок. В соответствии с давнишней рыцарской традицией придворный торжественно внес и поставил на верхний стол фазана в ошейнике из золота, жемчуга и драгоценных камней. Герцог принес обет Богу, Деве Марии, дамам и птице отправиться в крестовый поход, и его примеру последовали собравшиеся рыцари и оруженосцы. После подобного спектакля трудно было бы вежливо отказаться.
При всех стараниях герцога Филиппа аристократы, как выяснилось, больше настроены были пировать, чем воевать с турками, и папский призыв к оружию был встречен коллективным пожатием плечами. Фактически единственной страной, которая серьезно отнеслась к предлагаемому крестовому походу, оказалась Португалия. Король Альфонсу V, сын короля Дуарте и племянник Энрике, уже возмужал и горел желанием затмить славу, которой покрыли себя как Христовы воины его предки. Упрямый молодой король предложил свою кандидатуру на роль главы похода, в который собирался повести двенадцатитысячное португальское войско, впрочем, когда он отправил посла в Италию, чтобы продвинуть свой план, его ждало скорое крещение в мутных водах итальянской политики. Несколько итальянских государств пообещали присоединиться к крестовому походу, но посол докладывал, дескать, нет никакой вероятности, что они сдержат слово. Его скептицизму вторил герцог Миланский, который язвительно написал Альфонсу в сентябре 1456 года, восхищаясь «возвышенностью духа, заставляющей португальского короля, едва вышедшего из мальчишеских лет, желать напасть на неверных в областях, столь далеких от традиционных крестоносных устремлений Португалии в Северной Африке, и это невзирая на то обстоятельство, что его планы могут поставить под угрозу Сеуту» [175]. В приступе обиды Альфонсу объявил, что, мол, схватится с турками единолично. Даже его дядя Энрике счел, что племянник лишился рассудка, и поскорее уговорил его перенести свой пыл на новый крестовый поход в Марокко.
Учитывая, что его притязания на верховную власть на земле выглядели как никогда шатко, Рим за подкреплением своих раздутых амбиций все чаще обращался к стойким крестоносцам Пиренейского полуострова. В 1455 году папа римский вознаградил пыл молодого Альфонсу, наделив его вымышленным титулом властелина Гвинеи: с точки зрения церкви португальцы стали теперь хозяевами огромных территорий в Африке и прилегающих морях, открытых или доселе неизвестных. Сколь бы заоблачными ни казались устремления маленькой Португалии, поддерживая их, Рим ничего не терял, зато в случае успеха потенциально получил бы полмира.
Альфонсу велел зачитать пространную папскую буллу [176] в кафедральном соборе Лиссабона, похожем на крепость здании, построенном на месте старой мечети, перед аудиторией из иностранных сановников. В пылких выражениях папа восхвалял Энрике Мореплавателя как «нашего возлюбленного сына», а его открытия и завоевания – как подвиг «истинного воина Христа». Еще он подтверждал право нового властелина Гвинеи «вторгаться, выискивать, брать в плен, побеждать и подчинять себе всех и любых сарацин и язычников и прочих врагов Христа, где бы они ни встретились, и королевства, герцогства, княжества, владения, все движимое и недвижимое имущество, находящееся в их держании или владении, а самих их обращать в вечное рабство». Это была наивозможно ясная санкция верховных властей на любую военную акцию, какую Португалия могла бы пожелать совершить за морями, – позднее она станет известна как хартия португальского империализма. Вместе с буллой, дарованной Энрике в 1452 году, ею станут размахивать всякий раз, когда понадобится оправдать столетия европейского колониализма и работорговли в Атлантике.
Пять лет спустя, в 1460 году умер Энрике. К тому времени его корабли заплыли на две тысячи миль от Лиссабона, а его одержимая жажда открытий поразительно расширила амбиции Португалии. Многие соотечественники почитали его как героического провидца, первым скоординировавшего исследование Моря-Океана, и как отца нарождающейся империи. Имелись и несогласные: для одних он был безрассудным приспособленцем, для других – реакционером, средневековым рыцарем, одержимым крестовыми походами и рыцарскими романами. Все это в нем было, но его неуемное стремление к целям, недоступным здравому смыслу людей более трезвых, изменят ход истории. Это была неоднозначная, не лишенная изъянов фигура, но без которой познания Европы о том, что лежит за пределами ее берегов, возможно, умножались бы черепашьим шагом, фигура, без которой Васко да Гама, возможно, никогда не отплыл бы в Индию, а Колумб – в Америку.
Король Альфонсу не обладал тягой Энрике к новым открытиям. Экспедиции прервались на девять лет, пока молодой король пытался повторить крестовый поход своего дяди против Танжера, который то завоевывался, то утрачивался, пока не пал окончательно в 1471 году. Со временем король поддался на уговоры передать монополию на африканские вояжи и торговлю богатому лиссабонскому купцу по имени Фернан Гомиш. Купца королевские крестовые походы не отвлекали, и экспедиции следовали одна за другой. Корабли Гомиша обогнули массивный континентальный выступ Западной Африки и поплыли вдоль побережья на восток. В Гане – которую португальцы окрестили Эльмина, а англичане позднее Золотым берегом – корабли Гомиша наконец нашли постоянный источник золота, который ускользал от Энрике, и в 1473 году, теперь снова продвигаясь на юг, пересекли экватор. В общем и целом они продвинулись еще на две тысячи миль.
Себе на беду Гомиш был чересчур уж успешен: в следующем году его контракт был разорван [177], и корона отняла у него бразды правления. Манил не только драгоценный металл. Когда португальцы очутились внезапно в Южном полушарии, национальное сознание начала наконец захватывать электризующая идея.
Столетиями европейцы мечтали найти надежный путь в дальние области Азии. Столетиями стена веры, воздвигнутая исламом, делала саму мысль о нем, этом пути, практически невозможной. Однако если существует конец Африки, то, возможно, есть и способ проплыть напрямую из Европы на Восток. Страна, совершившая этот подвиг, преобразится сама и преобразит мир.
В античной мифологии Европа родилась в результате похищения с Востока [178]. Согласно древнегреческому мифу, финикийская царевна по имени Европа гуляла со своими служанками, когда царь богов Зевс, обратившись в белого быка, заманил предмет своего вожделения сесть на него и уплыл с ней на Крит. Отец истории Геродот позднее объяснял, что Европу на самом деле захватил Минотавр Критский из мести за прошлое похищение финикийскими купцами, что породило вражду между Европой и Азией, кульминацией которой стали греко-персидские войны. Так или иначе, мать Европы, по всей очевидности, не намеревалась отказываться от красот Азии ради чужих берегов.
Для средневековых европейцев Восток был землей чудес, не сравнимых ни с чем, что могло бы найтись дома. Большинство их выводили из Библии – как ее толковало средневековое, склонное к мистике мышление.
Отрезанная от сведений из первых рук о том, что лежит за ее пределами, Европа давным-давно ударилась в библейский буквализм, переосмыслявший мир по своему подобию. На тогдашних похожих на колесо mappae mundi, или схематичных картах мира, три известных континента были распределены вокруг Т-образного водного пространства. Азию помещали над верхней планкой «Т», которая соответствовала Нилу и Дунаю. Европа находилась слева от вертикального основания, представлявшего собой Средиземноморье, а Африка – справа. Все вместе омывалось Морем-Океаном, а ровно в центре располагался Иерусалим. В европейском восприятии Иерусалим в самом буквальном смысле был городом в центре мира. «Так говорит Господь Бог: это Иерусалим! Я поставил его среди народов, и вокруг него земли» [179], – говорится в Библии устами пророка Иезекииля. Именно так его и рисовали.
Наверху карты – или на Дальнем Востоке – помещался Райский сад, колыбель самого человечества [180]. В этом образчике предписанной отцами церкви географии не было ничего символичного. Огромная энциклопедия, составленная святым Исидором Севильским [181], – это самый популярный учебник Средних веков и Ренессанса – перечисляла Рай земной среди восточных областей наряду с Индией, Персией и Малой Азией. Статья о Рае в «Полихрониконе», или «Универсальной истории» XIV века, проясняла, что он составляет «значительную часть поверхности земли, будучи не меньше Индии или Египта, ибо был предназначен для всего рода человеческого, если бы человек не согрешил» [182]. После Грехопадения путь в сад, разумеется, был закрыт: на картах показано, как его охраняют ангел с мечом, стена пламени, кишащая змеями пустыня, а сам он расположен на вершине горы такой высокой, что она касается орбиты Луны (именно поэтому он остался сух во время Потопа), или же заточен на острове, единственным входом куда служит пугающая дверь с надписью «ВРАТА РАЯ». Так или иначе, в раю скрываются густые зеленые леса, пахучие цветы и ласкающие ветерки, равно как все мыслимые красоты, разновидности счастья, богатств и удачи. Рай земной, возможно, был недоступен, но в существовании его не сомневались.
Помимо такого авторитетного источника, как Библия, Европа столетиями могла опираться лишь на фрагменты античных текстов, уцелевших в хаосе нашествий варваров. В типично средневековом духе она безудержно приукрашивала содержавшиеся в них сведения. В «Романе об Александре», средневековом бестселлере, излагающем приключения Александра Великого (сами эти приключения пережили бесчисленные переиздания и с каждым следующим становились все невероятнее), рассказывалось о том, как воочию был увиден Рай [183]. В одной из версий Александр и его спутники плыли под парусами по реке Ганг, когда вдоль берега вдруг возникла высоченная городская стена. Три дня они плыли вдоль нее, пока вдруг не увидели маленькое окошко и не окликнули. Ответивший им престарелый привратник объяснил, что они нашли город благословенных и что им грозит смертельная опасность. От стены Александр увез с собой сувенир, камень тяжелее золота, который, едва коснется земли, становился легче пера – символ конца, ожидающего самых могущественных людей. Учение античности, подкрепленное фантазией Средневековья, в ответе и за уверенность в том, что Александр повстречал в своих странствиях многочисленные «чудовищные народы» [184], включая пигмеев, каннибалов, псеглавцев, людей с лицом на груди и еще некими, вообще не имевшими рта и питавшимися ароматом яблок. У каждой расы имелось общепринятое название: последние в списке уместно именовались «нюхающими яблоки».
Изображая на картах [185] наряду с Адамом и Евой, покидающими Райский сад, Христом, восстающим из мертвых, еще и души, отправляющиеся к блаженству или на муки ада в час Страшного суда, картографы исхитрились найти место для пустующей Вавилонской башни, праздных Блаженных островов, страны Сухого Дерева, о которой писал Марко Поло, золотых копей Офира, Десяти потерянных колен Израилевых, царства волхвов и царства варварских народов Гога и Магога, чье освобождение от уз развяжет битву за Конец Времен на земле [186]. Последние два царства помещались на самом дальнем севере Азии, где их удерживали железные врата, построенные Александром Великим, который заградил путь им и еще – ни много ни мало! – двадцати двум злобным народам. Карты изображали пугающие племена, пьющие человеческую кровь и поедающие человеческое мясо, в том числе нежную плоть детей и недоношенных младенцев. Подобные мрачные фантазии не были уделом лишь разжигающих страхи популистов: они воспринимались как святое писание виднейшими умами эпохи.
Спекуляции и домыслы множились, и Европа начинала верить, что эти фантастические места реальны, а тем временем о реальных местах было известно так мало, что они, в свою очередь, подпитывали диковинные фантазии. И что крайне важно – отдаленные области Востока представляли собой такую загадку, что позволяли вообразить – по меньшей мере на каком-то глубинном уровне, – будто там живут христиане.
Изо всех загадок наибольшую путаницу вносило местонахождение Индии, которое обернулось причиной несказанного разочарования, поскольку Индия считалась источником самого ценимого товара на свете: пряностей.
Ничто не радовало так средневековое нёбо как огненный взрыв пряностей. На кухнях по всей Европе пряностями обильно приправляли соусы, пряности замачивали в вине и засахаривали как конфеты, причем сам сахар расценивался как пряность. Корица, имбирь и шафран были главными ингредиентами в рецептах любого уважающего себя повара, а драгоценные гвоздику, мускатный орех и мейс из шелухи мускатного ореха клали едва ли не во все блюда. Даже деревенские жители жаждали черного перца, тогда как состоятельные гурманы в поразительных количествах жадно поглощали весь спектр от аниса до белой кукурмы, которую за редкостью заменил имбирь. Дом и двор первого герцога Бэкингемского в XV веке потреблял два фунта пряностей в день, включая почти фунт перца и полфунта имбиря, но даже такие исключительные объемы бледнели в сравнении с мешками пряностей, опорожняемых в горшки и кастрюли на пирах королей и епископов. Когда герцог Георг Богатый Баварский сочетался браком в 1476 году, повара затребовали огромное количество восточных даров природы:
Перца – 386 фунтов.
Имбиря – 286 фунтов.
Шафрана – 207 фунтов.
Корицы – 205 фунтов.
Гвоздики – 15 фунтов.
Мускатного ореха – 85 фунтов [187].
Пряности не только щекотали нёбо [188]: по счастливому совпадению они были полезны для здоровья. Студентов-медиков Средневековья учили, что человеческое тело есть микрокосм, то есть вселенная в миниатюре, – эта концепция была выведена из античной медицины и передана Европе мусульманскими врачами. Четыре гумора, или телесных сока, являлись эквивалентами огня, земли, воздуха и воды, и каждый отвечал за собственную, присущую ему черту характера. Например, кровь могла настроить вас сангвинически или неотразимо оптимистически, а черная желчь подпитывала меланхолию; и хотя никто не наделен благословением совершенного равновесия гуморов, чрезмерный дисбаланс приводит к болезни. В поддержании равновесия телесных соков особую роль играла пища. Подобно гуморам она классифицировалась в соответствии со степенями ее жара и влажности. Холодная, влажная пища, как, например, рыба и многие виды мяса, тем самым становилась менее опасной, будучи сдобрена щедрой дозой сухих, жарких пряностей. Более того, пряности считались действенным слабительным – ценимое свойство в эпоху, любившую, чтобы лекарственные средства оказывали действие столь же бурное, что и проявления болезней.
Принимаемая отдельно, каждая пряность имела особое фармацевтическое назначение. Под вывеской со ступкой и пестиком аптекари растирали свои засушенные сокровища, готовя микстуры, таблетки или пастилки, и рекламировали результат как чудодейственные снадобья и добавки для укрепления здоровья. Черный перец, самая доступная из пряностей, использовался как отхаркивающее, как средство против астмы, а еще для прижигания язв, для противодействия ядам и (если живительно втирать в глаза) улучшения зрения. В самых разных смесях его прописывали (среди прочих множества недугов) от эпилепсии, подагры, ревматизма, безумия, воспаления уха и геморроя. Корица имела почти столь же широкое применение, начиная от сильной лихорадки и кончая дурным запахом изо рта. Мускатным орехом неизменно лечили от вздутия живота и газов, а горячий, влажный инжир был излюбленным средством подстегнуть мужское либидо. Автор одного из многочисленных средневековых руководств по сексу предлагал, чтобы мужчина, которому доставляет беспокойство «малый член» и «кто хочет сделать его великим или укрепить его перед коитусом, пусть натрет его перед соитием тепловатой водой, пока он не покраснеет и не вытянется от притока крови и соответственно жара; затем следует помазать его смесью меда с имбирем, втирая ее умеренно. Затем пусть соединится с женщиной, и он доставит ей такое удовольствие, что она станет возражать против того, чтобы он с нее сходил» [189].
Помимо обычных кулинарных специй, оптовые бакалейщики и местные купцы поставляли экзотический набор растительных, животных и минеральных диковин из дальних уголков земли. Их тоже относили к специям, и многие полагалось вдыхать.
Средневековые мужчины и женщины были не такими уж немытыми, как считает расхожий фольклор, но жизнь того времени несомненно воняла. Едкую вонь кожевен и плавилен ветер доносил в жилые кварталы людей состоятельных. Сточные воды бежали по улицам или застаивались там же, смешиваясь с домашними отбросами и навозом, копавшихся тут же свиней и скота, гонимого на рынок. Полы в домах застилали тростником или соломой и посыпали сладко пахнущими травами, но малоприятные жидкости все равно скапливались под ногами. Во время путешествия в Англию великий голландский гуманист Эразм Роттердамский подметил, что тростник обновляют «столь скверно, что нижний уровень остается нетронутым иногда до двадцати лет, скрывая в себе мокроту от отхаркиваний, блевотины, мочу собак и людей, пролитый эль, куски рыбы и прочие мерзости, которые не достойны упоминания. Всякий раз, когда меняется погода, поднимаются испарения, которые я считаю весьма пагубными для здоровья» [190]. Единственным способом побороть крепкие дурные запахи были крепкие приятные запахи, и едкие пряности жгли как благовония, капали на себя как духи и рассыпали по комнатам, чтобы создать ароматное убежище. Для тех, кто мог себе их позволить, дорогостоящие ароматы были самыми умиротворяющими: к наиболее ценимым ароматическим веществам относились благовония, такие как ладан или мирра, или смолы мастикового и бальзамового дерева, а еще более редкие ароматические выделения животных, как, например, кастореум (струя бобра), мускус виверы или малого гималайского оленя.
Все знали, что вонь – это зло, но мало что предпринимали, чтобы ее устранить. Зато один медицинский предрассудок превратил тягу к экзотическим ароматам в полномасштабную наркотическую зависимость, – и это была уверенность в том, что дурные запахи переносят эпидемии, включая саму Черную смерть [191]. Лучшим профилактическим средством против чумы считалась амбра, жировое выделение из кишечника кашалота, которое отрыгивалось им или выводилось иным способом, а затем застывало в воде, и которое, пахнущее животным, землей и морем, волны выбрасывали сероватыми комками на берег Восточной Африки [192]. Медицинский факультет прославленного Парижского университета прописывал носить смесь амбры и других ароматических веществ – как то сандалового дерева и алоэ, мирры и шелухи мускатного ореха – в металлических шариках со множеством отверстий, известных как pommes d’ambre, или «ароматические шарики», хотя король и королева Франции были среди немногих, кто мог себе позволить вдыхать чистую амбру.
В мире чудес и таинств пряности были одной из глубочайших загадок. Амбре приписывали магические свойства именно потому, что она была столь диковинной и редкой, то же касалось и других равно странных веществ. Среди прочих предметов и веществ [193], тайком продававшихся в аптеках, были «тутти» (окаменелая гарь, соскобленная в дымоходах Востока) и «мумми», которую авторитетное пособие по фармацевтике того времени прославляло как «своего рода пряность, собираемую в гробницах умерших», – вонючее дегтеобразное вещество, соскобленное с голов и позвоночников забальзамированных трупов. Еще один ценимый товар, кристаллизовавшаяся моча рыси считалась своего рода амброй или драгоценным камнем, а настоящими драгоценными и полудрагоценными камнями запасались наряду с редкими пряностями, поскольку им приписывались особенно действенные целебные свойства. Ляпис лазурь (лазурит) прописывали от меланхолии и малярии. Топаз снимал боли при геморрое. Истолченный и рассыпанный по дому гагат вызывал менструации, а заодно отводил наговоры и сглаз. Истолченный жемчуг принимали, чтобы остановить внутренние кровотечения, увеличить количество молока у кормящей матери, а для истинных любителей себя побаловать – чтобы остановить диарею. Расточительные варева из драгоценных камней и пряностей были последней мерой, если все остальные не приносили результата: изнеженная элита могла разгонять зимнюю тоску, попивая толченый жемчуг, смешанный с корицей, гвоздикой, алоэ, мускатом, имбирем, камфорой, слоновой костью и корнем галага, или отгонять старость изысканным купажом жемчугов, сапфира, рубина и кусочков коралла, смешанных с амброй и мускусом, – переварить такую смесь было едва ли проще, чем более дешевый вариант из мяса гадюки, гвоздики, мускатного ореха и мейса.
Драгоценные камни были, разумеется, уделом богатых, и некоторые доктора потихоньку высказывали сомнения, что экзотические товары с Востока более действенны, чем полевые или садовые травы. Но для тех, кто мог себе позволить покупать самое лучшее, сам факт, что пряности привезли за много земель и морей из неведомых пустынь и джунглей (и заоблачные цены, которые за них запрашивали), налагал на них приятную печать эксклюзивности. В эпоху, прославляющую показные потребление и роскошь, купаться в облаке восточных ароматов было необходимой составляющей жизни высших слоев общества. Пряности были поистине предметом роскоши средневекового мира.
Речь шла о головокружительных прибылях, и некоторые беспринципные купцы, чьи рекламные зазывания пестрели экзотикой Востока, не гнушались «подправить» свои товары, вымачивая в воде, чтобы придать веса, пряча затхлые пряности под свежими и даже добавляя серебряные опилки, которые на вес были дешевле гвоздики. Ярость обманутых покупателей не знала границ: в 1444 году в Нюрнберге заживо сожгли одного торговца, подделавшего шафран, – впрочем, много чаще огню предавали сами пряности. Но у все громче заявляющего о себе лобби противников пряностей имелись заботы поважнее мелкого местного мошенничества. На самом деле праведное возмущение вызывала скандальная растрата денег. Моралисты метали громы и молнии, дескать, пряности – «даже тот треклятый перец» [194] – лишь разжигают чувства, приводят к чревоугодию и похоти и исчезают без следа. Зависимость от пряностей, возмущались они, превращает доблестных европейцев в женоподобных транжир. И самое вопиющее – что тяга к восточной роскоши истощает золотые запасы Европы, перекачивая их в цепкие руки неверных.
Нет, пряности сами не считались порочными, как раз наоборот. Ароматы Востока, как сурово предостерегали моралисты, по праву принадлежат небесам и святым, а вовсе не алчным смертным. Смолы и пряности использовались в религиозных ритуалах как благовония, притирания и мази по меньшей мере со времен Древнего Египта, и хотя первые христиане чурались духов как запаха, исходившего от бани, борделя и языческого алтаря, уверенность в том, что ароматы притягивают сверхъестественное, оказалось трудно побороть. Средневековый христианский мир верил, что горьковато-сладким запахом пряностей веет с небес на землю, что он дуновение ароматной жизни после смерти. Утверждалось, что запах льнет к спускающимся на землю ангелам [195] и тем самым выдает их присутствие, а чертей можно распознать по их вони. Полагалось, что и святые тоже чудесным образом пахнут пряностями и что те, кого постигла особо отвратительная кончина, будут наслаждаться ароматами жизни вечной. В XV веке от трупа святой Лидвины Шиедамской, которая сломала ребро, катаясь на коньках подростком, и волею судьбы прожила еще тридцать восемь лет, и у которой перед смертью буквально отваливались куски кожи и плоти, а изо рта, носа и ушей шла кровь, будто бы исходил аппетитный запах корицы и имбиря.
Некогда европейцы знали, откуда берутся пряности. Путь проложили греки, а римляне, изгнав с трона Клеопатру, наладили регулярные поставки морем с западного побережья Индии к восточному побережью Египта [196]. Как минимум 120 огромных сухогрузов курсировали между побережьями, дабы удовлетворить склонность римлян к пикантным вкусам и экзотическим ароматам, хотя даже тогда пуристы сетовали на огромные суммы золотом и серебром, которые выкладывали за восточные излишества, – эту тему уже в I веке развивал сатирик Персий Флакк:
К III веку этими морскими путями завладели арабы, а возникновение ислама упрочило их контроль над торговлей с Востоком. По мере того как оживлялась экономическая жизнь Европы, венецианские и генуэзские купцы стали торговать на оживленных рынках пряностей Константинополя, построенных императорским эдиктом возле дворцовых ворот, дабы ароматы поднимались к покоям наверху, и во время крестовых походов христианские порты Сирии и Палестины разбогатели на торговле пряностями и драгоценными камнями, восточными коврами и шелками. Однако европейские купцы были лишь последним звеном в длинной цепочке поставок и пребывали в полном неведении относительно того, откуда происходит драгоценный товар или как он производится.
Как всегда, невежество породило пьянящую круговерть домыслов. Поскольку пряности явно происходили от места благословенного, очевидным их источником считался Рай земной [198]. И все же было известно, что некоторые пряности привозят из других далеких краев, и ответ на эту загадку нашли в Библии. Книга Бытия сообщала, что Эдемский сад орошают четыре реки, которые отождествили с Тигром, Евфратом, Гангом и Нилом. Издавна верили, что все они берут начало из одного гигантского источника в центре Эдема, но даже европейцы не смогли игнорировать такое искажение географии, поэтому было решено, что реки текут под землей, а после выходят на поверхность в видимом своем истоке. Наиболее почитаемым из четырех был Нил, а поскольку он никак не мог течь под морем, общепринято считалось, что глубины Африки, из которых он проистекает, наверное, связаны с Индией. Это удачно объясняло, почему пряности так широкодоступны в Египте. Один француз, побывавший там во время Седьмого крестового похода, писал, что каждую ночь люди, живущие по берегам Верхнего Нила, забрасывают в воды реки сети: «И когда наступает утро, в сетях они находят такие вещи, которые продаются на вес и доставляются в Египет, как, например, имбирь, алоэ и корица. Говорят, эти вещи происходят из Рая земного, ибо в том блаженном месте ветер валит деревья так же, как сушняк в лесах нашей родной земли, и сухие ветки с деревьев в Раю, которые падают в реку, нам продают купцы сей страны» [199].
Европейские авторитеты мало что знали о сборе или добыче пряностей. Доподлинно было известно, что перец растет на деревьях, которые охраняют ядовитые змеи. «Перечные леса охраняются змеями, но когда перец поспевает, туземцы поджигают деревья, и огонь прогоняет змей, – вещал в своей «Энциклопедии» Исидор Севильский. – Это от огня перец становится черным, ибо по природе своей он бел» [200]. Некоторые авторитеты утверждали, что после огромного пожара приходится заново засаживать целую рощу, что объясняло высокие цены на урожай. Сбор корицы требовал равно трудоемких затрат:
«Арабы говорят, что сухие палочки корицы приносят в Аравию большие птицы и складывают их к себе в гнезда, построенные из ила на горных склонах, забраться куда не под силу ни одному человеку. Способ добывать коричные палочки таков. Работники рубят бычьи туши на очень большие куски и оставляют на земле поближе к гнездам. Потом работники разбегаются, а птицы слетают вниз и уносят мясо к себе в гнезда, которые слишком неустойчивы и под его весом падают вниз. Тогда работники приходят и собирают корицу» [201].
Циники подозревали арабов в том, что они распространяют всяческие небылицы, лишь бы оправдать высокие цены, но рассказам, подобным вышеприведенному, верили повсеместно. Равно как и давним сообщениям о том, что найти драгоценные камни можно только в осыпающихся расщелинах Индии: поскольку никто не мог туда спуститься, единственным способом добыть камни было бросать вниз большие куски сырого мяса и посылать натасканных птиц подбирать деликатесы с налипшими на них ценностями. В эту выдумку поверил и исламский мир (она встречается в сказках о Синдбаде, мореходе из Басры), она достигла даже Китая. За столетия к расселинам добавились змеи, которые умели убивать одним лишь взглядом. Александр Великий, разумеется, нашел выход: он опустил в расщелину зеркала, в которые змеи засмотрели себя до смерти, хотя, чтобы получить камни, ему все равно пришлось прибегнуть к проверенному способу с птицами и мясом.
Первая фактическая информация о происхождении пряностей достигла Европы в период долгого монгольского мира. Монголы, которым не было дела до веры, гарантировали безопасность путешествий всем, кто прибывал в их обширную империю, и для тех европейцев, кто жаждал приключений, перспектива проникнуть в таинственные области Азии оказалась непреодолимо заманчивой. Первыми двинулись миссионеры [202], вскоре за ними последовали купцы [203]. Как всегда, впереди были итальянцы, и среди них – молодой венецианец по имени Марко Поло. В 1271 году семнадцатилетний Марко совершил путешествие в Пекин, где стал доверенным посланником монгольского императора Хубилай-хана, а позднее отправился осматривать внушительные владения великого хана. В Венецию он вернулся двадцать четыре года спустя с большим грузом драгоценностей и с еще большим – невероятных историй. Почти доехав до дома, он попал в тюрьму в Генуе, которая воевала с Венецией, и, чтобы разогнать скуку, диктовал собрату по заключению «Книгу о разнообразии мира».
Азия Марко Поло была на удивление лишена «чудовищных народов»: он выплеснул холодную воду на огнеупорную саламандру и преобразил единорога в гораздо менее грациозного носорога. Он – или его сосед по острогу – не устоял перед любимыми легендами: алмазы, как объяснялось в «Книге», поедаются белыми орлами, которых заманивают в населенные змеями расселины сырым мясом, а после индусы выковыривают алмазы из птичьего гуано, но в целом его повествование представляет собой отчет практичного бизнесмена, – вот почему он так поражает при чтении. Китай Марко Поло описывает как мирную и процветающую страну, обладающую большими землями и большими богатствами, царство бесчисленных городов, построенных с колоссальным размахом, поскольку в каждом тысячи мраморных мостов и гавани со множеством плоскодонных судов. Согласно Марко Поло, на расстоянии полутора тысяч миль от Китая (слишком завышенная оценка, которая весьма сильно ободрит генуэзского мореплавателя по имени Христофор Колумб) находилась Япония, крыши дворцов которой были из золота. Поло оказался первым европейцем, сообщившим о существовании Японии и Индокитая; также он первым из известных европейцев достиг Индии, он же первым привез сведения о том, что многие ее пряности происходят с островов, лежащих еще дальше на восток, и даже привел их точное число – 7448.
Монголы так и не завоевали Индию, и лишь очень немногие выходцы с Запада добрались туда после Марко Поло. В 1291 году, незадолго до того, как он изумил своим возвращением Венецию, два монаха-миссионера [204] посетили Индию по пути в Китай, вскоре за ними последовал бесстрашный доминиканец по имени Иордан де Северак, который большую часть жизни единолично поддерживал существование крошечных христианских общин, созданных его предшественниками. И Иордан, и его собрат-францисканец Одорико ди Порденоне [205] записали рассказы о чудесах Индии, которые сильно приукрасили, дабы привлечь новых рекрутов, но и в них тоже содержались свежие сведения. Одорико наконец разъяснил, что перец растет на лианах и высыхает на солнце; он добавил, что по рощам бродят крокодилы, но животные эти пугливые и убегают от малейшего огня. Другой францисканец Джованни Мариньола, отправившийся в 1338 году посланником папы римского в Китай и пятнадцать лет странствовавший по Азии, описал сбор урожая перца и лишил мистического ореола людей со ступнями как зонты – познакомив Запад с зонтом от дождя и солнца.
Изо всех новых откровений брата Одорико наибольшее возбуждение вызвал рассказ о том, что перец в Индии в таком же изобилии, как зерно в Европе; урожай, предполагал францисканец, растет только на Малабарском берегу [206], орошаемом муссонными ливнями на юго-западном побережье Индии, но путнику потребуется восемнадцать дней, чтобы из конца в конец пересечь плантацию. Как раз такие известия разжигали ярость европейцев на разорительные цены за кулинарные добавки. Чем реальнее становилась для Запада Индия, тем больше былое благоговение перед невероятной редкостью пряностей отвергалось ради новых историй об их абсурдном изобилии. Пряности, как начали утверждать полемисты, растут на Востоке повсюду и ничего не стоят, а враги христианского мира измышляют различные байки и манипулируют поставками и ценами.
Для многих чаша терпения переполнилась. Огромные пространства суши, описанные Марко Поло, были неизвестны как античным, так и христианским географам, и его утверждения местами встречали недоверие. Его голос был одним из многих, и другие путешественники продолжали распространять и приукрашивать старые истории, – случалось, даже не выезжая из дома. Фантастические «Путешествия сэра Джона Мандевиля», написанные скорее всего в середине XIV века французским лекарем из Льежа, включали все вплоть до псеглавцев, нюхателей яблок и одноглазых великанов и у читающей публики снискали большую популярность, чем трезвый отчет Поло. Вымышленный Мандевиль «объехал» значительную часть Востока, Китая и Индии и даже завернул в горы Райского сада с его бурлящим источником и стеной из огненных мечей. Его проводник убедительно настаивал, что перечные плантации все-таки заселены змеями, хотя этих змей легко прогнать при помощи лимонного сока и улиток. А еще он добавлял, мол, пресвитер Иоанн обрел несметные богатства благодаря своим обширным перечным лесам и сапфирам и изумрудам, посверкивающим в его реках. Владения пресвитера орошает источник чудесных вкусов и ароматов, исцеляющий любые болезни и сохраняющий всех в возрасте тридцати двух лет, – ровно столько было Иисусу Христу, когда его распяли.
С падением монголов сухопутные пути стали небезопасны и в конечном итоге непроходимы, и любая торговля между двумя континентами практически прекратилась. Манящая понюшка Востока вскоре ушла для Европы в область смутных воспоминаний, и сложнее, чем когда-либо, стало отделить факты от подкрепленных вековыми традициями вымыслов. Однако стало мучительно ясно, что с утверждением турок в Константинополе любая надежда Европы принять участие в торговле пряностями окончательно утрачена. И это были не сетования эпикурейца: сложившаяся ситуация создавала серьезную угрозу для экономики, политических структур и даже для религии Европы. Когда цены взлетели до заоблачных высот, а спрос и не думал снижаться, навязчивое желание сохранять видимость роскоши привело правящие классы – включая несколько королевских дворов – на грань серьезных финансовых затруднений. И хуже того: вероятность, что все богатеющей Восток может постучаться в двери обедневшей Европы, как будто предвещала гибель христианства.
Среди европейских держав при новом порядке вещей наибольшие потери могли понести Венеция и Генуя. Столетиями две морские республики соперничали за контроль над торговлей с Востоком. Один иностранец, посетивший в XV веке Венецию, был поражен, обнаружив, что тут как будто заключает сделки весь свет. «Кто мог бы сосчитать лавки, – изумлялся он, – так хорошо обустроенные и заполненные, что кажутся складами, со множеством тканей всяческого рода – гобеленов, парчи и занавесей разного изготовления, всякого рода ковров, камлотов всякого цвета и текстуры, всевозможных шелков; и великое множество складов, полных пряностей, бакалейных товаров и лекарств и столь прекрасного воска! Все это поражает увидевшего их» [207]. Богатство обоих городов зиждилось на регулярных поставках предметов роскоши из Азии, а поставки эти иссякали.
Тем не менее когда венецианские советники собрались в недавно отстроенном Дворце дожей, архитектура которого была вдохновлена мечетями, базарами и дворцами Востока, они видели перед собой не катастрофу, а выгодную возможность. У здешних купцов еще сохранялись контакты с контрагентами в странах Востока помимо Османской империи, а поскольку исламский контроль над торговыми путями был практически полным, у остальной Европы было меньше, чем когда-либо, шансов конкурировать с Венецией. Стоящая одной ногой на воде, Венеция всегда лишь непрочно крепилась к Европе: для соседей ее власть имела холодный, жесткий отлив, а вопросы веры зачастую бледнели перед интересами коммерции. «Siamo Veneziani, poi Christiani, – любили говаривать граждане республики. – Сначала венецианцы, потом христиане».
Всего через несколько месяцев после падения Константинополя туда уже вернулись купцы обеих республик, чтобы закупать у османов предметы роскоши и по завышенным ценам продавать затем своим клиентам. Тройственное согласие продлилось недолго: завоевательский взор Мехмеда вскоре обратился на заморские колонии Венеции, и наперекор своим же интересам республика оказалась втянута в собственный крестовый поход. Но для остальной Европы победы османов были лишь одной из многих проблем. Мехмед собирался отвоевать Египет у мамлюков, и египетский султан направил в Италию череду ослепительных посольств в преднамеренной попытке выбросить собратьев-мусульман с рынка. Одна такая делегация прибыла во Флоренцию с многочисленными дарами: смолой бальзамического и стираксового деревьев, мускусом, деревом алоэ, имбирем, муслиновыми тканями, китайским фарфором, чистокровными арабскими лошадьми и жирафом [208]. Другая достигла Венеции, и республика вскоре перенесла большую часть своей торговли в древний египетский порт Александрия.
Остальная Европа сочла такое решение сущим скандалом, ведь итальянские купцы сговаривались с мусульманами, чтобы завладеть торговлей пряностями, и делали это за счет собратьев-христиан. Как обычно случается, необходимость подтолкнула искать новых путей и средств: когда мусульмане снова сосредоточились вдоль сухопутных границ Европы, идея достигнуть Востока морем перестала казаться такой уж нелепой.
Эта мысль была все еще настолько радикальной, что мало кто о ней задумывался, но не совершенно новой. Еще в 1291 году, когда последняя твердыня христиан в Святой Земле попала в руки египтян, два брата-генуэзца приступили к осуществлению теоретически самоубийственного плана. Уголино и Вадино Вивальди снарядили две весельные галеры для десятилетнего путешествия и отплыли с намерением достичь Индии, пройдя вокруг Африки. Они прошли на веслах Средиземное море и миновали Геркулесовы столбы, – после о них больше не слышали, но легенды утверждали, что они все-таки обогнули Африку, прежде чем попасть в плен к неожиданно враждебному пресвитеру Иоанну. Никто не будет пытаться повторить их подвиг до тех пор, пока два столетия спустя не поднимет паруса Васко да Гама, но идея, что морская торговля на Востоке ключ к тому, чтобы понемногу подорвать ислам, сделалась догмой и то и дело всплывала в кипах пропаганды, выходящей из-под пера поборников возрождения крестовых походов.
В 1317 году доминиканский миссионер по имени Уильям Адам написал пространную памятную записку некоему кардиналу, приходившемуся племянником папе римскому. Его меморандум был озаглавлен «De modo Sarracenos extirpandi» – «Как стереть с лица земли мусульман». Адам провел девять месяцев, разведывая Индийский океан, и рекомендовал заручиться поддержкой монголов Ирана, чтобы при помощи генуэзских галер развернуть морскую блокаду Египта. «Все, что продается в Египте, – объяснял он, – как то перец, имбирь и прочие пряности, золото и драгоценные камни, шелка и те роскошные ткани, окрашиваемые в цвета Индии, и прочие ценности, покупать которые купцы спешат в Александрию и тем самым подвергают себя опасности отлучения от церкви, все это везут в Египет из Индии» [209]. Если верить Адаму, на монгольской территории уже были построены две генуэзские галеры, которые на веслах спустились по Евфрату в Индийский океан, но соперничающие фракции среди экипажей вскоре обратились друг против друга, и все погибли, не успев отплыть далеко. Семь лет спустя Иордан де Северак, монах-доминиканец, взявшийся основать католическую церковь в Индии, писал своему ордену, вторя призывам Адама послать в Индийский океан корабли, чтобы начать новый крестовый поход против Египта. «Если бы только наш господин, святой отец выслал несколько галер в море, – убеждал он, – какое благо бы это принесло! И какой урон и разрушение султану Александрии!» [210] Он ненадолго вернулся в Европу, чтобы реализовать свой план, и в 1329 году папа римский послал его в Индию епископом, но если верить слухам, вскоре по возвращении доминиканца забили камнями.
Приблизительно в это же время итальянский государственный деятель Марино Санудо Торселло составил подробнейшее руководство по возрождению крестовых походов [211]. К нему прилагалась подробная, пусть и неточная карта, и оно тоже выступало в пользу блокады с моря. На утрату последнего христианского порта в Святой Земле папство ответило запретом всяческой торговли с исламским миром, но вскоре Рим стал даровать разрешения европейским купцам в обмен на щедрые пожертвования. Санудо убедительно доказывал, что, обменивая богатства Европы на пряности, христианские купцы субсидируют войны ислама с христианскими армиями. Вполне очевидно, подчеркивал Санудо, что одних только военных экспедиций недостаточно для того, чтобы выбить мусульман из Святой Земли. Для этого требуется тотальное эмбарго на торговлю, подкрепленное угрозой отлучения от церкви и галерными патрулями; блокада нанесет турецкому султану смертельный удар, поскольку его богатства проистекают из контроля над торговлей пряностями. Крестоносный флот тогда мог бы подняться по Нилу и завершить дело. Со своей новой базы в Египте рыцари могли бы, заключив союз с монголами, напасть на Палестину и вернуть Иерусалим. Наконец, в Индийском океане был бы создан флот, который контролировал бы по его побережьям население и торговлю. Санудо представлял свой проект двум папам подряд и даже королю Франции, но поскольку план требовал совместных и согласованных действий сварящихся государей Европы, дело закончилось ничем.
Пока истощенные великие державы отметали каждое следующее предложение как очередные полеты фантазии, крошечная Португалия деловито готовилась проложить путь.
На старых mappae mundi – картах мира – не было места для Южного полушария. Вопреки расхожему мнению картографы не считали Землю плоской [212], но просто полагали, что в Антиподах, землях ниже экватора, никто не живет. Сам экватор повсеместно считался кольцом из языков пламени, а поскольку Ноев ковчег пристал к горе Арарат на севере, трудно было себе представить, как люди могли добраться на юг. Кроме того, они оказались бы недостижимы для слова Божия, которое, как утверждалось в Новом завете, разошлось по всей земле [213].
Когда картина мира пошатнулась и рухнула, картография претерпела революцию. Десятилетиями средневековые карты были причудливым смешением средневекового и современного: основанные наполовину на удивительно точных схематичных рисунках мореплавателей-каботажников, наполовину полнящиеся черными великанами, поедающими белокожих чужеземцев, или женщинами-рыбами, которых называли сиренами. Когда передовые картографы начали искать более надежные сведения об отдаленных регионах земного шара, они, как это было со многим в эпоху Ренессанса, возвращались к античности.
В 1406 году «География» Птолемея вновь возникла на Западе – в багаже ученого, бежавшего от турок из Константинополя. Птолемей, римлянин, живший в Египте во II веке н. э., был первым географом, давшим подробные инструкции, как представить земной шар на плоскости, он же первым предоставил полный географический справочник каждого известного места на земле. «Географию» быстро перевели на латынь, и вскоре она стала обязательным томом в библиотеке любого уважающего себя светского правителя, клирика или купца. Признаком долгой изоляции Европы было то, что возвращение более чем на тысячу лет вспять стало скачком вперед в знании. Христианские географы полагали, что шесть седьмых земли составляет суша, и воображали себе единый сверхконтинент, окруженный единым Морем-Океаном. Птолемей распределял свои континенты на прозрачно-голубом фоне, и его карты давали картину поразительного водного мира, где океаны могли привести куда угодно.
То есть куда угодно, но не вокруг южной оконечности Африки. Африка Птолемея не имела конца: ее восточное и западное побережья внезапно поворачивали под прямым углом и тянулись вдоль нижнего края страницы, как хвост горбатого кита. Восточное удлинение заворачивалось, чтобы воссоединиться с длинным, тянущимся на юг отрогом Азии, и превращало Индийский океан в гигантское запертое сушей озеро.
Заново открытая «География» Птолемея радикально изменила представление Европы о земном шаре, но один дерзкий картограф поддался духу времени и рискнул пойти еще дальше. В 1459 году король Альфонсу Португальский заказал новую карту мира прославленному фра Мауро из Венеции. Фра Мауро, содержавший картографическую мастерскую при своем монастыре на острове Мурано, соединил Птолемея и Марко Поло и добавил сведения, полученные от еще более бесстрашного венецианского искателя приключений Никколо де Конти, который, покинув родной дом в 1419 году, выучил арабский язык и фарси, переоделся купцом-мусульманином и двадцать пять лет странствовал по Востоку [214]. На карте фра Мауро Африка обрывалась незадолго до окончания страницы, и из Атлантического в Индийский океан вел узкий пролив [215]. Именно этот дерзкий монах подал заманчивую мысль обогнуть Африку, и все же его сенсационное предвидение было основано на недопонимании.
В Индии Никколо де Конти услышал про заходящие иногда в ее порты огромные китайские плоскодонные суда. У этих гигантских многоярусных кораблей было по пять мачт и колоссальное рулевое колесо, укрепленное на навесном мостике за кормой. Корпусы кораблей имели три слоя обшивки, чтобы выдержать шторма, а трюмы были разделены на несколько отделений, чтобы, даже получив пробоину, корабль все равно оставался на плаву. Внутри находились ряды кабин с запирающимися дверьми и отхожими местами; в садиках на палубах выращивали травы и пряности. Эти плоскодонные суда были несоизмеримо больше любого европейского корабля, а ведь являлись далеко не самыми крупными, что в Китае спускали на воду.
Срединное царство, как удовлетворенно называли свою страну китайцы, столетиями торговало с Индией и Восточной Африкой, но между 1405 и 1433 годами императоры династии Минь устроили поразительный морской спектакль. Семь плавучих посольств объявились в Индийском океане под командованием адмирала Чжен Хэ, дородного евнуха-мусульманина, приходившегося правнуком монгольскому военачальнику. Один только первый флот состоял из 317 кораблей с командой из 27 870 матросов, солдат, купцов, лекарей, астрологов и ремесленников. Во главе его шли 62 девятимачтовых корабля, сконструированных перевозить сокровища. Однако в проявлении показной щедрости, которая совершенно сбила бы с толку европейцев, корабли были построены ради того, чтобы не собирать сокровища, а раздавать их. Заходя в гавани Юго-Восточной Азии, Индии, Аравии и Восточной Африки, они извергали огромные количества шелков, фарфора, золотых и серебряных изделий и прочих китайских чудес. Столь устрашающая щедрость возымела желаемый эффект: на протяжении последующих нескольких лет посольства тридцати семи стран поспешили в Пекин воздать дань уважения императору. Но даже Китай не мог себе позволить такую расточительность достаточно длительный период, и в 1435 году Срединное царство добровольно отказалось от своего господства в Индийском океане. За несколько десятилетий его военные и торговые флоты практически сошли на нет – не случись такого, путь Португалии на Восток был бы закрыт окончательно и бесповоротно.
На карте фра Мауро одна подпись содержала примечательное сообщение, что около 1420 года некий плоскодонный корабль обогнул Африку и прошел две тысячи миль на юго-запад – курсом, который должен был завести его глубоко в воды ледяной Южной Атлантики [216]. Фра Мауро приписывал сведения «надежному источнику», которым скорее всего был его соотечественник, венецианец Николло де Конти. Однако де Конти отправился в свои странствия всего за год до того, как предположительно совершило свое путешествие это плоскодонное судно, и если он о нем мельком узнал, то скорее всего из вторых рук. Фра Мауро этим не ограничился: страшный шторм, добавлял он, загнал его информатора на две тысячи миль на запад-юго-запад от Африки. Однако в собственном рассказе де Конти о его путешествиях лишь упоминается, что его сбило с курса, когда он переплывал в Африку на арабском корабле. Поскольку кое-что в путешествии к южной оконечности Африки, как его излагает фра Мауро, очень напоминает рельеф восточноафриканского побережья гораздо дальше к северу [217], самым вероятным объяснением было бы предположить, что картограф подстроил полученные сведения под собственную гипотезу, – и возможно, сделал это, чтобы доставить удовольствие своему португальскому заказчику.
На столь слабом основании зиждилась все растущая убежденность, что Индийский океан все-таки связан с Атлантическим. Идея была не нова, но ее время пришло.
Глава 6
Соперники
В 1475 году сорокатрехлетний король Альфонсу Португальский женился на своей тринадцатилетней племяннице Хуане Кастильской. Этот брак был заключен вовсе не по любви.
Мать Хуаны – сестра Альфонсу – была замужем за королем Энрике IV Кастильским, прозванным Бессильным, а отцом Хуаны повсеместно считался гранд по имени Бельтран де ла Куэва, и этот скандал до конца жизни навязал ей прозвище Ла Бельтранеха [218]. Значительная часть испанской аристократии воспротивилась самой мысли, что их королевой станет Ла Бельтранеха [219], и переметнулась на сторону сводной сестры Энрике Изабеллы. В семнадцать лет Изабелла, никого не спросив, сбежала и сочеталась браком со своим кузеном Фердинандом, наследником короны Арагона, но у нее-то по меньшей мере кровь была чисто-голубая. Когда в 1474 году умер Энрике IV, одна фракция провозгласила королевой Кастилии Хуану, другая – Изабеллу. Сторонники Хуаны поспешно устроили ей брак с ее собственным дядей, и Альфонсу провозгласил себя законным королем Кастилии.
Между соседствующими странами разразилась война, которая скоро перекинулась на Атлантику [220]. Кастильцы посылали флотилии грабить африканское побережье, чем они и так занимались исподтишка уже несколько лет. Португальские боевые корабли быстро с ними расправлялись, но военные маневры Альфонсу на суше вскоре угасли среди необычайно холодной испанской зимы, а коалиция Хуаны развалилась, когда папа римский, первоначально поддержавший ее притязания, перешел на другую сторону и аннулировал ее брак. Хуана удалилась в монастырь, а Альфонсу, впав в глубокую депрессию, написал своему сыну Жуану, мол, отрекается от трона в его пользу и начал планировать паломничество в Святую Землю. Жуан пробыл королем не более недели, когда его отец, который вдруг передумал, вернулся домой, и официальное вступление на трон Жуана было отсрочено на два года – до смерти Альфонсу в 1481 году.
Если Альфонсу воплощал одну сторону характера своего дяди Энрике, его крестоносный пыл и любовь к традициям рыцарства, то король Жуан II оказался апофеозом другой его стороны. Он был образчиком современного правителя макиавеллиевского толка: побуждаемый большими амбициями, непонятными людям среднего ума, и не слишком привередливый в том, как они будут осуществлены. Столь же умный, сколь и беспощадный, он станет известен как Жуан Совершенный, хотя его жертвы окрестили его Жуаном Тираном. Среди последних было немало видных аристократов, приобретших обширные привилегии за счет короны. Когда двадцатишестилетний король обнаружил, что его сундуки практически пусты, то, не теряя времени, урезал эти привилегии. Возмущенные аристократы планировали переворот, но покатились их собственные головы.
За год до начала военной кампании против Кастилии корона после краткого заигрывания с частными концессиями вернула себе контроль над освоением новых территорий. Торговля с Африкой теперь обещала реальные прибыли, и молодой король быстро принял меры, чтобы укрепить свою морскую империю. Лиссабон полнился звоном кузнечных молотов в руках африканских рабов, трудившихся в кузнях, выковывая якоря, изготавливая оружие и боеприпасы. Жуан приказал своим инженерам повысить прицельную точность и дальнобойность примитивных пушек, какими оснащались корабли, и недавно появившиеся, более крупные модели орудий с большими затратами закупались в Германии и Фландрии. Еще король взялся за решение проблемы, терзавший флотилии с тех самых пор, как они приблизились к экватору: исчезновение Полярной звезды, реперной точки, относительно которой португальские навигаторы приучились определять широту, когда находились в море. Жуан погрузился в науку космографию и собрал комиссию экспертов. Возглавляли ее Авраам Закуто и Жозе Визиньо [221], два еврейских математика и астронома, которые взялись усовершенствовать примитивные навигационные инструменты и составлять таблицы, которые позволили бы морякам рассчитывать широту по солнцу.
Из Лиссабона в Африку регулярно отплывали флотилии, перевозившие материалы и рабочих для строительства фортов вдоль побережья – первых звеньев в костяке империи. Другие корабли продвигались все дальше на юг. В 1483 году мореплаватель Диогу Кан достиг устья реки Конго и установил первые «padroes» или падраны – каменные колонны с крестом на вершине, на которых были высечены герб Португалии, дата и имена короля и капитана, – отныне такие падраны будут отмечать все расширяющиеся пределы португальских территорий. «В году 6681 от сотворения мира и в году 1482 от Рождества Господа нашего Иисуса Христа, – гласила надпись на второй воздвигнутой Диогу Каном колонне, – высочайший, превосходнейший и могущественный правитель король Жуан Второй Португальский приказал открыть сию землю и поставить сии колонны Диогу Кану, слуге его королевства» [222]. По возвращении Кану был пожалован дворянский титул, и он отплыл снова. В 1486 году он достиг скалистого мыса Кейп-Кросс в Намибии, пустынного, если не считать огромной колонии ушастых тюленей, и, возможно, бухты Алгоа, глубокой гавани, защищенной песчаной косой, которая окажется важным перевалочным пунктом на пути дальше на юг. Алгоа находилась в каких-то пятистах милях от южной оконечности Африки, но Кану не суждено было войти в историю: он умер на пути домой, пытаясь разведать реку Конго [223].
Жуан II не менее своих предшественников стремился привить Гвинее христианство, не в последнюю очередь потому, что крещение обеспечивало большую надежность союзников. Добровольно христианство принимали единицы: африканцев либо привозили в Португалию в качестве заложников, наставляли в вере и отправляли назад послами, либо с ними обращались как со знаменитостями – как в рамках португальского двора, так и на международном уровне. Один свергнутый сенегальский князек по имени Бемои произвел большой фурор в Лиссабоне, когда прибыл в Португалию, чтобы напомнить королю о его обещании вернуть ему законный трон, если он примет христианство. Бемои было сорок лет, он был высок, силен и красив – с бородой патриарха и величественной манерой говорить, и король и португальский двор приняли его с большими почестями. Он крестился вместе с двадцатью четырьмя своими спутниками в ходе длительных празднеств, которые с португальской стороны включали рыцарские турниры, бои быков, театральные фарсы и вечерние пиры, а со стороны гостей – поразительные чудеса вольтижировки. В обратный путь с ним отправились двадцать боевых кораблей и большой контингент солдат, строителей и священников, но, к ярости Жуана, адмирал флота поддался паранойе и, решив, что африканец замыслил измену, по пути заколол его насмерть.
Даже без подобных опрометчивых поступков дело крещения продвигалось мучительно медленно [224]. Но внезапно, когда агенты Португалии продвинулись еще дальше внутрь Гвинеи, из глубин Африки всплыли поразительные сведения.
Пришли известия от пресвитера Иоанна.
В 1486 году в Лиссабон вернулся посланник в сопровождении посла от короля Бенина. Он заявил, что в двадцатидневном переходе от побережья обитает монарх по имени Оганэ, которого подданные почитают так, как католики – папу римского. Многие африканские цари приезжают к нему, чтобы короноваться медным шлемом, посохом и крестом, но видеть его персону нельзя – он лишь милостиво протягивает из-за шелкового занавеса стопу для поцелуя.
Королевские ученые засели за карты и пришли к выводу, что ровно двадцать лун требуется для пешего перехода из Бенина в Эфиопию. Легенда манила, и открытия разом совершили рывок вперед.
Жуан выбрал двоякий подход в попытках отыскать пресвитера Иоанна и совместно попытаться достичь Индии: он станет отправлять все больше морских экспедиций и одновременно подстегнет поиски надежных сведений на суше.
Единственным способом отделить факты от слухов было послать в сердце Востока собственных агентов.
Первая попытка короля Жуана послать агентов на поиски пресвитера Иоанна не слишком обнадеживала. Двое добрались не дальше Иерусалима, где их предупредили, что без знания арабского языка они долго не протянут, и они повернули назад.
Посоветовавшись, король подыскал более обещающую пару [225]. Перу да Ковильян [226], сорока лет от роду и старший из двоих, вырос среди гранитных утесов и ущелий Серра-да-Эстрелла в сердце Португалии. Пронырливым мальчишкой он нахальством втерся на службу к одному кастильскому гранду (не в последнюю очередь потому, что на патрицианский лад назвал себя по месту своего рождения) и оказался весьма полезным клинком в бесконечных стычках плаща и кинжала между испанскими кавалерами. По возвращении из Кастилии он был принят на службу к королю Альфонсу, сперва в роли лакея, позднее – оруженосца. После смерти отца король Жуан взял его к себе и послал шпионить за португальскими аристократами, бежавшими от его палачей в Кастилию: поставленные им сведения стоили голов по меньшей мере двум высокопоставленным мятежникам. Позднее Жуан отправил да Ковильяна в Марокко и Алжир вырабатывать условия мирных договоров с берберскими царями Феса и Тлемсена, и этот надежный посланник вскоре выучил арабский и перенял обычаи мусульман. Находчивый и отважный, обладающий феноменальной памятью и умеющий принимать практически любую личину, он был идеальным кандидатом для опасной миссии. В спутники ему выбрали Афонсу де Пайву, отпрыска уважаемого семейства той же крепкой закваски горцев, что и Перу да Ковильян [227]. Афонсу был оруженосцем в свите короля, доказал свою преданность в войнах с Испанией, а еще говорил по-арабски.
В обстановке строжайшей секретности эти двое встретились в доме секретаря короля Жуана в Лиссабоне. Присутствовали также три ближайших советника короля: его личный капеллан, по совместительству епископ Танжера, был еще и заядлым космографом; личный врач короля Родриго, бывший также астрономом, и еврей-математик Жозе Визиньо [228].
Когда с приготовлениями было покончено, 7 мая 1487 года агенты отправились в королевский дворец в Сантареме в сорока пяти милях от столицы и подальше от любопытных глаз шпионов, наводнивших все и каждый дворы Европы.
Как бывает с большинством великих замыслов, созревших при полном отсутствии деталей, приказания Жуана было легко сформулировать и адски трудно исполнить. Двум агентам предписывалось добраться до Индии и разузнать о торговле пряностями. Еще им полагалось разыскать пресвитера Иоанна и заключить с ним союз. Они должны были выяснить, действительно ли возможно проплыть вокруг Африки и попасть в Индийский океан и как идти по звездам, попав в него [229]. Только тогда они смогут вернуться домой и представить полный отчет.
Размах задания поразил даже неугомонного да Ковильяна, который выразил сожаление, «что его способности не столь велики, как велико его желание служить его величеству» [230]. Король посоветовал ему питать большую веру в себя: ему улыбается удача, и он уже выказал себя добрым и верным слугой.
На встрече присутствовал также будущий наследник Жуана. Мануэл был круглолицым, утонченного вида молодым человеком с каштановыми волосами, зеленоватыми глазами и мясистыми руками, «которые были так длинны, что пальцы доставали ниже колена» [231]. Юный герцог, которому лишь через несколько недель должно было исполниться восемнадцать, передал агентам окончательную карту, составленную тремя ближайшими советниками короля. Король вручил им кошель с четырьмя сотнями золотых крузадо, тайком взятых из сундуков, предназначенных на содержание королевских поместий, и верительные письма «ко всем странам и провинциям мира». Перед уходом они преклонили колени и получили королевское благословение.
Иметь при себе столько денег означало напрашиваться на ограбление или того хуже. Распихав по карманам горсть монет на расходы, эти двое поспешно вернулись в Лиссабон, где обменяли свой кошель на вексель, выданный могущественным флорентийским банкиром [232].
После этого тайные агенты сели на лошадей и поехали через Португалию. Они пересекли испанскую границу и добрались до Валенсии, где оприходовали вексель в отделении флорентийского банка [233], продали лошадей и сели на корабль, который доставил их вдоль побережья в Барселону. Из этого оживленного порта регулярно отплывали корабли в Северную Африку, Францию, Италию и Восточное Средиземноморье, и, обменяв золото на другой вексель, парочка оплатила переезд в Неаполь. После легкого десятидневного плавания они прибыли в просторный залив у подножия горы Везувий. Там, куда они направлялись, не было банков, которые приняли бы их бумаги, и они в последний раз обналичили свой чек. Старательно пряча тяжелые кошели, они проделали путь вдоль побережья Амальфи, через Мессинский пролив и Эгейское море к острову Родос у побережья Турции.
Родос служил штаб-квартирой ордену госпитальеров и последним оплотом давно потерянного Отремер, Королевства за морем. Над гаванью высилось грозное ожерелье зубчатых стен и рвущихся в небо башен. После изгнания из Святой Земли госпитальеры нашли себе новое применение в грабеже на торговых путях мусульман; семью годами ранее Мехмед Завоеватель предпринял безуспешную попытку выбить этих последних и упрямых крестоносцев из их островной крепости.
Найдя приют в монастыре, португальские агенты отправились за советом к двум госпитальерам-португальцам. Рыцари посоветовали им пустить золото на покупку сотни бочек меда и новой одежды. Они направлялись в исламские земли и отныне должны были представляться непритязательными купцами – хотя маскировка предназначалась не столько для мусульман, которые скорее всего не отличили бы их от прочих европейцев, сколько для итальянских купцов, ревниво охранявших свои интересы от любого вторжения на их территорию.
С Родоса агенты отплыли на юг в Египет и древний порт Александрия, где их миссия началась всерьез. Начиная с этого момента их находки будут иметь первостепеннейшее значение для Васко да Гамы и других мореплавателей-первопроходцев.
Александрия некогда была величайшей метрополией античного мира, средоточием торговли между Европой, Аравией и Индией и моделью (образцом) для самого имперского Рима. Арабских завоевателей ошеломили сверкающие мрамором улицы, вдоль которых выстроились четыре тысячи дворцов и бань и четыреста театров, и, испытав омерзение перед такой языческой роскошью, они перенесли свою столицу в Каир. Вскоре Александрия пришла в упадок, превратившись в небольшой городок, стоящий на выхолощенном основании империи. Великая библиотека была давно утрачена вместе с огромным дворцом Птолемеев. Землетрясения сровняли с землей легендарный Фарос, высокую башню маяка, чей свет простирался на тридцать пять миль в Средиземное море, и за семь лет до приезда да Ковильяна последние из его гигантских каменных блоков были разрублены для строительства укреплений в гавани. «В то время [Александрия] выглядит очень величественно снаружи, – сообщал Мартин Баумгартен, состоятельный немецкий рыцарь, настолько потрясенный преждевременной смертью жены и троих детей, что в возрасте тридцати двух лет отправился в 1507 году в паломничество в Иерусалим. – Стены весьма большой протяженности, а еще хорошо построенные, крепкие и высокие, и башни на них многочисленны; но внутри вместо города видишь лишь громадную кучу камней» [234].
Корабль осторожно продвигался между подводными скалами у входа в гавань, его паруса – в обычном изъявлении почтения султану – были спущены, и едва он причалил, на борт поднялись чиновники обыскать пассажиров и команду. Купцы, естественно, пытались уклониться от уплаты налогов, пряча свои товары в самых странных местах: одна группа христиан, похвалялся путешественник, «уберегла немалую часть того, что привезла, спрятав его в свинине, которая превыше всего им отвратительна» [235].
Даже ветшая и осыпаясь, Александрия продолжала торговать пряностями, шелками и рабами, а с падением Константинополя начала возвращать себе место центра торговли мирового масштаба. Это был беспорядочный, многоязычный портовый город. По одну сторону массивного каменного мола, который когда-то вел к Фаросу, итальянские склады были заполнены восточными товарами, ожидавшими отправки в Европу, по другую его сторону располагалась отдельная гавань, отведенная мусульманам. Противостояние между двумя группами временами выливалось в кровавые стычки, обычно общая погоня за прибылью помогала поддерживать неприязненное перемирие.
Выбравшись на шумные улицы, агенты подыскали уместно неприметное жилье. Их маскировка пока срабатывала, но они быстро обнаружили, что в душном климате Александрии обмениваются не только товарами, но и болезнями. Пока они потели и метались в тисках нильской лихорадки, чиновник султана списал их как умерших и реквизировал их мед, на который в Северной Африке был большой спрос. К тому времени, когда они оправились, он уже его продал, и парочка, вернув себе деньги, какие смогла, поспешила покинуть город.
Местность за стенами Александрии была низинной и голой, если не считать встречавшихся иногда рощиц финиковых пальм. Из зарослей тростника выскакивали рыбаки требовать денег за безопасность на дороге, и ночью парочка урывками спала на голой земле, прижимая к себе немногие уцелевшие пожитки. Наутро они отправились в путь снова: от порывов ветра шевелились барханы, а от пыли невозможно было разглядеть дорогу. Наконец перед ними выросли минареты Розетты в устье Нила, и они наняли фелуку, узкое палубное судно с треугольным парусом, чтобы подняться вверх по реке. Время они коротали, высматривая притаившихся в камышах крокодилов и загадочные памятники, которыми были усеяны берега, или наблюдали за египтянками, которые, сняв длинные синие юбки и повязав их на голову, с поразительной быстротой переплывали реку. На закате матросы зажгли пирамиды фонарей, привязали к парусам позвякивающие колокольчики и развлекались, посылая в ночное небо подожженные стрелы.
Когда они приблизились к Каиру, из пустыни перед ними возникли настоящие пирамиды – точно высеченные великанами горы. Даже тогда путешественник не мог удержаться и не осмотреть их. В XVI веке англичанин Джон Сэндерсон отправился в Египет на охоту за мумиями: вместе с несколькими полностью сохранившимися экземплярами он привез домой 600 фунтов ломаных мумий на продажу лондонским аптекарям и «одну маленькую кисть руки своему брату архидьякону Рочестера» [236]. В компании двух друзей-немцев он заполз в погребальную камеру фараона в пирамиде Хеопса, залез в саркофаг без крышки и полежал внутри «забавы ради» [237]. Вскоре после того итальянец Пьетро делла Валле вскарабкался на вершину пирамиды и высек свое имя и имя своей возлюбленной в камне. Как любому другому иностранцу, ему заморочили голову проводники, утверждавшие, будто умеют расшифровывать иероглифы, – традиция, уходящая корнями в античность [238].
Каир – от арабского аль-каира или «Победоносный» – поражал европейцев еще более своих античных предшественников. Город был громадным. «Ясно утверждают, не знаю, справедливо или нет, что в нем около двадцати четырех тысяч мечетей» [239], – писал Мартин Баумгартен. Многие мечети могли похвастаться библиотеками, школами и больницами, где лечение было бесплатным и где, чтобы утешить страдания больных, играли музыканты. Все они были построены из белого камня (отдельные блоки были принесены с пирамид), который при ярком свете слепил глаза и почти выбеливал замысловатую резьбу растительного орнамента и каллиграфических надписей, покрывавшую все поверхности. С наступлением ночи минареты, с которых, как сообщал Баумгартен, муэдзины «день и ночь в определенные часы издают странный, громкий и варварский шум», были подсвечены лампами и факелами. Немец утверждал также, что город мог похвалиться десятью тысячами поваров, большинство из которых занимались своим ремеслом в лабиринтах устланных тростником переулков, по которым ходили с котлами на головах, на ходу приправляя свои блюда соусами. Он приводил и другую чрезмерно преувеличенную, но не столь внушительную статистику: на улицах Каира было бездомных столько, сколько жителей в Венеции.
Каир разросся в самый оживленный и самый прогрессивный город исламского мира. Тут собирались турки, арабы, африканцы и индийцы. У итальянских купцов тут была собственная колония, равно как и у греков, эфиопов и нубийцев. Копты, местные египетские христиане, совершали свои обряды в древних церквях, и тысячи евреев собирались в синагогах. Мусульманские властители взирали на сотни блюд, расставленных на богатых коврах, пока их многочисленные жены ждали в верхних покоях, укутанные в шелка, надушенные ароматическими мазями и притираниями, выглядывая через решетчатые окна на жизнь улиц внизу. Историк Ибн Хальдун осыпал любимый город цветистыми похвалами: Каир, писал он, был «столицей мира, садом вселенной, местом встреч народов, людским муравейником, вершиной ислама, средоточением могущества и власти» [240]. Увиденное в снах, чрезмерно восхищался он, «превосходит реальность, но все, что ни привиделось бы о Каире, не способно даже приблизиться к правде» [241].
К Каиру агенты подъехали на ослах (только высшие чиновники могли въезжать в город верхом на лошадях) и проехали под увенчанной башнями с минаретами аркой Баб-Зувейла, высоченными главными воротами города. О приезде важных гостей возвещала дробь, выбиваемая барабанщиками, сидевшими высоко в сторожке, но паре португальцев был оказан более обыденный прием: ливень грязи, щебня и плесневелых лимонов, которыми швырялись каирские мальчишки.
Они проследовали за напирающей толпой по улице Муиз, запруженной главной артерии города. На полпути по ней среди богато украшенных мечетей-усыпальниц, построенных жаждущими вечности богачами, располагались источники большей части богатств Каира: кипящие жизнью государственные рынки пряностей и благовоний. Лавки благовоний были заставлены стеклянными сосудами с желтовато-коричневыми притираниями и бальзамами, приготовленными из ароматических смол. Лавки пряностей полнились мешками и бочками, ряды которых уходили далеко в полутемные помещения, где купцы взвешивали драгоценные субстанции на точно откалиброванных весах: на жаре запах ароматических листьев, семян и корней казался почти удушающим.
Португальцы держались пыльных боковых улочек, уворачиваясь от верениц ослов, которые либо стояли, либо тащились за погонщиками на базар и обратно. Португальцы нашли скромное жилье (надо думать, не обошлось без вездесущих зазывал) и начали планировать следующий этап своего путешествия. Довольно скоро они познакомились с группой купцов из Феса и Тлемсена, тех самых североафриканских городов, где служил когда-то да Ковильян. Купцы направлялись в Аравию и саму Индию, и ловкий да Ковильян сумел уговорить их – на их собственном диалекте – взять с собой его и его спутника.
Теперь на дворе стояла весна 1488 года, почти год прошел с тех пор, как лазутчики покинули Португалию. Верблюды были оседланы и нагружены, и длинный караван тронулся в путь – после обстрела мальчишек у ворот – к порту Тор на берегу Красного моря. Трясясь и покачиваясь на своих шумных вонючих скакунах, португальцы пересекли каменистую и плоскую Синайскую пустыню, затем гряду голых гранитных гор, сверкавших на солнце, точно смазанные маслом, а после преодолели отрезок пути по прибрежной тропе, столь узкой, что временами приходилось пускать верблюдов по воде. Из пищи они получали твердые, дважды запеченные сухари, сухой сыр и соленые бычьи языки, и им приходилось раскошеливаться на воду, кишевшую красными червями. Среди финиковых плантаций на них напали разбойники, которые забрали их провиант и откупаться от которых пришлось серебром. Погонщики верблюдов и мулов то и дело повышали цену, а если кто-то возмущался, то гнали свою скотину прочь – со всей поклажей купцов. Двое португальцев почти не спали со страху: к концу пути они едва не падали с верблюдов от усталости и их преследовали галлюцинации, будто чьи-то руки хватают их последние крохи еды.
Становилось ясно, почему пряности стоят в Европе так дорого, а ведь путь к ним только-только начался.
Когда караван вышел наконец к Красному морю, проводники рассказали еще одну излюбленную местную байку. Как раз тут, объясняли они, воды разошлись перед Моисеем и сынами Израиля и сомкнулись над преследовавшим их войском. Мартин Баумгартен послушно записал, что следы колесниц фараона и отпечатки копыт его лошадей были ясно видны, «и если кто-то пробует их стереть, они тут же явственно проступают снова» [242].
Красное море, раскинувшееся на 1400 миль и, к удивлению европейцев, оказавшееся вовсе не красным, напоминает удлиненного слизняка, ползущего на север к Средиземноморью. От головы слизняка тянутся два щупальца: слева Суэцкий залив, отделяющий Египет от Синайского полуострова, справа – Акабский (Эйлатский) залив, отделяющий Синайский полуостров от Аравийского. В южной его оконечности хвост слизняка переходит в Аденский залив и Аравийское море, часть Индийского океана между Аравийским полуостровом и Индостаном. Там, где соприкасаются Красное море и Акабский залив, побережье Африки выдается на северо-восток треугольным мысом, точно тянется коснуться Аравии. Этот узкий канал между двумя континентами известен как Баб-эль-Мандебский пролив или «Врата слез». Сильные течения и россыпь островов в нем затрудняют навигацию, да и само Красное море усеяно вероломными островками и подводными рифами. Порывы ветра и бурные волны регулярно выносят тяжело груженные парусные суда на скалы, и хотя некоторые океанские корабли решаются его преодолеть и держат путь дальше вдоль восточного побережья в порт Джидда, судоходство остается в основном за малыми судами, ведомыми опытными лоцманами.
Два дхоу – традиционные одномачтовые арабские корабли, на борт которых поднялись в порту Тор португальцы, были типичными судами, какие веками ходили здешним маршрутом. Их корпуса были из досок, скрепленных веревками из кокосовых волокон [243], из тех же волокон были сотканы плотные паруса. Легкой конструкции ради маневренности и за недостатком корабельного леса, дхоу то и дело давали течь и были неустойчивы даже при малейших волнах. Штурманы могли управляться с ними только днем, а поскольку побережье кишело пиратами, ночами им приходилось держаться подальше от берега. К тому времени, когда португальцы миновали Врата Слез и направились к южному побережью Аравии, с их отбытия из Каира прошло два мучительных месяца.
Агентам предстояло увидеть сказочно богатый треугольник в сердце торговли пряностями. Первым из трех его углов служил порт, в который они прибыли, и зрелище оказалось весьма отталкивающее.
Знаменитая Аденская гавань располагалась в кратере потухшего вулкана, гордо высившегося на территории Йемена. Город Аден угнездился на дне кратера, и до самой кромки воды его кольцом окружали черные утесы, с которых грозно смотрели форты. Мощные крепостные стены довершали защитный периметр, который, на взгляд средневекового арабского географа аль-Мукаддаси, жутковато напоминал гигантский загон для овец. Благодаря прекрасной якорной стоянке, защитным сооружениям, созданным самой природой, и выгодному местоположению, позволяющему контролировать вход в Красное море, Аден с древнейших времен был одним из первостепенных центров коммерции и основным пунктом назначения для океанских судов, груженных восточными пряностями и шелками, драгоценными камнями и фарфором, и потому являлся одним из богатейших городов средневекового мира.
Когда прибыл караван из Каира, муссонные ветра, подгонявшие арабские корабли на юго-восток в Индию, уже дули в полную силу. Пересекать Аравийское море в зените лета означало одно из двух: погибель либо быстрое плавание всего за восемнадцать дней. Если оттягивать слишком долго, возможно, придется прождать еще год, и два португальца решили разделиться. Де Пайве предстояло проплыть небольшое расстояние из Адена в Эфиопию, где он должен был разыскать пресвитера Иоанна, а да Ковильян собирался продолжить путь в Индию. Они договорились встретиться в Каире, когда завершатся их приключения.
Дхоу, на борт которого поднялся да Ковильян, направляясь в Индию, было гораздо больше тех, что ходили по Красному морю, но тоже имело только одну мачту, сдвинутую вперед и пересеченную длинной поперечиной, к которой крепился верхний конец треугольного паруса, и корпус у него был из тех же сшитых кокосовыми веревками досок. Палубы у этого дхоу не было: груз накрывали толстыми тростниковыми циновками, а пассажиры втискивались куда могли. Почти невозможно было найти укрытие от палящего солнца, единственным укрытием от перекатывающихся через борта волн служили все те же циновки или просмоленная дегтем материя, а провизией – только запаренный сушеный рис, присыпанный сахаром и рублеными финиками. Дхоу считались быстроходными судами, а их капитаны-арабы – умелыми мореходами, но несколько недель, которые требовались, чтобы достичь Индии, тянулись медленно.
Когда год подходил к концу, да Ковильян уже держал путь вдоль побережья Индии к городу, о чудесах которого много слышал в своем путешествии [244]. Каликут был второй оконечностью великого треугольника, местом, где собирались перед отправкой драгоценные камни и пряности Востока, и лазутчик задержался тут на несколько месяцев, чтобы изучить источники поставок и цены на загадочные товары, продававшиеся в Европе за головокружительные суммы. Его отчет будет иметь далеко идущие последствия для его хозяев: через несколько лет Васко да Гама поплывет в Индию с наказом двигаться прямиком в Каликут.
В феврале да Ковильян проделал обратный путь вдоль побережья, останавливаясь по пути, чтобы занести на карту местоположение и специализацию новых портов. К тому времени арабские флотилии уже направлялись назад домой, и он заручился местечком на корабле, направлявшемся в Ормуз, третью вершину треугольника.
Войдя в Персидский залив, отражение Красного моря с восточной стороны Аравийского полуострова, корабль направился к небольшому острову, запиравшему узкий пролив. Когда он подплыл поближе, за лесом мачт, заполнивших гавань, да Ковильян смог различить внушительных размеров город. Сойдя на берег, он обнаружил, что город полон купцов изо всех уголков Азии. Расположенный там, где из Аравийского полуострова резко выдается на север полуостров Мусандам, словно бы проминая отделенное проливом побережье Ирана, Ормуз не имел ни растительности, ни собственной пресной воды, которую приходилось привозить в больших емкостях с континента, но он находился в точке, куда сходились морские пути из Индии и Китая и сухопутные пути, которые вели через Ирак в Сирию, Турцию и Стамбул. Его рынки были завалены жемчугами, драгоценностями, пряностями, благовониями и лекарствами, и по части роскоши ему не было равных. Для удобства покупателей улицы были застланы коврами, и полотняные навесы натягивали между крыш, лишь бы уберечь покупателей от палящего солнца. Столы здешних купцов ломились от тонких вин и дорогого фарфора, и пока они вкушали пищу, им играли одаренные музыканты. Позднее один португальский путешественник сообщал, что кушанья тут лучше, чем во Франции, а английский искатель приключений восхищался красотой женщин, хотя и считал, что они «очень странно одеты, ибо носят в носу, в ушах, на шее, на руках и ногах много колец и браслетов с драгоценными камнями, а в ушах кольца серебра и золота, и длинную палочку золота вверху носа. От веса драгоценностей у них так растянуты отверстия в ушах, что во многие можно вложить три пальца» [245]. Если отбросить культурную пропасть, значимость островного города нельзя было отрицать. Будь весь мир золотым кольцом, гласила арабская поговорка, Ормуз был бы в нем драгоценным камнем.
Теперь да Ковильян составил себе живую картину головокружительно богатой торговли Аравийского моря – равно как и опасностей и непомерных налогов и пошлин, подстерегающих купцов на каждом шагу. Морской путь из Европы, возможно, займет дольше, но океаны благословенно лишены как грабителей, так и таможенных чиновников, – именно там, без сомнения, ждет умопомрачительный куш. Оставалось одно: выяснить, действительно ли корабли могут проплыть из Европы прямо в Индийский океан.
Португальский лазутчик покинул Ормуз на корабле, направляющемся в Африку, и сошел на берег в Зейле, оживленном мусульманском порту в Аденском заливе, через который шел экспорт золота, слоновой кости и рабов из Эфиопии. Великий путешественник, мусульманин ибн-Баттута назвал Зейлу «самым грязным, самым непривлекательным и самым вонючим городом в мире» [246] и считал, что море тут бурное, а вонь рыбы и забиваемых на улицах верблюдов показалась ему столь отвратительной, что ночь он провел на своем корабле. Да Ковильян тоже долго тут не задержался. Он взялся выяснить, как далеко на юг сможет забраться, и вскоре получил ответ. Арабы поселились на берегах Восточной Африки столетия назад, но их дхоу не могли преодолеть бурные воды на юге. Кроме того, даже обладай они нужной технологией, они не видели необходимости в подобном плавании и, вероятно, никогда не пытались его совершить. Их караваны издавна перевозили товары из недр Африки на север и восток в Средиземноморье и Индийский океан, и не было смысла переносить торговлю на запад – в явно пустынную Атлантику. Они определенно не пытались обплыть Африку, чтобы достичь Западной Европы: какой смысл, если они и так контролируют половину Средиземноморья, включая многие его главные порты, а все товары Европы наряду с большей частью ее золота сами идут им в руки?
Но на решение загадки, которую представляла собой Африка, потребуется немного больше времени. Да Ковильян вернулся на север и к началу 1491 года достиг Каира. Путешествие было утомительным, хотя и возбуждающим, но он почти четыре года не видел родины. Наверное, он заранее предвкушал, как встретит товарища и вернется к жене, к семье и к сполна заслуженной награде.
Товарища он так и не нашел. Ожидая его в Каире, де Пайва заболел и умер.
Неустрашимый Перу да Ковильян приготовился совершить путешествие один, и как раз когда он собирался выезжать, на пороге у него объявились два португальских еврея, которые объяснили, что их послал король Жуан и они не без трудов разыскали его в космополитичном хаосе Каира.
Один из них был сапожником с севера Португалии по имени Жозе, другой – раввином Авраамом с юга. Несколькими годами ранее Жозе совершил по суше путешествие в Багдад, возможно, чтобы самому посмотреть, каков местный рынок для сбыта обуви, и там услышал рассказы о чудесах Ормуза. По возвращении он добился аудиенции у короля, который всегда принимал путешественников из дальних стран. Раввин также побывал на Востоке, вероятно, в Каире. Когда два его лазутчика не объявились, Жуан решил отправить на их поиски двух евреев.
Новоприбывшие привезли с собой письмо от короля, и да Ковильян без промедления его прочел.
Содержание скорее всего не вызвало у него большой радости. Если их миссия выполнена, писал Жуан, им следует вернуться в Португалию, где они получат высочайшие почести. Если нет, то пусть передадут весточку о своих успехах через сапожника Жозе и не знают отдыха, пока не выполнят все задания. В особенности они не должны возвращаться домой, пока лично не установят местопребывание пресвитера Иоанна. Но прежде чем приступить к другим делам, им следует отвезти раввина в Ормуз. Без сомнения, король считал раввина лицом более надежным, чем сапожник, и Авраам поклялся не возвращаться, не увидев Ормуз собственными глазами.
Король Жуан не мог знать, что его агент уже побывал в Ормузе и готов представить полный отчет о тамошней торговле. Перу получил королевское распоряжение и, как всегда, твердо решил выполнить его до конца. Составив длинную депешу королю [247], да Ковильян передал ее Жозе и выехал с новым спутником. Сапожник же отправился домой – с известиями, которые будут иметь первостепенное значение для готовящейся экспедиции Васко да Гамы.
И снова да Ковильян пересек пустыню Тор, снова совершил долгое и опасное путешествие к Красному морю. К тому времени лазутчик стал своим человеком в арабских портах, и в Адене пара без труда нашла два места на корабле, идущем в Ормуз. Когда Авраам объявил, что удовлетворен и увидел все, что хотел, португальцы расстались: раввин отправился в Португалию, вероятно, с караваном, державшим путь в Сирию, а Перу – назад к Красному морю.
Оттуда да Ковильян добрался в Джидду, где собирался совершенно отойти от полученных инструкций. К тому времени он вошел во вкус тяжких радостей приключений и обзавелся привычкой первооткрывателей приправлять жизнь изрядной дозой опасности.
Джидда была богатой, кипучей и решительно запретной для христиан и евреев. Но Перу сильно загорел после долгих плаваний на открытых кораблях и отрастил бороду – от обычного отвращения матросов к бритве. Кроме того, последние четыре года он провел бок о бок с мусульманами, с которыми жил и путешествовал. Он перенял их манеру одеваться. Он бегло говорил на их языке и был прекрасно знаком с их обычаями. В Джидде его не разоблачили, и он решил проникнуть дальше – в саму Мекку. Едва заподозрив в нем христианина, его казнили бы на месте.
Возможно, выбрив и обнажив голову и завернувшись в два отреза белой ткани, как положено паломнику, португальский лазутчик приблизился к священной Каабе и семь раз обошел каменный куб по тропе, выбитой в гранитных плитах ногами миллионов верующих. Возможно, если он очутился там во время хаджа, он проследовал за толпами паломников к горе Арафат, где Мухаммед произнес свою «Прощальную проповедь», потом да Ковильян бросал камушки в дьявола в Мине и присутствовал при массовом забое скота в память о том, как Авраам принес в жертву барашка вместо сына. Насмотревшись вдоволь, он проследовал дальше в Медину, где посетил Зеленую мечеть, восстанавливаемую после того, как попадание молнии практически разрушило предыдущее здание над местом захоронения Мухаммеда [248].
Завершив инициацию, да Ковильян выехал из Медины в Синайскую пустыню и заглянул в древний монастырь Святой Екатерины. Иссохшие греческие монахи отправили его – как поступали со всеми паломниками – отстоять службу и дивиться на Неопалимую купину, которая явилась самому Моисею, или по меньшей мере ту, которую чудесным образом раскопала мать императора Константина Елена во время своей экспедиции за реликвиями в Святую Землю. Отдав дань обеим религиям, да Ковильян направился в Тор и в пятый раз пересек Красное море. Теперь уже шел 1493 год. Больше года прошло с тех пор, как он выехал с раввином из Каира, а пресвитер Иоанн все еще оставался неуловим.
Лазутчик высадился в Восточной Африке неподалеку от Эфиопского нагорья, внушительного оплота, столетиями защищавшего страну от нападений извне. После опасного путешествия через пустыни, плато и равнины он прибыл ко двору императора Александра [249], носившего титулы Льва от колена Иуды, царя царей и потомка (так, во всяком случае, утверждали он и его династия) царя Соломона и царицы Савской. Некогда Эфиопия была великой державой, а ее отдаленность позволила ей сохранить древние традиции. Негус, правитель Эфиопии, стоявший на самой вершине огромной и сложной иерархии знати, имел многочисленных жен и десятки дочерей, кое-кто из них практически управляли страной. Однако он исповедовал христианство и его народ тоже [250].
Александр принял гостя тепло, и да Ковильян преподнес ему приветственную речь, составленную на арабском, и медную медаль с гравировкой на нескольких языках, которую хранил при себе как раз для такого случая с тех пор, как выехал из Португалии. Обе были обращены к пресвитеру Иоанну, но к тому времени эфиопы привыкли к сбивающей с толку, но безвредной привычке европейцев называть всех их царей Иоаннами.
Как сообщал позднее да Ковильян, монарх принял речь и медаль «с большими удовольствием и радостью и пообещал отослать его домой с немалыми почестями» [251]. Этому не суждено было случиться. Несколько месяцев спустя Александр отправился подавлять восстание и – неузнанный в ночи – пал под градом стрел. Наследовал ему сын-младенец, который стал жертвой детской болезни, и после большого хаоса место Александра на троне занял его брат Наод. Да Ковильян тут же обратился к новому царю с прошением исполнить клятву брата, но получил вежливый отказ. Да Ковильян пережил и Наода тоже, но сын и наследник Наода Давид, как и отец, не склонен был отпускать путешественника. Поскольку предшественники не дали европейцу соизволения уехать, объяснил он, «он не в том положении, чтобы исполнить его просьбу, и так оно и останется» [252].
Пробыв годы вдали от Португалии, без сомнения, оплакиваемый семьей как погибший, да Ковильян превратился в закоренелого экспатрианта. Обладая обширными знаниями об Аравийском полуострове и Африке и беглым знанием нескольких языков, он стал ценимым советником при дворе. Ему пожаловали титулы и поместья и со временем произвели в губернаторы области. Отказываясь, сколько мог, он подчинился желаниям короля и взял себе жену. По всей очевидности, он сумел выбрать верно, потому что когда тридцать три года спустя сюда, в сердце Эфиопии, прибыло португальское посольство, то застало его толстым, богатым, счастливым и окруженным детьми [253].
Ожидая возвращения агентов, король Жуан воплощал в жизнь вторую часть своего генерального плана. Возглавлять следующую экспедицию он назначил Бартоломео Диаша, кавалера двора и опытного капитана. Задачей Диаша было дать окончательный ответ на животрепещущий вопрос, могут ли корабли обогнуть Африку и, если это удастся, проделать путь дальше, в земли пресвитера Иоанна.
Диаш незаметно покинул Лиссабон в августе 1487 года [254], через три месяца после отъезда Перу да Ковильяна и Афонсу де Пайвы. Его флотилия состояла из двух каравелл и судна с припасами, которое вел брат Диаша Перу, – нововведение, придуманное с тем, чтобы предотвратить преждевременный конец все более дальних плаваний из-за нехватки продовольствия, воды и материалов для починки кораблей. Хотя для подобного предприятия корабли были пугающе малы, экспедиция готовилась необычно обстоятельно, и команды были очень и очень опытными. Также на борту имелись африканцы, двое мужчин и четыре женщины, захваченные в предыдущих экспедициях: их предстояло высадить на берег, чтобы они расспрашивали про Индию и пресвитера Иоанна. Королевские советники считали включение женщин мастерским ходом на том основании, дескать, они с меньшей вероятностью подвергнутся нападению, нежели мужчины, – правда, одна из женщин умерла по пути в Африку, а пятеро остальных невольников исчезли, едва были высажены на берег, и больше о них не слышали.
Флотилия проплыла мимо широкого устья реки Конго, остановилась в заливе Агоа и начала с трудом продвигаться против сильного прибрежного течения на юг. Чтобы облегчить себе задачу, Диаш отошел подальше от берега, но попал в шторм. Тринадцать дней ветра сносили каравеллы к юго-западу, команде пришлось приспустить паруса, чтобы корабли не черпали носом воду. К тому времени, когда Диаш сумел снова взять курс на восток, температура существенно упала, и когда через несколько дней суша так и не показалась, он опять свернул на север.
Вскоре на горизонте показались горы, и когда корабли подошли ближе, команда смогла различить песчаный берег, изгибом тянущийся с востока на запад, за которым мягко поднимались пологие зеленые холмы, где пасли стада пастухи [255]. Едва завидев загадочные корабли, пастухи погнали свои стада прочь. Не встретив ни одной живой души, матросы взялись за поиски пресной воды и стали мишенью для града камней с холмов. Диаш застрелил одного нападавшего из арбалета, и флотилия поспешила продолжить свой путь.
К тому времени с испуганных и измученных экипажей было довольно. У них практически не осталось еды, хором протестовали матросы. Корабль с припасами сильно отстал [256], и если они поплывут дальше, то умрут с голоду. Они уже разведали тысячу четыреста миль побережья, на которое не ступала нога европейца. Уж наверное, этого хватит для одного путешествия?
Со временем Диаш сдался, но только после того, как высадился на берег со своими офицерами и заставил их подписать заявление, что они решительно настроены повернуть назад. Только когда флотилия направилась домой, он наконец приметил издали скалистую оконечность большого мыса, за которым виднелась череда высоких пиков, обрамлявших гору с вершиной плоской, как стол. Он с сожалением окрестил ее мысом Бурь [257], хотя по его возвращении король предпочел более оптимистичное название – мыс Доброй Надежды.
Путешествие продолжалось более шестнадцати месяцев. Корабли основательно потрепало, здоровье путешественников было подорвано. Они пережили шторма, они видели южную оконечность Африки и вернулись домой с подробными картами, доказывающими, что великий Птолемей ошибался. Древняя загадка была разрешена, и по мере того как известия просачивались за пределы Португалии, карты стали спешно перечерчивать [258]. И все же на пороге пути на Восток Диашу пришлось признать свое поражение. Докладывая королю, он просил прощения, что не сумел отыскать ни Индий, ни пресвитера Иоанна. Такова была его задача, но он с ней не справился. Не ему достанутся награды, и не его имя войдет в историю.
К тому времени португальцы занесли на карты все западное побережье Африки. Это было удивительным свидетельством доблестной решимости целого народа, и многие дорого за него поплатились. Но на самой на грани триумфа внезапно возникла вероятность того, что их старания окажутся напрасны.
Среди собравшихся в декабре 1488 года выслушать доклад Диаша был генуэзский мореплаватель по имени Христофор Колумб.
4 марта 1493 года одинокая каравелла приковыляла в гавань Лиссабона и бросила якорь подле самого мощного боевого корабля Португалии. Яростные шторма основательно потрепали «Нинью», лишив ее парусов, и ее капитану пришлось искать укрытия в единственной гавани, до которой он мог добраться.
Сам Христофор Колумб предпочел бы несколько иное возвращение домой. Годами он пытался убедить португальского короля спонсировать его смелое предприятие – попытаться достичь Востока, поплыв на запад. Однако Жуан решил, что итальянец слишком уж полон бахвальства и пустословия, а королевские советники осмеяли и наотрез отвергли его предложения.
Сына генуэзского ткача Колумба в море потянуло еще мальчишкой. Впервые он попал в Португалию в 1476 году матросом на купеческом корабле, везшем груз мастики в Англию. Караван подвергся серьезному нападению у побережья Алгарве, неподалеку от старой базы Энрике Мореплавателя, и когда его корабль начал тонуть, юный матрос прыгнул за борт, уцепился за весло и то плыл, то наполовину дрейфовал шесть миль до берега. После столь драматичного прибытия он добрался в Лиссабон, женился на дочери знатного человека [259] и стал энергично интересоваться морскими походами Португалии.
Колумб был далеко не первым, кто предложил плыть на запад, чтобы попасть на Восток. Сама идея уходила корнями по меньшей мере во времена Римской империи и сравнительно недавно обрела вторую жизнь. В 1474 году видный флорентийский интеллектуал Паоло дель Поццо Тосканелли изложил в письме одному из своих многочисленных корреспондентов, канонику Лиссабонского собора Фернану Мартинишу идею поплыть в Индии [260] на запад, «что есть более короткий путь к местам пряностей, нежели тот, каким вы плывете мимо Гвинеи» [261]. Священник представил письмо при дворе, где план отмели, но он достиг ушей молодого генуэзца. Колумба захватила грандиозная мечта о приключениях и богатствах, и он написал Тосканелли, прося копию того письма. В положенный срок копию доставили вместе с картой, на которой был обозначен рекомендуемый флорентийцем маршрут, и Колумб взялся усердно собирать сведения.
Из прочитанного он сделал несколько выводов, благодаря которым западный путь показался заманчиво доступным.
Например, что окружность земли гораздо меньше, чем кажется. Тут на стороне Колумба был мощный авторитет: сам великий Птолемей скостил несколько тысяч миль с удивительно точных расчетов своего предшественника, грека Эратосфена. Выкладки самого Птолемея были вытеснены более высокой цифрой, какую приводил персидский астроном IX века Альфраган в своих «Основах астрономии», – эта переработанная выжимка из трудов Птолемея во времена Колумба оставалась самым популярным учебником по астрономии как на Востоке, так и на Западе. Однако Колумб счел, что итальянские мили равны арабским милям Альфрагана.
Уменьшив таким образом земной шар, Колумб растянул Азию [262]. По приблизительным подсчетам, расстояние на восток от Португалии до побережья Китая составляло самое малое 116 градусов долготы, то есть тому, кто желал плыть на запад, предстояло преодолеть расстояние в 224 градуса открытого океана. И опять на помощь пришел Птолемей: он приводил цифру 177 градусов. И тем не менее оставалась почти невозможная задача проплыть более половины земного шара. Тогда Колумб обратился к современнику Птолемея Марину Тирскому, который указывал, что протяженность Европы и Азии составляла 225 градусов, так что пересечь оставалось только 135 градусов.
Даже если брать самые малые цифры окружности земли и самые большие протяженности Азии, ни один экипаж не перенес бы подобное плавание без регулярных остановок ради провианта и пресной воды. Колумбу требовалось доказательство того, что по пути им встретится суша, и за ним он обратился к Марко Поло. Марко Поло сообщал, что в полутора тысячах миль от побережья Китая расположена Япония, и в сознании Колумба Азия разом приблизилась. Он был убежден, что Япония находится не далее чем в двух тысячах миль от Канарских островов, а сразу за ней лежат Китай, Острова Пряностей [263] и сама Индия. При попутном ветре он окажется там за пару недель. И что еще лучше, есть перевалочный пункт по пути в Японию: остров Антилия, который, по слухам, заселили в VIII веке христиане, бежавшие от вторжения в Испанию мавров, и который, согласно легенде, лежал далеко в Море-Океане.
Колумб дерзко шел наперекор общему мнению своей эпохи [264]. Получив категорический отказ в Португалии, он столь же безуспешно пытался предложить свой план Венеции и Генуе. Его брат Бартоломео отправился прощупать королей Англии и Франции, а сам Христофор бросил Португалию ради ее давнего врага Испании. Там он получил аудиенцию у Фердинанда и Изабеллы, которые теперь правили Арагоном и Кастилией из Кордовы. Пока план обдумывали их советники, католические короли держали будущего первооткрывателя на золоченом поводке, но дело тянулось так долго, что Колумб улизнул в Португалию, чтобы снова попытать счастья там.
В этот момент Бартоломео Диаш причалил в Лиссабоне, вернувшись с мыса Доброй Надежды. Открытие Диаша было для Колумба катастрофой: оно покончило с любым возможным интересом португальцев к надуманным западным путям в Азию. Колумб приплелся назад в Кастилию, а там услышал, что эксперты Фердинанда и Изабеллы сочли «его обещания и предложения невозможными, пустыми и достойными быть отвергнутыми» [265].
Два года спустя все переменилось.
2 января 1492 года после ожесточенной десятилетней кампании Фердинанд и Изабелла завоевали мусульманское королевство Гранада. Говорили, что последний султан, покидая город, оглянулся посмотреть на румяные под закатным солнцем башни дворца Альгамбры и разрыдался. «Ты плачешь как женщина по тому, что не смог защитить как мужчина», – попрекнула его мать, и они удалились. Новые владельцы Альгамбры поднялись на холм к воротам дворца, облаченные в богатые шелка: лишь напоминание о славном наследии аль-Андалуса.
Последние пережитки мусульманского владычества на Западе были сметены, о чем королевская чета поспешила известить папу римского. «Господу нашему было угодно, – благочестиво похвалялись они, – даровать нам полную победу над королем и маврами Гранады, врагами нашей католической веры… После многих трудов, затрат, смертей и кровопролития королевство Гранада, которое на протяжении семисот восьмидесяти лет было оккупировано неверными… [покорено]» [266]. Не упомянутым в письме остался тот неудобный факт, что последние 250 лет Гранада являлась вассалом Кастилии и поставляла ей не только столь желанные товары мусульманского мира, но и войска.
Реконкиста завершилась, были заложены основы объединения Испании, и католические короли – таким титулом наградил благодарный папа римский Фердинанда и Изабеллу – взялись очищать свои владения. Они были уверены, что мусульмане и евреи, оставшиеся в Испании, быстро примут христианство, но настроения в обществе вскоре изменились в худшую сторону. От жутких историй о том, как евреи распинают христианских детей и поедают их еще теплые сердца, по спине испанцев пробегала дрожь, и хотя никто не мог бы назвать имя действительно замученного ребенка, нескольких козлов отпущения схватили и сожгли заживо. Была назначена дата – 2 августа 1492 года, – когда все евреи должны были под страхом смертной казни принять христианство, и всего через семь месяцев после падения Гранады порт Кадис на атлантическом побережье запрудили бежавшие из Испании десять тысяч евреев. Стремление уехать было столь велико, что капитаны вымогали огромные суммы за стоячие места в трюмах, а после выбрасывали пассажиров за борт или продавали пиратам. Кое-кто бежал в Северную Африку, но там их не пускали в города и оставляли умирать в полях. Еврейская Испания долго была волшебной сказкой, а не реальным местом. Теперь же она превратилась в кошмар.
Мусульманам пришлось не лучше. Договор, обещавший Гранаде свободу вероисповедания, включая защиту мечетей, минаретов и муэдзинов, был быстро разорван. Испанских мусульман вскоре стали обращать насильно, а затем под конвоем отправлять в камеры пыток, чтобы дознаться, насколько искренни они в вере, которую им навязали. Инквизиция была не только доказательством идеологической чистоты Испании и ее притязаний на роль самой праведной христианской страны, но и еще одним следствием давней битвы между исламом и христианством на Пиренейском полуострове. А еще она привела к экономической катастрофе. В том же году османский султан Баязет II, сын и наследник Мехмеда Завоевателя, послал свой флот в Испанию, чтобы спасти как мусульман, так и евреев. Он пригласил беженцев в Стамбул как полноправных граждан, угрожая смертью любому турку, который будет дурно обращаться с евреем, и насмехаясь над близорукостью Фердинанда и Изабеллы, изгоняющих стольких ценных подданных. «Вы называете Фердинанда мудрым правителем, – потешался он в присутствии своего двора, – а он лишил богатств свою страну, чтобы обогатить мою!» [267] Костры религиозных войн, разжигаемые на Пиренейском полуострове, обернулись против Испании, и их дым будет зачернять ее еще несколько столетий.
Вычистив чужеродные элементы из собственных владений, королевская чета обратила свое внимание за их пределы.
Через несколько недель после завоевания Гранады Изабелла призвала Христофора Колумба и наперекор вердикту советников отказала ему в просьбе. Будущий первооткрыватель безутешно трусил прочь на муле, когда при дворе поднял вдруг голос министр финансов Фердинанда. Колумб, указал он, уже получил половину капитала для своего предприятия от итальянских инвесторов. В общем и целом оно обойдется не дороже одного недельного праздника, какие устраивались по случаю приема иностранных послов, и несомненно королевская казна способна изыскать требуемое. Возможно, состоятельный спаситель Колумба [268] уже тогда подозревал, что большую часть денег придется выложить ему самому; возможно, будучи крещеным евреем, он имел причины настаивать, что награда за обращение в святую веру Азии стоит риска.
Изабелла послала за Колумбом гонца, который застал его за подготовкой к отплытию во Францию. Условия Колумб выдвинул возмутительные: он получит десять процентов пожизненно от всех доходов с любых открытых им земель, он станет их губернатором и вице-королем, и он же будет контролировать назначение всех чиновников в колониях. И не в последнюю очередь: едва он достигнет суши, то будет назначен адмиралом Моря-Океана. Большую часть его условий приняли; впрочем, тогда никто не ожидал, что он преуспеет.
За полчаса до восхода солнца 3 августа 1492 года, когда заполненные еврейскими беженцами корабли боязливо выходили на восток из Кадиса, Колумб поплыл на запад в сторону Азии. Едва его небольшая флотилия благополучно отчалила, он сел в тесной каюте на своем флагмане «Санта-Мария», чтобы записать первые строки в судовом журнале, «ИМЕНЕМ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА», – начал он.
Колумб намеревался по возвращении преподнести получившуюся книгу Фердинанду и Изабелле, и адресована она была им. Он славил великую победу католических королей над маврами Гранады и праведное изгнание евреев и напоминал, что возложил на себя равно святую миссию:
«Ваши величества, будучи католиками и правителями, посвятившими себя христианской вере и ее распространению, и врагами секты магометан и всяческих идолопоклонств и ересей, решили послать меня, Христофора Колумба, в означенные области Индии, дабы я увидел означенных правителей и народы, и страны и [разузнал] настроения их и прочих, и способ, каким можно было бы произвести их обращение в нашу Святую веру, и повелели, чтобы я не держал обычный путь по суше на Восток, но проследовал туда через Запад, путем, про который по сей день неведомо наверное, ходил ли им кто-нибудь» [269].
Скоро, добавлял он, он вернется с такими богатствами, «что не пройдет и трех лет, как суверены станут готовиться к отвоеванию Святой Земли и предпримут оное. Я уже обращался с прошением к вашим величествам позаботиться о том, чтобы все прибыли от сего моего предприятия были употреблены на освобождение Иерусалима».
За годы, прожитые в Португалии, Колумб отточил свой врожденный инстинкт мореплавателя, и через пять недель после отплытия с Канарских островов смотрящие завидели сушу. А вот умения руководить людьми ему недоставало: даже за столь краткий промежуток времени команды не раз грозили ему мятежом. Суша оказалась небольшим островком, но дружелюбные туземцы знаками показали, что поблизости лежит остров побольше. Колумб поплыл дальше, убежденный, что направляется в Японию, хотя туземцы называли это место Колба, и разведал часть побережья. К тому времени, когда «Санта-Мария» рождественским утром села на мель, он успел посетить третий остров и взял путь на Испанию.
Позднее выяснится, что это были одни из Багамских островов, Куба и Эспаньола [270], но Колумб цеплялся за уверенность, что достиг Азии. Верно, Восток оказался далеко не таким, как он ожидал. Он нашел куст, запах которого отдаленно напоминал корицу, и орехи, которые, пусть мелкие и несъедобные, с некоторой долей воображения можно было принять за кокосы. Мастиковые деревья в тот год явно не плодоносили, а захваченное им золото оказалось железным колчеданом – золотом дураков. Островитяне в своих крытых соломой хижинах явно относились к самым бедным подданным великого хана, но нет сомнений, как писал он в судовом журнале, дворец хана расположен где-то неподалеку.
Когда ветра сбили потрепанную «Нинью» с курса и она вынуждена была причалить в Лиссабоне, новоиспеченный адмирал Моря-Океана отправил депешу королю Жуану. В ней он просил разрешения войти в королевскую гавань, где будет в полной безопасности и ему не будут угрожать охотники за сокровищами, и подчеркнул, что прибыл из Индий, а не из Португальской Гвинеи. Когда Бартоломео Диаш на весельной лодке подошел к «Нинье» со своего боевого корабля, возле которого бросил якорь Колумб, последний не удержался и похвастался пленными «индийцами», которых привез в доказательство своего потрясающего открытия.
Через четыре дня после своего ненамеренного прибытия Колумб отправился на аудиенцию у португальского короля. С собой он прихватил самого крепкого из пленников и кое-какие безделушки, которые сумел собрать на островах. Бросалось в глаза, что среди них не было ни пряностей, ни драгоценных камней, ни золота.
Король был не в лучшем настроении. Двумя годами ранее его единственный сын Альфонсу, катаясь по берегу реки Тахо, упал с лошади и умер в муках в рыбацкой хижине. Семнадцатилетний Альфонсу был женат на Изабелле Арагонской, старшей дочери Фердинанда и Изабеллы. Единственный сын католических королей был опасно болен, а поскольку все шло к тому, что Альфонсу станет наследником и Испании, и Португалии, многие подозревали, что дело нечисто. Фердинанд и Изабелла прибегли ко всем известным дипломатическим маневрам, чтобы объявить брак недействительным, но молодые, которых поженили по чисто политическим соображениям, неожиданно влюбились друг в друга. И что важнее, Альфонсу был отличным наездником, а его камердинер-кастилец исчез сразу после несчастного случая, и о нем больше не слышали. Сама мысль о том, что Фердинанд и Изабелла перехватили у него триумф, открыв морской путь в Индию, стала для короля Жуана поистине горькой пилюлей.
Колумб еще более усугубил ситуацию, настаивая, чтобы король обращался к нему, употребляя вереницу его новых титулов, и подчеркнуто напомнив, что Жуан сам отказался от ослепительного шанса, который он, адмирал Моря-Океана, ему предлагал. Кое-кто из советников Жуана предложил казнить дерзкого морехода, но король его выслушал. Далеко не ясно было, что же именно открыл Колумб, но в самом открытии сомневаться не приходилось. Когда адмирал закончил, Жуан подметил, что пряностей гость, однако, не нашел. Колумб объяснил, что доплыл только до окраинных островов Японии. Тогда король зашел с другой стороны: ему, дескать, в радость, лицемерно процедил он, что плавание было таким успешным, но согласно условиям папской буллы и договорам между Португалией и Кастилией, открытые земли попадают под юрисдикцию Португалии. Колумб возразил, что исполнял приказания своих королей и даже близко не подходил к Африке, а кроме того, ни в одном договоре ничего не говорилось о новых землях на западе, поскольку об их существовании никто даже не подозревал.
Неопределенно улыбнувшись, Жуан удалился в гневе, что упустил такую возможность, и поспешно отправил в Испанию депешу, в которой грозился послать боевые корабли, чтобы установить истину и, если потребуется, подкрепить притязания Португалии на новые земли. И это был не блеф: у него имелся наготове флот, который последовал бы за Колумбом, если бы тот отплыл, и встревоженный Фердинанд направил посла умолять Жуана отложить экспедицию до тех пор, пока не удастся обсудить ситуацию.
4 мая 1493 года, вскоре после того как Колумб наконец достиг Испании, в спор вмешался папа римский, разделив мир надвое.
Папу Александра VI никак нельзя было счесть нейтральным третейским судьей. Он родился в Испании, и имя его семьи – Борджиа – станет синонимом откровенного непотизма. У него было четверо детей от его любимой метрессы, которым он даровал немалые поместья из папских земель. В Риме правили бал испанские головорезы, шлюхи, охотники за удачей и шпионы, и, по слухам, папские дворцы заполнили горы сладострастно извивающихся тел. Ходили даже слухи, что престол Святого Петра Родриго Борджиа заполучил путем подкупа [271], но продвижению его кандидатуры, безусловно, способствовало вмешательство его друга Фердинанда Арагонского. У католических королей были все причины полагать, что Рим на их стороне.
По распоряжению папы была проведена черта сверху донизу карты в сотне лиг [272] к западу от Азорских островов и островов Зеленого Мыса, двух архипелагов, открытых в эпоху Энрике Мореплавателя, по-прежнему составлявших самые западные владения Португалии. Все, что находилось к западу от этой черты, отныне принадлежало Испании. Пространная булла, излагавшая новый мировой порядок, подчеркнуто опускала малейшие упоминания Португалии, и вскоре затруднения Португалии приняли еще более тяжкий оборот. В сентябре того же года другая булла отменила все предыдущие разрешения португальцам на колонизацию новых земель. Поскольку может выйти так, объяснял папа, что испанцы, плывя на запад или на юг, могут «открыть острова и материки, которые принадлежат или принадлежали Индии», им следует пожаловать любые земли, «которые были или будут найдены, которые были или будут открыты, которые будут лежать на пути или покажутся лежащими на пути плавания или путешествия на запад или юг, будь то в западных областях или в областях на юге и на востоке от Индии» [273]. Учитывая путаницу относительно протяженности Индии, формулировка была крайне двусмысленной и могла относиться к чему угодно, включая большую часть Африки.
Долгие десятилетия португальских открытий грозили внезапно обернуться ничем.
Точно подгадав время (что сильно отдавало сговором с папой), испанцы отправили Колумба на запад за два дня до официального оглашения буллы. На сей раз адмирал Моря-Океана командовал флотом из семнадцати кораблей и армией в тысячу двести человек. Он исследовал архипелаги Багамских и Антильских островов, открыл новые острова, высадился в Пуэрто-Рико и вернулся на Эспаньолу. Ставки были высоки, и Колумб отчаянно нуждался в вещественном доказательстве того, что способен привезти домой богатства Востока. Его люди обнюхивали все встречные деревья, убеждая себя, что на них растут пряности, хотя плодоносили те не больше, чем раньше. Колумб распорядился, чтобы его новые подданные платили ежеквартальную дань золотом; в случае отказа, грозил он, им отрежут руки. Поскольку квоту туземцы выполнить никак не могли, многих покалечили и бросили истекать кровью, и тысячи человек предпочли отравиться, лишь бы избежать этих мук. Еще сотни согнали (матери при этом роняли младенцев в попытке бежать), чтобы переправить домой в Испанию и продать на невольничьих рынках; многие погибли в пути. Испанцы взялись грабить и убивать с пылом варваров [274], и по Новому Свету поднялись четкие силуэты бесчисленных виселиц.
Еще до возвращения Колумба из его второго плавания король Жуан отправил послов заключить сделку непосредственно с Испанией. Флот у него был мощнее испанского, и он прекрасно сознавал, что Фердинанд и Изабелла погрязли в долгах и слишком заняты обустройством своей новой христианской державы. Кроме того, его информаторы в королевском совете Испании доносили, что католические монархи готовы рассматривать возмутительный вердикт папы как предмет для переговоров.
Стороны встретились в маленьком испанском городе Тордесильяс у самой границы с Португалией и при посредничестве папского посла выработали компромисс. Испанцы согласились передвинуть пограничную черту на 370 лиг к западу от самой западной части островов Зеленого Мыса, то есть приблизительно на середину между этим архипелагом и Западными Индиями Колумба. Португальцы признали суверенитет испанцев над любыми землями, какие испанцы найдут на западе, а испанцы согласились передать Португалии права на все земли к востоку, будь то индийские или иные. Новый договор был подписан 7 июня 1494 года и в Португалии прославлялся как полная победа. Если говорить точнее, это был самый возмутительный сговор всех времен, но в конечном итоге проблем он создал не меньше, чем разрешил. Решение, где именно отмерить и провести черту в 370 лиг среди беспорядочно разбросанных островов, было отложено до будущей совместной испано-португальской экспедиции, которая, впрочем, не состоялась. Так или иначе, в море не было ни малейшей возможности определить, на какой точно долготе находится корабль, и соответственно узнать, пересек он границу или нет. Равно никому не пришло в голову задуматься, разделяет ли черта всего лишь Западное полушарие или тянется вокруг всего земного шара.
Испания и Португалия оказались втянуты в бешеную гонку за то, кто первым распространит свое влияние и христианскую веру на земном шаре. Вскоре страны и народы, чьи названия были неизвестны Европе, обнаружат, что их поделили между собой две европейские державы, о которых они слыхом не слыхали.
Часть II
Экспедиции
Глава 7
Командор
Не было ничего на первый взгляд примечательного в двух кораблях, обретавших форму под деревянными лесами на портовых верфях Лиссабона. По мере того как плотники заканчивали мощный каркас из шпангоутов и прибивали гвоздями обшивку, корпусы стали приобретать тот же бочкообразный силуэт, те же крутые бока и высокую квадратную корму, что и у десятка грузовых судов, стоявших на якоре в оживленном порту. Их явно строили ради прочности (лес для них специально валили в королевских угодьях), но они были определенно невелики – всего восемьдесят или девяносто футов от носа до кормы. Лишь немногие посвященные знали, что они предназначались для поразительно долгого плавания по неизведанным морям.
Корабельные плотники закончили обшивку, и в небо уперлись высокие мачты, которые закрепили в килях. Вокруг мачт начали настилать палубы. Над палубами выросли высокий полубак на носу и еще более высокий ют на корме [275], достаточно мощные, чтобы послужить последним редутом, если корабли возьмут на абордаж. Рулевые весла устанавливали на длинных стойках и крепили к корме, а к верхушкам стоек присоединяли тяжелые деревянные румпели. К бакам крепили бушприты, которые игриво задирались в небо – точь-в-точь рога единорога, – чтобы послужить дополнительными мачтами. На почетном месте на носу установили резные фигуры святых покровителей кораблей, и началась оснастка.
Вереницы рабочих закатывали по крутым сходням тачки с камнями, которые для балласта сбрасывали в трюмы. Канатчики прикатывали огромные деревянные бобины, на которых были намотаны перлини и такелаж из витой пеньки, а изготовители парусов несли огромные стопы холстины. К кормам крепили чугунные якоря, а в трюмы закладывали необходимые детали на случай починки корабля. Снаружи корпус покрывали черным составом на основе смолы, чтобы предохранить его от гниения. Ниже ватерлинии щели в обшивке конопатили паклей из нитей пеньки и старых просмоленных канатов, чтобы сделать обшивку водонепроницаемой. Потом днища покрыли вонючей смесью дегтя с жиром, чтобы отвадить ракушечник, налипающий на корпусы кораблей и замедляющий их ход, равно как и тропических червей, превращавших их в сито. Тем временем бригады рабочих поднимали лебедками на борт крупные орудия, стволы которых были изготовлены из кованых и скрученных железных прутьев, которые укрепили стальными обручами. На каждом корабле установили по двадцать таких пушек. Одни – тяжелые бомбарды – были привязаны канатами к деревянным ложам, другие – более легкие (хотя даже самые легкие среди них весили сотни фунтов) мелкокалиберные фальконеты – установили прямо на раздвоенных подставках или железных вертлюгах. Пушки появились на отправлявшихся в Африку португальских каравеллах еще в середине столетия, и корпусы кораблей усиливали как раз для того, чтобы они могли нести более крупные бомбарды, но внимательный наблюдатель, возможно, задумался бы, почему у этих двух вооружение гораздо серьезнее, чем у прочих кораблей.
Облаченная в черное фигура наблюдала за каждым шагом рабочих. По приказу короля Жуана Бартоломео Диаш руководил строительством двух новых судов. Он отказался от каравелл, которые, как он убедился на горьком опыте, были слишком малыми для удобств плавания (они теперь измерялись не месяцами, а годами), а также слишком легкими и низко сидящими, чтобы перенести бурные шторма Южной Атлантики. В своих чертежах и планах он исходил из конструкции универсальных купеческих судов, форма которых возникла из сочетания традиций судостроения Северной Европы и Средиземноморья. Новые корабли несли квадратные паруса на грот– и фок-мачтах, а на бизани ставился единственный латинский – треугольный – парус. Эти корабли были медлительнее, тяжелее и хуже шли галсом против ветра, чем каравеллы, но были просторнее, устойчивее и безопаснее. Диаш намеренно сохранил их компактность: они были водоизмещением 100 или 120 тонн, то есть всего лишь вдвое больше каравеллы, а значит, могли идти в мелких прибрежных водах и входить в глубокие реки. И все равно никак нельзя было скрыть тот факт, что на кораблях, предназначавшихся для перевозки крупных и недорогих грузов вдоль берегов Европы, собираются совершить крайне опасное путешествие.
С самого начала Жуан планировал, что оба судна поплывут в Индию, но ему не суждено было увидеть, как они покидают Лиссабон [276].
25 октября 1495 года король скончался от продолжительной болезни, которую одни приписывали горю по утрате сына, а другие – регулярным дозам яда. Поцеловав распятие, покаявшись за свой бурный нрав и приказывая не величать его более королем, – «ибо я лишь сосуд земли и червей» [277], – он умер в мучениях в возрасте сорока лет. На трон взошел его кузен и шурин [278] Мануэл.
Король Мануэл I рос при дворе, сама атмосфера которого плодила бесконечные заговоры. В ходе войн с непокорной знатью Жуан собственноручно убил старшего брата Мануэла и приказал убить его зятя [279]. От самого Мануэла Жуан решительно отмахнулся как от бесхребетного и никчемного человека и наследником его провозгласил, лишь когда ему не удалось узаконить своего внебрачного сына Жорже. Молодой король был человеком тщеславным и капризным: он так любил новые наряды, что в его обноски одевалась половина двора, и настолько страшился соперников, что за время его долгого правления национальная ассамблея собиралась всего три раза. Как и многие тщеславные люди, во всем, кроме нарядов, он был благочестивым до аскетизма: пил только воду и чурался еды, сваренной в масле или им приправленной. Его быстро прозвали Счастливым, как за маловероятный путь к трону, так и потому, что к власти он пришел в поворотный момент в развитии великого предприятия, зачатого его предшественниками. Тем не менее, подобно этим королям и принцам, глубоко религиозный Мануэл оставил заметный след в истории. На смену почти современному мировоззрению Жуана пришло иное, по сути своей средневековое, и теперь не трезвый расчет, а вера погонит португальские корабли в самое сердце исламского мира.
У двадцатишестилетнего короля не было супруги, и вскоре после его восшествия на трон Фердинанд и Изабелла предложили ему свою дочь. Невестой оказалась та самая Изабелла Астурийская, которая была замужем за сыном Жуана II и племянником Мануэла – Афонсу. По смерти Афонсу убитая горем Изабелла вдовой вернулась домой в Кастилию. Что ее толкают в объятия дяди возлюбленного было поистине омерзительной перспективой, и за послушание она назначила ряд условий. Брак, как сообщили Мануэлу, состоится только в том случае, если он последует примеру ее родителей и изгонит из своего королевства всех и каждого из евреев, которые откажутся обратиться в христианство. Король Мануэл вынашивал династические планы относительно соседнего королевства, и чувства к невесте вспыхнули с отчаянной силой, когда по пути на свадьбу сестры умер в возрасте девятнадцати лет единственный сын католических монархов. Внезапно Мануэлу представился шанс сделаться наследником Кастилии [280] и тем самым потенциально верховным правителем всего Пиренейского полуострова.
В 1492 году десять тысяч евреев бежали из Испании в Португалию. Теперь им предстояло бежать снова.
Официально португальские евреи давно уже были согнаны в районы, известные как джудиариаш. И это были едва ли не лучшие и даже комфортные гетто в Европе: старейшее из них, в самом Лиссабоне, было расположено в лучшем квартале столицы между кварталами купцов и банкиров и гаванью – к немалому раздражению христиан, которые допускались на его территорию в дневное время, но которым приходилось делать крюк в обход его вечером и ночью. На практике же видные евреи всегда могли жить там, где пожелают. Они играли жизненно важную роль в экономике Португалии и не менее существенную роль в открытии новых земель. Энрике Мореплаватель опирался на еврейских ученых в том, что касалось навигации, картографии и математики; евреи выступали доверенными советниками при короле и, подобно сапожнику Жозе и раввину Аврааму, королевскими посланниками и лазутчиками. Однако 4 декабря 1496 года каждому еврею Португалии приказали под страхом смерти не позднее чем через десять месяцев покинуть страну [281]. К Пасхе следующего года синагоги заколотили досками, книги на иврите конфисковали, а детей оторвали из семей, чтобы воспитать в христианских домах.
В частных разговорах Мануэл был вовсе не в таком восторге от новой политики, как заявлял публично. Он прекрасно сознавал, какую утечку мозгов вызовет массовый исход, и никак не намеревался отпускать большинство своих еврейских подданных. Тем, кто предпочел изгнание, разрешалось купить место только на кораблях, назначенных королем; когда они прибывали в порт, их встречали священники и солдаты, которые старались – уговорами или угрозами – заставить креститься как можно большее число беженцев. В сентябре 1497 года большинство оставшихся согнали, привезли в Лиссабон и крестили насильно; уперлись не больше сорока человек. Мануэл объявил, что все новообращенные евреи и их потомки отныне будут называться «новыми христианами», и объявил продолжительный период амнистии, во время которого не дозволялось никаких расследований относительно того, как они исповедуют свою новую веру. Пожелания свойственников он исполнил до последней буквы, при этом полностью отбросив их дух, но эти ухищрения были порождены не веротерпимостью, а прагматизмом. Тем, кто протестовал, что насильственное обращение хуже изгнания, даже хуже смерти, он отвечал, мол, все это экзальтация, ведь тысячи душ были спасены от вечного проклятия и приведены к истинной вере. Мануэл запалил длинный фитиль, и костры религиозного очищения со временем вспыхнут и в Португалии тоже.
Без подсказки католических монархов Мануэл одновременно изгнал из своих владений мусульман. Напоминания об исламском прошлом Португалии были повсюду, включая кварталы под самыми стенами лиссабонского королевского замка Святого Георгия. Вниз с холма спускался лабиринт улочек, соединенных мощеными лестницами и пересекающихся на крошечных площадях с журчащими фонтанами; тут и там щели в глинобитых стенах позволяли заглянуть во дворики, засаженные ароматными апельсиновыми деревьями [282]. Теперь остались лишь немногие мусульмане, да и те были загнаны в дальние переулки, где с них брали огромные налоги. Также их не допускали до занятия коммерцией и заставляли носить на тюрбанах символ полумесяца. В остальном они экономически не пострадали, и в отличие от евреев им позволяли уезжать. За несколько лет до того, как испанцы завершили свой обряд очищения, Мануэл разорвал последние нити конвивенсии [283] и объявил Португалию чисто христианской страной.
Советники короля не возражали против его новой внутренней политики, гораздо больше их тревожили все более грандиозные планы короля о переустройстве мира. Многие воспользовались смертью Жуана Тирана, чтобы дать волю давним опасениям относительно безрассудства попыток достичь Индии. Они указывали, что перспективы плаваний сомнительны, а опасности велики и непреложны. Даже если чудо позволит португальцам преодолеть бурные моря и попасть в то огромное и загадочное место, кто знает, какие опасности подстерегают их там? Как они могут надеяться покорить Индию, если даже удержать Сеуту оказалось так трудно? И еще хуже, что если любое наступление на Востоке наживет им врагов среди много более богатых держав, не в последнюю очередь Египта и Венеции, и тогда под угрозой окажется уже родина?
Советы пропадали втуне. Мануэл унаследовал священный долг и твердо решил снискать себе славу. Господь, отвечал он критикам, когда не сумел уговорить их рациональными доводами, позаботится о его королевстве, а он, Мануэл, передает все в Его руки.
Веру молодого короля в то, что заморские экспедиции Португалии направляет Божий промысел, разделяли многие его подданные. Это происходило из убеждения, что Португалия, страна, родившаяся из крестовых походов, обязана продолжать борьбу с исламом до края света. Мануэл пошел даже дальше. Приближался год 1500-й, и в результате падения Константинополя на горизонте маячили призраки скорого апокалипсиса. Под воздействием благочестивой супруги у Мануэла быстро развивались мессианские настроения. Он уверовал, что сам Святой Дух вдохновил его приблизить новую эру всемирного христианства. Армада, которую он собирался послать на Восток, должна была проложить путь главной цели новой внешней политики Мануэла: Последнему крестовому походу за возвращение Иерусалима, великому событию, за которым, как предсказывало Писание, Последние дни мира последуют как день за ночью.
Когда строительство кораблей близилось к завершению, Мануэл наказал своему доверенному лицу экипировать их со всей возможной поспешностью. Рабочие доков укрепили на каждой палубе по две гребные шлюпки, баркасу и более легкому ялику и заложили в трюмы длинные весла на случай непредвиденных обстоятельств. Трюмы заполнились ящиками с картечью и каменными и чугунными ядрами, запасными парусами и снастями, компасами и лотами, венецианскими песочными часами на 60 минут и всевозможными товарами для торговли. Загрузили и заперли арсенал, заполнив его арбалетами и боевыми топорами, легкими и тяжелыми копьями, абордажными крюками и мечами. Носильщики доставили на борт бочки с вином, маслом и уксусом, с сухарями [284], солониной, соленой рыбой и сушеными фруктами. Согласно планам, команде полагалось пробыть вдали от дома три года, но точно никто не знал, насколько затянется плавание.
Флотилию дополнили еще два судна. Быстроходная пятидесятитонная каравелла «Берриу» была приобретена у лоцмана Бериуша. И по личному приказу короля у некоего лиссабонского судовладельца был куплен грузовой двухсоттонный корабль.
Когда армада была почти готова, ее командор взялся подбирать людей на командные посты в экипажах.
Но это был не Бартоломео Диаш. Не в том дело, что Диаш сдался на требования мятежной команды в тот самый момент, когда вот-вот отплыл бы в Индию. Диаш был профессиональным мореходом, и его задачей было открывать и наносить на карту новые земли. Глава будущей экспедиции не только должен был обладать знанием моря, от него требовалось быть дипломатом и, если понадобится, военачальником. Его миссией было не просто достичь Индии: оказавшись там, он должен был выработать условия и заключить союзы, которые вытеснили бы ислам и укрепили бы позиции Португалии как восточной сверхдержавы – до того как там объявятся испанцы. Ему понадобится вдохновлять, улещивать и угрожать, а если словесные доводы откажут, убедить под дулами пушек. Коротко говоря, тут требовался капитан, который мог бы командовать матросами, посол, способный вести беседу с королями, и крестоносец, достойный нести знамя Христа.
Задача была не из простых, а подходящих кандидатур не много. Португалия еще оставалась примитивной страной, в которой главенствующую роль играли церковь и военная знать. Священнослужители здесь плодились во множестве, а уровень обучения в недавно открытом Лиссабонском университете был так низок, что один за другим папы запрещали преподавать там теологию. Один польский путешественник, приехавший в Португалию в 1488 году, писал о том, сколь дурное впечатление она на него произвела. Португальские мужчины всех сословий, сообщал он, «неотесанны, бедны, лишены хороших манер и невежественны, сколь бы ни притязали они на учтивость. Они напоминают англичан, которые никогда не признают, что найдется страна им равная… они безобразны и черны, почти как негры. Что до их женщин, то немногие из них красивы; почти все походят на мужчин, хотя обычно у них красивые черные глаза» [285]. По крайней мере, добавлял он, португальцы менее жестоки и бесчувственны, более верны и более трезвы, нежели англичане.
Наконец взор Мануэла остановился на молодом фидальго и кавалере двора [286], которому не терпелось составить себе состояние и который как будто обладал сочетанием требуемых качеств.
Назначение Васко да Гамы явилось такой неожиданностью, что даже португальские хронисты того времени не могли прийти к единому мнению относительно его причин. Один объясняет, что командовать экспедицией поручили его отцу, по смерти которого Васко унаследовал назначение. Другой утверждает, что пост отца предложили Паулу, старшему брату Васко, но тот отказался по причине слабого здоровья, хотя, очевидно, был достаточно крепок, чтобы предложить себя на пост капитана одного из кораблей. Третий просто заявляет, что король мельком увидел молодого Васко во дворце и проникся к нему большим расположением. Самое вероятное объяснение заключается в том, что видные дворяне не спешили выстроиться в очередь за право возглавить миссию, которая предполагала три года жизни в ужасных условиях и которая, по всей вероятности, могла завершиться гибелью. Васко да Гама оказался лучшим, кого сумел найти Мануэл [287].
Происхождение да Гамы не позволяло ему надеяться на что-то большее, нежели весьма скромное положение в жизни, и даже место и дата его рождения неизвестны наверное. Родился он скорее всего около 1469 года [288] в небольшом городке Синиш на Атлантическом побережье в ста милях к югу от Лиссабона. Традиционно считается, что он родился в простом каменном доме, стоявшем под серыми стенами небольшого замка, где его отец Эштеван был алькайдом, старшим магистратом и военным губернатором. Да Гама-старший сражался с маврами при Алгарве и нес королевское знамя в битве против Кастилии, а мать Васко Изабель приходилась внучкой английскому рыцарю Фредерику Садли, приехавшему в Португалию сражаться с кастильцами и тут осевшему.
Васко да Гама скорее всего был третьим из пяти законных сыновей; у него была по меньшей мере одна сестра и незаконнорожденный сводный брат, которого тоже звали Васко да Гама. Ко времени его рождения отец обзавелся прибыльной должностью на службе обладавшего исключительно хорошими связями Фердинанда, герцога Визеу. Фердинанд был племянником, приемным сыном и наследником Энрике Мореплавателя, приходился братом отцу Мануэла I королю Альфонсу V, а еще занимал пост магистра ордена Христа [289] и ордена Сантьяго одновременно. Это был полезный патрон, и Эштеван да Гама поднялся до почетного, но заурядного положения в ордене Мавробойцы (Сантьяго Матаморос). В 1481 году юного Васко пригласили на одно собрание ордена и предложили ему орденское одеяние – белый балахон с вышитым красным крестом, нижний конец которого имел форму остроконечного меча. С раннего возраста послушника-крестоносца [290] наставляли в застарелой ненависти воинов-монахов к мусульманам.
От замка городок спускался вниз к крошечной бухте, образованной небольшим мысом и скалистой грядой, где рыбаки сгружали свой улов и чинили сети. Нет сомнений, что первые свои знания о море Васко и его братья почерпнули именно у них. Как сына незначительного дворянина, его, вероятно, послали учиться в почитаемый город ученых Эвору, а когда ему еще не исполнилось двадцати, он мог наравне со своими сверстниками сражаться с маврами в Марокко. Несомненно, с юных лет он был упрямым и гордым. Однажды ночью 1492 года он прогуливался с одним кавалером из свиты короля, когда некий магистрат потребовал у молодых людей отчета. Да Гама упрямо отказывался назвать себя, и магистрат попытался сорвать с него плащ. Двое молодых людей набросились на него, и из потасовки злополучного магистрата пришлось спасать собратьям-чиновникам.
Невзирая на задиристый характер, да Гама к 1492 году перебрался из провинции к королевскому двору. В том году один французский капер (как называли частные корабли, получившие государственную лицензию атаковать и грабить корабли врага) захватил португальское судно, возвращавшееся из Африки с большим грузом золота. В качестве ответной меры царствовавший тогда король Жуан приказал захватить все французские корабли в португальских водах и отправил двадцатитрехлетнего Васко исполнять распоряжение в портах к югу от Лиссабона. Согласно хроникам, к тому времени молодой человек уже успел послужить в португальских «армадах и морских делах» и завоевал доверие короля. Три года спустя да Гама был уже фидальго в свите короля Мануэла, полноправным и принесшим обет рыцарем ордена Сантьяго и получателем доходов с двух поместий. В обращении он был неотесанным и несколько грубоватым, но обладал интеллектом и должным честолюбием и готов был рискнуть жизнью ради карьеры. Возможно, в его «деле» стоял знак вопроса из-за вспыльчивости, но если в дипломате подобная черта едва ли приветствовалась, она же могла оказаться кстати, чтобы держать в узде команду. Так или иначе, король явно увидел в нем уверенность в себе и силу воли, присущие прирожденному лидеру. Вот что – более или менее – нам известно о малопримечательном человеке, на юные плечи которого было возложено будущее Португалии и даже, как полагал кое-кто, самого христианства.
Первым, кого назначил в свою флотилию Васко да Гама, был его брат Паулу. Братья были глубоко привязаны друг к другу, и хотя Паулу не имел явного опыта мореплавания, на море преданность ценилась превыше всех прочих качеств.
Два недавно построенных корабля были названы в честь святых – архангела Гавриила и архангела Рафаила. Васко взял себе чуть больший «Сан-Габриэл» и назначил Паулу капитаном второго – «Сан-Рафаэла». Командовать «Берриу» он поставил близкого друга семьи Николау Коэльо, а грузовым кораблем – Гонсалу Нуниша, своего личного вассала. Закрепив командование экспедицией за своими людьми, остальных офицеров он подобрал среди самых опытных мореходов Португалии.
На «Сан-Габриэле» плыли:
Перу де Аленкер, главный штурман, который отвечал за прокладывание курса для всего флота. Он уже плавал с Бартоломеу Диашем к мысу Доброй Надежды и с тех пор возвращался к устью Конго с другой экспедицией.
Гонсалу Альвареш, штурман. В прошлом он служил шкипером во втором плавании Диогу Кана.
Диогу Диаш, клерк, брат Бартоломео Диаша. Клерки, называемые в ту эпоху писарями, были среди немногих действительно грамотных людей на борту, и им было поручено ведение всех записей.
На «Сан-Рафаэле»:
Жуан де Коимбра, штурман.
Жуан де Са, клерк.
На «Берриу»:
Перу Эскобар, штурман. Перу служил во флоте Фернана Гомиша, а еще плавал с Диогу Каном к устью Конго.
Алвару де Брага, клерк.
На грузовом корабле:
Афонсу Гонсалвеш, штурман.
Реестр завершали корабельные старшины – включая боцманов, в чьем ведении находились палубные команды, и стюардов, ведавших запасами и провиантом.
Не менее важной для успеха всего плавания, нежели офицерские чины, была небольшая группа переводчиков. Среди них были Мартим Аффонсу, некоторое время проживший в Конго и выучивший несколько африканских диалектов, и Фернан Мартинс, усвоивший арабский за время краткого пребывания в марокканской тюрьме.
Много меньшим уважением пользовалась еще одна, не менее ценная группа из десяти или двенадцати человек, известных как дегредадос – «изгнанники», рекрутированные в лиссабонских тюрьмах. Это были осужденные преступники, которым король заменил срок тюремного заключения службой на кораблях. На усмотрение да Гамы, они должны были сходить на берег в опасных местах, играя роль разведчиков или гонцов, или оставаться для сбора сведений, чтобы их подобрали последующие флотилии.
Умелые матросы подбирались из ветеранов прошлых африканских плаваний, возможно, из тех, кто ранее плавал с Диашем. Кое-кто был сведущ в ремеслах, жизненно необходимых в море: среди них были плотники, конопатчики, бондари и канатчики. Списки команд довершали канониры, солдаты, трубачи, пажи, слуги и рабы, так что в целом численность экипажа могла варьировать между 148 и 170 человек [291]. По резкому контрасту со многими предыдущими походами важность миссии была такова, что в ней не было места иностранцам. Разумеется, женщины на борт не допускались.
И главное, на одного из матросов возложили ответственность (или он сам ее на себя взял) вести судовой журнал. Его рассказ – единственное уцелевшее свидетельство очевидца, и хотя не раз предпринимались попытки отождествить этого моряка с тем или другим членом экипажей, мы так и не знаем его имени. В нашем рассказе мы станем уважать его анонимность и назовем просто Хронистом [292].
Король Мануэл надзирал за приготовлениями из старого мавританского замка над Лиссабоном, но когда вернулось тепло и от груд мусора на улицах начала подниматься обычная вонь, он перебрался в более здоровое место. Ради прощальной аудиенции Васко да Гаме и его капитанам пришлось выехать на восток от города и, миновав пышные сады и виноградники, колышущиеся поля ржи и ячменя, двинуться по золотистым равнинам Алентехо в Монтемор-у-нову.
Проехав через деревню, они очутились перед грозной мавританской крепостью. За высокими зубчатыми стенами собрался в церемониальных одеждах весь двор. Король произнес пространную и цветистую речь, посвященную славным подвигам своих предков и собственной решимости увенчать их еще большей славой.
«Хвала Господу, силой меча мы изгнали мавров из этих областей Европы и Африки», – заявил Мануэл, а после напомнил своей аудитории, почему нынешний поход является естественным продолжением той затяжной кампании:
«Я решил, что ничто так не пристало моему королевству (и в пользу чего я часто приводил вам доводы), чем искать Индию и земли Востока. Надеюсь, в тех краях, пусть они и удалены от римской церкви, не только с Божьей помощью вскоре будет провозглашена и принята через наши труды вера в Господа нашего Иисуса Христа, и в награду за них мы сумеем снискать славу и хвалы среди людей, а еще мы силой оружия вырвем из рук неверных новые королевства, государства и большие богатства» [293].
Поскольку, открывая Африку, добавил он, Португалия уже завоевала себе богатства и титулы, много больших благ следует ожидать от похода в Азию и приобретения «восточных богатств, которые так прославляемы древними авторами и которые – через коммерческие сделки – преумножили могущество таких государств, как Венеция, Генуя, Флоренция и прочие великие державы Италии!». Он не намерен отвергать удачную возможность, предлагаемую Господом, подчеркнул он, и не станет оскорблять предков, отказавшись от их долгого крестового похода и великих чаяний.
Закончив читать нотацию многочисленным скептикам при дворе, которые были далеко не в восторге от одержимости короля фантастическими эскападами, Мануэл представил дворянина, которого выбрал возглавить экспедицию. Васко да Гама, сообщил он собравшимся, отличился во всем, что ему приказывали делать, и был выбран «как верный рыцарь, достойный столь почетного предприятия». Король наградил молодого человека титулом, который сочетал его обязанности мореплавателя и военного командующего: отныне его следовало именовать командором королевского флота.
Мануэл наказал остальным капитанам слушаться своего командора и советовал объединить усилия для преодоления опасностей, какие им неминуемо встретятся. Затем каждый прошел мимо короля, преклонил колени и поцеловал его руку. Когда настал черед Васко да Гамы, Мануэл вручил ему белое шелковое знамя, на котором был вышит крест ордена Христа [294], и командор преклонил колени, чтобы произнести слова вассальной присяги:
«Я, Васко да Гама, получив ваш приказ, о благородный и могущественный король, мой суверен, разведать моря и земли Индии и Востока, клянусь на этом кресте, на который возлагаю руки, что буду высоко нести его на службе вам и Господу и не отдам ни одному мавру, язычнику или человеку любого народа, какой мне может встретиться, и перед лицом всех опасностей, будь то от воды, огня или меча, стану всегда защищать и охранять его до самой смерти».
Получив дозволение удалиться, да Гама вернулся в Лиссабон. С собой он вез приказ к отплытию и связку писем влиятельным особам, с которыми, как предполагалось, он встретится в своем плавании, – среди них, разумеется, числился и пресвитер Иоанн Индийский.
На пороге великого похода, когда в умах капитанов предвкушение боролось с опасениями, вероятно, никому не пришло в голову вдуматься в слова своего короля. А если кто-то над ними и задумался, то маловероятно, что попытка свести в одну упряжку религию, политику и экономику заставила бы его усомниться в своем предприятии. Даже те, кто не утруждал себя подобными рассуждениями, знали, что благосостояние страны – признак милости Божьей и знак продолжать угодное ему дело. Искать обогащения от торговли пряностями означало усиливать государства, защищающие христианство и, в свой черед, ослаблять ислам. Если в процессе пострадают итальянские торговые республики, так тому и быть: всегда казалось, что они ближе к Востоку, чем к Западу.
У каждого были свои мотивы записаться в команду, каждый знал, что он часть чего-то большего. Но возможно, даже к лучшему, что рядовые моряки не знали, насколько грандиозен был замысел Мануэла. Задачей Васко да Гамы было не просто достичь Индии, он должен был приобрести там богатства и союзников, что позволило бы португальцам вторгнуться на исконные земли арабов и подступить к самому Иерусалиму. Поразительным казалось, что европейцы проплывут половину известного мира, чтобы оказаться на восточных берегах Средиземного моря, но такова была вера в пресвитера Иоанна, в полный чудес Восток и ценность пряностей. Экстраординарным было и то, что более семисот лет истории доверили в лучшем случае 170 людям, но у истинно верующих и на это нашелся ответ. Пусть средства кажутся безнадежно неадекватными для поставленной цели, нехватку, разумеется, восполнит Господь.
Поход Португалии по разведыванию океанов начался с Энрике Мореплавателя, но осуществлялся он совместными усилиями целого народа. Перед отплытием Васко да Гаме доверили сведения, собранные четырьмя поколениями португальских правителей, капитанов и матросов. Епископ Танжера – тот самый пылкий космограф, который готовил для путешествия на Восток Перу да Ковильяна, – снабдил да Гаму картами, схемами и донесениями, возможно, даже присовокупил к ним письма, которые этот неустрашимый лазутчик сам слал домой.
На борт подняли последние припасы – пресная вода, фрукты и хлеб, живые куры, козы и овцы. Выйдя из доков, корабли стали на якоре в четырех милях ниже по течению. Неподалеку за прекрасным песчаным пляжем лежала деревенька Белем – так звучало на португальском языке слово «Вифлеем» [295]. Именно отсюда некогда отплыла великая армада в Сеуту, и чтобы ознаменовать это событие, Энрике Мореплаватель велел построить тут часовню. Для уходящих в море экипажей стало ритуалом молиться тут об успехе и благополучном возвращении домой, и вечером 7 июля 1497 года да Гама с братом и другими офицерами отстоял здесь всенощную до рассвета.
Когда солнце встало над серебряными водами реки Тахо, чтобы присоединиться к ним, пришли на веслах с кораблей солдаты и матросы. Офицеры были облачены в доспехи, солдаты – в кожаные куртки со стальными нагрудными пластинами. На матросах были свободные рубахи, штаны до колен, длинные плащи с капюшонами и темные шапки [296]. Протиснувшись мимо столпившихся у входа родных, возлюбленных и друзей, они отстояли последнюю мессу. Потом зазвонили колокола, и монахи в клобуках и священники в полном облачении вывели паству на берег, каждый при этом нес зажженную свечу и пел гимн. К тому времени собралась огромная толпа, которая хлынула к кромке воды, бормоча в положенных местах ответы священникам и «плача и сожалея о судьбе тех, кто отплывал тогда, как преданных на верную смерть в попытке столь опасного плавания» [297]. Все преклонили колени, когда священник принял всеобщую исповедь и отпустил отплывающим крестоносцам их грехи, после чего экипажи переправились в лодках на корабли.
Ревели трубы, барабаны выбивали дробь, и на грот-мачте «Сан-Габриэла» подняли королевский штандарт. На «вороньем гнезде» развевался стяг ордена Христа, тот же флаг крестоносцев реял на грот-мачтах трех остальных кораблей. Под ритмичный напев матросы подняли якоря, палубные команды потянули за фалы, и медленно развернулись паруса, открывая огромные кресты – те самые кресты, под знаком которых рыцари Храма шли на битву в Святой Земле.
Крепкий ветер наполнил паруса, и флотилия двинулась вперед – сперва незаметно, потом все больше набирая ход [298]. Даже корабельные юнги невольно ощутили радостное возбуждение. В тот миг будто бы начиналась новая жизнь: жизнь, которую придется делить с пока незнакомыми товарищами и которая станет разворачиваться в неведомых местах. По мере того как терялась вдали родина, впереди открывался широкий горизонт, яркий, сияющий предвкушением приключений, но окрашенный страхом опасности и гибели. За последующие годы картина дополнится деталями, пока же было достаточно наблюдать и ждать.
На борту корабля Паулу да Гамы Хронист сделал первую запись. Он занес дату – суббота, 8 июля 1497 года – и место отплытия. А после присовокупил краткую, прочувствованную молитву: «Да позволит нам Господь наш совершить это плавание на службе Ему. Аминь!» [299]
Глава 8
Наука моря и дипломатии
Поначалу все шло гладко. В субботу 15 июля, через неделю после отплытия из Лиссабона перед четырьмя кораблями показались Канарские острова. На рассвете следующего дня флотилия бросила якорь на несколько часов ради рыбалки, а к закату достигла широкой бухты Рио-дель-Оро, которую прошлые экспедиции, казалось бы, так давно окрестили Золотой рекой, приняв ее за устье легендарной реки.
Ночь принесла с собой первую дозу подстерегающих впереди опасностей. Когда спустилась тьма, накатил густой туман, и Паулу да Гама потерял из виду фонари, вывешенные на корабле брата. На следующий день туман поднялся, но жутковатая тишина не развеялась: не было ни следа ни «Сан-Габриэла», ни остального флота.
У португальцев был большой опыт подобных злоключений, и «Сан-Рафаэл» пошел к островам Зеленого Мыса, условленному месту первого рандеву. На рассвете следующего воскресенья, после почти недели пустого горизонта, дозорные заметили первый из островов [300]. Час спустя показались транспортный корабль и «Берриу», направлявшиеся туда же. Но «Сан-Габриэла» все еще нигде не было видно, и пока суда перегруппировывались, с них тревожно перекрикивались матросы. Корабли пошли дальше запланированным курсом, но почти тут же ветер стих и паруса повисли. Четыре дня корабли дрейфовали в штиле, когда наконец 26 июля дозорные разглядели «Сан-Габриэл» в пяти лигах впереди. К закату они нагнали его, и братья подвели корабли достаточно близко друг к другу, чтобы созвать совет. В знак всеобщей радости трубачи затрубили в трубы, а канониры давали один за другим залпы из пушек.
На следующий день воссоединившаяся флотилия прибыла на Сантьягу, самый большой остров в архипелаге Зеленого Мыса и бросила якорь в защищенной бухте Санта-Мария. Реи и снасти уже требовали ремонта, и корабли простояли тут неделю, а заодно взяли на борт свежие запасы мяса, пресной воды и дерева. 3 августа они снова вышли в море и сперва пошли под парусами в восточном направлении – к побережью Африки, потом взяли курс на юг. Теперь они находились во внушающей ужас зоне экваториального штиля, где корабли то попадали в ловушку затишья, когда экипажам грозила медленная смерть от голода и жажды, то становились жертвой переменчивых порывов ветра и внезапно налетающих штормов, когда суда бросало по волнам и даже ветеранов морских походов терзала морская болезнь, а новички, держась за животы, травили за борт днями напролет. Один такой шквал расколол надвое грот-рею на «Сан-Габриэле», и огромный квадратный грот-парус заполоскался как сломанное крыло: два дня флот лежал в дрейфе, пока рею меняли на запасную.
Возобновив плавание, корабли двинулись на юго-запад, что привело их в самое сердце Атлантического океана.
Во время каждого из предыдущих известных плаваний капитаны, включая Бартоломео Диаша, держались береговой линии, медленно и с трудом пробираясь к югу вдоль Африки. Не на сей раз. Возможно, португальцы отправились с тайной миссией – такой тайной, что никаких следов ее не сохранилось: разведать характер и направление ветров в Южной Атлантике. Возможно, они догадались, что корабли с квадратными парусами гораздо хуже каравелл пригодны для того, чтобы бороться с юго-восточными ветрами и северным течением у этого отрезка побережья. Или удачное стечение обстоятельств вкупе с интуицией заставило Васко да Гаму искать в открытом океане мощный ветер, который по дуге понес бы его корабли против часовой стрелки к южной оконечности Африки. Если так, то маневр был поразительно рискованным. Если поймать подходящий момент, западные ветра со всей скоростью погонят флот к месту назначения. Если допустить ошибку, его отнесет назад к побережью Африки – или еще хуже: сдует за край известной земли [301].
Людям да Гамы оставалось только довериться своему командору. Единственными их спутниками были огромные стаи цапель, державшиеся наравне со флотом, пока однажды ночью с биением крыльев не повернули в сторону дальнего берега. Однажды большой переполох учинил кит, который внезапно всплыл неподалеку. Вероятно, матросы, как это уже было в другом плавании, подняли страшный шум, стуча в барабаны, кастрюли и котлы, чтобы заранее отпугнуть кита на случай, если ему захочется поиграть и он перевернет корабль [302]. В остальном же они занимались своими делами и понемногу приспособились к повседневной морской рутине.
Каждые полчаса день и ночь в песочных часах перетекал из одной половины в другую песок. Каждый раз, когда юнга их переворачивал, звучал корабельный колокол; после восьмого сменялась вахта. Уходящие сдавали вахту со старинным присловьем:
– Вахта сменилась, склянки пробили! По милости Божьей мы ветер словили! [303]
Каждый день на борту начинался с молитв и пения гимнов. Каждое утро по приказу боцмана палубные матросы откачивали воду, просочившуюся в трюмы, собирали воду с палуб и драили доски. Другие поправляли снасти, чинили прорехи в парусах и плели новые лини из перетертых канатов, а канониры прочищали и пристреливали пушки. Готовясь к залпу, они сначала заряжали в длинное дуло каменное ядро, затем забивали пороховой заряд в цилиндрический металлический патрон. Открытый конец этого патрона вставляли в казенную часть дула и подносили к запальнику тлеющий фитиль. При стрельбе лучше было держаться подальше, как себе на беду обнаружил в 1460 году король Иаков II Шотландский:
«И пока сей правитель, более любопытный, нежели пристало ему самому или величию его сана, стоял рядом с канонирами, когда давался залп, его берцовую кость надвое расколол осколок плохо отлитой пушки, разорвавшейся при выстреле, от чего он был повержен наземь и в тот же час умер» [304].
Если обходилось без неприятных происшествий и под рукой было достаточно заранее начиненных порохом зарядов, можно было поддерживать медленный, но равномерный обстрел.
Пока грохотали орудия, слуги и юнги начищали доспехи господ, стирали и чинили их одежду. В трюмах баталер [305] ежедневно проводил ревизию продовольствия и снаряжения. Кок варил единственную горячую еду за день на заполненной песком жаровне на палубе, и получившееся густое варево матросы ели из деревянных плошек руками или орудуя небольшими ножами. Каждый член экипажа, начиная с капитана, получал одинаковый основной рацион на день: полтора фунта сухарей, две с половиной пинты воды, толику уксуса и оливкового масла вкупе с фунтом соленой говядины или полфунтом свинины либо – в постные дни – риса с треской или сыром [306]. Деликатесы вроде сушеных фруктов приберегались для элиты – они сыграют ключевую роль, позволив офицерам сохранить здоровье.
Офицеры отдавали приказания со шканцев (помост главной палубы за грот-мачтой) или взбирались по лесенке на полуют, представлявший собой крышу юта в кормовой части судна, откуда открывался лучший обзор. Тем временем штурманы вычисляли местонахождение корабля и корректировали курс. Учитывая, что в распоряжении у них имелись инструменты самые элементарные, задача была трудоемкой. По мере того как суда продвигались на юг, Полярная звезда смещалась к горизонту, пока наконец, приблизительно на девяти градусах северной широты, не коснулась моря и не скрылась за горизонтом. Новичкам, впервые проводящим ночь под южными небесами, казалось, что мир внезапно перевернулся. Даже ветераны качали головами, прежде чем приспособиться к новому небосклону. Португальцы первыми из европейцев столкнулись с проблемой навигации к югу от экватора, и без Полярной звезды в качестве путеводной они научились рассчитывать широту, измеряя высоту солнца в полдень. Щуриться прямо на солнце (опять же если его не застили облака) было не самым приятным занятием, а поскольку тогда еще не придумали прибора для измерения времени, который был бы точен в море, делать замеры и расчеты приходилось по несколько раз, подгадывая момент, когда солнце находится на самой верхней точке дуги. Кроме того, солнце было менее надежным Полярной звезды. Поскольку его эклиптика не соответствует небесному экватору, – иными словами, поскольку его путь по небу не совпадает с проекцией земного экватора на небо, – угол его меридиана относительно экватора разнится в зависимости от дня года. Штурману, желавшему определять свою широту по солнцу, приходилось компенсировать эту переменную. Опять же у португальцев была фора. На кораблях да Гамы имелись так называемые Таблицы солнца, длинные навигационные таблицы определения склонения солнца с указаниями по их применению, составленные еще комиссией математиков короля Жуана II в 1484 году. В таблицах приводились данные о склонении солнца – его меридианного угла к экватору в полдень – на каждый день года, а инструкции объясняли штурману, как применить ту или иную цифру к собранным показаниям. Учитывая трудоемкость наблюдений и расчетов, многие предпочитали отказаться от небесной навигации и плыть, полагаясь на интуицию, но Васко да Гама был твердым поборником правил.
Что до долготы, определить ее не было вообще никакого способа. Штурманы полагались на навигационные счисления, которые сводились к выдвигаемым на основе опыта догадкам относительно скорости корабля с учетом направления, которое показывал компас. Этот архиважный инструмент помещался в углублении под полуютом, поближе к тому месту, где из кормы выступал румпель. Намагниченная игла крепилась к карточке с розой ветров, и все вместе устанавливали на штифте в круглой чаше. Сам прибор освещался крошечной масляной лампой и был заключен в деревянный короб с козырьком. Запасные иглы и карты, равно как и куски адаманта для перемагничивания игл тщательно оберегались. Когда вахтенный офицер выкрикивал приказ изменить курс, то, налегая на румпель, поворачивающий рулевое весло, рулевой посматривал на компас возле себя. Учитывая, что обзор ему закрывали паруса и носовой бак, фигуры матросов и палубное снаряжение, зачастую рулевой только по одному компасу мог определить, куда направляется корабль.
Между исполнением обязанностей некоторые читали книги, большинство же играли в кости или карты. Одни рыбачили с удочками, сетями и гарпунами, чистили, разделывали и солили все, что оставалось от улова после обеда. Другие заводили мелодию или пели морские песни. Кое-кто держал собак или кошек, сокращавших популяцию крыс и мышей, подъедавших корабельные припасы. Многие просто ели и пили, валялись на палубе, говорили, спорили и временами ввязывались в драки, зачастую спровоцированные ежедневным рационом вина в количестве двух литров на человека. Молились все. Оказавшись в неизведанных водах, когда смерть вечно маячила на горизонте, все испытывали потребность в защите милостивого Бога, который сохранил бы их от беды. Молились в одиночестве за работой или группами, иногда во главе с капитаном. Моряки слушали богослужения у походных алтарей, читали псалтырь, терли на счастье ладанки и продолжительными мессами и праздниками отмечали дни святых.
Каждый день заканчивался вечерней, по окончании которой выставляли ночную вахту, а на мачты поднимали фонари. Капитан удалялся в свою кабину на юте, офицеры – на свои койки в каюте под ним и на полубаке. Остальные спали где придется, например, под баком, а душными тропическими ночами, когда в трюмах и каютах воняло, под открытым небом; в большом спросе всегда был люк трюма, единственная плоская поверхность. На гораздо меньшей каравелле, где имелась только одна каюта и было еще меньше возможностей уединиться, люди скучивались еще теснее.
Август все тянулся, моряки болели, людей донимал палящий зной. Остававшаяся провизия быстро портилась. Вода начинала тухнуть, и ее пили, зажав нос. Сильной вонью несло отовсюду. Матросы, ставившие и убиравшие паруса, втягивавшие якоря под палящим солнцем, месяцами работали и спали, не меняя одежды. В море они никогда не стригли волосы и редко мылись: морская вода была слишком соленой, а пресная – слишком ценной, и в голове кишели вши. По необходимости они присаживались между канатами на баке и в качестве отхожего места пользовались открытым ящиком, но из-за качки и штормов невозможно было соблюдать хотя бы минимум приличий, и экскременты неизбежно смывало в трюмы. Один пассажир в более позднем португальском плавании на Восток нарисовал мучительную картину наихудших мгновений:
«Среди нас были величайшие хаос и смятение, какие только можно себе вообразить, поскольку люди блевали вверху и внизу и испражнялись друг на друга; не слышалось ничего, помимо сетований и стонов тех, кого мучили жажда, голод, морская болезнь и прочие беды и кто проклинал время, проведенное в пути, с того мгновения, как поднялся на борт, своих отцов и матерей и себя самих, ставших тому причиной; так что можно было счесть, будто они лишились рассудка и стали безумны» [307].
Когда палящий зной, шторма и штили оставались позади, на злополучных моряков обрушивалась новая напасть. У африканского побережья лили жаркие ливни, и тот же путешественник жаловался:
«…[все] тогда превратилось в червей, и намокшее не успевало просохнуть. Удивительной неприятностью для меня оказалось увидеть, что мое одеяло мокро и по нему ползают черви. Дожди здесь столь вонючи, что от них загнивает не только тело, но и всяческое платье, сундуки, приспособления и прочие вещи. И не имея более одежды, чтобы переменить ее, я был принужден сушить на себе то, что на мне было, а одеяло – на него легши; но к тому я был весьма пригоден, ибо лихорадка с большой ломотой в суставах одолела меня с такой силой, что у меня был приступ болезни почти все плавание».
Минул сентябрь, потом октябрь, и не на что было отвлечься – за исключением стаи китов и огромных стад тюленей, дрейфовавших по волнам точно гладкие валуны. К тому времени флотилия достигла самой юго-западной точки в своей огромной петле по Атлантическому океану, и западные ветра со всей скоростью гнали ее назад к Африке. Наконец в среду 1 ноября мимо начали проплывать скопления водорослей – верный признак того, что земля близко.
В воскресенье на той же неделе, за два часа до рассвета ночная вахта опустила лоты, чтобы замерить глубину. Замеры показали 110 морских саженей, то есть несколько сотен футов глубины. Исходя из широты, штурман прикинул, что флот находится всего в тридцати лигах к северу от мыса Доброй Надежды [308].
В девять часов утра вахтенные завидели землю. Корабли пошли курсом поближе друг к другу, а моряки облачились в лучшее платье. С огромным облегчением они подняли штандарты и стяги, а канониры дали залп из бомбард.
Путешествие выдалось суровое. Девяносто три беспокойных дня [309] первопроходцы не видели суши, и прошло отчаянно много времени с тех пор, как закончились пресная вода и свежая провизия. Однако беспрецедентный крюк по Атлантическому океану воздался сторицей: уйдя от противных прибрежных ветров и течений, они скостили драгоценные недели плавания. На заре своего командования Васко да Гама открыл самый быстрый и верный маршрут из Европы к мысу Доброй Надежды.
Это было первым решительным шагом человека, который твердо намеревался выжать из себя самого и из экипажей все возможное, чтобы достичь своей невероятной цели.
Корабли держались поближе к берегу, но его линия не имела ничего общего с набросками, картами и указаниями, составленными Бартоломео Диашем. Флотилия отошла подальше, чтобы поймать ветер, а после снова вернулась к побережью.
На сей раз перед ней открылся широкий залив, за кромкой камней и песка тянулись низкие заливные пустоши. Ветераны плаваний Диаша не видели его раньше, и первооткрыватели окрестили его заливом Святой Елены.
По приказу Васко да Гамы, старший штурман выслал вперед ялик, чтобы замерить глубину и найти безопасное место, где можно бросить якорь. Залив оказался укрытым от волн и кристально чистым, и на следующий день, 8 ноября, флотилия стала на якорь недалеко от берега.
Четыре месяца в открытом море уже тяжко сказались на кораблях. Один за другим их завели на мелководье, и начался трудоемкий процесс кренгования. Баласт и снаряжение снесли в одну сторону трюма, и совместным налеганием на канаты матросы одно за другим опрокинули суда на бок. Затем они по лестницам карабкались на поднявшиеся из воды корпуса, чтобы отскрести их от ракушечника, налипшего на обшивку коркой из тысяч крошечных вулканов. Они отскребали червей, улиток и водоросли и загоняли в швы свежую паклю конопаточными штырями. На берегу развели костер, и швы залили кипящей смолой. Ту же операцию повторили на другой стороне корпуса, затем корабль подняли, выровняли и вывели в море. За время плавания балласт пропитался дрянной гнилой трюмной водой, вонял от отбросов и экскрементов, смываемых с палубы, и кишел крысами, тараканами, вшами и блохами. Омерзительную массу вычерпали лопатами и загрузили новый балласт. Палубы отмыли и отдраили, паруса починили, и поврежденные детали и истрепанные канаты заменили запасными.
Пока починка шла полным ходом, на берег высадилась экспедиция, чтобы разведать обстановку, найти пресную воду и собрать хворост. В нескольких милях к юго-западу эта экспедиция увидела реку, петлявшую по травянистой равнине, а вскоре натолкнулась на группу туземцев [310].
«Жители этой земли имеют кожу коричневого цвета, – отметил Хронист. – Их пищу составляет мясо тюленей, китов и газелей, а еще корни растений. Одеты они в шкуры, и на детородных членах носят кожаные мешочки» [311]. Вооружены они были копьями из оливы с наконечниками из закаленного на костре рога, и куда бы они ни направлялись, их сопровождали своры собак. Португальцы были немало удивлены, что туземные собаки лают в точности так же, как на родине, да и птицы – бакланы, чайки, горлицы, хохлатые жаворонки и многие другие – были равно знакомыми.
На следующий день по прибытии Васко да Гама с несколькими матросами высадился на берег в шлюпке своего корабля. Пока он устанавливал большую деревянную астролябию, чтобы сделать более точные замеры широты, чем это было возможно в море, матросы заметили группу африканцев, собиравших мед. Пчелы строили ульи на песчаных наносах, собиравшихся вокруг кустов вдоль берега, и туземцы деловито их выкуривали. Матросы подобрались к ним поближе, схватили того, кто был поменьше ростом, и утащили на «Сан-Габриэл». Поскольку туземец явно был полумертв от страха, командор усадил его за свой стол и приказал двум юнгам (один из них был чернокожим рабом) сесть рядом с ним и приняться уплетать обильный обед. Понемногу гость тоже начал есть и к возвращению Васко да Гамы почти разговорился. Ночь он провел на борту, а на следующий день да Гама велел одеть его в красивое платье, подарил кое-какие безделушки – накидку и несколько бубенчиков и стеклянных бусин – и отпустил на волю.
Вскоре, как да Гама и рассчитывал, туземец объявился на берегу вместе с десятком спутников. Командор велел перевезти себя на берег, а там, разложив перед африканцами образчики корицы, гвоздики, жемчужин и золота, жестами спросил, есть ли у них на продажу что-то подобное. Когда стало ясно, что ничего подобного они прежде не видели, командор, раздав еще немного бубенчиков и оловянных колец, вернулся на свой корабль.
На следующий день появилась еще одна группа, а еще на следующий – это было воскресенье – на берегу собралось сорок или пятьдесят туземцев. После обеда португальцы причалили и выменяли на мелкие монетки круглые раковины, которые африканцы носили как серьги, и веера из лисьих хвостов. Хронист в поисках сувенира обменял медную монету на «кожаный мешочек, какие они носят на детородных членах, и это как будто доказывает, что медь они ценят весьма высоко» [312].
Когда с коммерцией было покончено, горлопанистый матрос по имени Фернан Веллошу попросил у командора разрешения сходить с туземцами в их деревню, чтобы посмотреть, как они живут. Отговорить антрополога-любителя не удалось, и по настоянию брата да Гама согласился. В то время как большинство матросов вернулись на корабли, Веллошу отправился с африканцами пировать свежезажаренным тюленем, поданным с жареными же кореньями. Паулу да Гама и Николау Коэльо с несколькими матросами тем временем остались собирать обломки дерева и крабов на берегу. Подняв головы, они увидели, как стайка молодых китов скользит между кораблями в погоне за косяками рыбешки на мелководье. Паулу и его люди прыгнули в шлюпку и отправились в погоню, размахивая гарпунами, которые веревками присоединили к лукам. Матросы прицелились, и шипастый гарпун вонзился в спину одного кита. От боли тот принялся биться и нырнул, в долю секунды натянув импровизированную «леску». Шлюпка перевернулась и запрыгала в кровавой пене; только мелкие прибрежные воды, из-за которых кит быстро уперся в дно и несколько остыл, помешали ему утащить шлюпку с матросами в море.
Некоторое время спустя, когда рыболовы и фуражиры возвращались на корабли, с холма сломя голову прибежал Фернан Веллошу, за которым гнались его товарищи по застолью. Оказалось, что когда он вдоволь наелся, африканцы жестами дали понять, что ему пора возвращаться к своим. Запаниковав, Веллошу убежал и теперь воплями старался привлечь внимание моряков в уходящих шлюпках.
Да Гама высматривал, не вернется ли он, и отдал шлюпкам приказ повернуть назад и спасти незадачливого этнографа, а во избежание дальнейших неприятностей сам отправился на берег.
Пока Веллошу со всех ног бежал к шлюпкам, африканцы держались в укрытии за кустами. Но матросы не спешили спасать смельчака. За четыре месяца им надоело его бахвальство, и они решили заставить его попотеть. Они все еще наслаждались шуткой, когда на берег целеустремленно выскочили два вооруженных африканца. Атмосфера внезапно переменилась, но не успели спасатели выбраться на берег, как объявились остальные африканцы, обрушившие на шлюпки град камней, стрел и копий. Несколько человек были ранены, включая самого Васко да Гаму, которому, едва он появился на месте событий, попала в ногу стрела, – и португальцы спешно отступили на корабли. Смазав на случай яда [313] пастой из мочи, оливкового масла и териака [314], он залечил свою гордость, приказав арбалетчикам стрелять в сторону берега когда пожелают.
Главный капитан решил, что получил благотворный урок, который останется с ним до конца его жизни на море.
«Такое случилось, – записал Хронист, – потому что мы смотрели на этот народ как на людей малодушных и совершенно неспособных на насилие, а потому высадились, не вооружившись заранее» [315].
Больше туземцы не показывались, а португальцы провели на берегу еще четыре дня, чтобы закончить ремонт. На рассвете 16 ноября корабли вышли из залива и взяли курс на юго-юго-запад. Два дня спустя португальцы впервые безошибочно увидели мыс Доброй Надежды. Обступившие его горы сияли в свете заходящего солнца – путевая веха, столь же монументальная, как длящиеся десятилетиями путешествия, которые она отмечала.
Однако обогнуть мыс Доброй Надежды оказалось непросто. Вдоль побережья завывали южные ветра, и на протяжении четырех дней корабли силились выйти в море, но их снова сносило к суше. Наконец к середине дня 22 ноября, когда ветер подул уже в обратном направлении, корабли обошли мыс. Лишь один флот заходил в эти воды раньше, и Бартоломеу Диаш только походя видел легендарную веху на обратном пути домой.
Заиграли фанфары, и команды возблагодарили Господа, что провел их в безопасные воды.
Три дня корабли держались поближе к берегу, проходя мимо пышных лесов и устьев многочисленных речушек и рек, пока не достигли огромного залива, шести лиг глубиной и шести лиг шириной в устье. Как раз здесь у Диаша произошла злосчастная встреча с пастухами, и да Гама держался настороже.
Флотилия вошла в залив, миновала островок, берега которого облюбовали тюлени, и бросила якорь недалеко от берега. Здесь предстояло задержаться надолго. Запасы на трех основных кораблях были уже на исходе, и на них следовало перегрузить содержимое транспортного судна.
Неделя прошла без каких-либо признаков туземцев; только по берегу бродило загадочно большое количество скота. Потом 1 декабря с холмов спустились девяносто или около того человек, кое-кто даже вышел к самой воде [316]. В тот момент большинство португальцев находились на «Сан-Габриэле», и едва показались африканцы, они вооружились и спустили корабельные шлюпки. Приблизившись к берегу, да Гама бросил на песок несколько пригоршней бубенчиков, и любопытные туземцы их подобрали. Несколько минут спустя они подошли к самим шлюпкам и взяли еще бубенчиков – уже из рук командора. Ветераны путешествия Диаша были в недоумении: может быть, предположили матросы, еще до недавней стычки повсюду разошлись вести, что гости не желают зла и раздают подарки?
Да Гама, еще не оправившийся от своей раны, был настроен менее благодушно. Он велел своим людям отвести шлюпки подальше от заросшего кустарником участка берега, где сгрудились африканцы, и взять курс на открытый пляж, где было меньше шансов внезапного нападения. По его знаку туземцы последовали за ними.
Командор сошел на берег со своими капитанами, солдатами и арбалетчиками и дал знать африканцам подходить по одному или по двое. В обмен на бубенчики и несколько красных шапок он получил несколько прекрасных браслетов из слоновой кости. По всей видимости, слоны тут водились в изобилии – огромные кучи их навоза виднелись повсюду.
На следующий день на берегу появилось две сотни туземцев, которые привели дюжину жирных быков и коров и четыре или пять овец. На самом жирном быке ехал человек, сидевший в носилках из веточек поверх тростникового грузового седла, сплетенного из тростника; в носы других животных были продеты палочки, – как оказалось, это был знак того, что скот выставлен на продажу. После нескольких месяцев вяленого мяса и солонины у португальцев при мысли о жареной говядине потекли слюнки. Гости направились прямо к пляжу, а их хозяева тем временем извлекли похожие на дудочки инструменты, завели мелодию и начали танцевать. Теперь да Гама был в приподнятом настроении и приказал играть своим трубачам. Встав в шлюпках, португальцы начали тоже приплясывать, и командор к ним присоединился.
Путешественники купили черного быка по выгодной цене в три браслета и на следующий день устроили себе воскресный пир. «Мы нашли его весьма жирным, а его мясо таким же вкусным, как говядина в Португалии» [317], – отметил Хронист.
В такой праздничной атмосфере обе стороны несколько расслабились. Стали появляться новые любопытные туземцы, которые на сей раз привели с собой не только стада быков и овец, но также своих женщин и маленьких мальчиков. Женщины остались на невысоком холме за чертой песчаного пляжа, а мужчины собирались группками на берегу, снова танцевали и играли разные мелодии. Когда приплыли португальцы, к ним подошли старики, обмахиваясь опять же опахалами из лисьих хвостов, и обе стороны кое-как сумели объясниться знаками. Ничто не предвещало беды, пока матросы не заметили, что в кустах притаились молодые мужчины племени с оружием в руках.
Отведя в сторонку переводчика Мартима Аффонсу, да Гама велел ему попытаться купить за браслеты еще одного быка. Взяв браслеты, африканцы вдруг погнали свой скот назад в буш, а Аффонсу потащили к ближайшему водопою, где португальцы наполняли пресной водой бочки. Почему, гневно спросили туземцы, чужаки забирают их драгоценную воду?
У главы экспедиции начали зарождаться дурные предчувствия. Собрав вокруг себя своих людей, он крикнул Аффонсу, мол, пусть бросает африканцев и идет к шлюпкам. Сев в шлюпки, португальцы направились вдоль берега к открытому пляжу, где высадились в первый раз. Туземцы последовали за ними, и да Гама приказал солдатам надеть нагрудные пластины, натянуть арбалеты, приготовить тяжелые и легкие копья и выстроиться вдоль воды. Демонстрация силы как будто сделала свое, и африканцы отступили.
Да Гама приказал солдатам сесть в шлюпки и ялик, которые на веслах отошли на небольшое расстояние от берега. Хронист отметил, что командор старался устроить так, чтобы никого не убили по ошибке, «но чтобы доказать, что мы способны, хотя и не желаем, причинить им вред, он приказал дать залп из двух бомбард в ялике» [318]. Теперь африканцы смирно сидели сразу за чертой пляжа. Когда выстрелили пушки и над головами у них засвистели ядра, бушмены вскочили и бросились бежать, побросав в панике свои звериные шкуры и оружие. Через минуту двое мужчин выбежали подобрать разбросанные пожитки, и все туземцы исчезли за гребнем холма, гоня перед собой скот. Несколько дней кряду от них не было ни слуху ни духу.
Когда подошли к концу работы по разборке грузового корабля для починки остальных судов, да Гама приказал поджечь его голый остов. На протяжении нескольких дней остов тлел и дымился в предостережение туземцам. Впрочем, матросы вскоре забыли про неприятности на берегу – они были заботой командора – и снова начали искать развлечений. Одна группа отправилась на веслах к островку в середине залива, чтобы получше рассмотреть колонию тюленей. Животные лежали так тесно, что издалека сам остров казался массой гладких шевелящихся камней. Особи покрупнее были размером с медведей, ревели как львы и нападали на людей без тени страха; копья, брошенные самыми крепкими матросами, соскальзывали с их шкур. Другие особи были много мельче и кричали как козы. Хронист и его группка любителей достопримечательностей насчитали три тысячи голов, после чего сдались и развлечения ради выстрелили по ним из бомбард. Также им встретились незнакомые птицы, которые ревели по-ослиному и были «размером с утку, но они не умеют летать, потому что на крыльях у них нет перьев» [319]. Это были пингвины, и первооткрыватели забивали и их тоже, пока им не прискучило.
К двенадцатому дню стоянки три оставшихся корабля были почти готовы к отплытию, и матросы вновь отправились заполнять бочки водой. В одну такую вылазку они взяли с собой падран, каменную колонну с королевским гербом, – несколько таких падранов флотилия везла с собой из Португалии. Из бизань-мачты грузового корабля да Гама велел изготовить большой крест, и когда колонна была вкопана, крест водрузили на ее верхушке.
На следующий день, когда небольшой флот поднял паруса, наконец вышли из буша африканцы. Они все время следили за невоспитанными чужаками и теперь увидели свой шанс отомстить. На глазах у уплывающих португальцев десяток мужчин подбежали и разбили на части крест и колонну.
Стояло 7 декабря, и на борту кораблей ясно чувствовалось нервное возбуждение. Пройдя еще совсем немого, Бартоломео Диаш повернул вспять, и люди Васко да Гамы вот-вот должны были вторгнуться в потаенные области природы. Многие были убеждены, что плывут к непроходимому порогу, и вскоре худшие их страхи как будто подтвердились.
Едва флотилия вышла из залива, как ветер спал, паруса повисли, и целый день корабли провели, стоя на якоре. На следующее утро, в день Непорочного зачатия, как благочестиво пометил Хронист, они тронулись в путь – лишь для того, чтобы попасть в ужасающий шторм [320].
Волны вздымались водяными утесами. Суда то подбрасывало в чернильные облака, то швыряло в пропасти. Пронизывающий холодный ветер бил в корму, и тьма сделалась непроглядной. Учитывая, что корабли шли под всеми парусами, их носы зарывались в волны, и капитаны спешно приказали убрать фоки.
Ледяная вода обрушивалась на палубы, пропитывая шерстяные плащи матросов. Все свободные матросы стояли у насосов в трюмах, но вода просачивалась и перехлестывала быстрее, чем они могли ее вычерпывать, и трюмы скоро затопило. Рев ветра заглушал команды штурманов, и даже при том, что по несколько человек висели на румпеле, корабли почти невозможно было контролировать. Когда буря достигла своего пика, каравелла Николау Коэльо исчезла из виду, и даже самые закаленные матросы полагали, что пришел их смертный час. Они плакали и исповедовались друг другу и, выстроившись в процессию за крестом, молились Господу явить им милосердие и сохранить их от ужасной беды.
Наконец небо посветлело, и на закате смотрящие разглядели на горизонте «Берриу» – в целых пяти лигах от них. Два корабля вывесили сигнальные огни и легли в дрейф. Около полуночи, под конец первой вахты Коэльо наконец нагнал флотилию, но лишь благодаря случаю. Он не видел других кораблей, пока не подошел к ним почти вплотную: он плыл в их сторону, потому что упавший ветер не оставлял ему иного выбора.
Флот отнесло далеко в море, и он снова взял курс на сушу. Через три дня вахтенные различили череду плоских островов. Перу де Аленкер распознал их сразу: в пяти лигах, на выдающемся в море мысу находилась последняя колонна, установленная Бартоломеу Диашем [321].
На следующий день, 16 декабря, три корабля миновали устье реки, где восставшая команда Диаша вынудила своего капитана повернуть вспять. Теперь они плыли туда, где не плавал ни один европеец, – возможно, вообще никто. Той ночью они легли в дрейф, и беспокойный сон каждого моряка наводняли загадки предстоящих опасностей.
На следующее утро первооткрыватели бодро поплыли вперед, подгоняемые крепким вестом, но вечером ветер сменился на восточный. Кораблям пришлось снова выйти в море, и два дня они как могли старались не потерять из виду сушу. Когда ветер наконец изменился снова, они опять направились к побережью, чтобы определить, где находятся. Вскоре показался знакомый пейзаж: остров, на котором Диаш воздвиг крест, в шестидесяти лигах от того места, где они, по их расчетам, должны были находиться. Сильное, идущее от берега течение оттащило их на половину пути к заливу, который они покинули две недели назад.
Многие матросы были уверены, что корабли натолкнулись на невидимую стену, которая отделяет Восток от Запада. Васко да Гама, чья железная решимость с каждым днем становилась все очевиднее, и слышать об этом не желал. Флотилия взяла прежний курс.
На сей раз крепкий кормовой ветер дул три или четыре дня кряду, и корабли понемногу продвигались против течения.
«Отныне, – записал Хронист, испытавший облегчение не меньшее, чем все остальные, – Господу в милосердии Его было угодно позволить нам продвинуться дальше. Нас не погнало назад снова. Да будет Ему угодно, чтобы так было всегда!» [322]
Теперь они проплывали мимо густых лесов, и чем дальше они продвигались, тем выше тянулись к небу деревья. Штурманы сочли это добрым предзнаменованием. И действительно, берег теперь явно уходил к северу.
После десятилетий поисков и столетий мечтаний первые европейцы, несомненно, вошли в Индийский океан.
Глава 9
Побережье Суахили
Рождество года 1497-го прошло в молитвах перед корабельными алтарями. В честь святого дня первооткрыватели окрестили землю, мимо которой проплывали, Натал [323], но времени на отдых не было. Зарисовки и карты закончились, с этого момента предстояло заполнять чистые листы. Все следовало отмечать и записывать, и наваливались обычные беды – треснувшая мачта, порвавшийся якорный канат, противный ветер, – которые еще более замедляли ход. Хуже всего было то, что питьевая вода почти закончилась, и кокам приходилось варить солонину в соленой морской воде – с тошнотворным результатом. Необходимость причалить становилась все более насущной.
С Нового года прошло одиннадцать дней, когда вахтенные завидели устье речушки. Командор приказал бросить якорь неподалеку от берега и на следующий день отправил туда на шлюпках разведывательный отряд. Подойдя поближе, португальцы увидели, что с берега за ними наблюдает большая толпа мужчин и женщин. Все были на удивление высокими – гораздо выше португальцев [324].
Да Гама, как всегда возглавлявший высадку, приказал сойти на берег Мартиму Аффонсу, взяв с собой одного спутника. Африканцы оказали им сдержанно любезный прием. Один из них казался вождем и, насколько мог разобрать Аффонсу, говорил, что путники вольны взять из его страны все, что пожелают.
В ответ да Гама послал вождю красную куртку, красные штаны, красную феску и медный браслет. Когда спустилась ночь и шлюпки вернулись на корабли, Аффонсу и его спутник отправились с африканцами в их деревню. По пути вождь надел новое платье.
«Смотрите, что мне дали!» [325] – объявлял он то ли с удивлением, то ли с удовольствием каждому встречному.
В деревню они пришли под всеобщее ликование, и вождь стал расхаживать среди хижин с соломенными крышами. Когда он удалился на ночь, португальцев проводили в гостевой дом и накормили кашей из проса с курицей. Спали они беспокойно, поскольку всякий раз, когда открывали глаза, обнаруживали, что их рассматривают группки туземцев. На следующее утро вождь появился с двумя своими людьми, которым предстояло отвести португальцев назад на корабли. Он подарил им несколько куриц для командора и добавил, что покажет их дары великому вождю, которого португальцы сочли за короля этой земли. К тому времени, когда Аффонсу, его спутник и их провожатые добрались до места стоянки, за ними тянулась процессия из двухсот человек.
Португальцы окрестили эту местность Страной Добрых Людей – Терра-да-Боа-Женти. Местность казалась густонаселенной, со множеством вождей, но женщин в ней было вдвое больше, чем мужчин. Постоянные войны и стычки с соседними племенами, несомненно, внесли существенный вклад в этот дисбаланс. Сами воины были вооружены длинными луками и стрелами, копьями с железными наконечниками и кинжалами с оловянными рукоятями и ножнами из слоновой кости. И мужчины, и женщины носили на ногах и на руках медные украшения, их же они вплетали в волосы. Возле деревень имелись пруды, куда морскую воду носили в выскобленных и высушенных тыквах и выпаривали, чтобы получить соль. Путешественники с восторгом заключили, что более развитые страны уже недалеко. И все равно они задержались тут на пять дней, их корабли стояли на якорях, а сами они выменивали льняные рубахи на большие количества меди и пополняли запасы пресной воды. На сей раз африканцы сами помогали им относить бочонки на корабли, но не успели португальцы взять достаточно, как у побережья задул попутный ветер и поманил путников дальше.
На десятый день плавания в новых водах густые леса расступились, открывая устье крупной реки [326], охраняемое песчаными островками с зарослями мангровых деревьев. Да Гама рискнул произвести небольшую разведку, и по его распоряжению «Берриу» вошла в протоку [327]. На следующий день за ней последовали два больших корабля.
По обоим берегам среди плоских, топких низин тут и там вставали купы высоких деревьев, на которых росли странные, но съедобные плоды. Туземные жители здесь были темнокожими, сильными и ходили нагими, если не считать коротких набедренных повязок из хлопчатой ткани. Португальцы быстро подметили, что молодые женщины тут удивительно красивы, пусть даже нижние губы у них были проколоты и с них свисало поразительное количество витых украшений из жести. Африканцы, как занес в судовой журнал Хронист, равно обрадовались странным гостям. Группками они подплывали в узких выдолбленных лодках к кораблям, чтобы предложить на продажу местные продукты, и на борт кораблей карабкались без тени заминки, точно европейцы были старыми знакомыми. Уходили они с бубенцами и прочими безделушками, с готовностью взяли матросов к себе в деревню и с равной готовностью предложили им столько пресной воды, сколько они смогут унести.
Через несколько дней к кораблям подошла весельная лодка, в которой сидели двое мужчин в накидках из зеленого атласа с вышивкой шелком. Это явно была местная знать, и корабли они осматривали взглядом знатоков. Они объяснили, что один их юноша побывал в дальней стране, где видел суда как раз размером с эти.
«Сии малости, – записал Хронист, – обрадовали наши сердца, ибо казалось, мы действительно приближаемся к порогу наших желаний» [328]. Гораздо меньше португальцы обрадовались, когда двое аристократов повели носом при виде предложенных им даров, – пугающее пренебрежение, учитывая, что до Индии было еще далеко. Тем не менее высокомерные господа приказали построить им на берегу хижины и на протяжении семи дней посылали слуг торговаться, обменивая окрашенные в красноватый цвет ткани на побрякушки чужаков, пока не пресытились и не велели везти себя вверх по реке.
Португальцы задержались в этой местности на 32 дня. Да Гама решил, что после стольких испытаний и тягот его люди заслуживают отдыха, а матросы явно наслаждались обществом привлекательных и любопытных девушек. Заодно была починена мачта «Сан-Рафаэла», и в очередной раз проконопачены корпуса всех кораблей.
Пока Южная Африка представала своего рода раем, но в теплой и влажной атмосфере таилась своя опасность. Многие матросы и солдаты серьезно заболели: стопы и кисти у них раздулись, на ногах высыпали сотни мелких пятен. Десны у них воспалились и выступали над зубами так, что они не могли есть, а изо рта невыносимо воняло. У них текла кровь из глаз, и сами глазные яблоки начали выпирать в иссохших глазницах. В семи месяцах пути от дома свой удар нанесла наводящая ужас цинга. Паулу да Гама, человек добрый и заботливый, денно и нощно навещал недужных, утешая и раздавая лекарства из собственных запасов. Среди членов команды не было врачей, а поскольку корабельные хирурги, игравшие также роль цирюльников, обычно бывали из тех, с каким столкнулся итальянский путешественник Пьетро делла Валле: «вида столь непривлекательного, что даже в полном здравии я заболел бы, если бы он пощупал мой пульс» [329], – толку от них все равно было немного. У наиболее тяжелых больных появились гнойные язвы, от которых их парализовало, и у них повыпадали зубы. Около тридцати человек скончались, а уцелевшие могли только потрясенно смотреть на происходящее, не в силах что-либо предпринять.
Наконец Васко да Гама отдал приказ двигаться дальше. Перед отплытием он установил второй свой падран и записал название, которое его люди дали этой стоянке: Река Добрых Предзнаменований. Впрочем предзнаменования были не такими уж и добрыми: едва флотилия вышла из устья, как флагман сел на мель. Все уже были готовы списать его как пропавший, но нахлынувший прилив кое-как успел столкнуть его на воду.
Маленькая флотилия вновь вышла в открытое море в субботу, 24 февраля. Ночью штурман взял курс на северо-восток, чтобы уйти подальше от побережья и мелей, и на протяжении недели корабли следовали этим курсом, останавливаясь по ночам, чтобы не пропустить ничего важного, но не видели ничего примечательного, помимо немногих рассеянных островов.
1 марта вдали показался большой архипелаг, на сей раз он лежал недалеко от берега. День клонился к закату, и корабли снова бросили якоря, чтобы дождаться утра и уже тогда осмотреться.
Утренний свет залил большой овальный коралловый риф, обрамленный белым песком и с пиками редкой растительности. Риф располагался посреди пологой бухты, с моря подступы к ней охраняли два небольших островка. Да Гама решил выслать вперед каравеллу, и, подняв паруса, Николау Коэльо осторожно вошел в бухту. Вскоре стало очевидно, что он ошибся в расчетах и «Берриу» идет прямиком на мель. Когда каравелла попыталась развернуться, чтобы с мели сняться, с основного кораллового острова отплыла небольшая флотилия лодок.
К тому времени подошли остальные два корабля, и туземцы возбужденно замахали, пытаясь их остановить. Не обращая на них внимания, братья да Гама прошли на защищенный рейд между островом и материком, и приветственная эскадра бросилась их догонять, а они бросили якорь. К кораблям подошло семь-восемь лодок, и заиграл небольшой оркестр. Португальцы узнали длинные прямые трубы – на таких инструментах играли мавры Северной Африки. Люди в лодках радостно махали путникам, знаками предлагая следовать за ними в порт на острове. Кое-кого из них да Гама пригласил на борт, и они вдоволь наелись и напились с командой.
Португальцы быстро сообразили, что островитяне говорят по-арабски, – это было разом многообещающим и приводило в недоумение. Они явно были мусульманами, но вели себя гораздо дружелюбнее любых мусульман, с которыми путешественники встречались прежде.
Васко да Гама решил, что должен побольше узнать о том, где находится и что это за народ. Он снова приказал Николау Коэльо идти вперед в гавань и осмотреться, чтобы понять, могут ли последовать за каравеллой более крупные корабли. Коэльо попытался обойти вокруг острова и напоролся на скальный выступ, о который «Берриу» сломала рулевое весло. Впрочем, каравелле удалось выпутаться и приковылять в глубокие, чистые воды порта.
Не успела «Берриу» остановиться, как к ней на лодке подошел местный султан [330] и с большой свитой поднялся на борт. Султан производил внушительное впечатление своим белым льняным одеянием до пят, роскошным верхним платьем из бархата, многоцветным шелковым головным убором, обрамленным золотом, и шелковыми туфлями. Его свита была облачена в тонкие льняные и хлопчатые ткани прекрасной выработки и окрашенной в яркие полосы. На головах у придворных были шапки, отороченные шелковыми лентами, вышитыми золотой нитью, а за поясами – кривые арабские сабли и кинжалы.
Коэльо принял сановных гостей с должным почтением, хотя и смог преподнести султану лишь одну красную накидку. Взамен султан подарил капитану черные четки, которые собственноручно перебирал во время встречи, дав понять, что считает их знаком доброй воли, и пригласил нескольких матросов сойти с ним на берег.
Высадились они на полоске каменистого пляжа, где во время прилива могли причаливать небольшие суда. Вдоль берега тянулись складские постройки. Поблизости строилось несколько внушительных кораблей, брусья для их корпусов сшивали веревками из кокосового волокна, а паруса были сотканы из все того же универсального материала. За портом лежал значительных размеров город с небольшой мечетью, несколькими кладбищами и оштукатуренными домами, построенными из скрепленных известкой блоков кораллового песчаника. Повсюду громоздились груды выставленных на продажу кокосов, дынь и огурцов, а на улицах женщины продавали жареную рыбу и испеченные на углях пирожки.
Султан знаками пригласил португальцев в свой дом. Накормив гостей, он отослал их восвояси с «бочонком тушеных фиников, законсервированных с гвоздикой и семенами тмина в дар Николау Коэльо» [331].
К тому времени вслед за «Берриу» в порт вошли два других корабля. Султан послал их капитанам еще деликатесов, и да Гама поспешно приготовился к визиту. После тягостного путешествия его люди имели малопрезентабельный вид: лучшие были оборваны и немыты, худшие едва держались на ногах. Командор приказал отнести больных и недужных в трюмы и собрал самых крепких матросов с остальных кораблей. Они надели кожаные куртки поверх просторных рубах, натянули сапоги и спрятали под одеждой оружие. Подняли флаги, натянули пологи, и по первому знаку спектакль готов был начаться.
Как выяснилось, готовились португальцы не напрасно. Султан прибыл во всем церемониальном великолепии, со свитой, облаченной в богатые шелка, и музыкантами, без устали игравшими на трубах из слоновой кости. Да Гама приветствовал его на борту флагмана, усадил под пологом и угостил лучшим мясом и вином, одарил новыми шапками, туниками, нитками коралловых бус и прочими безделушками из своих сундуков. Бросив взгляд на предложенные дары, султан презрительно их отверг и спросил, есть ли у чужеземцев алая ткань. Да Гаме пришлось – через переводчика с арабского Фернана Мартинса – ответить, что нет. Гости вскоре отбыли, хотя султан был достаточно заинтригован, чтобы вернуться еще несколько раз, и португальцы продолжали одаривать его тем, что имели.
К тому времени путешественники узнали, что находятся в стране под названием Мозамбик. Хорошо одетые люди были состоятельными купцами, торгующими с арабами (или белыми маврами, как их упорно называли португальцы) с севера. В порту стояли четыре арабских корабля, как выяснилось, тяжело груженные «золотом, серебром, гвоздикой, перцем, имбирем и серебряными кольцами, большим количеством жемчуга, драгоценных каменьев и рубинов, кои в ходу у жителей сей страны» [332]. Помимо золота, как объяснили европейцам новые друзья, все это везут из богатых стран, где драгоценные камни, жемчуг и пряности так обычны, «что нет нужды их покупать, ибо их можно собирать корзинами».
Сердца гостей забились быстрее: вот оно первое свидетельство сказочных богатств Востока, ради которых они заплыли так далеко. Разумеется, их встревожило открытие, что мусульмане контролируют все побережье – Побережье Суахили, как научатся называть его европейцы, название шло от имени, которое дали местным жителям арабы, но были и хорошие новости. По словам купцов, неподалеку располагался исключительно богатый остров, чье население, одну половину которого составляли христиане, а другую – мусульмане, постоянно воевало между собой. Приободрившись, португальцы спросили, где искать пресвитера Иоанна, и узнали, что он тоже живет неподалеку и правит многочисленными прибрежными городами, жители которых «великие купцы и владеют большими кораблями» [333]. Как оказалось, двор пресвитера находился далеко в глубине материка и попасть к нему можно было лишь на верблюдах, но это глубокое разочарование отчасти смягчилось, когда португальцам сказали, мол, на борту у арабов находятся два христианина из самой Индии. Другую дозу реальности поднесло известие, что эти христиане пленники арабов, но вскоре их доставят на «Сан-Габриэл». Едва пленники увидели фигуру святого на носу корабля, как с молитвой пали на колени. Пленники или нет, но их поведение, несомненно, могло считаться долгожданным доказательством, что на Востоке все-таки есть христиане.
«Эти сведения, – радовался Хронист, – и многое другое, о чем мы услышали, принесли нам такое счастье, что мы заплакали от радости и вознесли молитву Господу даровать нам здоровье, чтобы мы могли узреть то, чего так желали» [334]. Вековые мечты и упования, казалось, вот-вот осуществятся: совсем немного осталось до христианского царя на Востоке, до его сказочно богатых подданных и городов, изобилующих драгоценными камнями и пряностями, которые можно просто собирать горстями.
И только путешественники воспрянули духом, как дело приняло дурной оборот.
В один из своих визитов султан поинтересовался, откуда прибыли чужеземцы. Он хотел знать, не турки ли они или, может быть, какой-то другой мусульманский народ, который ему не знаком? Ему ведь известно, что у турок светлая кожа, как раз такая, как у новых гостей. Если они турки, добавил он, ему бы очень хотелось посмотреть на знаменитые луки их страны и взглянуть на их списки Корана.
Нет, они не из Турции, с видом завзятого игрока в покер ответил да Гама, но из другого королевства в тех краях. Он с готовностью покажет султану свое оружие, но в морские путешествия они с собой религиозных книг не берут. Солдаты вынесли арбалеты, натянули их и дали залп, а султан сделал вид, что изумлен и вне себя от радости. За блюдами из фиг и засахаренных фруктов с пряностями да Гама рискнул объяснить, что великий и могущественный король послал его открыть путь в Индии. Он спросил, нельзя ли нанять двух штурманов, знающий Индийский океан, и султан охотно дал свое соизволение. Вскоре двое должным образом явились на «Сан-Габриэл», и через Фернана Мартинса да Гама сказал им, что с сего момента один из них всегда должен находиться на борту.
Довольно скоро присутствие штурманов стало причиной неприятностей. Поведение бледнокожих гостей с их странным языком и еще более странными кораблями и без того вызывало подозрения. Они словно бы ничего не знали о побережье и производимых тут товарах; они задавали слишком много вопросов и отказывались давать внятные ответы. Наконец до штурманов дошло, что их наняли не посланцы какого-то экзотического мусульманского народа, а христиане, и один из двоих под каким-то предлогом покинул корабль. Когда он не объявился, португальцы направились к одному из двух малых островов, расположенных на расстоянии лиги у входа в залив, где, как они выяснили, живет штурман. Корабли бросили якорь неподалеку от острова, и да Гама и Коэльо направились на берег с оружием в двух шлюпках, прихватив с собой второго штурмана. Немедленно с острова наперерез им вышел десяток маленьких плоскодонок. Эти лодочки везли мусульманских солдат, вооруженных луками и круглыми щитами, и солдаты жестами показали португальцам, что им следует вернуться в город.
Приказав связать штурмана, да Гама велел своим канонирам обстрелять лодки из бомбард.
Вырываясь из жерл пушек, ядра засвистели в воздухе.
Едва христиане и мусульмане в полном понимании, с кем имеют дело, сошлись в Индийском океане, отношения из дружеских разом превратились во враждебные. Заклятая вражда была экспортирована в новые воды. Первые выстрелы были произведены, и эхо их будет отдаваться столетиями.
Паулу да Гама остался с кораблями на случай, если понадобится послать помощь, и при звуке канонады немедленно приступил к действиям. Когда «Берриу» надвинулась на арабские лодки, те бежали к главному острову, где исчезли в порту прежде, чем Паулу смог их нагнать.
Португальцы вернулись к месту стоянки. Стало очевидно, что отношения с султаном уже не восстановить. Считая их турками, отмечал Хронист, султан вел себя подчеркнуто дружелюбно. «Но когда они узнали, что мы христиане, то устроили так, чтобы через предательство захватить нас и перебить. Штурман, которого мы взяли с собой, впоследствии раскрыл нам, что они намеревались сделать, если бы смогли» [335]. Стараясь извлечь выгоду из поражения, португальцы решили, что штурманом руководил Всевышний, заставивший его раскрыть заговор.
На следующий день было воскресенье, и экипажи отправились к малому острову, чтобы отстоять мессу. Они нашли изолированное укромное место и, расставив в тени высокого дерева алтарь, приняли причастие. Сразу после этого они подняли паруса и поплыли на поиски более гостеприимных вод.
У стихии же были иные планы. Два дня спустя, когда корабли обходили под парусами мыс, к которому подступили высокие горы, ветер упал и их ход замедлился. Вечером следующего дня бриз отнес их в море, но, проснувшись наутро, португальцы обнаружили, что сильное прибрежное течение оттащило их за сам остров Мозамбик. К вечеру они добрались до островка, где праздновали мессу, но к тому времени опять подул встречный ветер. Бросив якорь, они стали ждать. Менее всего им хотелось находиться в этом месте.
Когда до султана дошли известия, что христиане вернулись, он отправил одного из своих людей к флотилии с заверениями в дружбе. Посланником был араб с севера, клявшийся, что он шариф, то есть потомок Пророка. А еще он был мертвецки пьян. Его хозяин, сказал он португальцам, хотел бы помириться после злосчастного недопонимания. И португальцы тоже, отвечал да Гама, но сперва он просит вернуть штурмана, которого он нанимал. Шариф отплыл и больше не возвращался.
Вскоре объявился с маленьким сыном другой араб и попросил разрешения подняться на борт. Он назвался штурманом из окрестностей Мекки и объяснил, что подыскивает себе корабль для возвращения на родину. Учитывая, сколько арабских кораблей ходило вдоль побережья, это показалось странным, но да Гама согласился взять его пассажиром – не столько из гостеприимства, сколько ради возможности получить от него нужные сведения. Новоприбывший даже без подстегивания дал один совет: султан, заявил он, ненавидит христиан, и лучше бы им держать ухо востро.
Протерпев почти неделю, да Гама приказал флоту снова войти в гавань. Особого выбора у него не было: погода как будто и не собиралась улучшаться, а запасы пресной воды на кораблях опасно заканчивались. На маленьком острове не было источников пресной воды, попытки выкопать колодец привели к появлению омерзительных солоноватых луж, награждавших каждого, кто осмелился из них пить, солидной дозой дизентерии. Вся вода поступала с материка, а там, как сказали путешественникам, воинственные племена голых татуированных туземцев с заостренными зубами пируют мясом слонов, которых убили на охоте, и людей, которых взяли в плен [336].
Невзирая на пугающие известия, матросы с наступлением темноты спустили на воду шлюпки и нагрузили их пустыми бочонками. Около полуночи Васко да Гама и Николау Коэльо взяли людей и беззвучно тихонько поплыли к материку. Штурман, которого нанял у султана да Гама [337], предложил показать им источник и потому поплыл с ними. Вскоре португальцы безнадежно заблудились среди мангровых болот и начали подозревать, что штурман лишь ищет шанс улизнуть. Проведя на веслах всю ночь, усталые и рассерженные португальцы вернулись к кораблям.
Следующим вечером, не дожидаясь наступления темноты, они попытали счастья снова. На сей раз штурман быстро указал искомое место, но когда лодки подошли ближе, португальцы увидели у кромки воды двадцать человек, потрясающих копьями и жестами приказывающих им убираться.
Терпение да Гамы истощалось, и он велел своим людям открыть огонь. Когда из пушечных жерл полетели ядра, африканцы бежали в буш. Высадившись, матросы вдоволь набрали воды, хотя радость их несколько омрачилась, когда они обнаружили, что африканский невольник, принадлежавший Жуану де Коимбре, штурману «Сан-Рафаэла», сумел незаметно ускользнуть. Вскоре, к немалому своему возмущению, португальцы услышали, что он перешел в ислам, хотя прежде принял христианство.
На следующий день к флотилии подплыл еще один араб, чтобы передать послание султана, на сей раз с угрозой. Если чужакам нужна вода, сказал он с ухмылкой, пусть ищут ее, если хотят, но султан знает, как заставить их повернуть назад.
Командор наконец сорвался. Над его дарами посмеялись, один из его штурманов сбежал, а теперь еще один за другим гонцы с ним играют. Его выставляли дураком, и он намеревался преподать мусульманам урок, пока окончательно не потерял лицо. Он отправил султану сообщение с требованием вернуть невольника и штурмана, и ответ не заставил себя ждать. Султан был возмущен. Люди у источника всего лишь дурачились, а христиане их убили. Что до штурманов, то они чужеземцы, и он за них не в ответе. Сперва гости показались ему достойными доверия, теперь же ему сдается, они ничем не лучше подлых бродяг, которые грабят порты.
Да Гама созвал на короткий совет своих капитанов. Все шлюпки были вооружены малыми бомбардами, и теперь эти плавсредства двинулись на город.
Жители острова были готовы сражаться. На берегу собрались сотни мужчин, вооруженных копьями, кинжалами, луками и пращами, из которых метали камни в приближающиеся шлюпки. В ответ рявкнули пушки, и островитяне отступили за частокол, который соорудили, связав веревками деревянные брусья. Частокол укрывал от ядер, но атаковать из-за него было непросто, и на протяжении трех часов португальцы обстреливали берег.
«Когда мы устали от этих трудов, – записал Хронист с деланным безразличием обиженных, – то удалились на корабли отобедать» [338].
Жители острова начали разбегаться, забирая с собой пожитки и спасаясь в плоскодонках на материк.
После обеда португальцы решили закончить свои «труды». Командор планировал взять пленных, чтобы обменять на невольника и двух «индийских христиан», которых держали у себя арабы. Его брат нагнал плоскодонку, в которой сидели четверо африканцев, и увел пленных на свой корабль. Другая группа матросов преследовала лодку, принадлежавшую самозваному шарифу. Она была доверху нагружена его личным имуществом, но гребцы бросили ее, едва достигли материка. Португальцы нашли еще одну брошенную плоскодонку и забрали с нее «хороший хлопок, корзины из пальмовых листьев и обливной керамический кувшин с маслом, стеклянные фиалы с ароматной водой, книгу Закона, ящик с пасмами хлопка, хлопковую сеть и множество малых корзин, полных проса», – домашний скарб обеспеченного купца. Да Гама роздал матросам все, за исключением Корана, который спрятал, чтобы предъявить своему королю.
На следующий день, в воскресенье, побережье пустовало. Португальцы наполнили водой бочонки – на сей раз им никто не препятствовал. В понедельник, пополнив запас боеприпасов на шлюпках, они снова направились к городу. Оставшиеся на острове жители заперлись в своих домах. Некоторые выкрикивали проклятия неотесанным чужакам. Да Гама не хотел рисковать и высаживаться на берег, а поскольку не было и надежды вернуть пропавших, в отместку приказал канонирам дать залп по городу.
Поставив на своем, португальцы ушли с рейда и вернулись к малому острову. Им пришлось ждать еще три дня, прежде чем ветер поднялся снова.
Пугающие легенды рассказывали на побережье, вдоль которого собирались идти португальцы. Например, по сообщению одного путешественника, было одно место, где «чернокожие ловят Pisce Mulier, иначе говоря – Женщину-Рыбу»:
«Сия рыбина похожа на женщину, ибо срамные места у нее женские, и свое потомство она носит под плавниками, которые у нее по бокам и служат руками, и часто выходит на сушу, где производит на свет означенное потомство. Чернокожие рыбаки здесь должны приносить клятву, что не будут возжаться с этими женщинами-рыбами. От зубов этих рыб происходит большая польза (как я испытал на себе) против геморроя, истечения тела [339] и лихорадок, если истолочь их в ступе, размешать с водой и выпить» [340].
Запрет запретом, добавлял он, но африканцы «крайне любят этих рыбин и освежают себя, с ними возжаясь», хотя они вовсе не обольстительные русалки, поскольку лица у этих женщин «уродливые, как морды у боровов». Чисто человеческие обитатели побережья были еще ужаснее. Сообщалось, что некой страной в недрах материка правит великий король, чьи подданные, «когда убивают своих врагов, то отрезают им срамные члены и, высушив их, дарят женам, чтобы те носили их у себя на шее, чем немало гордятся. Ибо те, у кого таких членов более всего, имеют наибольший почет, поскольку они служат доказательством, что мужья у них самые отважные и доблестные». Владение «ожерельем из мужских членов» [341], услужливо объяснял другой путешественник, равнозначно возведению в рыцарство в Европе: для воинов Восточной Африки это великая честь, «как у нас иметь Золотое Руно или Подвязку Англии».
Португальцы упорно не сдавались, и 29 марта легкий ветер наконец понес их на север. Против течения они продвигались очень медленно, и от постоянного опускания и подъема якорей на ладонях моряков оставались всевозможные волдыри и мозоли.
1 апреля флотилия подошла к большому архипелагу тропических островов, окаймленных яркими коралловыми рифами и с зарослями мангровых деревьев вдоль берега [342]. Между островами и материком сновали лодки, а на самом берегу стояла значительных размеров торговая фактория. Накануне ночью, когда португальцы были слишком далеко, чтобы рассмотреть местность, штурман-араб настаивал, будто это часть материка. К тому времени да Гама уверился, что все строят против него заговоры, и велел основательно высечь штурмана. В ознаменование этого события португальцы окрестили первый остров «Островом Выпоротого».
Да Гама решил продолжать путь, и три дня спустя впереди замаячил другой архипелаг. На сей раз его опознали оба мусульманина – и пассажир, и нанятый штурман. А еще они утверждали, что три лиги назад флотилия проплыла прямо мимо острова, населенного христианами.
Командор был уверен, что штурманы намеренно заставили его проскочить мимо дружественного острова. Весь день корабли маневрировали, чтобы к нему вернуться, но сильный ветер дул им навстречу. Впрочем, неудача обернулась своего рода благом, – или, как истолковали позднее, ниспосланным Господом чудом, – поскольку остров Килва был резиденцией самого могущественного правителя на побережье, а тот был далеко не христианином. Разочарованные штурманы вовсе не пытались увести португальцев прочь, а, напротив, старались заманить их в ловушку.
Когда стало ясно, что вернуться невозможно, штурманы прибегли к новой уловке. В четырех днях пути лежит крупный город Момбаса, сказали они, и там тоже живут влиятельные христиане. Час был уже поздний, но дул крепкий ветер, и флот двинулся на север. Когда спустилась ночь, дозорные разглядели впереди большой остров [343] – еще одно место, где, по утверждению нанятого штурмана, имелись как мусульманские, так и христианские города. Да Гама, однако, решил не причаливать, и при попутном ветре корабли шли хорошим ходом, пока «Сан-Рафаэл» не вошел вдруг в косяк рыбы и не напоролся на мель.
До рассвета оставалось два часа, и флотилия находилась в нескольких милях от суши. С «Сан-Рафаэла» во всю глотку кричали матросам других кораблей, которые шли следом и в темноте легко могли их протаранить. «Сан-Габриэл» и «Берриу» едва-едва успели остановиться и спустили на воду шлюпки.
К рассвету начался отлив, и выяснилось, что «Сан-Рафаэл» прочно застрял на высоком рифе. Вдалеке на побережье маячила величественная горная гряда, у подножия которой примостилась деревня. Завидев выгодную возможность, туземцы подошли на лодках к застрявшему кораблю и начали бойко торговать апельсинами, которые моряки сочли много лучшими тех, что растут на родине. Да Гама наградил туземцев обычными безделушками, и двое из них остались на борту.
К тому времени «Сан-Рафаэл» бросил все свои якоря. Матросы в шлюпках перетащили якоря так, чтобы они оказались впереди корабля, а после крикнули товарищам на борту выбирать канаты. Когда под вечер начался прилив, канаты натянулись, и корабль плавно сошел с рифа под крики облегчения и радости.
Наконец флот прибыл в Момбасу. Было воскресенье, 7 апреля. Впереди посреди защищенного залива лежал лесистый остров. На далеко выходящем в океан скалистом плато виднелся обнесенный стенами город. Маяки отмечали рифы перед ним, подводную отмель стерегла небольшая крепость почти у кромки воды. Сама гавань виднелась за северной оконечностью острова, и португальцы смогли разобрать, что там пришвартовано большое число кораблей – на всех были подняты флаги, точно по случаю праздника. Они явно приближались к большому и богатому порту и, не желая показаться нищими, сами подняли флаги. Видимость они сумели создать, но на самом деле флотилия была в плачевном состоянии. Учитывая, что многие умерли от дизентерии, а многих она еще мучила, на кораблях вот уже несколько недель не хватало рабочих рук. Уцелевших радовала лишь перспектива высадки на следующий день, чтобы отстоять воскресную мессу. Штурманы-арабы рассказали, что христиане этого города живут в отдельном квартале, которым управляют собственные судьи и аристократы; они-де примут новоприбывших с большими почестями, заверяли европейцев штурманы, и пригласят в свои прекрасные дома.
Заступила ночная вахта, и моряки устроились на ночлег в обычных своих уголках, нетерпеливо предвкушая наступление утра.
Около полуночи раздались крики вахтенных. Со стороны города приближалось плоскодонное судно – дхоу с приблизительно сотней человек, вооруженных щитами и саблями. Судно стало бок о бок с флагманским кораблем, и вооруженные люди попытались вскарабкаться на борт. Да Гама рявкнул приказы, и его солдаты выстроились вдоль борта, преграждая путь чужакам. Наконец он разрешил подняться на борт четверым вожакам, но только после того, как те сложили на дно лодки оружие.
Да Гама плавно превратился из солдата в дипломата. Он умолял гостей простить ему меры предосторожности и не обижаться: он здесь чужой, говорил он, предлагая им пищу, и не знает, как ведутся дела в их городе. Разулыбавшись в ответ, гости объяснили, что приплыли просто посмотреть на флот, поскольку тот являет собой столь поразительное зрелище; а носить при себе оружие, добавили они, их обычай как на войне, так и в мире. Султан с нетерпением ожидает прибытия чужестранцев, и если бы не поздний час, то приветствовал бы их лично.
Деликатные переговоры продолжались два часа. Когда четверо удалились, португальцы все еще были убеждены, что вооруженные люди приплыли посмотреть, нельзя ли захватить один из кораблей. В конце концов, здешние жители мусульмане, хотя они и подтвердили, что на острове действительно много христиан.
Наступило утро воскресенья, а с ним появился и подарок султана Момбасы: баран, а еще ящики с апельсинами, лимонами и сахарным тростником. Совершенно очевидно было, что европейцы стали в некотором роде знаменитостями на побережье, поскольку целый день к ним тянулся нескончаемый поток посетителей. В том числе явились два посла, которые преподнесли да Гаме от имени султана перстень в знак того, что гостям ничто не угрожает, и пообещали, что если они войдут в порт, то получат все необходимое. Послы были светлокожими и называли себя христианами; держались и говорили они убедительно, и португальцы им поверили. Да Гама отослал их назад с ниткой коралловых бус в дар султану (весьма скромный подарок на побережье, изобилующем коралловыми рифами) и сообщением, что он намеревается войти в гавань на следующий день. Одновременно он отправил двух дегредадо передать его приветствия султану лично и разведать обстановку.
Едва эти двое сошли на берег, как вокруг них собралась толпа, которая последовала за ними по узким улочкам города во дворец. Пройдя через анфиладу из четырех помещений, дверь в каждое из которых охранял привратник с саблей наголо, они попали в зал аудиенций. Султан принял чужеземцев гостеприимно и приказал своим слугам показать им город.
Небольшая процессия петляла по красивым улочкам, обрамленным трехэтажными зданиями. Через окна можно было разглядеть расписные оштукатуренные потолки. Женщины были закутаны в шелка и сверкали золотом и драгоценными камнями, а вереницы рабов тащились в кандалах.
Процессия остановилась перед домом двух купцов, которых представили как христиан. Те показали гостям лик, которому поклонялись, – дегредадо решили, что это изображение Святого Духа в облике белого голубя [344]. Провожатые объяснили, что в городе много других христиан и что когда корабли войдут в гавань, то португальцы познакомятся с ними всеми. Прогулка закончилась во дворце, где султан приготовил и передал гостям образчики гвоздики, перца и сорго. Эти товары, объяснил султан, продаются тут в больших количествах, и он даст гостям свое соизволение нагрузить ими корабли. Еще у него имелись склады, полные серебра, золота, янтаря, воска, слоновой кости и прочих богатств, и он пообещал сбить цену у конкурентов.
Послание и отчет о прогулке по городу да Гама воспринял с большим удовлетворением. Три капитана собрались на совет и решили войти в порт и взять на борт запас пряностей на случай неудачи в Индии.
Корабли подняли якоря, но «Сан-Габриэл» никак не желал поворачивать, и его отнесло на риф. Следующий корабль налетел прямо на него, и всем трем пришлось снова бросить якоря, чтобы выпутаться.
Риф обернулся еще одним примером божественного вмешательства. На кораблях еще находилось несколько африканцев и арабов, и теперь они решили, что христиане даже не собирались входить в гавань. Подав друг другу знаки, они бросились на нос и попрыгали оттуда в дхоу, которое было привязано к борту. Несколько секунд спустя за борт прыгнули и оба штурмана и поплыли к лодке.
Васко да Гама начал подозревать, что налицо тайный сговор. Той же ночью он взялся допрашивать двух пленников из Мозамбика, которым не удалось ускользнуть. Поскольку повсеместно считалось, что надежных ответов можно добиться только под пыткой, он приказал нагреть до кипения немного масла и капать им на кожу. Стеная от боли, несчастные выложили суть заговора. Вести о прибытии христиан и их нападениях на Мозамбик обогнали их корабли, и был составлен план захватить их, едва они войдут в порт.
Да Гама приказал вылить еще кипящего масла на уже дымящуюся кожу. Один из допрашиваемых вырвался от мучителей и бросился в море, невзирая на то, что у него были связаны руки. Второй совершил самоубийство следом за ним несколько часов спустя. Португальцы возблагодарили Бога, что он вновь уберег их от рук неверных.
Около полуночи в сторону флота выдвинулись две долбленые лодки и остановились за пределами видимости. Беззвучно прыгнув в воду, десятки человек поплыли к кораблям. Несколько вынырнули у борта «Берриу» и, достав ножи, перерезали якорные канаты. Их кожа и оружие поблескивали в свете луны, но ночная вахта приняла их за косяк тунца. Когда каравелла начала дрейфовать, матросы наконец разобрались, в чем дело, и подняли тревогу. Другие пловцы поднялись на борт «Сан-Рафаэла» и вскарабкались на бизань-мачту, намереваясь срубить снасти. Когда их заметили, они беззвучно скользнули в воду и уплыли.
«Эти и прочие уловки были предприняты против нас этими псами, – записал Хронист, – но Господь не позволил им преуспеть, потому что они были неверующими» [345].
Португальцы все еще были уверены, что половина населения острова христиане, но их беспокоило отсутствие даже признаков того, что кто-то попытался прийти им на выручку. Со временем они пришли к выводу, что между христианами и мусульманами идет война и что рабы, которых они видели на улицах, – это захваченные в плен христианские солдаты. Они убеждали себя, что христианские купцы живут тут лишь из милости и потому не способны предпринять что-либо без соизволения султана.
К тому времени экипажи всех трех судов уже оправились от цинги. Возможно, свою роль сыграло большое количество фруктов, но равно вероятно, что, как верили португальцы, это было очередное чудо. Командор еще два дня подождал появления христиан, которые могли бы предоставить замену бежавшему штурману. Потом 13 апреля он приказал поднять паруса, по-прежнему не представляя себе, как пересечь Индийский океан.
На рассвете следующего дня вахтенные заметили две лодки в открытом море, и корабли тут же бросились за ними в погоню. Васко да Гама решил, что если штурманов невозможно нанять, их придется захватить силой.
Одна лодка улизнула к материку, но незадолго до сумерек флотилия нагнала вторую. На борту у нее находились семнадцать мусульман, некоторое количество золота и серебра и большое количество маиса. Один пожилой мужчина имел вид человека значительного, и к нему льнула молоденькая жена. Когда корабли окружили лодку, матросы и пассажиры бросились за борт, но португальцы не замедлили спустить шлюпки и выудили их из воды.
К досаде да Гамы, среди захваченных штурмана не оказалось, и флотилии пришлось продолжить путь вдоль побережья.
В тридцати лигах к северу от Момбасы португальцы очутились в виду еще одного крупного города. На закате они бросили на ночь якоря, тщательно следя за побережьем из страха тайных демаршей.
На следующий день, 15 апреля, было пасхальное воскресенье, но вознесли лишь обычные утренние молитвы. Путешественники настороженно оглядывались по сторонам, выжидая, кто сделает первый шаг.
Впереди берег величественно изгибался между двумя каменистыми выступами, образуя широкий извилистый залив. При отливе волны набегали на коралловые рифы, далеко выступающие от песчаного берега, открывая поблескивающие озерца и низкие скалы, покрытые в углублениях одеялом желтых водорослей. Окруженный садами и фермами город раскинулся вдоль берега среди обширных пальмовых рощ. На фоне бледно-голубого неба белели ухоженные виллы с крышами из пальмовых листьев; в отличие от большинства арабских домов с их глухими стенами в этих зданиях было множество окон и террасы на крышах, выходящих на море. Сам пейзаж напомнил португальцам Алкочете, излюбленное место отдыха королей Португалии (и место появления на свет короля Мануэла I) в устье реки Тахо под Лиссабоном.
Захваченные с лодки моряки рассказали похитителям, что перед ними город Малинди, и добавили, что плыли как раз оттуда и что видели в порту четыре корабля, принадлежавших христианам из Индии. Если чужаки их отпустят, они найдут для них штурманов-христиан, а еще пресную воду, дрова и любые другие припасы, какие только им назовут.
Да Гама отчаянно нуждался в помощи и внял их совету. Подойдя к городу поближе, он бросил якорь в полулиге от порта. Жители держались на расстоянии: возможно, их уже предостерегли, что чужеземцы захватывают чужие корабли и берут в плен пассажиров и команду.
На следующее утро да Гама приказал своим матросам отвезти в шлюпке пожилого мусульманина на песчаную мель перед городом. Его оставили одного, и он тихо стоял, пока с берега не подошла плоскодонка и не подобрала его. Чужеземцы удерживали в заложницах его молоденькую жену, и он направился прямиком во дворец, где передал послание командора. Новоприбывшие, рассказал он, подданные великого и могущественного короля, которого султан будет только рад иметь союзником; они держат путь в Индию, и им не помешали бы штурманы. Ради разнообразия дипломатические ухищрения пали на благодатную почву: султан вел войну с соседней Момбасой и жаждал обзавестись новыми союзниками, особенно такими воинственными, с грозного вида кораблями.
После полудня старик вернулся с одним из телохранителей султана, шарифом и тремя баранами. Посланники передали горячие пожелания султана завязать с чужестранцами дружбу и его готовность дать им штурманов и все, что в его власти. Да Гама послал с ними в ответ камзол, две нитки коралловых бус, три чаши для омовения рук, шляпу, несколько маленьких бубенцов, два полосатых хлопчатых шарфа и на словах просил передать, что войдет в порт на следующий день.
Корабли придвинулись чуть ближе к берегу, а от султана прибыл шлюп с еще шестью баранами и грузом гвоздики, тмина, имбиря, мускатного ореха и перца. И вновь дорогостоящий аромат пряностей заставил сердца моряков забиться быстрее.
С дарами доставили и новое послание: если чужеземный вождь желает говорить с султаном, султан выйдет на своем дхоу и встретит его на середине пути. Да Гама согласился, и на следующий день после полудня королевское дхоу отчалило от берега. С собой султан вез оркестр трубачей, двое из которых дули в гигантские рога из украшенных замысловатой резьбой слоновьих бивней высотой в рост человека, – дули в эти рога через дырочку в середине [346]. Сочетание протяжного рева из бивней и нежных переливов дудочек и флейт создавало гармоничную, гипнотическую мелодию.
Султан был облачен в одеяние из алого дамаста, отороченное зеленым атласом, и пышный тюрбан. Он восседал в просторном бронзовом кресле со множеством шелковых подушек. От солнца его прикрывал алый атласный зонт, а рядом с ним стоял старый слуга, державший саблю в серебряных ножнах. Его люди были голыми по пояс, но ниже были закутаны в шелка или тончайший хлопок. На голове у них были повязки, вышитые золотом и серебром, и вооружены они были причудливыми кинжалами и саблями, украшенными шелковыми кистями всех цветов радуги. На европейцев большое впечатление произвели пышность и достоинство королевской процессии.
Облаченного в лучшие свои доспехи да Гаму сопровождали двенадцать старших офицеров. Его шлюпка была украшена флагами и вымпелами, и когда султан подошел ближе, португальцы на веслах двинулись навстречу. Лодки остановились бок о бок. Жестами и через переводчиков мужчины обменялись сердечными приветствиями, и да Гаме польстило, что ему оказывают королевские почести.
Султан пригласил командора посетить город и остановиться в его дворце, где он мог бы освежиться и отдохнуть от тягот долгого путешествия. После, предложил султан, он нанесет ответный визит на корабли. Невзирая на лестное предложение, да Гама отказался. Он пришел к твердому убеждению, что слишком опасно сходить на берег в хорошо вооруженных и укрепленных мусульманских городах, сколь бы дружелюбными ни казались их жители. Он ответил, что приказ короля воспрещает ему принять предложение, а если он ослушается, о его поведении донесут.
А что скажет о нем его собственный народ, возразил султан, если он сам посетит корабли без знака доброй воли со стороны чужеземцев? По меньшей мере он желает знать, как зовут их короля.
Португальский переводчик написал имя – Мануэл.
Если чужеземцы навестят его на обратном пути из Индии, объявил султан, он пошлет с ними письма или даже посла этому Мануэлу.
Поблагодарив за любезность, да Гама пообещал вернуться и, в свою очередь, задал множество вопросов, касавшихся своей собственной миссии. Султан долгое время распространялся про пряности, про Красное море и пообещал предоставить штурмана.
Встреча прошла настолько хорошо, что да Гама послал за своими пленниками и всех их передал султану. На это султан торжественно заявил, что не был бы более счастлив, даже если бы ему подарили целый город. В отличном настроении он совершил почетный тур вокруг кораблей, восхищаясь каждым по очереди и, без сомнения, прикидывая, какой урон они способны нанести его соседям. Командор, следовавший за ним в собственной шлюпке, приказал дать салют из бомбард. Испуганные мусульмане схватились за весла, и да Гама поспешно подал знак канонирам прекратить стрельбу. Оправившись, султан объявил, что никто и никогда не доставлял ему большей услады и что он был бы весьма рад, если бы чужеземцы помогли ему в его войнах. Да Гама же намекнул, что пока султан видел лишь самую малость: если Господь позволит им открыть Индию и вернуться домой, его король, несомненно, пошлет целый флот боевых кораблей в помощь новому союзнику.
После трехчасового визита султан направился домой, оставив в качестве гарантов на борту флагмана своего сына и шарифа. Ему по-прежнему хотелось похвалиться своим дворцом, и он прихватил с собой двух матросов. Поскольку командор не желал сходить на берег, султан пообещал на следующий день встретить его у кромки воды.
На следующее утро, взяв две вооруженные шлюпки, Васко да Гама и Николау Коэльо прошли на веслах перед городом. Толпы собрались на берегу, где двое всадников разыграли дуэльный поединок. Вдалеке виднелись красивые улицы и плещущие фонтаны. Путешественники узнали, что только арабы – числом, вероятно, тысячи четыре – живут внутри городских стен, а африканцы, многие из них рабы, работающие на плантациях, живут за стенами в глинобитных хижинах. После столетий межплеменных браков внешних различий между двумя группами наблюдалось немного, но невзирая на этническую принадлежность, мусульманская элита всегда называла себя арабами, а на неисламское население навешивала ярлык «каффиры» – арабское обозначение неверных, – и такая ситуация сохранялась по всему побережью.
Выйдя из своего дворца, султан сел в паланкин – крытые носилки, установленные на шестах, – и велел отнести себя вниз по каменной лестнице к воде. У лестницы покачивалась шлюпка Васко да Гамы, но вести беседу было трудно, и вновь султан умолял командора сойти на берег и добавил, что просит в порядке личного одолжения: его престарелый и недужный отец очень хочет увидеть человека, который проделал такой путь и преодолел столько опасностей во имя своего короля. Если понадобится, и он, и его сын отправятся заложниками на корабль. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы усыпить бдительность Васко да Гамы, и командор непреклонно остался у себя в шлюпке, откуда смотрел на устроенные султаном увеселения.
Изо всех управляемых арабами городов Индийского океана португальцы наткнулись на тот, который, вероятнее всего, предложил бы им помощь. Сведения о четырех кораблях из Индии тоже оказались верны, и вскоре к «Сан-Рафаэлу» подошла на веслах группа моряков с индийского корабля и попросила разрешения подняться на борт. Да Гама как раз приехал на «Сан-Рафаэл» переговорить с братом и теперь велел матросам показать индусам часть алтаря, которая изображала «Богоматерь у подножия креста с Иисусом Христом на руках в окружении апостолов» [347]. Поскольку это были первые индусы, которых они увидели, матросы рассматривали их с нескрываемым любопытством и решили, что они ничуть не похожи на известных им христиан. Одеты они были в белые хлопчатые робы, носили окладистые бороды, а длинные волосы заплетали в косы и прикрывали тюрбанами; ко всему прочему, они объяснили, что они вегетарианцы, что показалось подозрительным людям, изголодавшимся по свежему мясу. Но едва увидев алтарь, индусы простерлись ниц посреди палубы и все время стоянки флота в гавани каждый день приплывали помолиться перед алтарем, привозя с собой в дар небольшое количество гвоздики и перца.
Несомненно, это явилось последним подтверждением того, что Индия кишит христианами. Еще более тронуты были португальцы, когда с индусских кораблей был дан залп в честь проплывавшего мимо командора.
– Христос! Христос! – радостно кричали индусы, воздевая над головой руки. Так, во всяком случае, их речитатив звучал на слух европейцев.
Тем же вечером индусы обратились к султану за разрешением устроить праздник в честь чужеземцев. С наступлением темноты небо осветилось вспышками петард. Индусы давали залп за залпом из своих малых бомбард и во всю глотку распевали странные гимны.
Спустя неделю праздников и пиров, потешных поединков и музыкальных интерлюдий да Гама начал терять терпение.
22 апреля дхоу привезла одного из советников султана, первого посетителя за два дня. Да Гама велел схватить его и послал во дворец гонца с требованием предоставить обещанного штурмана. Султан рассчитывал развлекать португальцев, пока они не смогут участвовать в его войне, но тут же прислал требуемого человека, и да Гама отпустил заложника.
К великой радости европейцев, штурман как будто оказался еще одним христианином из Индии [348]. Развернув подробную карту Индийского океана, он показал на ней португальским офицерам вехи и объяснил океанские ветра и течения. Он был явно опытным навигатором и в равной мере обладал познаниями в науке хождения под парусом. Навигационные инструменты португальцев не произвели на него ни малейшего впечатления: штурманы Красного моря, заметил он, давно пользуются сходными приспособлениями, чтобы определять высоту солнца и звезд, хотя он и его соотечественники-индусы предпочитают другой прибор [349]. Этот прибор он показал офицерам, и штурманы да Гамы решили, что позволят ему руководить ими.
Во вторник 24 апреля зазвучали трубы, поднялись паруса, и португальская флотилия с большой помпой покинула Малинди. Согласно одному повествованию, узнав, что его новые друзья уплывают, султан был безутешен и заверил их, что имя португальцев «никогда не покинет его сердце, где он будет хранить его до самой смерти» [350].
Погода стояла ясная, и корабли быстро продвигались вперед. Прямо на север, по словам штурмана, лежал огромный залив, заканчивающийся проливом: Аденский залив и Баб-эль-Мандебский пролив, врата в Красное море и дорога к Каабе в Мекке. Неподалеку оттуда, добавил он, расположено много больших городов, как христианских, так и мусульманских, и шесть сотен островов, считая только известные. Европейцам еще многое предстояло узнать.
Два дня спустя побережье Африки скрылось из виду. Три ночи спустя на горизонте вновь появилась Полярная звезда. Путешественники опять пересекли экватор, но на сей раз шли по океану, куда прежде не заплывал ни один европейский корабль. Они держали курс на северо-восток, в Индию.
Позади они оставили больше врагов, чем друзей. Их представления об Африке были в лучшем случае путаными, и они все еще с трудом представляли себе страну, в которую направлялись.
Глава 10
На крыльях муссона
Более двух тысячелетий навигация в Индийском океане зиждилась на том простом факте, что суша нагревается и остывает быстрее воды.
Каждый сентябрь, когда из-за наклона земной оси Северное полушарие уходит дальше от солнца, огромное Тибетское плато быстро теряет тепло. В свою очередь, воздушные массы над материком охлаждаются и опускаются вниз, создавая огромную область высокого давления. Индийский океан хранит тепло много дольше, а поскольку теплый воздух поднимается и оставляет по себе пустоту, туда устремляется холодный воздух, стекая вниз над равнинами Северной Индии. Под конец года парусные корабли, покидающие Индию, уносит на северо-запад к Аравии и Африке регулярный и надежный северо-восточный ветер.
С приближением лета, когда солнце поднимается в небе, пустыни, равнины и плато Северной и Центральной Индии быстро достигают обжигающих температур [351]. Жар создает область низкого давления, которая затягивает в себя холодный, богатый влагой океанский воздух. Юго-западные ветра поднимаются к маю и проносятся по субконтиненту в июне, утягивая за собой скопления грозовых облаков, низко нависающих над землей. Когда воздушная масса с ревом наталкивается на стену Западных Гат на юге Индии, а затем на величественные Гималаи на северо-востоке, облака вынуждены подниматься, влага конденсируется, и проливные дожди превращают иссохший песок и почву в поля плодородной жижи. Через три месяца ветра меняют свое направление, и цикл повторяется сначала.
Зимний муссон (это слово происходит от арабского mawsim, что означает «время года») диктовал торговый календарь большей части мира – от рынков Александрии до ежегодных ярмарок на севере Европы. Но чтобы вообще попасть в Индию, требовались более точные расчеты. Египетский или арабский купец, желающий привезти свои товары на рынок за возможно более короткий срок, должен был отплыть на последней стадии северо-западного муссона и вернуться три или четыре месяца спустя. Однако такой муссон позднего лета мог обернуться смертельно опасным союзником. В сороковых годах XV века персидского посла Абд ар-Раззака, который задержался в Ормузе до второй половины муссона, парализовала сама мысль о бурях, рвущих на части арабские корабли и превращающих их в легкую добычу для пиратов:
«Едва до меня донесся запах судна и мне представились все ужасы моря, я упал в глубокий обморок, и на протяжении трех дней одно только дыхание указывало, что во мне еще теплится жизнь. Когда я немного пришел в себя, купцы, бывшие близкими моими друзьями, в один голос вскричали, что время навигации миновало и что каждый, кто выходит в море в такое время года, лишь сам виновен в собственной погибели, поскольку добровольно подвергает себя опасности… Перед лицом жестокой непогоды и неблагоприятных знамений судьбы сердце мое было раздавлено как стекло, а душа устала от жизни» [352].
Вместо того чтобы своевременно падать в обморок, можно было отплыть несколько раньше, пусть даже это означало, что придется пережидать летние муссонные ливни, из-за которых закрывались порты Юго-Западной Индии. По чистому везению – или, как будут утверждать португальцы позднее, с Божьей помощью – Васко да Гама покинул Африку в самый благоприятный момент.
На протяжении 23 дней команды не видели ничего, кроме лазурно-голубой воды, довольно быстро проносящейся мимо кораблей, а 18 мая дозорные завидели сушу.
С полуюта флагмана Васко да Гама взирал на Индию.
Штурман повел корабли прямо к горе Эли [353], массивному холму, на который штурманы Индийского океана традиционно ориентировались как на путевую веху. Десятилетием ранее Перу да Ковильян прибыл точно в это самое место, и, подобно предприимчивому лазутчику, да Гама направлялся в торговую империю пряностей – Каликут.
Вечером флотилия снова вышла в море, взяв курс на юго-юго-запад, чтобы обойти побережье. На следующий день корабли повернули назад к суше, но сильная буря помешала им определить, где они находятся. День спустя из густого тумана проступила величественная горная гряда, и штурман объявил, что португальцы всего в пяти лигах от цели своего похода.
Да Гама тут же выплатил ему обещанное вознаграждение и созвал экипажи для молитвы, «вознося прочувствованные благодарности Господу, благополучно приведшему их в давно желанное место» [354]. Молитвы вскоре уступили место празднованию. Если и было время распечатать бочки лучшего вина, сейчас оно настало.
Тем вечером перед самым закатом флотилия бросила якорь в полутора милях от берега, держась подальше от коварных с виду скал. Матросы сгрудились у борта и забрались на реи, чтобы рассмотреть получше. Перед ними сиял в лучах заходящего солнца полумесяц тонкого золотого песка длиной в полмили, к которому подступали кокосовые пальмы. С обеих концов залив защищало по скалистому мысу, а на утесе к северу высился старый храм. Это был райский уголок, и после почти года в море путешественникам он показался в точности Землей обетованной, как ее рисовали донесения путешественников [355].
Вскоре подошли четыре лодки, и матросы, смуглые как орех, и голые, если не считать небольших набедренных повязок, окликнули путешественников и спросили, откуда они приплыли. Среди туземцев нашлись рыбаки, которые вскарабкались на борт, чтобы предложить свой улов. Да Гама приказал своим людям покупать все, что им предложат, по цене, которую запросят, и рыбаки с сомнением кусали серебряные монеты, проверяя, настоящие ли они. Наградой командору стала информация о том, что его флотилия бросила якорь вблизи города под названием Каппад, который штурман перепутал с самим Каликутом.
На следующий день индусы вернулись, и да Гама послал с ними в Каликут дегредадо, говорившего по-арабски.
Пока бывшего преступника знакомили с двумя изумленными купцами из Туниса (без сомнения, на том основании, что они тоже проделали далекий путь с запада), флотилия переместилась к самому городу. Да Гама осмотрел окрестности. Широкую дугу залива окаймляли высокие кокосовые пальмы, клонившиеся как тростник под муссонными ветрами. За ними у подножия высоких холмов на мили раскинулся среди пышных пальмовых рощ сам Каликут.
Эмиссар вскоре вернулся и привел с собой одного из купцов. Путешественники быстро начали называть этого купца Монсаидом – так португальцы исказили его арабское имя.
Монсаид все еще не мог оправиться от шока, который испытал от появления европейцев в Индии – и к тому же тех, кого меньше всего тут можно было ожидать.
– Почему, – спрашивали он и его товарищ у нежданного гостя, – не послали своих людей король Кастилии, король Франции или Венецианская Синьория [356]?
– Король Португалии, – отвечал с сознанием долга тот, – им не позволил бы.
– Он поступает верно, – с удивлением ответили купцы.
Купцы отвели осужденного преступника в свой дом, чтобы перекусить хлебом с медом, а после Монсаид отправился посмотреть на корабли собственными глазами.
– Счастливое предприятие! – воскликнул он по-испански, едва поднявшись на борт. – Вам сопутствовала удача! Множество рубинов, множество изумрудов! Вы должны возблагодарить Господа, что он привел вас в страну таких богатств!
Вся команда уставилась на него, разинув рот.
«Мы были весьма изумлены, услышав такие речи, – записал Хронист, – ибо не ожидали услышать родной язык так далеко от Португалии». Несколько матросов разрыдались от радости. «Все они тогда соединились в смиренной и искренней благодарности Всемогущему, через чью милость и помощь им были дарованы такое великое счастие и такая удача» [357].
Да Гама обнял тунисца и усадил его рядом с собой. И не без надежды спросил, не христианин ли он.
Ответ разом стер глянец с положения вещей. Монсаид откровенно ответил, что он родом с побережья Берберии и приплыл в Каликут через Каир и Красное море. Он объяснил, что на родине встречал португальских купцов и матросов и они ему всегда нравились. Он сделает все, что в его силах, чтобы помочь.
Командор, слишком воодушевленный, чтобы позволить обескуражить себя новостям, поблагодарил его и пообещал щедро вознаградить. И добавил, что счастлив с ним познакомиться: должно быть, Господь послал его в преддверии великой миссии.
Разговор перешел на Каликут и его правителя – самутири, которого португальцы скоро стали называть заморином. Тунисский купец назвал его человеком большой доброты и чести, который с радостью примет посла чужеземного короля, особенно если у этого посла имеются ценные товары на продажу. Еще тунисец добавил, что заморин очень богат и что все его доходы происходят от пошлин, которыми он облагает торговлю.
Монсаид не преувеличивал. Каликут был самым оживленным деловым портом Индии и более двух веков являлся краеугольным камнем мировой торговли пряностями. Огромный рынок тянулся от побережья на целую милю, его лавки были открыты до поздней ночи и, как вскоре обнаружили португальцы, полнились «всеми пряностями, пилюлями, мускатами и прочими вещами, каких можно желать, всевозможными драгоценными камнями, крупными и мелкими жемчугами, мускусом, сандалами, прекрасными фарфоровыми блюдами, лакированными шкатулками, золочеными ларцами и всеми сокровищами Катая [358], золотом, амброй, воском, слоновой костью, тонкими и грубыми хлопчатыми тканями, как белеными, так и окрашенными в разные цвета, многими кручеными шелками и шелком-сырцом, тканями из золота и шелка, золотой парчой, кисеями, зерном, шелковыми коврами, медью, ртутью, красителями, кораллом, розовой водой и всевозможными сушеными и вялеными лакомствами» [359]. Перец, имбирь и корицу выращивали на плантациях в глубине материка и привозили на рынок в огромных количествах; другие пряности и экзотические товары купеческие караваны привозили с юго-востока. По улицам между переполненными складами тяжело шагали вереницы носильщиков, сгибаясь под тяжестью взваленных на спины мешков и то и дело останавливаясь, чтобы подвесить свою ношу на длинные с крюком на концах посохи.
В это время года гавань практически пустовала, но вскоре она заполнится флотилиями из Аденского залива, из Ормуза и Джедды, которые повезут индийские товары в Аравию и Иран, в Египет и в Европу. И китайцы тоже регулярно сюда наведывались, пока Срединное царство не замкнулось в величественной изоляции. Купцов манил не сам порт Каликута (португальцы уже обнаружили, что на каменистом дне его залива не за что зацепиться якорям, что он плохо защищен от муссонных ветров, а ближе к суше слишком мелок и войти туда могут только самые малые суда), а его тщательно культивируемая репутация честности. Иранский посол Абд ар-Раззак, когда наконец добрался в Индию, сообщал, что купцы из дальних стран настолько уверены в безопасности и справедливости Каликута, что отправляют свои ценные грузы, не трудясь даже заранее составить опись: «Чиновники таможни, – объяснял он, – берут на себя обязательства по надзору за товарами, которые стерегут день и ночь. Когда заключается сделка, они взимают с нее налог в размере одной четырнадцатой доли; непроданные товары вообще никакой пошлиной не облагаются» [360].
Местные рассказывали легенду об одном богатом арабском купце, чей корабль, груженный золотом из Мекки, дал течь в виду Каликута. Купец кое-как добрался в гавань, соорудил в подвале у заморина особый тайник и сложил туда свои сокровища. Вернувшись много позднее в Каликут, он вскрыл тайник и обнаружил все свое добро в целости. Тогда он предложил половину правителю, но тот отказался от награды. С тех пор купец бросил торговать где-либо еще, и так родился здешний базар. Согласно другой легенде, один арабский купец решил испытать правителя Каликута, доверив ему на хранение бочонок и сказав, мол, в нем всего лишь маринад. Любой другой правитель, которого он испытывал сходным образом, неизменно открывал бочонок и присваивал себе найденное там золото, но заморин разгадал его уловку. «Ты перепутал одно с другим, – указал он. – Там не маринады, а золото» [361]. И этот купец тоже будто бы обосновался в Каликуте.
Да Гама послал ко столь добродетельному заморину Фернана Мартинса и еще одного гонца. Проводником к ним вызвался услужливый Монсаид. Тем временем португальцы воспользовались представившимся случаем побольше разузнать о местных жителях.
Их первое открытие вроде бы подтверждало все, о чем они мечтали десятилетиями.
«Город Каликут населен христианами» [362], – записал Хронист.
Верно, это были неортодоксальные христиане. «Кожа у них смуглая, – заметил он. – Одни носят длинные волосы и бороды, а другие стригутся очень коротко либо головы бреют, оставляя на макушке лишь прядь в знак того, что они христиане. Еще они отпускают усы. Они прокалывают себе уши и носят в них много золота. Они ходят нагие по пояс, прикрывая нижние свои конечности очень тонкими хлопчатыми тканями. Но так поступают лишь самые уважаемые люди, ибо остальные перебиваются как могут».
«Женщины этой страны, – неучтиво добавлял он, – как правило, уродливы и малого роста. Они носят много золотых украшений на шее, многочисленные браслеты на руках и кольца с драгоценными камнями на пальцах ног. Все эти люди дружелюбны и явно наделены мягким характером. На первый взгляд они кажутся жадными и невежественными».
Но к досаде новоприбывших, в Каликуте оказалось много мусульман. Они были облачены в прекрасные длинные одеяния и расшитые золотом шелковые тюрбаны, носили при себе кинжалы с серебряными рукоятями и в серебряных же ножнах и возносили молитвы в элегантных, похожих на пагоды мечетях [363]. Один путешественник отмечал, что в отличие от большинства индусов, которые «по обыкновению, весьма волосаты и с грубой кожей на груди и по всему телу» [364], мусульмане Каликута «весьма гладки волосами и кожей, каковую обыкновенно умащают маслами, чтобы она блестела». А кроме того, добавлял он, «они очень надменны и горды».
Мартинс и его спутник вскоре обнаружили, что заморин обитает во дворце, расположенном на некотором расстоянии от побережья. Троица направилась через огромный лес вечнозеленых лиственных деревьев, удивляясь незнакомым птицам и плодам и настороженно поглядывая, не бросятся ли на них тигры, леопарды или питоны. Достигнув королевской резиденции, они, согласно распоряжению да Гамы, объявили, что прибыл посол с письмами от великого короля Португалии. Если заморин пожелает, добавили они, посол явится к нему лично.
Заморин, как водится среди королей, не выразил особого удивления: разумеется, он понятия не имел, что за страна Португалия или где она находится. В ответ на его вопросы Мартинс объяснил, что они христиане из далекого далека, которые преодолели множество опасностей, чтобы достичь его владений. Ответ как будто удовлетворил заморина, и троица вернулась в Каликут с тюками тонкого хлопка и шелка и с сообщением для посла. Заморин просил передать, что послу тут крайне рады и что ему незачем утруждать себя дальней дорогой, поскольку заморин со свитой уже собирается выехать в Каликут.
Да Гама был поражен дружеским тоном послания и еще более доволен, когда объявился лоцман с приказом от заморина провести флотилию к месту более безопасной стоянки. Гавань Панталайини, учтиво объяснил штурман, лежит в четырех милях к северу от Каликута, и обычно крупные суда пристают именно там: акватория там глубже, а илистая отмель дает некоторое укрытие от приливов и муссонных волн.
Португальцев уже тревожило ухудшение погоды. К вечеру океан сделался устрашающе серо-зеленым, сгущались штормовые тучи. Внезапно задул сильный ветер, на землю западали капли дождя, и без предупреждения людей на берегу стало стегать порывами ветра. Корабли едва удерживались на месте, и командор приказал немедленно поднять паруса – хотя все еще осторожничал, невзирая на любезность заморина. «Мы не бросили якорь так близко к берегу, как того желал лоцман» [365], – записал Хронист.
Стоило флоту прийти на новое место стоянки, как прибыл гонец, доложивший, что заморин уже вернулся к себе во дворец. Тут же объявилась группа сановников, чтобы проводить туда гостей. Возглавлял ее вали (иначе говоря – губернатор) Каликута, исполнявший также обязанности главы полиции и явившийся в сопровождении двухсот стражников. Высокие, стройные солдаты приковывали взгляды европейцев. Они были босыми и нагими выше пояса, а на поясе носили дхоти, отрез белой ткани, которая, пропущенная между ногами, завязывалась сзади. Длинные волосы они носили стянутыми узлом на затылке и никогда не показывались на людях без своего оружия: меча и щита, лука и стрел или пики.
Невзирая на сановников и их большую свиту, да Гама решил, что час уже слишком поздний. Была у него и другая причина оттягивать. Тем вечером он созвал на совет старших офицеров, чтобы обсудить, следует ли ему нарушить собственное правило и сойти на берег лично.
Его осторожный старший брат резко возражал. Пусть даже туземцы христиане, спорил Паулу, среди них много мусульман, заклятых врагов да Гамы. Они прибегнут к любому средству, лишь бы его погубить, и сколь бы дружелюбным ни казался заморин, он все же не умеет вызывать к жизни мертвецов. Кроме того, мусульмане здесь живут, а он, Васко, совершенно чужой. Возможно даже, заморин сговорился с ними захватить и убить португальца, а тогда сама их миссия провалится, их труды окажутся напрасными, и всех их ждет верная погибель.
Офицеры приняли сторону Паулу, но да Гама уже принял решение. Его обязанность заключить договор с заморином и заручиться пряностями, которые станут доказательством того, что они открыли истинную Индию. Заморин может оскорбиться, если он пошлет кого-то вместо себя. Он, да Гама, никому не может объяснить, что говорить или делать в той или иной ситуации, какая может возникнуть. Он направляется в христианский город и не намерен там долго задерживаться. Он поклялся, что лучше умрет, чем не исполнит свой долг – или увидит, как кто-то другой стяжает славу.
На стороне Васко да Гамы была история, больше его брат не возражал.
На следующий день, 28 мая, да Гама застегнул золоченую перевязь и повесил на нее меч. Он закрепил золотые шпоры, надел жесткую квадратную шляпу, похожую на бирретас, какие носили священники, – так облачившись в церемониальное платье, он вышел из своей каюты, готовый представлять своего короля. Корабли он оставил на попечении Паулу; Николау Коэльо должен был каждый день ожидать возвращения посольства в тяжеловооруженной шлюпке настолько близко к берегу, насколько сочтет безопасным.
Да Гама выбрал в свою свиту 13 человек. Среди них были Диегу Диаш и Жуан да Са, клерки с «Сан-Габриэла» и «Сан-Рафаэла», и переводчик Фернан Мартинс. Включили также и Хрониста. Все были одеты в лучшее свое платье, шлюпки шли под яркими флагами, а трубы играли туш, пока матросы гребли к берегу.
Приветствовать командора вышел вали. Собралась толпа зевак, которые напирали, чтобы хоть мельком увидеть чужеземцев. «Прием был дружественным, – отметил Хронист, – словно люди были рады нас видеть, хотя на первый взгляд казались устрашающими, поскольку держали в руках обнаженные мечи» [366].
Чиновники подготовили для да Гамы паланкин, где он устроился на мягком сиденье. Шестеро дюжих индусов подхватили на плечи бамбуковые шесты, вали сел в собственный паланкин, и процессия двинулась по утоптанной, немощеной дороге в Каликут. Когда она достигла небольшого городка Каппад, возле которого поначалу бросили якорь португальские корабли, носильщики поставили паланкины перед красивым домом, где гостей ожидал местный сановник, знаками предложивший им войти и подкрепиться. Да Гама упорно отказывался от предлагаемых деликатесов, но его менее щепетильная свита с жаром принялась уплетать угощение, состоявшее из обильно сдобренной маслом вареной рыбы и экзотических фруктов. Несомненно, португальцы удивились коровьему навозу, размазанному по полу – отчасти для того, чтобы заградить дорогу муравьям, тропы которых тянулись повсюду. «Они ничего не могут уберечь от этих малых тварей; чтобы остановить их, шкафы здесь устанавливают на высоких ножках, а эти ножки ставят в чашки с водой, где муравьи, желая вскарабкаться к шкафу, тонут» [367], – писал один европейский путешественник.
После завтрака процессия продолжила путь. На некотором расстоянии от города она вышла к широкой реке, которая текла параллельно побережью и лишь потом сворачивала к океану. Индусы помогли гостям пересесть в две связанные между собой долбленые лодки, потом сами расселись в десяток других лодчонок. И опять любопытные туземцы рассматривали чужестранцев с поросших густым лесом берегов. Когда лодки вышли на середину реки, португальцы мельком увидели лабиринт серебристых заводей, тянувшихся в глубь материка, и крупные корабли, вытащенные на их берега.
Процессия сошла с лодок приблизительно в миле вверх по реке, и да Гама вернулся в свой паланкин. Местность кругом была разделена на большие сады, обнесенные стенами, за которыми едва-едва виднелись позади высоких деревьев большие дома. На дорогу выходили женщины с младенцами на руках, чтобы присоединиться ко все разрастающейся процессии.
Через несколько часов пути гости наконец очутились на окраине самого Каликута. К их глубокому удовлетворению, первым зданием, какое им встретилось, оказалась церковь.
Но выглядела эта церковь определенно странно.
Храмовый комплекс был старым и огромным, размером с европейский монастырь. Он был возведен из блоков красновато-коричневого латерита, покрыт черепичной крышей, и к нему вело крыльцо с треугольной крышей-пагодой. Перед входом стояла тонкая бронзовая колонна высотой с мачту корабля, увенчанная фигурой птицы, по всей видимости, петухом, рядом имелась вторая колонна – более массивная и высотой в человеческий рост. При входе по стенам висело семь небольших колоколов.
Да Гама и его люди вошли внутрь. Коридор привел их в большой зал, освещенный сотнями ламп, где пахло какими-то курениями. В середине располагалась маленькая сложенная из камня молельня, к бронзовой двери которой вели каменные ступени.
Чужеземцев встретила процессия священников, голых по пояс, если не считать трех нитей на груди на манер епитрахили дьякона. Четверо вошли в святая святых и указали на скрытую в темной нише статую.
– Мария! Мария! – как послышалось христианам, распевали они.
Индусы простерлись ниц на полу, чужеземцы тоже преклонили колени в поклонении Деве Марии.
Священники окропили гостей святой водой и поднесли им белое землистое вещество, которое, как записал Хронист, «христиане сей земли, по обыкновению, наносят на лоб, грудь, вокруг шеи и на предплечья» [368]. Да Гама дал себя окропить, но свою долю странного вещества передал одному из своих людей, – как впоследствии выяснилось, в его состав входил жертвенный пепел, – и знаками дал понять, что умастит себя им позднее.
Вознеся молитвы, путешественники огляделись по сторонам. Стены были увешаны разноцветными изображениями фигур, которых португальцы приняли за святых. Ведь хотя те могли похвалиться «зубами, на дюйм выступающими изо рта, и пятью или шестью руками» [369] и были безобразны как черти, это могла быть только какая-то экзотическая разновидность святых.
По окончании церемонии португальцы вышли, щурясь на яркий свет. Возле храма имелся громадный выложенный кирпичом пруд, до краев полный воды, в котором плавали цветы лотоса, – путешественники видели много таких водоемов вдоль дороги. Приостановившись погадать о его назначении, они затем последовали за своими хозяевами через большие ворота в сердце самого города.
Процессия остановилась, чтобы осмотреть еще одну древнюю церковь [370], рядом с которой располагался еще один прямоугольный пруд. К тому времени, когда Васко да Гама и его свита из нее вышли, узкие улочки, докуда хватало глаз, запрудили любопытные толпы, и чужеземцев поспешно провели в некий дом – ожидать, когда на помощь им придет брат губернатора. Наконец тот явился в сопровождении солдат, паливших из мушкетов, и полкового оркестра из барабанов, труб и волынок. Теперь свита путешественников, писал Хронист, составляла две тысячи солдат; согласно одному описанию, следом за процессией увязалось еще пять тысяч любопытных [371]. Индия оборачивалась неожиданно безумным и хаотичным местом.
Процессия снова двинулась ко дворцу, по дороге к ней присоединялись все новые любопытные, еще больше зрителей облепили крыши домов и высовывались из окон. Когда она наконец подошла ко дворцу заморина, море голов простиралось так далеко, что число зевак невозможно было определить. Но невзирая на толчею, португальцы были поражены почтением, с каким относились к командору – «более, чем выказывают в Испании королю» [372], записал Хронист.
До заката оставалось с час. На площади перед входом в широко раскинувшийся дворцовый корпус слуги раздавали кокосы и наливали питьевую воду из золоченых кувшинов, расставленных на столах под тенистыми деревьями. Навстречу гостям вышла еще одна приветственная процессия, члены которой присоединились к сановникам, окружившим командора. Шествие неспешно двинулось через огромные ворота, которые охраняли десять привратников с окованными серебром дубинками.
«Поверят ли в Португалии, с каким почетом нас тут принимают?» [373] – сказал своим людям да Гама; так толика удивления прорвалась через его обычную невозмутимость.
За воротами перед португальцами раскинулся обширный затененный внутренний двор [374], где среди цветочных клумб, садиков, прудиков с рыбами и фонтанов располагались конторы чиновников и жилые помещения. Пройдя последовательно через четверо ворот, путешественники попали во двор аудиенций, и там столпотворение было так велико, что церемонии и любезности остались позабыты. Португальцам пришлось проталкиваться вперед, «раздавая людям многие толчки» [375], а вокруг них орудовали палками носильщики.
Из последних дверей вышел сморщенный человечек, оказавшийся главным жрецом заморина. Обняв командора, он провел его к самому правителю. Двор мог вместить две-три тысячи человек, но столь многие жаждали попасть внутрь, что португальцам пришлось проталкиваться и протискиваться еще сильнее, а индийские стражники размахивали кинжалами и даже ранили нескольких человек. Когда голова процессии оказалась внутри, носильщики навалились на ворота, заложили их стальной перекладиной и поставили стражу.
В свете подступающих сумерек Васко да Гама наконец оказался лицом к лицу с человеком, ради встречи с которым преодолел почти четыре тысячи миль.
Самутири Тирумулпад, царь Холмов и Волн [376], восседал подобно римскому императору на горе ослепительно белых хлопчатых подушек. Подушки были сложены поверх тонкого хлопчатого покрывала, расстеленного поверх мягкого матраса, а сам матрас лежал на диване, обитом зеленым бархатом. Пол был устлан тем же зеленым бархатом, стены украшали ценные занавеси всех цветов радуги, а над диваном возвышался балдахин «очень белый, тонкий и пышный» [377]. Заморин был облачен в длинное хлопчатое шервани, похожее на кафтан одеяние, распахнутое спереди, грудь у него была непокрытая, а на поясе завязано похожее на саронг лунгхи. Создавалось впечатление дорогостоящей простоты, подчеркнутой тяжелыми драгоценностями у него в ушах и на поясе, а также браслетами и перстнями [378]. Справа от него располагалась золотая тренога с золотой чашей размером с котел, заполненная излюбленными лакомствами правителя: это лакомство, называемое паан, изготовлялось из рубленых орехов арека, которые смешивали с пряностями, натровой (углекислой) известью из устричных раковин и завертывали в горьковатые листья бетеля [379]. Специально приставленный к паану слуга готовил стимулирующую смесь, и заморин жевал ее не переставая. Слева от него располагалась огромная золотая плевательница, куда он сплевывал прожеванное, а рядом стоял еще один слуга, готовый усладить его нёбо разнообразным питьем из батареи серебряных кувшинов. Возможно, гости задумались, не тут ли оканчивали свой путь золотые запасы Европы, чтобы скапливаться в сокровищнице или служить материалом для замысловатых украшений.
Да Гама приблизился к заморину. Склонив голову, он высоко поднял руки и соединил ладони, а потом сжал в воздухе над головой кулаки. Он успел попрактиковаться в местном этикете и еще дважды повторил приветствие, как у него на глазах это делали индусы.
Остальные португальцы последовали его примеру.
Заморин поманил командора подойти поближе. Однако да Гаме сказали, что приближаться к королевской особе дозволено лишь готовящему паан слуге. Не желая нанести оскорбление, он не двинулся с места.
Тогда заморин окинул взглядом остальных португальцев и велел рассадить их так, чтобы он мог видеть всех. Тринадцать португальцев уселись на каменную скамью, тянувшуюся вокруг всего двора. Слуги принесли им воду для омовения рук и почистили маленькие бананы и огромные плоды хлебного дерева. Никогда не видевшие ничего подобного европейцы уставились на них с детской растерянностью. Заморин наблюдал за ними с ленивым весельем и сделал несколько остроумных замечаний слуге при паане, открыв десны, окрашенные в темно-оранжевый цвет от жевания смеси. В порядке следующего испытания гостям поднесли золотые кувшинчики и знаками дали понять, что следует пить, не касаясь сосуда губами. Одни португальцы вылили содержимое прямо себе в глотки и закашлялись, а другие опрокинули его себе на лица и одежду. Заморин снова сдавленно засмеялся.
Васко да Гаму посадили прямо перед королевским диваном, и, повернувшись к нему спиной, заморин предложил ему обращать свои замечания ко всему собравшемуся двору, дав понять, что позднее придворные сообщат ему, что тогда говорилось.
Да Гама возразил. Он посол великого короля Португалии, объявил он, прикрывая рот рукой: как ему объяснили, так полагается делать, чтобы дыхание чужеземцев не загрязнило королевский воздух. Его послание предназначено для ушей одного только заморина.
Заморин как будто это одобрил. Слуга провел да Гаму и арабоговорящего переводчика Фернана Мартинса в соседнее помещение. Заморин последовал за ними со своим фактором (представителем по торговым делам), старшим жрецом и поставщиком паана, – все они, согласно его объяснению, были ближайшими его доверенными лицами. По одежде португальцы распознали в факторе мусульманина, и хотя у них зародились недобрые предчувствия, его присутствие было крайне необходимо: речи обеих сторон (заморин говорил на местном языке малаялам, а командор – на португальском) приходилось переводить через арабский.
Остальная португальская делегация осталась снаружи, где ее члены наблюдали, как старый слуга силится подвинуть королевский диван, и старались разглядеть принцесс, наблюдавших за происходящим с верхней галереи.
В соседнем помещении заморин расположился на другом диване, на сей раз покрытом шитой золотом тканью, и спросил командора, что ему угодно.
Васко да Гама произнес свою грандиозную речь, которую позднее пересказал в судовом журнале Хронист.
Командор объяснил, что он посол короля Португалии, который правит многими землями и гораздо богаче любого индийского правителя. На протяжении шестидесяти лет предки его короля посылали корабли искать морской путь в Индию, где, как они знали, можно найти христианских правителей, из которых заморин самый главный. По одному только этому они приказали открыть Индию, а не потому, что взыскали золота или серебра, которого у них уже в таком изобилии, что более им не надобно. Один за другим капитаны плавали по целому году и даже по два, пока у них не кончалась провизия и им не приходилось поворачивать домой, не найдя искомого. Теперь на престоле король Мануэл, и он приказал ему, Васко да Гаме, взять три корабля и под страхом потери головы не возвращаться, пока не повстречается с правителем индийских христиан. Также король вручил ему два письма к заморину, но поскольку солнце уже село, их он представит на следующий день. Взамен король Мануэл просит заморина послать послов в Португалию: таков обычай среди европейских правителей, добавил да Гама, и он не посмеет предстать перед своим господином и повелителем, если не привезет с собой посла Каликута. Завершил он свою речь словами, что ему наказали сообщить заморину лично, что португальский король желает быть ему другом и братом.
Командору рады в Каликуте, более лаконично отвечал заморин. Со своей стороны он считает его другом и братом и с радостью пошлет послов к его королю.
Наступил вечер, и заморин спросил – так, во всяком случае, поняли португальцы, – желают ли они остановиться на ночь с мусульманами или с христианами.
Если у заморина еще оставались сомнения относительно вероисповедания чужеземцев, то да Гама еще помнил, что его флотилия едва-едва выбралась из Африки. «Ни с теми и ни с другими», – осторожно ответил он и попросил поселить его отдельно. Просьба была явно необычной, но заморин приказал своему фактору предоставить чужеземцам все необходимое. На том да Гама откланялся, крайне довольный своим успехом.
К тому времени было уже десять вечера. Во время беседы с заморином на город со всей силой обрушился муссон, и дождь лил как из ведра. Своих людей да Гама нашел укрывшимися на террасе, освещенной мечущимся пламенем огромной железной лампы. Пережидать бурю не было времени, и во главе с фактором португальцы направились к отведенному им месту ночлега.
Воздух содрогался от ужасающего бурчания и раскатов грома, небо разрывали вспышки молний, внезапный ливень превратил улицы в грязевые реки. И все равно большие толпы еще топтались у дворцовых ворот и вновь пристроились в хвост процессии.
Командора усадили поскорее в паланкин, и шестеро носильщиков подняли на плечи шесты. Остальные путешественники потащились следом по грязи. Буря не унималась, толпа напирала, и португальцы чувствовали себя потерянными в чужой стране, не имея даже крыши над головой, которую могли бы назвать своей.
Город был большим и разбросанным, а запрошенное Васко да Гамой жилье находилось далеко. Он устал после тревог дня, дорога тянулась бесконечно, и он раздраженно спросил фактора, будут ли они идти всю ночь.
Фактор услужливо приказал свернуть на какую-то улицу и отвел гостей в собственный дом.
Португальцев провели в большой внутренний двор, на который выходила широкая веранда под черепичной крышей. Повсюду были расстелены ковры, и каждый уголок освещали огромные лампы. Привыкшим к жизни на корабле матросам это показалось роскошным и несколько пугающим.
Когда гроза унялась, фактор послал за лошадью, на которой командор мог бы добраться до своего жилища. Оказалось, что индусы ездят без седла, поэтому и такового не нашлось. Гордость не допускала, чтобы посланник великого короля соскользнул в грязь, поэтому да Гама отказался ехать верхом. День церемоний быстро превращался в ночь фарса.
Наконец португальцы попали в отведенный им дом и обнаружили, что кое-кто из их людей уже там. Среди того, что они принесли с кораблей, была столь желанная кровать командора.
Еще матросы принесли с собой подарки, предназначенные для правителя Каликута. Утром да Гама их разложил, и Хронист сделал опись:
Полосатая ткань – 12 отрезов.
Алые плащи – 4 штуки.
Шапки – 4 штуки.
Кораллы – 4 нити.
Латунные лохани для омовения рук – 6 штук в ящике.
Сахар – 1 ящик.
Масло – 2 бочки.
Мед – 2 бочонка.
Любые подношения заморину сперва представлялись для осмотра губернатору-вали и фактору, и да Гама послал гонца, чтобы известить чиновников о своих намерениях. Явившись осмотреть дары, вали и фактор разразились недоуменным смехом.
Такое не дарят великому и богатому правителю, поучали они стоявшего с каменным лицом командора. Самый захудалый купец из Мекки или захолустья в Индии подносит дары получше. Подойдет только золото; а эти безделушки заморин не примет.
Парочка продолжала насмехаться, и да Гама пал духом, хотя и постарался поскорее замаскировать свой промах. Никакого золота нет, объяснил он, ведь он не купец, а посол. Его король не знал, достигнет ли он Индии, а потому не послал с ним подобающих подарков. То, что они видят, принадлежит ему самому, и это все, что есть. Если король Мануэл прикажет ему вернуться в Индию, то, несомненно, пошлет с ним богатую казну с золотом и серебром и еще много большим. Пока же, если заморин не возьмет предложенное, он отошлет дары назад на корабли.
Чиновников его слова не тронули. Обычай гласит, утверждали они, что каждый чужеземец, удостоенный августейшей аудиенции, делает соответствующий вклад в казну.
Да Гама зашел с другой стороны. Он-де всем сердцем желает соблюдать здешние обычаи, и потому он хочет послать эти дары, гораздо более ценные, чем кажутся с первого взгляда, по причинам, которые уже назвал. И снова чиновники наотрез отказались передавать оскорбительные предметы.
В таком случае, ответил командор, он пойдет и переговорит с заморином, а после вернется к себе на корабль. Он намерен, добавил он ледяным тоном, объяснить правителю, как именно обстоят дела.
По меньшей мере на это вали и фактор согласились. Если да Гама немного подождет, сказали они, они сами отведут его во дворец. Поскольку он чужеземец, заморин разгневается, если он станет расхаживать по городу один; а кроме того, в городе множество мусульман и ему нужен эскорт. И они оставили его дожидаться.
Момент был унизительный и раскрыл кардинальный просчет во всем плане Португалии по освоению Востока – просчет столь очевидный, что трудно себе представить, как его можно было не заметить.
Глава 11
Заточение
К моменту появления европейцев цивилизации Индии было почти четыре тысячи лет. За эти тысячелетия на Индостане возникли четыре крупные религии, сложная система каст, бесчисленные чудеса архитектуры и интеллектуальная культура, которая преобразила мир.
В 1440-х годах персидский посол Абд ар-Раззак выехал из Каликута в Виджаянагар, город, давший свое имя господствующей на юго-востоке Индии империи [380]. По пути он проехал мимо поразительного храма, отлитого целиком из бронзы, если не считать сидящей над входом гигантской статуи в человеческий рост, отлитой из золота, и с двумя потрясающими рубинами вместо глаз. И это было только начало. Виджаянагар расположился у подножия крутой горной гряды и был окружен тройным кольцом стен, тянувшихся на шестьдесят миль. За воротами широкие улицы с богато украшенными домами, казалось, уходили в бесконечность. Особое впечатление на Абд ар-Разакка произвел невероятной протяженности квартал проституток, украшенный фигурами зверей больше натуральной величины и предлагающий бесконечный выбор очаровательных прелестниц, принимавших красивые позы на помостах у входов в свои дома. Самые простые ремесленники носили жемчуга и драгоценные камни, а главные евнухи величественно выступали под зонтами от солнца в сопровождении носильщиков, трубачей и профессиональных панегиристов, услаждавших слух нанимателей хвалами одна цветистее другой. Тамошний «король», как сообщал Никколо де Конти, прибывший в Виджаянагар приблизительно в то же время, «изыскан много более других: он берет себе ни много ни мало двенадцать тысяч жен, из которых четыре тысячи следуют за ним пешком, куда бы он ни направлялся, и заняты исключительно работами на кухне. Такое же число, одетые еще красивее, едет верхом. Остальных несут в паланкинах, и из них две или три тысячи выбраны в жены при условии, что они добровольно сожгут себя вместе с ним» [381].
Империя Виджаянагар была основана столетием раньше [382], когда один монах-индус вдохновил капризных правителей Южной Индии объединиться против наступавших с севера исламских держав [383]. Когда прибыли португальцы, она еще не утратила своей мощи. Но при всем своем великолепии это была сухопутная империя, и вдоль побережья ее власть была фактически номинальной. Многие из ее трехсот портов (и в том числе Каликут) являлись практически независимыми городами-государствами, и ключом к богатству этих городов были купцы-мусульмане.
Ислам докатился до Индии в 712 году, но массовое проникновение началось только в конце X века. Турецкие и афганские армии, которых, как до того греков и римлян, влекли сказочные богатства субконтинента, разгромили державу индусов и понемногу вносили свой вклад в многообразие культур Индии. Только Южная Индия оставалась вне досягаемости ислама, но и здесь мусульманские торговцы преуспевали с первых же дней своего появления. Купцы, прибывшие из Мекки, Каира, Ормуза и Адена, поселились на Малабарском берегу и взяли себе местных жен; из среды их потомков, известных как мапила, обычно набирались моряки для арабских флотилий. Особенно богатая и влиятельная мусульманская община сложилась в Каликуте, и произошло это так давно, что ее истоки терялись в легендах. Согласно одной арабской легенде, все началось с того, что индусский правитель Шерума Перумал обратился в ислам и отправился в хадж в Мекку. Перед уходом он разделил свои земли между родственниками, но клочок земли, с которого отчалил его корабль, оставил простому пастуху. Впоследствии на этом месте возник Каликут, а пастух сделался заморином, первым среди прибрежных царей. Скорее всего именно традиции открытого рынка снискали городу популярность у арабских купцов, но так или иначе они взяли под свой контроль внешнюю торговлю прибрежного княжества, имели собственных эмира и судей для управления общиной и поддерживали тесный альянс с заморинами.
Соответственно преуспевали и сами заморины. По одному подсчету, они имели в своем распоряжении сто тысяч вооруженных людей (целую касту благородных воинов, которая называлась наиры), и их жизнь превратилась в бесконечную череду церемоний, пиров и праздников, которая начиналась с их вступлением на престол и продолжалась еще долгое время после того, как их кремировали на ароматном костре из сандала и дерева алоэ. В знак почтения к усопшему заморину каждый мужчина королевства выбривал себе тело с ног до головы, оставляя лишь брови и ресницы; на две недели прекращались все общественные дела, а всякому, кто жевал паан, грозило отсечение губ. Поскольку женщины касты заморинов пользовались необычайной степенью сексуальной свободы – и поскольку заморин платил брамину, священнику или ученому из высшей касты, чтобы тот лишил его жену невинности, – наследование шло по линии сестры, и новый заморин бывал обыкновенно племянником усопшего. Его возведение на трон начиналось окроплением молоком и водой и церемониальным омовением. На ногу ему надевали наследственный браслет – тяжелый золотой цилиндр, усеянный драгоценными камнями, затем ему завязывали повязкой глаза и растирали полевыми травами. Его слуги наполняли девять серебряных курильниц, олицетворявших девять планет, которые определяют человеческую судьбу, ароматическими смолами и водой и нагревали над огнем, в который бросали топленое масло и рис, а когда смолы растворялись, выливали жидкость ему на голову. Ему нашептывали мантры, пока он шел в свой личный храм, чтобы преклонить колени перед богиней-хранительницей и династическим мечом. Оттуда он переходил в свой личный гимнастический зал, где совершал поклоны перед каждым из двадцати семи божеств-наставников, а наследственный наставник по оружию преподносил ему его собственный церемониальный меч. Распростершись ниц перед верховным жрецом и трижды получив благословение («ради защиты коров и браминов царствуй как владетель холмов и волн»), он возвращался в свою гардеробную, чтобы облачиться в остальные церемониальные одежды. Наконец он садился на белую циновку, расстеленную поверх черного ковра, и в мерцающем свете сотен золотых ламп брамины осыпали его рисом и цветами. На протяжении года он носил траур по своему предшественнику, не стриг ни ногтей, ни волос, не менял одежду и ел только рис и только один раз в день, пока наконец не вступал окончательно в свои права.
Каждый день его правления начинался с молитвы солнцу и часового растирания ароматизированными маслами. Он купался в дворцовом пруду, и его придворные поддерживали его в воде, а когда он выходил, слуги промокали его тело и снова растирали драгоценными маслами. Его личный камердинер наносил пасту из сандалового дерева и дерева алоэ, растертых с шафраном и розовой водой, осыпал его листьями и цветами и втирал увлажненный прах его предшественников ему в лоб и в грудь. Пока шли ритуалы утреннего туалета, десять самых красивых девушек-подростков княжества смешивали свежий коровий навоз с водой в огромных золотых тазах, которые передавали женщинам-уборщицам, а те дезинфицировали каждый дюйм дворца, руками втирая разведенный навоз. После визита в личный храм заморин на три часа удалялся в обеденный павильон, а затем, уделив краткое время делам государства, усаживался в зале для аудиенций. Если посетителей не было, он коротал время со своими придворными, шутами и актерами, играл в кости, смотрел на поединки солдат или просто жевал паан.
Очень редко он покидал дворец в паланкине с шелковыми занавесями, установленном на бамбуковых шестах, инкрустированных драгоценными камнями; куда бы он ни шел, под ноги ему расстилали сукно. Процессию возглавлял оркестр духовых инструментов, за которым шли лучники, копейщики и мечники, устраивавшие показные поединки. Перед царским паланкином шли четверо слуг с зонтами от солнца из хлопка и вышитого шелка, с обеих сторон царскую особу освежали опахалами по два человека, и приставленный к паану слуга был наготове с золотой чашей и плевательницей. Затем шли старшие слуги, которые несли церемониальный золотой меч, набор золотых и серебряных кувшинов и груды полотенец. «И когда царь желает поднести руку к своему носу, к глазам или ко рту, – писал один пораженный португальский очевидец, – одни слуги смачивают его пальцы водой из кувшина, а другой слуга подает ему полотенце, которое держит при себе, чтобы царь мог вытереть руку» [384]. Замыкали процессию племянники заморина, управляющие и чиновники, и повсюду кувыркались акробаты и кривлялись шуты. Если процессия происходила ночью, дорогу ей освещали огромные железные лампы и деревянные факелы.
Именно с такой древней, сложной и богатой культурой столкнулись неуклюжие португальцы. Они никогда не слышали про индусов, не говоря уже о буддистах или джайнистах. В Момбасе дегрегадос да Гамы приняли изображение бога-голубя Инду за изображение Святого Духа; в Малинди его матросы услышали в песнопениях «Кришна!» крики «Христос!». В Каликуте посольская делегация приняла индуистские храмы за христианские церкви и неверно расценила призывы браминов к местному божеству за молитву к Деве Марии, а фигуры Инду на стенах храма европейцы приняли за изображения экзотических христианских святых. Храмы были переполнены изображениями богов-животных и священных фаллосов, и благоговение индуистов перед коровами глубоко озадачивало, но португальцы вообще косо смотрели на все, что не укладывалось в их предвзятые представления. Поскольку было общеизвестно, что мусульманам ненавистно поклонение человеческому телу, португальцы сочли, что большинство индусов, которых они встречали, не могут быть мусульманами; а поскольку европейская картина мира – «кто не с нами, тот против нас» – допускала существование только двух религий, они могли быть только христианами. Что до самих индусов, то пригласить гостей в свои храмы считалось знаком уважения, и если чужеземцы вдруг прониклись их верой, индусы не собирались протестовать. То, что их называют христианами, представлялось странным, но, возможно, винить следовало языковые барьеры. Так или иначе, в это не стоило вдаваться, поскольку обсуждение религии и верований не одобрялось на самых верхах. «Строжайше запрещено, – писал один европейский путешественник, – высказываться или спорить по этому предмету; и потому из-за него никогда не возникает тут вражды, все живут в большой свободе совести под милостью и властью царя, который считает это краеугольным камнем своего правления, дабы обогатить свое царство и преумножить в нем коммерцию и дружбу» [385].
Невежество, приправленное склонностью принимать желаемое за действительное, заставило европейцев проплыть половину земного шара, и успех замысла португальцев зиждился на двух западно-центристских постулатах. Во-превых, что Индия населена христианами, которые так обрадуются своим западным единоверцам, что прогонят мусульман. И во-вторых, что при всех несметных богатствах индусы народ простой и недалекий, который отдаст свои ценности за безделушки.
До португальцев на Малабарском берегу побывала лишь горстка европейцев, и для жителей Каликута чужеземцы с их бледной кожей и обременительной одеждой представлялись любопытной диковинкой. Невзирая на неотесанность и грязь, их приняли с должными церемониями, а взамен они сделали предложение, которое можно было бы ожидать от подлого бакалейщика. Коротко говоря, они выставили себя на посмешище и даже хуже: бедняками в сравнении с богатыми мусульманскими купцами.
Васко да Гаме ситуация была явно не по плечу, и он понятия не имел, где искать помощи.
После того как над его дарами посмеялись, да Гама весь день прождал вестей от чиновников. Они так и не появились, но известия о его оплошности, очевидно, распространились широко и быстро. В отведенные ему комнаты непрестанно заглядывали мусульманские купцы, подчеркнуто насмехаясь над отвергнутыми дарами.
К тому времени командор уже метал громы и молнии. Индусы, жаловался он, обернулись апатичными и ненадежными людьми. Он приготовился идти во дворец, но в последний момент решил выждать еще. Как всегда, его люди были менее отягощены необходимостью поддерживать честь посольства. «Что до нас остальных, – записал Хронист, – мы развлекались песнями и танцами под звуки труб и много веселились» [386].
На следующее утро чиновники наконец объявились и повели делегацию португальцев во дворец.
Вдоль внутреннего двора выстроилась вооруженная стража, и да Гаму оставили ждать четыре часа. К полудню стало невыносимо жарко, и температура поднялась в прямом и в переносном смысле, когда вышли служители и сказали командору, что с собой внутрь он может взять только два человека.
– Я ждал тебя вчера [387], – упрекнул заморин гостя, едва тот оказался в пределах слышимости.
Не желая терять лицо, да Гама мягко ответил, что его утомило долгое путешествие.
На что заморин резко возразил, что командор говорил, мол, явился с миссией дружбы из очень богатого королевства. Однако ничего не привез в подтверждение своих слов. Какая именно дружба у него на уме? Еще он обещал доставить письмо и даже его не предъявил.
– Я ничего не привез, – отвечал да Гама, стойко игнорируя ледяной прием, – поскольку целью моего плавания было совершить открытие.
И добавил, мол, никто не знал наверняка, доплывет ли он в Каликут путем, которым никто не пытался ходить раньше. Когда последуют другие корабли, заморин увидит, насколько богата его страна. Что до письма, то он действительно привез одно и тотчас же его представит.
Но заморин не желал смягчаться. Что именно приплыл сюда открывать командор? Ему нужны камни или люди? Если он приплыл на поиски людей, то почему не привез дары? А может быть, привез, но не желает их отдавать? Ему сообщили, что на борту одного корабля находится золотая статуя Девы Марии.
Статуя, возмущенно ответил да Гама, изготовлена не из золота, а из позолоченного дерева. Но даже будь она золотой, он бы с ней не расстался. Святая Дева хранила его в плавании через океан и приведет его назад на родину.
Тут заморин слегка отступил и попросил показать письмо.
Прежде, взмолился да Гама, надо послать за христианином, который говорит по-арабски: поскольку мусульмане желают ему вреда, они, без сомнения, исказят содержание письма.
Заморин согласился, и все подождали, пока не прибудет переводчик.
Когда беседа возобновилась, да Гама сообщил, что у него с собой два письма: одно написано на его собственном языке, другое – на арабском. Первое он мог прочесть заранее и знал, что в нем нет ничего потенциально оскорбительного; что до другого, его он прочесть не мог, и хотя скорее всего с ним все было в порядке, оно могло содержать ошибки, способные привести к недопониманию. Надо думать, он надеялся, что прежде чем изложить содержание письма на малаяламе, человек заморина посовещается на арабском с Фернаном Мартинсом, которого да Гама специально для этого привел с собой ко двору. Его тщательно продуманный план рухнул, когда выяснилось, что переводчик заморина хотя и говорит по-арабски, совершенно не умеет читать на этом языке [388], и в конечном итоге да Гаме пришлось передать свое письмо четырем мусульманам. Они просмотрели и, посовещавшись, зачитали вслух на языке заморина.
Письмо было полно высочайшей лести. Король Мануэл, дескать, узнал, что заморин не только один из могущественнейших монархов всех Индий, но еще и христианин, и сразу же послал своих людей, чтобы заключить с ним договор о дружбе и торговле. Если заморин даст португальцам свое соизволение покупать пряности, Мануэл пошлет ему множество вещей, какие нельзя сыскать в Индии, а если образцы товаров, которые привез с собой командор, придутся не по нраву заморину, король готов послать вместо них золото и серебро.
Заморин несколько подобрел при мысли, что увеличит свои доходы за счет притока облагаемых пошлиной товаров.
– Какие товары можно найти в твоей стране? – спросил он да Гаму.
– Много зерна, – ответил командор, – сукно, железо, бронзу и многое другое.
– Имеешь ли ты что-либо из этих товаров с собой? – спросил заморин.
– Всего понемногу, – ответил да Гама. – Я привез образцы.
И добавил, что если ему дозволят вернуться на корабль, он прикажет выгрузить образцы на берег; четыре или пять человек останутся в отведенном португальцам доме гарантами его доброй воли.
К возмущению командора, заморин ему отказал. Командор может забирать всех своих людей прямо сейчас, сказал он; он волен привести свои корабли в гавань как обычный купец, выгрузить свой груз и продать по лучшей цене, какую сможет получить.
Да Гама ничего подобного делать не собирался. Он прекрасно сознавал, что его товары практически ничего не стоят; он приплыл заключить договор напрямую с заморином, а не обмениваться безделушками с мусульманскими купцами. С поклонами покинув зал аудиенций, он собрал своих людей и вернулся в отведенный им дом. Была уже поздняя ночь, поэтому он не попытался уехать.
На следующее утро явились представители заморина – опять с лошадью без седла для командора. Вне зависимости от того, желали они подшутить или нет, да Гама отказался усугублять свое положение еще одной неловкостью и потребовал паланкин. Сделав крюк, чтобы позаимствовать у одного богатого купца носилки, делегация отправилась в долгий обратный путь к кораблям, в сопровождении очередного крупного отряда стражников и новых толп любопытных.
Остальные португальцы шли пешком и быстро отстали. Они из последних сил брели по раскисшей дороге, когда их обогнал в собственном паланкине вали, но вскоре и он, и голова процессии скрылись из виду. Довольно скоро португальцы сбились с пути и забрели достаточно далеко от дороги, и ушли бы еще дальше, если бы вали не отправил на поиски проводника. Наконец, когда спускались сумерки, они добрались в Панталайини.
Солнце уже село, когда они разыскали да Гаму в одном из многочисленных домов, стоявших вдоль дороги к гавани, чтобы путники могли укрыться от дождя. Зло глянув на своих людей, командор рявкнул, что давно был бы на борту флагмана, если бы они не отстали.
Когда в сопровождении стражников появился вали, да Гама тут же потребовал лодку. Индусы предложили подождать до утра. Время позднее, объяснили они, и он может потеряться в темноте.
Да Гама был не в настроении слушать. Если вали немедленно не предоставит ему лодку, пригрозил он, он вернется в город и сообщит заморину, что его чиновники отказались проводить гостей на их корабли. И добавил, что они явно стараются его задержать, а с единоверцами так не поступают.
«Когда они увидели гневные взоры капитана, – записал Хронист, – то сказали, что он волен отбыть немедля и что они дадут ему тридцать лодок, если он пожелает» [389].
В сумерках индусы вывели португальцев на берег. Лодки, обычно вытащенные на берег подальше от прилива, словно бы растворились в воздухе вместе со своими владельцами, и вали отправил людей на их поиски. Подозрения да Гамы все росли, он был убежден, что губернатор блефует. В качестве меры предосторожности он потихоньку приказал трем матросам пройтись вдоль берега, выискивая шлюпки Николау Коэльо: если они его найдут, то пусть скажут, чтобы поскорее уплывал. Разведчики ничего не нашли, но к тому времени, когда они вернулись, остальная делегация исчезла.
Едва вали понял, что троих матросов не хватает, он велел проводить остальных португальцев в особняк мусульманского купца и оставил их там, сказав, что пойдет с солдатами искать заблудившихся матросов. Время было позднее, и да Гама велел Фернану Мартинсу купить у хозяина еды. После изнурительных блужданий его люди были голодны и, неловко пристроившись на полу, набросились на блюда курицы с рисом.
Поисковая экспедиция вернулась не ранее утра, а к тому времени настроение у да Гамы улучшилось: индусы в конце концов народ благожелательный и хотят добра, радостно сообщил он своим людям; несомненно, они были правы, предостерегая от ночных прогулок по берегу. Между тем его спутники были настроены менее радужно, чем их командор, и недоверчиво оглядывались по сторонам.
Было уже 1 июня. Трех матросов так и не нашли, и да Гама предположил, что они отбыли вместе с Коэльо. Он снова попросил дать ему лодки, но тут люди вали начали перешептываться между собой. Наконец они сказали, что разыщут лодки, если командор прикажет своим кораблям бросить якорь поближе к берегу.
Ситуация сложилась рискованная, ведь как раз об этом просил сам заморин, но да Гама твердо решил не подвергать опасности корабли и команду, а потому ответил, что если отдаст такой приказ, его брат придет к выводу, что он взят в плен, и тут же уплывет домой.
Но если он не отдаст такого приказа, возражали индусы, ему и его людям не позволят уйти.
Стороны как будто достигли патового положения, и да Гама побагровел от возмущения. В таком случае, процедил он сквозь зубы, ему лучше всего вернуться в Каликут. Если заморин не желает его отпускать из своей страны, добавил командор, он с радостью подчинится. Если нет, заморина, несомненно, заинтересует, что его приказами вопиюще пренебрегают.
Индусы как будто смилостивились, но не успел кто-либо и пальцем пошевелить, как в дом ворвался большой отряд вооруженных людей и залаяли собаки. Теперь никому не дозволялось выходить без сопровождения стражи, даже справить нужду.
Скоро чиновники вернулись с новым требованием. Если корабли не собираются подходить ближе к берегу, им придется сдать свои паруса и весла.
Ничего подобного они делать не станут, отрезал да Гама. С ним самим индусы могут делать что пожелают, но он ничего не сдаст. А вот его люди, добавил он, умирают с голоду: если его собираются задержать, то их-то можно отпустить?
Стражники остались непреклонны: португальцы не выйдут из дома. Если они умрут от голода, пусть так, им нет до этого дела.
Командор и его люди начали опасаться худшего, но старались делать вид, будто им все нипочем. Пока они ожидали следующего шага своих стражников, объявился один из пропавших матросов. Трое разведчиков, доложил он, действительно нашли прошлой ночью шлюпки Коэльо, но вместо того чтобы уплыть, не подвергая себя опасности, как наказывал да Гама, Коэльо все еще находится неподалеку от берега и ожидает своих.
Да Гама велел одному из матросов потихоньку ускользнуть и передать Коэльо строжайший приказ вернуться на корабли и увести их в более безопасное место. Выскользнув из дома, матрос выбежал на берег и доплыл до шлюпки, которая тут же погребла к флоту. Однако стражники заметили его и подняли тревогу. Как по волшебству возникли пропавшие индусские лодки, и стражники спустили на воду внушительную флотилию. Они отчаянно гребли, догоняя ускользающего португальца, но быстро поняли, что их потуги тщетны. Тогда они вернулись и приказали командору написать брату с требованием отвести корабли в порт.
Лично он, ответил да Гама, с готовностью согласился бы, но уже объяснял, что его брат никогда такого приказа не послушает. И даже если послушает, матросам совсем не хочется умирать, и они не тронутся с места.
Индусы отказывались ему верить. Он же командор, утверждали они: как офицеры могут ослушаться малейшего его приказа?
Сбившись в кучку, португальцы обсудили создавшееся положение. Теперь да Гама был твердо намерен любой ценой не допустить, чтобы корабли вошли в порт; едва они окажутся там, объяснил он, их дальнобойные пушки окажутся бесполезны и корабли легко будет захватить. А когда индусы захватят флотилию, первым убьют его самого, а после всех остальных. Его спутники согласились – они уже пришли к тому же выводу.
День тянулся, напряжение нарастало. Ночью вокруг дома выставили сотню стражников, которые следили за узниками по очереди. Они были вооружены мечами, обоюдоострыми секирами, луками со стрелами и явно скучали. Португальцы были уверены, что их одного за другим выведут и в лучшем случае изобьют, хотя все-таки сумели неплохо поужинать местными блюдами.
На следующее утро вернулся вали и предложил компромисс. Поскольку командор сообщил заморину, что намерен выгрузить свои товары, то должен приказать это сделать. По обычаям Каликута, выгружать груз следует без малейшего промедления, а купцам и матросам – оставаться на берегу, пока не закончат свои дела. На сей раз будет сделано исключение, и командор с людьми может вернуться на корабль, едва прибудут товары.
Да Гама ничего подобного не обещал, но поскольку находился не в том положении, чтобы спорить, сел и написал письмо брату. Он объяснил, что его держат в плену, хотя и постарался подчеркнуть, что с ним хорошо обращаются, и велел Паулу послать некоторое количество – но не все – привезенных для торговли товаров. Если он не вернется вскорости, добавлял командор, Паулу следует счесть, что он все еще пленник и что индусы пытаются захватить корабли. В таком случае Паулу следует отплыть в Португалию и представить отчет королю. В завершение он добавлял, что надеется, что Мануэл отправит большой боевой флот и освободит его.
Паулу тут же приказал погрузить в шлюпку некоторое количество товаров, хотя после жаркой дискуссии с гонцами послал весточку, что не сможет снести бесчестья, если уплывет домой без брата. Он надеется, добавлял он, что с Божьей помощью их малый отряд сумеет его освободить.
Шлюпка причалила к берегу, и товары были перенесены на пустой склад. Вали сдержал слово, и да Гаму с людьми отпустили. Они вернулись на корабль, оставив клерка Диегу Диаша с помощником присматривать за товаром.
«Этому мы сильно обрадовались, – записал Хронист, – и вознесли благодарность Господу, что уберег нас от рук людей, у которых разума не больше, чем у животных» [390].
Глава 12
Опасности и удовольствия
Солнце садится на Малабарском берегу огромным огненным шаром, величественно погружающимся в Индийский океан. Небо одевается оранжевыми и лимонными, кремовыми и голубыми сполохами. Закатные лучи ложатся и на кучевые облака над морем, подсвечивая это бугристое днище небес. Над сушей перистые облака приобретают изысканный, но яркий фиалковый оттенок и словно бы гладят верхушки пальмового леса. Прилив разбивается о берег мелкими подернутыми бронзовым отливом волнами; комья водорослей, последние лодки на море и вороны, летающие меж ветвями деревьев на берегу, четкими силуэтами выделяются на фоне умирающего заката. День тускнеет в буйстве бирюзово-лазурного, щербетно-желтого, лососево-розового, коричневого и песочного, и когда темнеют и превращаются в акварельные пятна синего, серого и белого цветов облака, на Каликут спускается ночь.
Даже самые закаленные матросы не остались безразличны к красотам Индии. Однако старые легенды о притаившихся в раю опасностях обернулись истинной правдой. Для португальцев все-таки нашлись змеи, охраняющие перечные плантации Востока.
В дни, последовавшие за возвращением да Гамы на корабль, через португальский склад тек мерный ручеек посетителей – но не покупателей. Мусульманские купцы приходили как будто лишь насмехаться, и несколько дней спустя да Гама послал во дворец гонца с официальной жалобой на дурное обращение с ним самим, с его людьми и его товарами. Он подчеркнул, что ожидает приказов заморина; он и его корабли к услугам правителя, пока тот решает, какие принять меры.
Гонец быстро вернулся в сопровождении знатного наира, которого назначили охранять склад, а также семи или восьми купцов, которым полагалось осмотреть товары и купить те, что они сочтут годными. Заморин, доложил гонец, разгневался на людей, взявших в плен командора, и намерен наказать их за то, что вели себя не по-христиански. Что до мусульман, он дает португальцам право, не страшась наказания, убить любого, кто без спросу войдет в их склад. Не зная, насколько велико могущество короля Португалии, правитель Каликута решил подстраховаться.
Купцы провели в Панталайини восемь дней, но и на них товары из Европы тоже не произвели впечатления, и они ничего не купили. Мусульмане держались на расстоянии, но атмосфера быстро накалялась. Всякий раз, когда португальские матросы высаживались на берег, их соперники плевали наземь. «Португалия, Португалия!» – шипели они, превращая название их страны в издевку. Да Гама приказал своим людям над таким смеяться, но терпение истощалось.
Становилось мучительно ясно, что никто в Панталайини не купит ни одного тюка португальского сукна, и да Гама послал еще одного гонца заморину, прося разрешения переправить товары в сам Каликут. И вновь правитель удовлетворил просьбу и приказал вали собрать группу носильщиков, которые перенесли бы все на спинах. Это, заверил заморин командора, делается за его собственный счет; ничто принадлежащее королю Португалии не будет облагаться в его стране дополнительными поборами.
К тому времени наступило 24 июня. Могучие морские валы раскачивали корабли, и крупные капли стучали по палубам. Непроданные товары держали путь в Каликут на спинах и в лодках, но мало кто ожидал, что от этого будет какой-то прок. Да Гама пришел к выводу, что его брат с самого начала был прав, и поклялся никогда больше не ступать на чужой берег. В сложившихся обстоятельствах он счел, что следует позволить своим экипажам хотя бы как-то возместить провал их миссии, обменяв немногие пожитки на пряности. Самым безопасным будет, сказал он, чтобы на берег сходили по одному человеку с каждого корабля за раз; тем самым у каждого будет свой черед, но на берег не высадится соблазнительно большая группа потенциальных заложников.
И они уходили по двое и по трое – мимо вытянутых на берег лодок, рыбацких хижин и крошечных храмов, мимо играющих и танцующих под дождем детей, по длинной дороге в Каликут. Они мельком видели расписанные ярко-синим с зеленью сводчатые павильоны среди пышных цветников и садов и с удовольствием наблюдали за вездесущими серыми обезьянками, которые вставали на задние лапы, скрежетали зубами и исчезали внутри храмов. Будь то роскошный или простой, каждый дом имел при входе большую веранду с натертым деревянным полом, чистым, как стол, где чужакам с готовностью давали еду и питье и место для отдыха. После недавних испытаний португальцы с облегчением обнаружили, что хотя бы простые индусы гостеприимны к своим единоверцам. Матросов, писал Хронист, «принимали в своих домах вдоль дороги местные христиане, которые выказывали большую радость, когда кто-то входил в дом, чтобы поесть или поспать, и давали им щедро от всего, что имели» [391].
После года стесненной жизни на корабле и чисто мужского общества путешественники беззастенчиво заглядывались на индусок. Те ходили голыми до пояса, хотя носили много украшений на шее и предплечьях, на запястьях и ступнях. В зияющие отверстия в ушах они вставляли золото и драгоценные камни, и очевидно, писком моды было растянуть мочки ушей на максимально возможную длину; супруга заморина, сообщал один путешественник, имела мочки до сосков грудей. К своему несомненному восторгу, матросы вскоре обнаружили, что среди большинства представителей высшей и средних каст брак не является священным союзом. Женщины могли брать себе по несколько «навещающих мужей» разом, у самых популярных таких мужей было десять и более. Мужчины объединяли ресурсы, чтобы содержать свою жену в ее собственном доме, и когда один муж приходил с ночным визитом, то оставлял свое оружие прислоненным у двери – в знак того, чтобы другие держались сегодня подальше.
Женщины тоже рассматривали португальцев: они были равно озадачены тем, как бледнолицие мужчины путаются в обременительной одежде и сильно потеют на жаре. Возможно, кое-кто зашел во взаимном интересе чуть дальше; если нет, то «публичные женщины», бывшие по совместительству и женами, имелись повсюду. В обществе, где существовал узаконенный институт куртизанок и была развита храмовая проституция в облаках восточных ароматов, европейским мужчинам казалось, что они попали в своего рода сексуальный рай, – и это открытие, вероятно, стало причиной немалых нравственных терзаний и еще больших грешков. Однако у удовольствия была своя цена. Никколо де Конти много раз встречал лавки, которыми заправляли женщины и в которых продавали странные предметы размером с небольшой орех, изготовленные из золота, серебра или меди и позвякивающие как колокольчик. «Мужчины, – объяснил он, – перед тем как взять жену, идут к этим женщинам (иначе брак может быть расторгнут), которые во многих местах надрезают кожу детородного члена и помещают между кожей и плотью – на свое усмотрение – до десяти таких «бубенцов». После кожу зашивают, и через несколько дней детородный член исцеляется. Так здешние мужчины поступают, чтобы удовлетворить сладострастие своих женщин: из-за этих утолщений члена женщины получают большое удовольствие от соития. Члены иных мужчин растянуты до самых ног, так что когда они идут, то позвякивают и их можно слышать издалека» [392]. Но не Конти: итальянец, пусть и терпел «насмешки женщин по причине малого члена и получал предложения это исправить», был не готов доставлять удовольствие другим ценой собственной боли.
Матросы полюбопытнее рассказывали о еще более странных обычаях. Коровы бродили повсюду, включая королевский дворец, и с ними обращались с большими почестями: даже заморин уступал им дорогу. Зато многих мужчин и женщин чурались точно прокаженных. Идя по улице, брамины и наиры выкрикивали «По! По!» – «Разойдись! Разойдись!» – предостережение представителям низших каст убраться с дороги. Если человек низшей касты не успевал вдавиться в стену, вышестоящие могли «по закону и праву его пронзить, и никто не спросил бы их, почему они так поступили» [393]. Едва кто-то – пусть даже португальцы – их коснется, представители высших каст должны были очистить себя ритуальными омовениями: без особых мер предосторожности, объясняли они, им приходилось бы проводить в купальне целый день.
Низшим кастам не дозволялось даже приближаться к городу: они жили в полях и питались сушеными мышами и рыбой, а если они касались вышестоящих, и сами они, и их родня становились законной добычей для любого желающего. Неудивительно, что многие из них принимали ислам. Но одна из самых низших каст – колдуны и изгоняющие духов – брала свое, когда заболевал заморин. Разбив шатер у ворот его дворца, колдуны раскрашивали свои тела самыми яркими красками, надевали венки из цветов и трав и зажигали большой костер. Под какофонию труб, литавр и цимбал они выскакивали из шатра, вопя и гримасничая, выдыхая огненные шары, и прыгали через костер. Через два-три дня они рисовали круги на земле и кружились в них, пока в них не входил демон, который раскрывал, как исцелить царский недуг. Заморин неизменно поступал, как ему было велено.
Еще более странными – даже для европейцев, воспитанных на историях об умерщвлении плоти святыми, – были религиозные ритуалы индусов. Как выяснилось, некоторые индусы в исступлении являлись к жрецам, уже изготовившись к самопожертвованию:
«У этих на шее имеется широкий ошейник из литого железа, передняя часть которого округлая, а задняя изнутри исключительно острая. Закрепленная на передней его части цепь свисает на грудь. В нее жертва просовывает ноги и садится, подтянув ноги вверх и нагнув шею. Потом, когда говорящий произносит определенные слова, они внезапно распрямляют ноги и, вытягивая одновременно шею, сами себе отрезают голову, с криком прощаясь с жизнью, которую жертвуют своим идолам. Таких людей считают святыми» [394].
Излюбленным временем ритуального самоубийства являлись большие религиозные праздники. На протяжении одного дня в году по улицам возили на повозке, запряженной слонами, статую идола. Повозку повсюду сопровождали увешанные драгоценностями девушки, которые распевали гимны. Один европейский очевидец сообщал, что многочисленные индусы, «охваченные исступлением своей веры, бросались под колеса, чтобы их задавило насмерть, каковая смерть, говорят они, весьма угодна их богам. Другие, проткнув себя с обоих боков и пропустив через свое тело веревку, подвешивают себя к колеснице наподобие украшений и так, полумертвые, сопровождают своего идола. Этот вид жертвоприношения они считают наилучшим и самым подобающим из всех».
Но для чужеземных глаз – в равной мере для христиан и мусульман – наиболее чуждой казалась церемония сутти. По закону первую жену требовалось непременно сжечь, а прочие жены, сообщал один путешественник, вступали в брак «при письменном соглашении, что своей смертью они придадут блеска погребальной церемонии мужа, и это считается большой для них честью… Когда погребальный костер поджигают, жена в богатом облачении радостно обходит его кругом с песнями и в сопровождении большого числа народу, под звуки труб, флейт и пения… и прыгает в костер. Если какая выказывает страх (ибо зачастую выходит так, что они цепенеют от ужаса при виде мук тех, кто уже страдает в огне), ее кидают в костер зрители, желает она того или нет» [395]. Выходцев с Запада такое зрелище завораживало и отталкивало. «Удивительно, – заметил один очевидец, – как много масла содержит тело женщины, ибо, сжигаемое как топливо, оно способно поглотить тела пяти или шести мужчин» [396].
Пройдя ускоренный курс погружения в индийскую культуру, матросы направлялись на шумные рыночные площади и базары позади гавани. И там пытались продать немногие свои пожитки – латунный или медный браслет, новую или даже старую рубаху, которую снимали с себя. И они тоже обнаружили, что были чрезмерно оптимистичны в своих представлениях о стоимости португальских товаров на Востоке: то, что в Португалии считалось великолепным платьем, здесь удавалось сбыть за десятую долю того, что можно было выручить дома. Но вдали от дома приходилось соглашаться на ту цену, которую им давали: горсть гвоздики, связку палочек корицы, возможно, один-два сапфира, рубина или граната, – лишь бы привезти домой сувениры. На ночь купцы закрывали свои лавки решетками, на которые вешали тяжелые замки, чиновники заморина опускали поперек базарных улиц барьеры, и матросам приходилось возвращаться на корабли.
Пока команды осваивались в городе, горожане приплывали на лодочках и карабкались на борт кораблей, предлагая кокосовые орехи, кур и рыбу в обмен на хлеб, сухари или монеты. Многие привозили с собой детей посмотреть на диковинные суда. Многие были явно голодны, и да Гама приказал своим людям кормить их – не столько в приступе щедрости, сколько «ради установления мира и дружбы и чтобы подвигнуть их говорить о нас не дурно, а хорошо» [397]. Пиар-кампания проходила настолько успешно, что зачастую гости уплывали лишь за полночь, и командор несколько воспрянул духом. Он решил оставить в Каликуте собственного фактора, клерка и небольшой штат при складе, чтобы обойти купцов и продавать товары напрямую местным жителям. Он надеялся, что при содействии дружелюбных местных христиан португальцы все-таки смогут закрепиться в Индии.
К тому времени, когда в городе побывал каждый матрос, август перевалил за середину, и да Гама подумывал, что пора возвращаться домой. Перед тем как отдать приказ об отплытии, он отправил своего клерка Диегу Диаша сообщить заморину, что флот собирается отбыть, и спросить про обещанных послов. Диаш также должен был преподнести последний подарок – сундук, полный янтаря, кораллов, шарфов, шелков и других красивых вещей, а взамен попросить большое количество корицы и гвоздики, а также образчики других пряностей. В случае необходимости он должен сказать, что оплатит товары остающийся в Каликуте фактор, когда у него будут на то средства. Просьба была рискованной, и на выполнение ее не приходилось надеяться, но да Гама прекрасно сознавал, что Христофор Колумб вернулся без ясных доказательств того, что достиг Индий, и не стремился повторять его ошибку.
Диаша заставили дожидаться четыре дня. Когда его наконец допустили во двор аудиенций, заморин наградил его испепеляющим взглядом и слушал нетерпеливо. От даров он отмахнулся, а когда Диаш закончил, предостерег его, что перед отплытием португальцам придется заплатить положенный таможенный сбор за отъезд.
Португалец откланялся со словами, что передаст сообщение, но до флота так и не добрался. За ним следили с того момента, как он покинул дворец, и когда он остановился заглянуть на португальский склад, туда ворвался вооруженный отряд и перекрыл все выходы. В то же время по всему городу был оглашен запрет любой лодке под страхом смерти приближаться к кораблям чужеземцев.
Диаш, фактор, клерк и их помощники оказались узниками на складе. С корабля с ними сошел один африканский мальчик, который должен был им прислуживать, и они велели ему пробраться как-нибудь к флоту и объяснить, в какую беду они попали. Мальчишка убежал в рыбацкую деревню и заплатил одному рыбаку, чтобы тот отвез его на своей лодке. Под покровом темноты рыбак на веслах добрался до кораблей, переправил своего пассажира на борт и спешно погреб обратно.
Услышав, что произошло, португальцы пришли в еще большее недоумение.
«Известие нас опечалило, – записал Хронист, – не только потому, что мы видели своих людей в руках наших врагов, но и потому, что это препятствовало нашему отплытию. Еще мы почитали себя оскорбленными, раз христианский король, которому мы дали то, что при нас было, обошелся с нами так скверно. Вопреки видимости мы его не винили, ибо знали, что здешние мавры, которые были купцами из Мекки и других мест и узнали в нас христиан, на дух нас не терпели» [398]. Португальцы никак не могли уразуметь, почему заморин не разделяет их радости великого исторического момента – того, что его единоверцы-христиане приплыли на Восток.
Вскоре их просветил нежданный гость. Купец из Туниса Монсаид часто навещал флот, не в последнюю очередь потому, что да Гама платил ему за привозимые с суши сведения. С его помощью у португальцев сложилась более-менее внятная версия случившегося.
Что чужеземцы не сумели привезти дань, подобающую заморину, объяснил Монсаид, явилось истинным подарком для местных мусульман. Маппилы (потомки арабов и принявших ислам индусов на Малабарском берегу) забеспокоились, как бы португальцы не нарушили их монополию на торговлю, и придумали план, как взять да Гаму в плен, захватить его корабли и убить его людей. Они намекнули советникам заморина, что командор вовсе не посол, а пират, жаждущий лишь грабить и убивать, и обратились со своим замыслом к вали. Вали, в свою очередь, доложил заморину, мол, кругом говорят, что португальцы – пираты, изгнанные из собственной страны. Письмо якобы от португальского короля на самом деле фикция: какой король в здравом уме отправит посольство лишь ради дружбы? И даже если оно существует на самом деле, дружба подразумевает общение и содействие, но Индия и Португалия лежат по разные стороны света – как в географическом, так и в культурном плане. И как доказал этот якобы могущественный король свою мощь? Скудными дарами? Гораздо лучше будет, настаивал вали, держаться за верные прибыли от мусульман, чем полагаться на обещания людей, явившихся с края света.
По словам Монсаида, заморин был ошарашен известиями и ожесточился против европейцев. Тем временем купцы подкупили вали, чтобы он задержал да Гаму и его людей и чтобы они могли их тайком убить. Вали поспешил из города вслед за отбывшим командором и отпустил пленников только после того, как заморин засомневался. Хотя заговор провалился, мусульмане продолжали свою кампанию и со временем склонили заморина на свою сторону. Монсаид предостерег да Гаму и его людей не выходить в город, если им дорога жизнь, а два новых гостя, на сей раз индусы, только подкрепили его зловещие слова. «Если капитаны сойдут на берег, – заявили они, – им отрубят головы, ибо так царь поступает с теми, кто приезжает в его страну и не привозит ему золото» [399].
«Таковы были тогда наши обстоятельства», – уныло записал Хронист.
Так, во всяком случае, полагали португальцы. Однако бедам Васко да Гамы есть и более простое объяснение. По обычаю послы преподносили заморину щедрые дары. Закон гласил, что прибывшие ко двору купцы должны уплатить пошлину за его гостеприимство и защиту. Да Гама представился и послом, и купцом разом и не оправдал себя ни в том, ни в другом случае.
Истина лежала где-то между двумя этими версиями, но теперь мало что можно было поделать. В отсутствие союзников-христиан или пряностей, которые можно было собирать горстями на манер весенних цветов, у португальцев оставалось только одно средство давления: грубая сила.
На следующий день к кораблям никто не подплывал, но еще через день появились четыре молодых человека с драгоценностями на продажу. Бдительный командор решил, что мусульманские купцы прислали их шпионить, но все равно тепло принял их в надежде, что за ними последуют более значительные особы. Еще через четыре или пять дней подплыла группа из двадцати пяти человек, среди которых было шесть наирских аристократов. Да Гама захлопнул ловушку и приказал схватить этих шестерых и еще десяток для подстраховки. Остальных ссадили в лодку и отправили на берег с письмом, написанным на малаяламе двумя индусами и адресованным фактору заморина. Суть его сводилась к следующему: португальцы предлагали обмен заложниками.
Новости распространились быстро. Друзья и родные заложников собрались у португальского склада, заставили стражников выдать узников и подчеркнуто вежливо препроводили их в дом фактора.
Было 23 августа. Да Гама решил сделать вид, что уплывает. Муссон дул еще крепкий, и корабли отнесло в море дальше, чем он рассчитывал. На следующий день их погнало назад к берегу. Два дня спустя, когда от португальских заложников все еще не было ни слуху ни духу и дул крепкий ветер, они отошли снова, пока берег не превратился в смутную полоску на горизонте.
На следующий день пришла лодка и послание. Диегу Диаша перевели в царский дворец. Если португальцы отпустят заложников, его им вернут.
Да Гама был уверен, что его люди убиты, а враги стараются выиграть время. Он понимал, что уже через несколько недель вернутся арабские флотилии, и считал, что мусульмане Каликута вооружаются в преддверии совместного нападения на христиан. Он пригрозил открыть по лодке огонь и предостерег гонцов не возвращаться без португальского фактора или по меньшей мере весточки его рукой. И лучше бы им поторопиться, рявкнул он, не то он отрубит заложникам головы.
Подул крепкий бриз, и флотилия пошла галсом вдоль побережья. В самом Каликуте маневры да Гамы как будто возымели желаемое действие. Заморин послал за Диашем и на сей раз принял его гораздо более дружелюбно. Почему, спросил он, командор отплывает с его подданными на борту?
Заморину прекрасно известно почему, прозвучал едкий ответ Диаша, наконец давшего волю своему раздражению. Заморин заточил его самого и его людей и все еще не позволяет им вернуться на их корабли.
Заморин разыграл изумление. Командор поступил верно, заявил он, и повернулся к своему фактору.
– Разве тебе неизвестно, – с угрозой спросил он, – что совсем недавно я приказал казнить твоего предшественника за то, что он взял пошлину с купца, приехавшего в мою страну?
Потом он снова повернулся к Диашу.
– Возвращайся к своим кораблям, – сказал он, – и возьми с собой тех, кто есть при тебе. Скажи командору, пусть пришлет мне людей, которых забрал. Скажи ему, что колонну, которую он желает установить на берегу, привезут к нам те, кто доставит тебя на корабль, и установят, и что ты можешь остаться на складе при своих товарах [400].
Перед тем как отпустить, заморин заставил Диаша написать письмо железным стилусом на пальмовом листе. Адресовано оно было королю Португалии.
«Васко да Гама, – значилось в нем после обычных любезностей, – вельможа из твоей свиты прибыл в мою страну, что мне приятно. Моя страна богата корицей, гвоздикой, имбирем, перцем и драгоценными камнями. Взамен я прошу у тебя золота, серебра, кораллов и алой материи».
Заморин наказал клерку вручить письмо командору для передачи королю. В конечном итоге, решил он, стоит посмотреть, не вернутся ли чужеземцы с более ценными товарами.
Утром 27 августа семь лодок подплыли к португальскому флоту с Диашем и его людьми на борту. Индусам не хотелось приближаться к кораблю да Гамы, и после некоторых дебатов они стали бок о бок с баркасом, пришвартованным к «Сан-Габриэлу». Освобожденные заложники перешли туда, и лодки поспешно отошли на небольшое расстояние ожидать ответа.
Индусы не привезли с собой португальские товары, поскольку ожидали возвращения из города фактора и его клерков. Но да Гама рассудил иначе. Теперь, когда его люди благополучно вернулись на борт, он не намеревался расставаться с товаром. Он велел перегрузить колонну на одну из лодок и отправил с ней часть заложников, включая шестерых наиров. Но еще шестерых он оставил у себя, пообещав отпустить, если на следующий день будут доставлены его товары.
На следующий день в большом волнении объявился тунисский купец. Вскарабкавшись на борт, Монсаид умолял предоставить ему убежище. Все его добро было конфисковано, и он опасался за свою жизнь. Индусы, дескать, видели, что он на короткой ноге с португальцами, и обвинили его в том, что он тайный христианин, посланный в их город шпионить. Учитывая, как отвернулась от него удача, сетовал он, если он останется, его непременно убьют. Монсаид оказался полезным информатором, и да Гама согласился отвезти его в Португалию.
В десять утра подошли еще семь лодок. Вдоль скамей там были разложены двенадцать тюков полосатой материи, принадлежащие португальцам. Это все, что они нашли на складе, утверждали люди заморина.
Да Гама без церемоний велел им убираться. Командору нет ни малейшего дела до товаров, прокричал с борта переводчик, и он намерен увезти своих пленников в Португалию. Кое-чего из португальских товаров действительно не хватало, но важнее было то, что да Гама нуждался в индусах, которые засвидетельствовали бы совершенное им открытие, а заморин уклонился от обещания отправить с ним посольство. Напоследок да Гама предостерег индусов в лодках быть поосторожнее. Он поклялся, что, если удача будет на его стороне, он скоро вернется, и тогда они узнают, стоило ли им слушать мусульман, называвших его и его людей пиратами и ворами. По его команде канониры подтвердили его слова залпом из бомбард, и индусы поспешили уплыть.
Август подходил к концу. Да Гама посовещался со своими капитанами, и они быстро приняли решение. Хронист его записал:
«Ввиду того, что мы открыли страну, в поисках которой приплыли, равно как пряностей и драгоценных камней, и ввиду того, что оказалось невозможным установить сердечные отношения со здешним народом, разумно было отплыть. И было решено, что мы заберем с собой людей, которых держали у себя, поскольку по нашему возвращению в Каликут они могут быть нам полезны в установлении дружественных отношений. И потому мы подняли паруса и отплыли в Португалию, сильно радуясь нашей удаче, что совершили столь великое открытие» [401].
Никто не мог сделать вид, что все прошло гладко. Молодой командор произносил громкие слова и страшные клятвы, но не сумел заключить сделку с заморином. Чем дольше он мешкал, тем унизительнее становилось его положение. За истекшие три месяца его трюмы почти опустели. И хуже всего: португальцы были глубоко потрясены враждебностью тех, кого считали братьями во Христе.
Оплошности путешественников скоро им аукнутся, однако не оставалось сомнений, что Васко да Гама совершил нечто поразительное: по его стопам последуют многие тысячи, и многие миллионы жизней изменятся раз и навсегда – пусть и не обязательно к лучшему.
Теперь ему оставалось только вернуться домой. А это кажется самым трудным этапом экспедиции.
Беды начались в первый же день обратного пути.
Отойдя всего на лигу от Каликута, флотилия попала в штиль. Ожидая ветра, матросы увидели вдруг, как от берега к ним направляются семьдесят гребных баркасов. В баркасах выстроились вооруженные маппилами люди в подбитых ватой и обшитых красной материей нагрудниках. Как и подозревал да Гама, мусульманские купцы спешно готовили военный флот, хотя и не могли задержать беглецов настолько, чтобы к ним успели присоединиться крупные арабские корабли.
Канониры поспешили занять места в ожидании сигнала командора. Едва враг оказался на расстоянии выстрела, тот отдал приказ открыть огонь. Со вспышками и грохотом ядра засвистели в воздухе и в брызгах пены стали падать вокруг баркасов. Но гребцы не сбивали ритма, а когда ветер наконец поднялся и наполнил паруса чужеземцев, принялись грести еще быстрее. С полтора часа они преследовали бегущие корабли, пока, к счастью для португальцев, не налетел шторм и не отогнал их в море.
Когда прошел первый испуг, корабли продолжили свой путь на север. Как выяснил да Гама, чтобы попасть домой, ему нужно идти вдоль побережья, пока не поймает прохладные северо-восточные ветра зимнего муссона. Рано или поздно они неизбежно пригонят его назад в Африку. Но до того времени, однако, оставалось еще по меньшей мере три месяца: муссоны начнут поворачивать не раньше ноября.
Еще более усложняло задачу штурманов то, что теперь флотилия шла прямиком в штиль. Легкие бризы дули то с суши, то из открытого океана, но быстро стихали. Случалось, без предупреждения налетали резкие порывы, но тут же сменялись полным безветрием. Корабли тяжело тянулись вдоль побережья; за двенадцать дней после ухода из Каликута они проделали только двадцать лиг.
Да Гама много обдумывал происшедшее и в конечном итоге выбрал одного из заложников, человека, который лишился глаза, чтобы послать на берег с письмом заморину. В этом письме, которое Монсаид написал по-арабски, командор извинялся, что взял в заложники шестерых подданных заморина, и объяснял, что намерен забрать их с собой, чтобы они засвидетельствовали его открытие. Еще он добавил, что оставил бы на Малабарском берегу своего фактора, если бы не боялся, что его убьют мусульмане; множество раз сходные причины удерживали его самого от попыток сойти на берег в чужой земле. Он писал, что, мол, надеется, что две их страны все-таки сумеют наладить дружеские отношения ко взаимной выгоде. Поскольку да Гама едва ли мог ожидать, что одно-единственное письмо переломит создавшуюся ситуацию, он, наверное, тщательно запоминал сведения, которыми делился один заложник: главным было то, что правитель Каннанура, называемый колаттири, находился в состоянии войны с заморином Каликута.
К 15 сентября корабли проделали 60 лиг и бросили якорь у небольшого скопления островов. Самый большой представлял собой длинную, узкую полоску суши, скалистую в южной оконечности, с невысокими холмами и песчаным берегом на севере, с балдахином пальмовых деревьев, затеняющих середину наподобие зонта. В двух лигах от острова на материковой части оказался широкий песчаный залив, к которому подступал густой лес. Из залива вышли рыбацкие лодки, чтобы предложить на продажу свой улов, и командор отдал несколько рубах рыбакам, которые просияли от удовольствия.
В более дружеской атмосфере да Гама начал наконец несколько расслабляться и спросил туземцев, как они посмотрят на то, что он установит на острове колонну. «Они ответили, – записал Хронист, – что будут поистине рады, ибо ее воздвижение подтвердит тот факт, что мы христиане, как и они сами» [402]. Или так, во всяком случае, поняли европейцы.
Колонну установили, и португальцы окрестили остров – в честь данного колонне имени святой – Санта-Мария. Трофей трудно было бы назвать стратегическим, но всем отчаянно хотелось домой.
Той ночью корабли поймали легкий бриз и продолжили путь на север. Пять дней спустя они прошли мимо вереницы красивых зеленеющих холмов на материке и впереди увидели еще пять островов [403]. Поставив корабли на якорь в проливе между островами и материком, да Гама оправил шлюпку разведать, найдется ли на острове достаточно питьевой воды и дерева, чтобы хватило до Африки.
Едва высадившись, матросы наткнулись на молодого человека, который отвел их к ущелью между двумя холмами, где они обнаружили журчащий и кристально чистый ручей, и в подарок да Гама дал проводнику красную шапку. Как обычно, командор поинтересовался, мусульманин он или христианин. Тот назвался христианином: мусульманином он уж точно не был, а потому выбрал единственную предложенную альтернативу. Да Гама ответил, что португальцы тоже христиане, и проводник как будто очень этому обрадовался.
Вскоре появились новые дружелюбные индусы и предложили отвести гостей к лесу коричных деревьев. Матросы вернулись с охапками ветвей, которые слегка пахли корицей [404], и двадцатью туземцами, которые принесли кур, горшки с молоком и тыквы. После стольких невзгод положение как будто начало выправляться.
Рано утром следующего дня, пока матросы ждали прилива, чтобы можно было войти в реку и наполнить бочки водой, вахтенные заметили два корабля, идущие вдоль берега в нескольких лигах от флотилии. Поначалу да Гама не придал этому значения, и команды занялись рубкой деревьев. Но некоторое время спустя он задумался, не кажутся ли эти корабли от большого расстояния меньше, чем есть на самом деле. Едва матросы поели, он приказал десятку человек сесть в шлюпку и выяснить, кому принадлежат корабли – мусульманам или христианам. В качестве дополнительной меры предосторожности он послал в воронье гнездо матроса, и дозорный вскоре крикнул, что в шести лигах от них в открытом море попали в штиль восемь кораблей.
Да Гама решил не рисковать. Палубы расчистили, и он приказал канонирам потопить незнакомые суда, едва те приблизятся на расстояние выстрела.
Едва поднялся ветер, индусские корабли двинулись с места и быстро подошли к португальцам на расстояние двух лиг. По приказу да Гамы флотилия рванулась вперед с пушками наготове.
Когда индусы увидели, что прямо на них идут три странных корабля, то повернули к берегу. В спешке один их корабль сломал рулевое весло, тогда команда спустила с носа шлюпку, пересела в нее и погребла к суше. Ближе всего к брошенному кораблю находилась каравелла Коэльо, и его матросы поскорее его захватили в надежде на богатую добычу. Нашли же они несколько кокосов, четыре бочки пальмового сахара и большой арсенал луков, стрел, щитов, мечей и копий; в нижнем трюме не было ничего, кроме песка.
Остальные индусские суда благополучно добрались до берега. Не желая приближаться и терять преимущество пушек, португальцы палили по ним со шлюпок, заставив команды поскорее убраться в лес. Некоторое время спустя матросы да Гамы отступили и отошли на безопасное расстояние, уводя за собой захваченное судно. Они все еще понятия не имели, откуда взялись эти корабли, но на следующее утро пришли на веслах семеро туземцев. По их словам, беглецы рассказывали, что заморин послал их перебить португальцев. Возглавлял их грозный пират Тиможа [405], и будь его воля, он перебил бы их всех до единого.
Стало очевидно, что возвращение на материк невозможно. На следующее утро флотилия отошла подальше и бросила якорь вблизи одного острова, который португальцы вслед за туземцами окрестили Анжедива. По словам индусов, тут можно было найти еще один источник пресной воды, и, вытащив на берег захваченный корабль, Николау Коэльо отправился на разведку.
Коэльо высадился на нетронутом пляже и углубился в густой лес кокосовых пальм и тропических деревьев. В лесу он внезапно наткнулся на руины строения, показавшегося большой каменной церковью на вершине холма.
Одинокая часовенка еще стояла, крыша у нее была заново крыта соломой. Коэльо осторожно заглянул внутрь.
В центре «часовенки» стояло три больших камня, которым молилось несколько индусов. В ответ на расспросы португальцев они объяснили, что маппилы с арабских кораблей причаливают к острову, чтобы набрать воды и дерева, и прогнали с него жителей; те теперь возвращаются, лишь чтобы поклониться священным камням.
Возле церкви поисковая экспедиция обнаружила большой резервуар, сложенный из такого же, как церковь, тесаного камня. Вода была пресной, и они наполнили часть бочек. Пройдя дальше, они наткнулись на много больший резервуар на самой высокой точке острова и наполнили остальные бочки.
К тому времени три корабля пришли в плачевное состояние, опасно непригодное для дальнего перехода. Экипажи начали долгий процесс ремонта, и первой на берег вытащили «Берриу», которую, разгрузив и сняв с нее балласт, повалили на бок.
Пока шла починка, с берега к флотилии направились два больших баркаса. Португальцам они напомнили быстрые галиоты (небольшие весельные галеры низкой осадки и с одной мачтой), на которых пираты Берберского побережья нападали на проходящие корабли. Гребцы опускали весла в такт барабанному бою, сопровождаемому звуком, который жутковато напоминал вой волынок. На мачте развевались флаги и вымпелы. В отдалении португальцы увидели еще пять кораблей, пробирающихся вдоль побережья, словно желали выждать и посмотреть, что будет дальше.
Каликутские индусы возбужденно предостерегали своих тюремщиков не позволять гостям подниматься на борт. Это пираты, твердили они, бороздящие местные моря. Они сделают вид, что пришли с миром, но, улучив подходящий момент, выхватят мушкеты, отберут у них все имущество, а самих их обратят в рабство.
Да Гама приказал открыть огонь с «Сан-Габриэла» и «Сан-Рафаэла».
Туземцы на баркасах пригибались и кричали чужеземцам:
– Тамбарам! Тамбарам! – То есть: – Господь! Господь!
Португальцы уже пришли к выводу, что таким словом индусы называют Бога, и решили, что гости пытаются объяснить, что они христиане. Тем не менее они сочли это еще одной уловкой и продолжили стрелять. Гребцы поспешно развернули баркасы назад к берегу, а Коэльо погнался за ними на своей шлюпке, пока да Гама, опасавшийся новых злоключений, не поднял сигнальный флаг, приказывая ему вернуться.
На следующий день, когда работы на «Берриу» еще шли полным ходом, в двух лодках поменьше появилось с десяток человек. Они были богато одеты и в подарок командору привезли с собой вязанку сахарного тростника. Вытащив лодки на берег, они попросили разрешения посмотреть на корабли чужеземцев.
Настроение у да Гамы было далеко не гостеприимное. К тому времени уже стало казаться, что вдоль всего Малабарского берега знают про португальцев, португальцы же про сам Малабарский берег не знали практически ничего. Каждый день материализовывалась новая угроза, и он был убежден, что новоприбывших прислали за ним шпионить. Он накричал на них, и, отступив, они предупредили еще двенадцать человек, которые прибыли в других двух лодках, не высаживаться на берег.
«Берриу» снова спустили на воду, и команды взялись за «Сан-Габриэл». Невзирая на враждебный прием, туземцы все продолжали приплывать, и некоторые умудрились продать португальцам рыбу, тыквы, огурцы и огромные охапки зеленых веток, смутно пахнущих корицей. Да Гама был в чуть менее подозрительном расположении духа, когда на берег высадилась внушительная фигура, размахивающая деревянным крестом.
Новоприбывшему было на вид около сорока лет, и он говорил на отличном венецианском, равно как и на арабском, иврите, сирийском и немецком языках. Одет он был в длинное льняное одеяние и щеголеватую мусульманскую накидку, а за пояс у него была заткнута короткая кривая сабля. Подойдя прямо к командору, он его обнял. Обняв затем остальных капитанов, он объяснил, что он христианин с Запада, который прибыл в эти края молодым человеком и поступил на службу к могущественному мусульманскому правителю. Он признался, что ему пришлось обратиться в ислам, но в душе он по сей день остается христианином. Он был в доме своего повелителя, когда из Каликута пришло известие, что из ниоткуда появились люди, одетые с головы до пят и говорящие на непонятном языке. Он тут же сообразил, что это скорее всего европейцы, и заявил своему господину, что умрет от горя, если ему не позволят с ними повидаться.
Его господин, добавил он, сама щедрость. Он велел приглашать чужеземцев в свою страну, где они могут взять все, что пожелают, – пряности, провизию, корабли, и даже дал им дозволение остаться тут навсегда, если увиденное им понравится.
Да Гама тут же проникся к учтивому гостю симпатией. На свой грубовато-сердечный лад он поблагодарил за предложение и спросил о стране его повелителя, которая, как выяснилось, называлась Гоа. Взамен словоохотливый гость попросил только сыра, который, как он объяснил, собирается отдать оставленному на суше спутнику в знак того, что встреча прошла хорошо. Сыр предоставили вместе с двумя караваями свежеиспеченного хлеба, но гость не спешил уходить. Хронист отметил, что он пространно говорил о стольких разных вещах, что иногда сам себе противоречил.
У Паулу да Гама начали зарождаться подозрения, и он решил переговорить с матросами, которые привезли гостя. Те были индусами и не питали большой симпатии к своему нанимателю-мусульманину. Это пират, потихоньку объяснили они, и его корабли ждут у берега сигнала атаковать.
Паулу дал знать остальным, и португальцы схватили словоохотливого гостя. Притиснув его к корпусу вытащенного на берег корабля, солдаты допросили его при помощи основательной взбучки. Тот все еще настаивал, что он честный христианин, но да Гама велел связать его и, втащив на рею, поднимать и опускать за руки и за ноги. Когда его спустили, он, харкая, сказал кое-какую чистую правду. Новости о прибытии португальцев распространились повсеместно, объяснил он; весь полуостров наперегонки замышляет им вред. По всему побережью расставлены крупные вооруженные отряды в лодках, спрятанных в протоках; они ждут лишь прибытия сорока кораблей, которые как раз вооружают и которые должны возглавить нападение.
Даже пытки не заставили его изменить остальную часть своего рассказа. Когда голос ему отказал, он словно бы пытался объяснить, что приехал разузнать, что они за люди и какое у них вооружение, но еще оставались сомнения. Да Гама приказал остановиться, велел взять его под стражу на одном из кораблей и перевязать раны; он решил отвезти его в Португалию как еще один источник сведений для короля.
«Сан-Рафаэл» на берег еще не вытаскивали, но нельзя было терять время. Арабские флотилии из Джедды, Адена и Ормуза уже прибыли в Индию, и если верить сведениям пирата, массированное нападение было неизбежно. Оставалось только разобрать на запасные части захваченное судно. Его капитан наблюдал с суши, надеясь вернуть себе корабль, когда чужеземцы уйдут. Увидев, как корабль исчезает часть за частью, он сам приплыл на лодке и предложил крупную сумму за его возвращение. Корабль не продается, безапелляционно ответил да Гама; поскольку он принадлежал врагу, он предпочитает его сжечь – что и сделал.
Флотилия подняла паруса в пятницу 5 октября. Когда корабли ушли настолько далеко, что стало ясно, что они уже не вернутся, узник рассказал наконец правду. Возможно, ему надоело сидеть прикованным на баке, где заточение делалось втройне неприятным от соленой воды, которая через него перекатывалась, и от подъема и опускания якоря рядом с ним, и того, что матросы ходили сюда справлять нужду. Время притворства миновало, заявил он. Он действительно состоял на службе у правителя Гоа и находился при дворе, когда пришло известие, что чужеземцы заблудились у побережья и понятия не имеют, как попасть домой. Его повелитель знал также, что в погоню послали множество лодок, и не желал, чтобы добыча досталась его соперникам. Он послал слугу заманить чужеземцев в свою страну, где они были бы целиком и полностью в его власти. Он слышал, что христиане храбры и воинственны, а он нуждался в подобных людях для бесконечных войн, которые вел с соседями.
Да Гама не смог покинуть Индию в тот момент, который выбрал сам, и его люди страшно за это поплатятся.
Крепкий постоянный бриз зимнего муссона еще не достиг широты, на которую с трудом вышли путешественники. Снова и снова циклоны уносили и забрасывали в мертвый штиль корабли. Октябрь сменился ноябрем, ноябрь – декабрем, а суши не было и следа. Жара стояла невыносимая, провиант подходил к концу, вода загнивала и тоже была на исходе. Вскоре вернулась терзать истощенных моряков цинга. Пассажир в одном более позднем португальском плавании живо описывал быстрое наступление недуга и вызванную им панику. Колени у него, писал он, съежились настолько, что он не мог их согнуть, ноги и икры почернели, как при гангрене, ему раз за разом приходилось прокалывать кожу, чтобы выпустить похожую на патоку загнившую кровь. Каждый день он, привязав себя веревкой, перегибался через борт и, взяв маленькое зеркальце, ножом прорезал загнивающие десны, распухшие настолько, что стало невозможно есть. Срезав плоть, он промывал рот мочой, но на следующее утро десны воспалялись не меньше прежнего. Учитывая, что недуг охватил десятки моряков, он оказался на корабле смерти:
«Множество умирали каждый день от него [недуга], и нельзя было видеть ничего, помимо тел, брошенных за борт, и большинство умерли без помощи, многие за сундуками, где глаза им выедали и подошвы ног обгладывали крысы. Другие умерли на своих койках, ведь когда им отворяли кровь, они после шевелили руками, и вены у них отрывались, и кровь вытекала. Часто бывало, что, получив паек, который составлял пинту воды, и поставив этот паек рядом с больными, товарищи похищали потом у несчастных их толику воды, пока они спали или лежали отвернувшись. Иногда под палубой, от темноты не видя друг друга, они дрались между собой и наносили друг другу удары, если ловили кого за кражей их воды; и потому часто случалось, что виновных лишали воды, и, не имея ни глотка, они умирали жалкой смертью, и никто не помогал им даже самой малостью, ни отец сыну, ни брат брату, так заставляла сия жажда каждого человека обкрадывать своих товарищей» [406].
Терзаемые болью, вдали от дома десятки простых людей умерли страшной смертью через несколько дней после появления первых симптомов. Конец приносил облегчение. Им говорили, что как крестоносцы во имя Христово они скончаются не запятнанные грехом. Их глаза жмурились на ослепительный свет, их манила жизнь более сладкая там, где нет места страданиям. Товарищи выбрасывали их тела за борт со все меньшими церемониями по мере того, как все больше становилось заболевших.
В тропическом зное уцелевшие стали жертвами новых болезней. От лихорадок они дрожали и бредили. На зараженной коже разрастались абсцессы и опухоли. Ядовитая плесень заразила хлеб [407] и вызывала рвоту и понос, за которыми следовали мучительные спазмы, галлюцинации, мании и, наконец, сухая гангрена, водянка и смерть. Одним из самых страшных заболеваний было то, которое, по сообщению одного путешественника, «высыпает на ягодицах как язва и вскоре заполняется червями, которые проедают [тело] до самого живота, и потому [люди] умирают в большом несчастии и мучениях; не существовало лучшего средства от этой болезни, – добавлял он, – нежели сок лимона, которым смазывают седалище, ибо он препятствует червям там разводиться» [408]. На борту корабля уединения не существовало, теперь исчезло и человеческое достоинство.
К Рождеству на каждом корабле осталось всего по семь-восемь матросов, достаточно крепких, чтобы им править. Мало кто верил, что протянет дольше, и железная дисциплина, которую строго внедрял Васко да Гама, наконец рухнула. Люди криком взывали к святым, клянясь исправиться, если будут спасены, и моля пощадить их жизни. Они требовали, чтобы командор вернулся в Каликут и отдался на волю Господа, ибо это лучше, чем гнить в открытом море. Да Гама и его капитаны утратили всяческое представление о том, где находятся, и в отчаянии наконец согласились повернуть – если позволит благоприятный ветер.
В самый последний момент погода переменилась, а с ней и удача экспедиции. «Господу в его милосердии было угодно, – записал Хронист, – послать нам ветер, который за шесть дней принес нас к суше, и тому мы обрадовались так, как если бы увидели саму Португалию» [409].
Было 2 января 1499 года. Еще несколько дней, в лучшем случае пара недель, и по безжалостной голубизне океана дрейфовало бы три корабля-призрака.
К тому времени, когда потрепанная флотилия приблизилась к побережью Африки, спустились сумерки. Бросив якоря, португальцы на следующее утро отправились на разведку берега, «дабы узнать, куда привел нас Господь, ибо не было на борту ни штурмана, ни другого человека, который мог бы определить по звездам, в каком месте мы находимся» [410]. Насколько хватало глаз, между бескрайними просторами неба и моря тянулась монотонная тонкая зеленая лента растительности.
Разгорелся спор. Кое-кто был уверен, что они все еще в трехстах лигах от суши, среди каких-то островов у побережья Мозамбика [411]; один из пленников, которых они взяли там много месяцев назад, рассказывал, что эти острова очень нездоровое место и там свирепствует цинга, что казалось чересчур уж заумным.
Не успели утихнуть споры, как вахтенные разглядели впереди город. Это оказался старинный сомалийский порт Могадишу, который некогда был главной отправной точкой исламской экспансии на побережье Восточной Африки. Высокие дома окружали величественный дворец, внешние стены которого охраняли четыре башни. В измученном своем состоянии путешественники решили не испытывать удачу и, дав знать о своих намерениях несколькими залпами из бомбард кряду, продолжили свой путь вдоль побережья на юг.
Два дня спустя корабли дрейфовали в штиле, когда из ниоткуда налетела буря и сорвала снасти «Сан-Рафаэла». Но им были уготованы и новые беды: пока немногие здоровые моряки занимались починкой, застрявшую флотилию заметили пираты. С близлежащего острова [412] на португальцев надвинулось восемь вооруженных лодок, но канониры бросились к пушкам, и огонь заставил пиратов поскорее убраться в свой городок [413]. Ветра – возможно, к облегчению матросов – не было, а потому командор приказал за ними не гнаться.
Наконец 7 января дозорные заметили знакомый залив Малинди. Даже – и особенно – в таком отчаянном положении да Гама не рискнул пристать в порту, и корабли бросили якорь на некотором расстоянии от города. Султан тут же прислал большую группу сановников их приветствовать, и те привезли с собой послание мира и дружбы и подношение в виде баранов и кур. Командора тут давно ждут, любезно говорили африканцы.
Да Гама отправил неизменно надежного Фернана Мартинса на берег в лодке султана с настоятельным наказом раздобыть как можно больше лимонов и апельсинов. Цитрусовые прибыли на следующий день вместе с другими разнообразными фруктами и большим количеством воды. Султан приказал своим мусульманским купцам навестить чужеземцев и предложить им кур и яйца. Для наиболее тяжелобольных было уже поздно: многие из них умерли в виду Малинди и были похоронены там.
Ужасы плавания смягчили Васко да Гамы, и он был потрясен добротой, которую проявил к нему и его людям султан, когда они отчаянно нуждались в помощи. Он послал ему подарок и через арабских переводчиков умолял дать ему слоновий бивень, чтобы представить королю Португалии. В знак дружбы между двумя странами – такой, который будет явно виден их врагам, – он также просил разрешения установить на берегу колонну с крестом [414]. Султан ответил, что из любви к королю Мануэлу выполнит все, о чем его просят. Он подготовил отличное место для колонны – перед самым городом и рядом со своим дворцом – и вместе с обещанным бивнем послал мальчика-мусульманина, который исполнительно заявил, что ничего в жизни так не желает, как попасть в Португалию.
Португальцы провели в Малинди пять дней, насколько хватало сил наслаждаясь увеселениями султана «и отдыхая, – писал Хронист, – от тягот, перенесенных за время плавания, в ходе которого все мы были лицом к лицу со смертью» [415]. Отплыли они утром 11 января, а на следующий день как можно быстрее прошли мимо Момбасы.
Благополучно миновав город и отойдя подальше, они бросили якорь в заливе, перегрузили добро с «Сан-Рафаэла» и подожгли корабль. Вести домой три корабля не хватало матросов, и вообще «Сан-Рафаэл», который не удавалось чинить многие месяцы, был на последнем издыхании. Весь процесс занял пятнадцать дней, за это время в лагере португальцев появлялись многочисленные африканцы, выменивавшие кур на последние рубахи и браслеты матросов.
Через два дня после того, как они возобновили плавание, оставшиеся корабли миновали большой остров в шести лигах от суши [416], мимо которого проскочили на пути в Индию. Мальчик из Малинди объяснил, что это остров Занзибар, один из самых важных торговых центров на всем побережье Суахили. Путешественники о нем никогда не слышали: еще многое предстояло открыть и разведать.
1 февраля корабли под проливным ливнем достигли Мозамбика. Обойдя город стороной, они бросили якорь у островка, на котором служили мессу годом раньше. И на сей раз мессу отслужили тоже, и да Гама решил установить еще одну колонну. Дождь шел с такой силой, что высадившиеся не смогли разжечь огонь, дабы расплавить олово, которое использовали, чтобы закрепить на верхушке колонны крест, и колонна осталась без креста.
Несколько дней спустя уцелевшие европейцы покинули Восточную Африку, чтобы обогнуть мыс Доброй Надежды. Сколько бы ни ходило слухов о христианских общинах, этих христиан они не встретили и следа. И пресвитер Иоанн оставался, как всегда, неуловим. Побережье Суахили все еще хранило свои секреты, только в следующем плавании оно раскроет главные свои богатства.
Месяц спустя португальцы достигли залива, где командор получил рану в ногу. Тут они задержались более чем на неделю, ловили и собирали анчоусы, охотились на тюленей и пингвинов и пополняли запасы пресной воды для путешествия через Атлантику. 12 марта они отплыли домой, но преодолели лишь двенадцать лиг, когда яростный западный ветер отшвырнул их назад в залив. Едва ветер унялся, они отплыли снова и 20 марта обошли мыс Доброй Надежды. К тому времени, записал Хронист, «те, кто уцелел до сих пор, были в добром здравии и весьма крепки, хотя временами полумертвы от холодных ветров, какие нам встречались» [417]. После тропического зноя Южная Атлантика казалась ознобом, сопровождающим лихорадку.
На протяжении 27 дней попутный ветер гнал два корабля на север, и им оставалась всего сотня лиг до островов Зеленого Мыса. Они вернулись в родные воды, но после всего, что выпало на их долю, знакомые виды подернулись странным флером нереальности.
Легкое плавание обернулось слишком хорошим, чтобы быть правдой. Их ожидала еще одна последняя напасть.
Не успели португальцы дойти до архипелага, как снова попали в штиль. Единственный легкий бриз дул им в лицо, и они, как могли, пробивались против ветра. У побережья Африки прокатывались грозовые бури, что помогало штурманам определять местонахождение кораблей, но вскоре небеса потемнели, и воды взвихрил яростный смерч. Хотя вокруг них били молнии, два корабля потеряли друг друга из виду.
Николау Коэльо все еще командовал «Берриу». На сей раз не было никакого обусловленного места встречи, и он проложил курс прямо домой. 10 июля 1499 года его побитая и давшая течь каравелла приковыляла в рыбацкий порт Кашкайш немного западнее Лиссабона. В Португалии давно уже решили, что флотилия погибла, и все поспешили радостно встретить героев.
Коэльо получил аудиенцию у короля и доложил об открытии морского пути в Индию. Грандиозная экспедиция продолжалась 732 дня. Корабли покрыли 28 тысяч миль. Это действительно было самое дальнее плавание в известной истории, как по времени, так и по проделанному пути.
Корабль Васко да Гамы пришел в Лиссабон несколько недель спустя, швы у него разошлись, и насосы стонали, стараясь удержать его на плаву. Всего на трех кораблях из Португалии отплыло 170 человек, домой вернулось только 55.
Командора на борту «Сан-Габриэла» не было. На обратном пути у его брата открылся туберкулез, и к тому времени, когда корабли разметало, состояние Паулу значительно ухудшилось. Да Гама день прождал появления каравеллы, а после взял курс на порт Сантьяго – там флотилия собралась, когда ее разметало в начале экспедиции. Сразу по прибытии он поставил бывшего клерка «Сан-Рафаэла» Жуана де Са командовать починкой флагмана и доставкой его в Лиссабон.
Чтобы доставить умирающего брата домой, да Гама зафрахтовал маленькую быстроходную каравеллу. Вскоре после отплытия состояние Паулу стало угрожающим, и Васко сменил курс на Терсейру, один из Азорских островов.
Паулу умер на следующий день после того, как они достигли острова. Похоронив любимого брата в церкви францисканского монастыря, первооткрыватель морского пути в Индию медленно и печально отправился домой.
Глава 13
Венецианец в Лиссабоне
20 августа 1501 года недавно назначенный чрезвычайный посол республики Венеция [418] торжественно предстал перед королевским двором Португалии и пустился в пространные и экстравагантные восхваления короля Мануэла I.
До недавнего времени Серениссима – этим выражением, означающим «Светлейшая», венецианцы называли свою республику – едва снисходила до того, чтобы заметить существование Португалии. Однако два года назад в Венецию прибыло письмо, заставившее ее граждан проглотить свою гордость. Венецианец Джироламо Приули занес в свой дневник его содержание:
«В письмах из Александрии от июня сего года говорилось, что из Каира доставили известия от купцов, побывавших в Индии, из которых следует, что в главные города Каликут и Аден в Индии прибыли три каравеллы короля Португалии, которые были отправлены на поиски Островов Пряностей и которыми командовал Колумб» [419].
Пусть детали не имели отношения к действительности, суть была достаточно ясна. У Венеции появился новый конкурент в торговле с Востоком.
Как и многие его соотечественники, Приули отнесся к новостям равнодушно. Будь известия правдивы, они и впрямь перевернули бы мир, признавал он, но он ни слову в них не поверил. Захолустная Португалия всегда была так занята погоней за пресвитером Иоанном и крохами африканского золота, что даже не задумывалась о соперничестве с величайшей торговой республикой Запада. Однако вскоре в итальянские торговые дома полетела стайка длинных и отчаянных писем от соотечественников в Лиссабоне. Португальцы, писал в родную Флоренцию купец Гвидо Детти, «нашли все сокровища и всю торговлю пряностями и драгоценными камнями мира» [420]. Он предсказывал – с известной долей удовлетворения при мысли о страданиях конкурента, – что это «поистине дурно для султана [Египта], равно как и для венецианцев, которым, когда их вытеснят с Востока, придется вернуться к ловле рыбы, ибо по тому пути пряности станут поступать по цене, на которую им тяжело будет равняться». Это прекрасное открытие, добавлял он, «и король Португалии заслуживает искренних поздравлений всех христиан. Несомненно, каждый король и великий правитель, особенно те, чьи земли имеют выход к морю, должен искать неведомого и расширять наши познания, ибо только так можно снискать честь и славу, репутацию и богатства».
Синьория, верховный совет Венеции, некоторое время обдумывала известия и наконец приказала своему послу в Испании разузнать подробности. Он быстро доложил домой, что португальский король уже отправил в Каликут тринадцать кораблей закупать пряности, а еще один флот стоит наготове, собираясь отплыть через несколько дней. Вместе с его письмом в Венецию доставили другое, на сей раз от некоего «дона Мануэла, милостью Божьей короля Португалии и Алгарве, земель по эту и по ту сторону моря в Африке, властителя Гвинеи и в силу завоеваний властителя над навигацией и торговлей в Эфиопии, Аравии, Персии и Индии». Невзирая на велеречивый титул, было не вполне ясно, что, собственно, Мануэл завоевал, зато совершенно очевидно, что его письмо – вопиющая попытка перевернуть с ног на голову сам образ жизни Венеции. Отныне, провокационно предлагал король, венецианцам следует закупать пряности не в Египте, а в Португалии. Поскольку богатство Венеции основывалось на ее практически полной монополии на торговлю с исламским миром, предложение поделить доходы едва ли могло обрадовать венецианцев, но Мануэл твердо намеревался заставить Венецию относиться к Португалии как к равной.
Через три дня после появления писем венецианский сенат проголосовал назначить первого в истории Венеции посла в Португалию. Он выбрал Пьетро Паскуалиго, двадцатидевятилетнего отпрыска старого венецианского рода. Пьетро Паскуалиго имел докторскую степень престижного Парижского университета, и его вычурная речь при португальском дворе, произнесенная на отличной латыни, должна была произвести впечатление.
Тут требовалась лесть, и он не боялся с ней переусердствовать. Каждая эпоха, заявил он, станет прославлять изумительные подвиги Мануэла. До скончания времен европейцы будут признавать, что в долгу перед ним больше, чем перед любым другим королем настоящим и будущим: «народы, острова и берега, доселе неведомые, либо пали перед вашей воинской мощью, либо, пораженные ею, добровольно молили вашей дружбы. Некогда величайшие цари и непобедимые нации прошлого по праву похвалялись, что простерли свою власть на океан, но вы, непобедимый король, вправе гордиться тем, что простерли свою власть на нижнее полушарие и на антиподов. И что самое великое и достойное сохранится в памяти: под своей властью вы свели людей, которых разделяет сама природа, и ваша торговля объединила два разных мира» [421].
Мануэл, с самым серьезным видом восторгался венецианец, превзошел египтян, ассирийцев, карфагенян, греков, римлян и даже самого Александра Великого. Его высокие достоинства известны всему миру, и по всей Европе страны и народы благодарят Господа, что послал им короля, «который в своей добродетели, мудрости и талантах не только защитит дряхлый и пошатнувшийся христианский мир, но и широко распространит его веру».
Покончив с лестью, Паскуалиго перешел к истинной цели своей миссии. Плавать по океанам прекрасно, признал он, но «гораздо лучше, гораздо великолепнее и обещает более обессмертить ваше имя – защищать от ярости неверных самую благородную часть света». Разумеется, он подразумевал не Рай земной и даже не Иерусалим, а Венецию. Республике угрожает «самое злобное чудовище», неистовый и могущественный турецкий султан [422], который, без сомнения, уже сейчас собирает дьявольское новое войско, дабы обрушиться на христианский мир. «Я не знаю ничего прекраснее, храбрее или возвышеннее, – подольщался посол, – коротко говоря, ничего более достойного вашей божественной личности и гениальных способностей».
Венеция действительно находилась в смертельной опасности. В 1499 году, пока республика еще оправлялась от болезненных морских потерь, которые понесла, отражая вторжение французов в Италию, Османская империя совершила жестокое нападение, послав армаду из почти трехсот кораблей. В беспрецедентном признании своей слабости Серениссима призвала во флот собственных граждан – трое братьев Пьетро Паскуалиго сражались на море с турками, – и когда стало ясно, что война грозит обернуться полным поражением, обратилась в Рим с петицией объявить новый крестовый поход. В своей роли новоявленной защитницы христианства Венеция несколько запоздала (в 1483 году папа отлучил от церкви всю Венецию целиком за отказ прекратить войну против итальянского герцога, пусть даже Рим сам эту войну и развязал), но угроза Европе возникла несомненная, и крестовый поход объявили. Напоминая про пыл, с которым предки Мануэла желали сражаться с турками, молодой посол представлял свою просьбу как священную войну ради христианской веры против султана, этого «заклятого губителя христианских народов… этого варвара, запятнанного кровью христиан».
Мануэл уже отправил на помощь Венеции тридцать пять тяжеловооруженных боевых кораблей и значительных размеров армию. Как и его дядя Альфонсу, он постоянно намекал, что его следовало бы пригласить возглавить новый крестовый поход лично, хотя на деле флот прибыл без короля и слишком поздно, чтобы принести хотя бы какую-то пользу. Официально Паскуалиго приехал, дабы передать благодарность республики и подвигнуть Мануэла на большие жертвы. Неофициально он должен был приглядывать за заморской затеей короля и в помощь себе привез под видом дипломатической делегации целый штат опытных шпионов.
Самое первое коммюнике молодого посла содержало глубоко тревожные известия. За два месяца до его прибытия вернулся второй флот, отправленный в Индию.
«Для Венецианской республики это важнее Турецкой войны или чего-либо, что может случиться, – записал в своем дневнике пристыженный Приули. – Теперь, когда Португалией был обнаружен сей новый путь, король Португалии станет привозить все пряности в Лиссабон, и нет сомнений, что венгры, германцы, фламандцы и французы и все народы страны за горами [Альпами], что приезжали покупать пряности в Венецию, обратят теперь свои взоры на Лиссабон, потому что он ближе к их странам и попасть туда легче, равно как и потому что смогут покупать там по более низким ценам, и это важнее всего. Происходит же это оттого, что в Венецию пряности везут через всю Сирию и через всю землю султана и повсюду купцы платят нестерпимые налоги, пошлины и акцизы. А потому со всеми пошлинами, налогами и акцизами между страной султана и городом Венеция можно сказать, что товары, стоившие один дукат, возрастают в цене до шестидесяти, а возможно, и до ста…
И потому я заключаю, что если те плавания из Лиссабона в Каликут продолжатся, как начались, то возникнет нехватка пряностей для венецианских галер и их купцы сделаются как младенцы без молока и пропитания. И в этом я ясно вижу погибель для Венеции, поскольку с недостатком торговли она станет испытывать недостаток в деньгах, из которых произросли ее репутация и слава» [423].
В Лиссабоне венецианцы усилили давление. С очередным флотом вернулся ряд индусских посланников, чтобы установить дипломатические отношения с Португалией, и агенты Паскуалиго тайком с ними связались. Король Португалии, объяснили они, разорен, и они прибыли из Венеции, чтобы оказать ему финансовую помощь. Венеция превосходит все другие державы христианского мира, и ничто не делается без ее одобрения. Кроме того, если венецианцев интересует исключительно торговля, то португальцы думают только о войне, да еще одержимы идеей напасть на мусульман Индии. Индусы решили, что попали в ужасную ловушку, и их страхи улеглись, только когда Васко да Гама повел их осматривать португальскую сокровищницу и дал им вдоволь наглядеться на все увеличивающиеся золотые запасы.
Еще до возвращения Васко да Гамы в Португалию Мануэл приказал устроить по всей стране благодарственные шествия и «вознести великие благодарности нашему Господу» [424]. Также он, не теряя времени, послал с нарочным письмо к Фердинанду и Изабелле Кастильским. В том, как нерасторжимо могут переплестись религия и торговля, это письмо трудно превзойти.
«Высочайшие и превосходнейшие король и королева, могущественнейшие господа! – начиналось оно. – Вашим величествам уже известно, что мы приказали Васко да Гаме, кавалеру нашего двора, взяв четыре корабля, совершать открытия на море и что два года прошло со времени его отплытия. И поскольку главной целью этого предприятия была, как и у наших предшественников, служба Господу нашему Иисусу Христу, Ему в Его милости было угодно ниспослать нашему слуге удачу в пути. Из послания, которое привез к нам один капитан, мы узнали, что наш слуга действительно достиг Индии и открыл ее и другие королевства и царства, с ней граничащие, что он вошел в ее воды и плавал там, нашел большие города, большие величественные здания и реки и многие народы, с которыми вел всяческую торговлю пряностями и драгоценными камнями, которые переправляются на кораблях (кои наши слуги видели и встречали там в большом числе и больших размеров) в Мекку и далее в Каир, откуда они распространяются по всему миру. От этих пряностей наш слуга привез всего понемногу, включая корицу, гвоздику, имбирь, мускатный орех и перец, а также ветки и листья деревьев, на которых они произрастают, равно как и многие прекрасные камни, как то рубины и прочие. И он побывал в стране, в которой есть золотые рудники, от коего золота, как и пряностей, и драгоценных камней, привез менее, чем мог бы, ибо не взял с собой товаров для обмена.
И поскольку мы знаем, что сие известие доставит вашим величествам удовлетворение и радость, мы решили сами представить вам эти сведения. И ваши величества могут быть уверены, что хотя в настоящее время христианские народы, которых встретили там наши посланники, не слишком крепки в вере и не обладают достаточным ее знанием, но усердно послужат делу Господа нашего и исповедания святой веры, едва в нее обратятся и полностью в ней укрепятся. И когда они укрепятся таким образом в вере, возникнет благоприятная возможность уничтожить мавров тех краев. Более того, мы надеемся с Божьей помощью, что великая торговля, которая ныне обогащает тамошних мавров, поскольку проходит через их руки без вмешательства иных особ или народов, будет в соответствии с нашими распоряжениями передана туземцам и кораблям из нашего собственного королевства, так что отныне все христиане в этой части Европы смогут сполна обеспечить себя пряностями и драгоценными камнями. Все это заставляет нас с помощью Господа, который в своей милости такого нас удостоил, с еще большим пылом воплощать наши намерения и замыслы особенно [в отношении] войны с маврами областей, покоренных нами в тех краях, к коей войне так прилежат душой ваши величества и к коей мы питаем равное рвение.
И молим ваши величества ввиду великой милости, которую мы с большой благодарностью удостоились от Господа нашего, вознести Ему положенные хвалы и молитвы» [425].
Мануэл прекрасно сознавал, что звезда Христофора Колумба в Испании вот-вот закатится. Первооткрыватель из Генуи все еще не нашел никаких пряностей, никаких драгоценных камней, не обнаружил ни христиан, ни китайского Великого хана. В 1498 году, как раз когда Васко да Гама входил в Индийский океан, Колумб наконец достиг материка, который так долго искал, но результат был определенно неутешительным. Идя вдоль побережья, его корабли попали в огромный сброс воды из устья Ориноко, и сбитый с толку мореплаватель решил, что подобные массы воды могут извергаться лишь с огромного склона. Из этого он заключил, что подплывает к подножиям Священной горы Рая, гигантского пика, который, как он рисовал себе, должен подниматься над поверхностью земли наподобие соска женской груди. Поскольку ему было известно, что ни один смертный не может войти в Эдемский сад и остаться в живых, он в страхе повернул назад. Колумб, часто ходивший в простой рясе францисканского монаха, всегда полагал, что избран спасать человеческие души; в последнее время он стал слышать глас Божий и счел, что ему уготовано исполнить старинное пророчество [426], открыв новый Рай на земле. Но его уверенность в себе сильно поколебалась, и он повесил нескольких матросов за неповиновение. Когда он вернулся на остров Эспаньола, матросы и поселенцы, которым он пообещал сказочные богатства [427], обвинили его в пытках и крайне неумелом руководстве, и пятидесятитрехлетнего первооткрывателя, терзаемого артритом и болезненным воспалением глаза, заковали в кандалы, бросили в тюрьму и в цепях доставили назад в Испанию.
На взгляд большинства европейцев, Васко да Гама явно обошел своего соперника. Что Колумб только обещал, да Гама сумел предъявить. Пока Колумб при попутном ветре шел на запад и достиг земли за тридцать шесть дней, да Гама обошел Атлантику, проследовал вдоль восточного побережья Африки, доплыл до Индии и закрепился там наперекор серьезному противодействию тамошних мусульман. Если Колумб пытался договориться с несколькими малоразвитыми туземцами, да Гама взял верх над враждебно настроенными султанами, вел переговоры с могущественными королями и в доказательство привез на родину пряности, письма и заложников. Что бы там ни нашел Колумб (а что именно он нашел, было пока далеко не ясно), да Гама открыл морской путь на Восток и показал способ, как обойти исламский мир. Вся Европа была изумлена, и португальский король был только счастлив утереть нос своякам [428] [429].
Покончив с этой приятной обязанностью, Мануэл укрепил свои позиции, направив письма папе римскому, коллегии кардиналов и кардиналу-протектору Португалии в Риме, где сообщал, что повелел отслужить пышные молебны Господу в благодарность за фаворитизм, и напомнил, что согласно папской булле от 1497 года – последней по времени попытке рассудить соперничающие державы, – он и его наследники получают «полные власть и суверенитет надо всем, что мы обнаружили» [430]. Конечно же, ничто более не потребуется, добавил он осторожно, но он любовно молит о «новом изъявлении удовлетворения касательно дела такой новизны и такого великого и новейшего достоинства, чтобы удостоиться нового одобрения и его святейшеством».
С приближением перелома тысячелетия Мануэл твердо решил возобновить свои притязания на первенство среди монархов христианского мира. Его открытие, заявлял он, было совершено не только ради Португалии, оно принесет благо всем христианским странам – «от урона неверным, который ожидается» [431]. Вскоре мусульмане будут повержены, Святая Земля возвращена, и восточные христиане вернутся в лоно истинной, католической веры. Однако он не собирался делиться славой с возможными конкурентами. Практически невозможно раздобыть карту португальских плаваний, писал секретарь венецианского посла в Испании, «ибо король постановил карать смертью любого, кто пошлет ее за пределы страны» [432].
У себя дома король-мессия начал сносить и перестраивать Лиссабон с размахом под стать своим головокружительным амбициям. Помимо новых величественных дворцов и просторных складов, способных вместить ожидаемый наплыв товаров из Индии, он приказал построить в местечке Белем, на месте скромной часовни Энрике Мореплавателя, огромную церковь и монастырь, чтобы там возносились молитвы за души Мануэла Завоевателя и его предков. В честь своего непосредственного предшественника он решил возвести по-имперски роскошную гробницу для останков короля Жуана II. Мануэл торжественно проехал по стране с гробом в сопровождении процессии дворян, епископов и капелланов, хористов, факельщиков и «варварского оркестра труб, дудочек, волынок и барабанов» [433]. По окончании церемоний он среди ночи велел открыть гроб. Говорилось, что «он узрел тело, покрытое известковой пылью, и приказал монахам сдуть пыль через камышовые трубочки и сам им в этом помогал, а после снова и снова целовал руки и ноги усопшего. Это была трогательная встреча покойного короля с королем здравствующим и великолепное зрелище для любого».
По Европе давно уже ходило пророчество, согласно которому Последний император воссоединит христианский мир, покорит неверных и возглавит Последний крестовый поход за возвращение Святой Земли. Тогда люди всего мира соединятся в единую паству, и Новый Иерусалим спустится с небес, и Христос вернется править миром. Мануэл начал вести себя как император еще до того, как завоевал хотя бы клочок земли, но задуманная им империя была не просто территориальной. Подобно Колумбу, он был уверен, что являет собой ни более ни менее чем руцу Божию на земле; подобно крестоносцам былых времен, он полагал, что божья воля приказывает ему уничтожить ислам и повести свои армии на Иерусалим.
Несгибаемая уверенность короля основывалась в значительной степени на известиях, что в Индии были обнаружены христиане. Что пресвитер Иоанн никак не находился, нельзя было обойти, но, как объяснили по возвращении Николау Коэльо и его матросы, Каликут «больше Лиссабона и населен индийскими христианами» [434]. Верно, в церквях у них нет настоящих священников и богослужения не отправляются, но у них есть колокола и своего рода крестильные купели. «Эти христиане, – писал домой флорентийский купец Джироламо Серниджи, – верят, что Иисус Христос был рожден от Девы Марии без греха, был распят и убит евреями и похоронен в Иерусалиме. Еще им известно кое-что про папу в Риме, но помимо этого, они о нашей вере ничего не знают».
Несколько недель спустя в Лиссабоне причалил «Сан-Габриэл», на борту которого находился человек с Гоа, говоривший на венецианском диалекте.
Серниджи удалось урвать с ним короткую беседу, и он тут же отписал во Флоренцию, поправляя ошибки из своего предыдущего письма. Новый информатор поведал флорентийцу, что в Индии много идолопоклонников, которые поклоняются коровам, и лишь малое число христиан. Он добавил, что предполагаемые церкви «на самом деле храмы идолопоклонников и изображения в них – не святых, а идолов» [435].
«Это мне представляется более вероятным, – писал во Флоренцию Серниджи, – чем сведения о том, что там есть христиане, но нет церковного устава, нет священников и не служат святую мессу. Не верю, что тамошних христиан следует брать в расчет, исключая, конечно, общину пресвитера Иоанна».
Однако вскоре информатор запел по-другому. Его представили королю, и он быстро сообразил: чтобы преуспеть, надо говорить не неприглядную правду, а то, что от него хотят услышать. Первым делом он (как и тунисский купец Монсаид) попросил, чтобы его крестили. Он взял себе имя Гаспар – в честь одного из трех восточных царей-волхвов, последовавших за звездой в Вифлеем, и да Гама – в честь своего похитителя, мучителя, а теперь и крестного отца. Как выяснилось, до того как стать мусульманином, Гаспар был иудеем [436], но теперь, приняв христианство, начал рисовать фантастическую картину религий в Индии [437]. Христиане, объяснял он, живут в четырнадцати индийских государствах, из которых двенадцать по большей части или чисто христианские. По меньшей мере в десяти правят христианские короли, и промеж собой они могут похвалиться 223 тысячами пехотинцев, более чем 15 тысячами всадников и 12 тысячами четырьмястами боевых слонов, каждый из которых способен нести на спине десяток воинов в деревянной башне и бросается в атаку с пятью мечами, выступающими из бивней.
Мануэл был вне себя от радости. Он был уверен, что много странствовавший Гаспар послан самим Богом способствовать его великому замыслу. А поскольку, если он хочет заключить союз с христианскими правителями Индии до того, как соперники перехватят у него инициативу, самым существенным фактором казалось время, то Мануэл в январе 1500 года – многообещающая дата рубежа века – велел приготовить четыре корабля и две хорошо вооруженные каравеллы для плавания в Индию. Рамки экспедиции вскоре были расширены, и теперь она уже включала в себя не только создание торговых баз, но и покорение побережья Индии и Африки, и флотилия разрослась до 13 кораблей. Возглавлять ее назначили Педру Алвареша Кабрала, еще одного фидальго и рыцаря ордена Христа. Под его командованием находилось более тысячи человек, включая пятерых священников. Кабрал получил приказ доставить мусульманам и язычникам Индийского океана жесткий крестоносный ультиматум: обращение в христианство или смерть.
«Перед тем как предать мавров и идолопоклонников в тех краях мирскому мечу, он должен позволить священникам и монахам прибегнуть к мечу духовному, а именно провозгласить им Евангелие с наставлениями и предписаниями римской церкви и просить их оставить своих идолов, свои дьявольские ритуалы и обычаи и обратиться в веру Христову, дабы все люди объединились в благодати единой веры и любви, ибо все мы творения одного Создателя и искуплены одним Искупителем, коий есть Иисус Христос, обещанный нам пророками и чаемый патриархами за многие тысячи лет до его прихода. Для этой цели пусть священники приведут им все естественные и законные доводы, какие есть в каноническом праве. И если окажутся они столь неуступчивы, что не признают сей закон веры и отвергнут закон мира, который следует соблюдать среди людей ради сохранения рода человеческого, и если воспретят торговлю и обмен, коие есть средства, через которые происходят мир и любовь между всеми людьми… в таком случае следует предать их огню и мечу и развязать против них свирепую войну» [438].
Для христиан у Мануэла было совершенно иное послание. Он дал Кабралу письмо для заморина Каликута, в котором объяснял, что португальцев привел в Индию Божий промысел и что они творят Божье дело:
«Ибо следует воистину верить, что Господь, наш повелитель, дозволил сей подвиг мореплавания не исключительно для того, дабы он послужил торговле и земным выгодам между тобой и нами, но в равной мере ради духовного блага многих душ и их спасения, которое нам следует ставить много выше. Господь полагает, что ему более послужит тот факт, что ты и мы воссоединены в святой христианской вере, как это было на протяжении шестисот лет после прихода Иисуса Христа и до того времени, когда за грехи людские возникли, как и было предсказано, секты и противные ереси… и сии ереси занимают большую часть земли между твоими землями и нашими» [439].
Преподав публично исторический урок, Кабрал должен был в частном порядке передать еще одно послание. Он должен был просить заморина изгнать из своих гаваней всех до последнего мусульман: отныне товары, привозимые арабами, будут поставлять португальцы – только лучшие и более дешевые. Еще Мануэл отдал командору последний, сверхсекретный приказ: если заморин не согласится миром торговать исключительно с португальцами, Кабралу «следует повести с ним жестокую войну за оскорбительное обращение с Васко да Гамой». Заморин, возможно, и единоверец, но явно впал в ересь, а Мануэл спешил.
Среди инструкций Кабралу, составленных при совете да Гамы, также содержался наказ установить дружеские отношения с другими христианскими государствами в Индии и сделать все возможное, чтобы сорвать поставки пряностей мусульманам. Среди капитанов флотилии Кабрала были Бартоломеу Диаш, открыватель мыса Доброй Надежды, и товарищ соратника самого да Гамы Николау Коэльо. Штурман «Берриу» Перу Эскобар вновь отправился штурманом, также заняли прежние свои посты Жуан де Са и другие ветераны экспедиции Васко да Гамы. Гаспара да Гаму взяли с собой переводчиком, еще на борту находились пятеро пленников, захваченных в плен в Каликуте, и юный посланник султана Малинди.
При всем опыте ветеранов экспедицию с самого отплытия преследовали напасти. Вскоре после того как задержавшийся флот отплыл 9 марта 1500 года, один корабль потерялся у островов Зеленого Мыса. Когда Кабрал попытался повторить проход да Гамы по дуге через Атлантический океан, он взял курс слишком далеко на юго-запад и наткнулся на сушу. Он решил, что открыл новый остров, и, отслужив мессу и установив крест, отправил одного из своих капитанов домой с неожиданными вестями. Остальные одиннадцать кораблей попали в страшный шторм у мыса Доброй Надежды, и четыре корабля со всей командой пропали без вести, включая судно под командованием Бартоломеу Диаша, которому никогда больше было не увидеть свой штормовой мыс. При переходе через Индийский океан в непогоду пропал еще один корабль, и флотилия сократилась до шести судов.
К тому времени, когда португальцы пересекли Индийский океан, лето уже подходило к концу, и в соответствии с полученными приказами Кабрал расположился у Малабарского берега, чтобы нападать на арабские суда, которых ожидали с севера. Матросы и офицеры исповедались и причастились, но добыча не объявилась. Потому Кабрал продолжил путь в Каликут, куда прибыл с развевающимися флагами и под грохот пушек в середине сентября.
Старый заморин умер вскоре после отплытия да Гамы, а его амбициозный молодой преемник гораздо больше желал открыть торговлю с европейцами. К кораблям сразу же вышли несколько местных сановников, за которыми последовали приветственный комитет, оркестр и сам заморин. На сей раз португальцы приплыли с богатыми дарами: золотыми и серебряными чашами и тазами, малыми и большими кувшинами, а также огромным количеством затканных золотом мягких подушек, балдахинов и ковров. Кабрал представил удивительное письмо Мануэла, и хотя о реакции заморина на восторги португальского короля, что он наконец воссоединился с собратом во Христе, история умалчивает, заморин пожаловал Кабралу выгравированную на золоченой табличке дарственную, которая гарантировала португальцам безопасность торговли. Встреча завершилась поспешным обменом заложниками, но в течение двух месяцев была создана постоянная португальская фактория в большом доме на берегу, над крышей которой развевался флаг с королевским гербом.
Вскоре португальцы обнаружили, что прибыли не до, а после арабских флотилий, которые уже стояли в порту. Посмеявшихся над товарами Васко да Гамы купцов ожидал неприятный сюрприз, когда в виду гавани показался большой португальский флот, а в декабре дошло до столкновения. Португальцы захватили мусульманский корабль, отплывавший в Джедду, утверждая, что его отплытие нарушает их договор с заморином, согласно которому они первыми должны загружать на борт пряности. В отместку большая группа мусульманских купцов напала на португальскую факторию. Семьдесят человек, включая священников флотилии, оказались заперты в ловушке. После трехчасового противостояния они попытались пробиться силой и выйти к шлюпкам, но почти все были убиты.
Когда при полном молчании заморина прошел день, Кабрал решил, что тот одобрил нападение, и обрушился на арабские корабли в гавани.
Схватка была неравной, поскольку огневой мощью шесть португальских кораблей значительно превосходили весь мусульманский флот.
Столетиями торговлю в Индийском океане не омрачали практически никакие конфликты, и тут не было традиций боевых действий на море. Сшитые кокосовыми веревками дхоу были недостаточно крепкими, чтобы нести пушки, а их конструкция не позволяла приспособить их к новой угрозе. Хотя пушка зародилась в Китае и давно уже была на вооружении мусульманских армий, в Индии она нашла применение лишь в нескольких изолированных регионах, к тому же немногие имеющиеся здесь пушки были устаревшими и маленькими. Как и все морские державы Европы, Португалия поколениями вела войну на море, и хотя ее корабельные орудия были далеки от совершенства, трудно было отрицать их способность наводить ужас в бою. Порох, возможно, лишил войну рыцарственности, зато стал проводником португальской политики на Востоке.
Кабрал захватил десяток крупных судов и перебил, утопил и взял в плен сотни человек. Забрав с захваченных кораблей пряности и прочий груз, в том числе трех слонов, которых забили и засолили на обратную дорогу, он сжег суда. Ночью он приказал своим капитанам спустить на воду шлюпки и отбуксировать португальские корабли как можно ближе к берегу. Выстроившись против города, португальцы на рассвете открыли огонь. Ядра обрушивались на скопления людей на набережной, проламывали стены домов и храмов, – количество жертв исчислялось сотнями. Сообщалось, что ужас и замешательство «были так велики, что заморин бежал из собственного дворца и что один из главных его наиров был убит прямо рядом с ним упавшим ядром. Даже часть дворца была разрушена канонадой» [440].
Заморин быстро изменил свое мнение о новых союзниках. Когда Кабрал сделал вид, что отплывает, на горизонте появился крупный военный флот. Не успели противники вступить в бой, внезапно налетевший шторм заставил их бросить на ночь якоря. На следующий день Кабрал передумал возобновлять враждебные действия и направился в открытое море, до наступления темноты его преследовали лодки из Каликута. Новый португальский командор внял совету своего предшественника и совершил переход в Африку в нужное время года, но возле Малинди шторм выбросил один его корабль на берег. Корабль загорелся, и его пришлось бросить, так что в Лиссабон вернулось только пять из тринадцати кораблей.
Плавание не было полным провалом. Опираясь на собранные да Гамой сведения, Кабрал открыл два крупных африканских порта, мимо которых проскочил его предшественник: это были Софала, через которую экспортировалась львиная доля золота Западной Африки, и Килва, островная столица династии султанов, которые уже давно господствовали на побережье Суахили. Его подчеркнуто дружелюбно принял пристыженный правитель Мозамбика, а султан Малинди был, как обычно, само гостеприимство. Еще Кабрал побывал в Каннануре и Кочине, двух процветающих индийских портовых городах, правители которых были в плохих отношениях с заморином Каликута. В обоих городах он нагрузил свои корабли пряностями, а в Кочине оставил солдат и клерка создавать факторию. Судно, пропавшее в Индийском океане, наконец объявилось с известием, что наткнулось на Мадагаскар. И, не в последнюю очередь, земля, которую Кабрал по пути в Индию принял за неизвестный остров, оказалась Бразилией, и что важнее, ее побережье лежало гораздо дальше к востоку от линии, прочерченной договором в Тордесильяс. По чистой случайности Кабрал совершил исторический подвиг: его корабли бросали якоря у четырех континентов.
Европейские горизонты расширялись с ошеломительной быстротой, но Кабралу не суждено было пожать плоды своих открытий. Он не нашел союзников-христиан и не обзавелся ни одним новообращенным. Он потерял сотни опытных матросов и половину своего флота. Он позволил каликутским купцам разрушить португальскую факторию и, хотя кроваво отомстил, не сумел подавить восстание. В общем и целом, на взгляд своего короля, он был недостаточно решителен или успешен. Это был жестокий приговор человеку, на которого возложили непомерную задачу, но остаток своей жизни Кабрал провел в опале.
Мануэл постарался по возможности сохранить лицо. Во дворце в честь возвращения флота был устроен праздник, над Лиссабоном раздавался звон колоколов, по стране прошли благодарственные шествия, и в Испанию были отосланы новые злорадно ликующие письма. Но возникла опасность, что грандиозные претензии короля вот-вот потускнеют и обветшают, и многие его советники уже предлагали удовлетвориться завоеванной славой и отказаться от разорительной затеи. Кроме того, Мануэл отправил много кораблей сражаться с турками и немало – атаковать Марокко (ни то ни другое предприятие не увенчалось большим успехом), не говоря уже о флотилии, которая уже направлялась в Северную Атлантику на поиски новых земель по португальскую сторону от линии водораздела [441]. Страна находилась на пределе сил, слишком много жизней уже было утрачено; один Бог знает, шептались за закрытыми дверями, сколькими еще придется пожертвовать ради безумного стремления Мануэла к мировому господству.
Но короля было не остановить. Не дожидаясь возвращения Кабрала, Мануэл отправил еще одну флотилию из четырех кораблей под командованием Жуана да Нова, средней руки чиновника с большими связями при дворе. Как предполагал Мануэл, грозный флот Кабрала уже успел либо добиться массового обращения язычников, либо запугать и заставить сдаться Индию, и да Нове было приказано просто подхватить начатое Кабралом.
Согласно одному донесению, флотилия обошла мыс Доброй Надежды и нашла послание, которое Кабрал оставил в старом сапоге, подвешенном на сук дерева. Прочитав про стычку в Каликуте, да Нова пересек Индийский океан и сжег и потопил несколько кораблей возле гавани заморина. Он навестил факторию в Кочине и создал еще одну в Каннануре, но пока он ждал муссонных ветров, которые отнесут его домой, со стороны Каликута внезапно возникли десятки судов с вооруженными мусульманами на борту. Рявкнули португальские пушки, и когда свет померк и ветер стих, мусульманские суда вывесили флаги, мол, желают переговоров. Да Нова заподозрил уловку и продолжал стрелять, но наконец, когда пушки у него раскалились, сам вывесил белый флаг. Обе стороны договорились воздержаться от боевых действий до наступления дня, и последовала напряженная ночь, когда врагам пришлось бросить якоря вблизи друг друга, и нервные португальцы стреляли в темноту наугад. Как и Кабрал, да Нова на следующий день передумал сражаться, и в сентябре 1502 года флотилия вернулась в Лиссабон с большим грузом пряностей и отличной военной добычей.
Но нетерпеливому королю этого было мало. Чтобы угасающий крестовый поход снова набрал обороты, требовалось зрелищное проявление силы, и сделано это будет именем самого доблестного короля Португалии.
Выполнить поставленную задачу мог только один человек [442].
Васко да Гама вернулся в Лиссабон поздним летом 1499 года [443]. Он все еще носил траур по брату, но долго горевать ему не позволили.
Остановившись вознести благодарственные молитвы Богу, что уберег его от беды, он отправил известие о своем прибытии королю. Проводить его ко двору был выслан большой кортеж дворян. Огромные толпы напирали со всех сторон, горя желанием посмотреть на нового национального героя, которого давно считали погибшим. Хроники записали, что когда он предстал перед королем, «король почтил его как человека, чье открытие Индий преумножило славу Господа, честь и выгоду короля Португалии и вечную славу португальского имени в мире» [444].
Да Гаме предложили самому назначить себе награду, и он просил наследственную сеньорию над городом Синиш, губернатором которого был его отец. Титул «дом» уже был дарован ему в декабре, но орден Сантьяго отказывался передавать свои сеньоральные права, пусть даже своему выдающемуся сыну. Первооткрыватель все равно поселился в Синише, и по мере того как дело затягивалось, начали возникать потасовки между его слугами и людьми губернатора. Почти два года спустя он все еще ждал, и потому, чтобы возместить причитающиеся поступления от налогов, была ему спешно назначена пенсия от короля.
Тем временем король приказал своим чиновникам составить детально продуманную жалованную грамоту, официально прославляющую великий подвиг да Гамы [445]. Пространная грамота прослеживала историю открытий от Энрике Мореплавателя до самого Васко да Гамы. В ней признавалось, что да Гама преодолел смертельные опасности, не сравнимые с теми, с какими сталкивались его предшественники, – опасности, унесшие жизни его брата и многих славных моряков. Ему возносились хвалы за «примернейшую службу» в открытии «той Индии, кою все, кто описывал мир, по богатствам ставили превыше любой другой страны, которая во все времена была желанна для императоров и королей и ради которой в сем королевстве вошли в тяжкие расходы и ради которой столькие капитаны и прочие расстались с жизнью». Предсказывалось, что величайшие блага проистекут из этого открытия «не только нашему королевству, но и всему христианству через урон, нанесенный неверным, которые до сего дня пользовались благами Индии, и в особенности через надежду, что все народы Индии обратятся к Господу нашему Иисусу Христу, учитывая, как легко их можно привести к принятию Его святой веры, в коей некоторые из них уже получают наставление».
Правителям, добавлял Мануэл, полагается проявлять щедрость, далее следовали детали. Да Гаме, его семье и его потомкам дозволялось добавлять к своим именам приставку «дом», равнозначную английскому «сэр» [446]. Путешественник получил назначение в королевский совет. Ему была дарована еще одна внушительная ежегодная пенсия, навечно выплачиваемая его наследникам, и право каждый год посылать в Индию деньги для покупки пряностей, которые он мог ввозить без обложения королевской пошлиной. Наконец, он получил титул адмирала Индийского океана «со всеми почестями, прерогативами, свободами, юрисдикцией, доходами, освобождением от повинностей и налогов, которые по праву сопровождают сей титул» [447]. У Испании был Христофор Колумб, адмирал Моря-Океана; теперь у Португалии был Васко да Гама, адмирал Индийского океана. Этот титул возмутительно попирал все, что могли бы сказать по этому поводу сами индусы, но для аудитории поближе к дому, которой он предназначался, его смысл был совершенно ясен: пока Колумб плавал по Атлантике, да Гама добыл трофей, которого жаждали оба.
Награда была внушительной; Николау Коэльо, который также был фидальго при дворе, получил лишь десятую ее долю. Кроме того, поговаривали, что да Гама вернулся из Индии с тайным грузом перца, имбиря, корицы, гвоздики, мускатного ореха, шеллака и драгоценных камней, который выменял на личное столовое серебро.
Но как любой честолюбивый человек той эпохи, он знал, что истинная власть заключена в земле и титулах. Он продолжал добиваться обещанного ему города, а пока взялся ухаживать за доной Катариной де Атайде, семья которой имела большие связи. Когда они поженились, семья да Гамы поднялась еще на одну ступеньку дворянской иерархии. Как большинство женщин того времени, Катарина остается полнейшей загадкой для историков, хотя большой выводок детей, который постепенно ее окружил, позволяет предположить, что союз не был чисто политическим.
Васко да Гама был восходящей звездой. И когда ему представилась возможность возглавить крупную флотилию, он не мог не воспользоваться случаем еще более упрочить свое положение.
Это был опасный ход, достойный игрока, готового на любой риск. Если он преуспеет в покорении Индии, его ожидают еще большие милости. Если потерпит неудачу, то, возможно, как злополучный Кабрал, окончит свои дни в бесславном забвении. Взвесив ставки, да Гама пошел на риск.
30 января 1502 года Васко да Гама был официально произведен в адмиралы Индийского океана в кафедральном соборе Лиссабона. Среди собравшихся сановников был некто Альберто Кантино, посол герцога Феррарского, и Кантино тщательно описал эту церемонию для своего господина:
«Сперва отстояли пышную мессу, и когда она закончилась, вышеупомянутый дом Васко, одетый в алый атласный плащ на французский манер, подбитый горностаем, в шляпе и дублете, под стать плащу украшенном золотой цепью, приблизился к королю, с которым явился весь двор; один придворный произнес хвалебную речь, восхваляя величие и добродетели короля, и до того дошел, что поставил его во всем выше славы Александра Великого. Потом он обратился к адмиралу и со многими словами в его адрес и в адрес его покойных предшественников разъяснил, как своими усердием и живостью он открыл области Индии, [и] когда речь завершилась, вышел герольд с книгой в руке и велел вышеозначенному дому Васко поклясться в вечной верности королю и его потомкам, [и] когда это было проделано, он опустился на колени перед королем, и король, сняв перстень со своей руки, подарил его ему» [448].
Королевский штандарт отнесли служившему мессу епископу, который торжественно его благословил и вернул королю. Достав из ножен меч, король вложил его в правую руку своего адмирала. В левую руку он вложил штандарт, после чего да Гама поднялся и поцеловал королевскую руку. Остальные рыцари и аристократы, проходя мимо, следовали его примеру. «И так закончилась [церемония] под великолепнейшую музыку».
Дом Васко да Гама, адмирал Индийского океана, вышел из собора под звуки фанфар, особой много более значительной, нежели молодой искатель приключений, который отплыл менее пяти лет назад.
Среди вельмож, выстроившихся в тот день воздать ему хвалы, присутствовал и молодой посол Венеции.
Был ли он шпионом или нет, но у Пьетро Паскуалиго завязались сердечные отношения с португальским королем. Мануэл произвел его в рыцари и даже попросил его быть крестным отцом его сына. Дружеские отношения не могли скрыть того факта, что одержимость Португалии Востоком все больше пугала Венецию. Не скрыла этого и блестящая черная гондола, украшенная фестонами золотой парчи, которую Венеция послала Мануэлу в тот месяц, когда да Гама отплыл во второй раз [449]. Светлейшая республика все еще старалась убедить короля не плавать на край света и не наносить удар по торговым артериям, по которым текла венецианская кровь, а напасть на мусульман Средиземноморья.
Два месяца спустя Венеция сменила тактику и отозвала своего посла. Зато в декабре 1502 года Синьория создала особый совет из пятнадцати сановников, чтобы найти защиту от португальской напасти. Поскольку убеждениями ничего добиться не удалось, а речь о сотрудничестве даже не заходила, единственно возможной мерой становился саботаж.
В том же самом месяце совет пятнадцати послал в Каир тайного агента Бенедетто Сануто. Задачей Сануто было убедить султана Египта, что Португалия представляет собой угрозу для мусульман не меньшую, чем мусульмане для венецианцев. Ему было доверено предложить две стратегии против этой угрозы. Во-превых, султан снизит таможенные пошлины, чтобы венецианцы могли конкурировать с португальцами. Но даже Венеция понимала, что это маловероятно. Во-вторых, «отыскать скорые и тайные средства» [450] помешать португальцам плавать в Индию. Венецианцы не смогли заставить себя просить мусульманских союзников применить силу против своих конкурентов-христиан, но было очевидно, на чьей стороне их симпатии. Если в Индии португальцы натолкнутся на организованное сопротивление, предсказывал Сануто, то вскорости откажутся от своей затеи. Возможно, султан мог бы послать весточку заморину Каликута и побудить его «сделать то, что в его мудрости и власти ему покажется уместным». Не оставалось сомнений и в том, что он под этим подразумевал.
Часть III
Глава 14
Адмирал Индийского океана
И снова запекали сухари, закатывали по сходням бочки с вином, и на зимнем ветерке трепетали стяги, штандарты и вымпелы. Отстояли обычные молебны, пушки дали прощальный залп, и Васко да Гама отплыл из Лиссабона 10 февраля 1502 года [451].
В общем и целом флот насчитывал 20 кораблей, хотя только 15 были готовы к сроку. Своим флагманом да Гама выбрал крепкий «Сан-Иеронимо». С борта «Эсмерельды» Висенте Сорде, дядя адмирала по материнской линии, командовал подразделением флота, состоявшим из 5 кораблей. В числе капитанов были также Браш Сорде, еще один дядя Васко да Гамы со стороны матери, и Альваро де Атаиде, его шурин. Среди офицеров не последнюю роль играл также Гаспар да Гама, диковинный крестник адмирала. Недостроенные пять судов должны были отплыть в первых числах апреля под командованием кузена адмирала Эштевана да Гамы, взявшего себе новый большой военный корабль «Флор де ла Мар». Им будет не хватать верной поддержки и спокойной рассудительности Паулу да Гамы, но новая экспедиция в еще большей мере, чем прежняя, была делом семейным.
А еще она была делом общеевропейским. Лиссабон гудел от иностранных финансистов, купцов и матросов, и все говорили про Индию и пряности. Англичане, французы, немцы, генуэзцы, испанцы, фламандцы, флорентийцы и даже несколько ренегатов из Венеции что ни день прибывали, дабы попытать удачи на Востоке. Новый флот был слишком велик, чтобы Португалия только своими силами могла финансировать корабли и предоставить для них экипажи, и в него записалось большое число иноземцев.
Полученные да Гамой перед отплытием инструкции были поразительно амбициозны, хотя и чуть более подробны, нежели запредельные наказы, данные королем Кабралу. Объединенный флот должен был укрепить новорожденные португальские фактории, вынудить новые города Индии и Африки принять выгодные португальцам условия торговли и усмирить непокорного заморина Каликута. Утвердив свое господство на Индийском океане, адмирал должен был разделить флот. Самому Васко да Гаме полагалось вернуться с основной частью кораблей и их драгоценным грузом в Португалию. Тем временем хорошо вооруженная эскадра Висенте Сорде должна была остаться и развязать настоящую войну против ислама. От него ожидалось не только защищать интересы Португалии, но и установить постоянную блокаду арабских торговых путей, перерезать поставки пряностей к Красному морю и задушить экономику Египта. Если все пойдет согласно плану, довольно скоро португальские корабли войдут в само Красное море и, поднявшись по нему, встретятся с войсками, пешком продвигающимися через Африку из Марокко, чтобы совместно выступить на Иерусалим.
Первые пятнадцать судов совершили положенную остановку на островах Зеленого Мыса, где священники отслужили мессу. В командах было много неопытных новичков, и один фламандский матрос с «Леитоа Новы», корабля из основного флота да Гамы, с интересом рассматривал здешних туземцев. «Люди там совершенно нагие, – выплеснулось у него на страницы дневника, – и мужчины, и женщины, и все они черные. И у них нет стыда, ибо они не носят одежды, и женщины говорят со своими мужчинами как мартышки, и они не ведают ни добра, ни зла» [452].
Плавание через Атлантику обернулось большим, чем обычно, испытанием стойкости моряков. 6 марта флот отплыл с островов Зеленого Мыса при попутном ветре, но вскоре наступил штиль. Днями напролет морякам нечем было заняться, только ловить огромных рыбин, которые, по замечанию одного матроса, были странного и ужасного вида и весили не меньше фризских коров. Потом ветер поднялся, но принес с собой шесть недель переменчивой погоды с сильной качкой, яростными порывами ветра и бурями с градом, которые едва не разметали флот. К концу марта Большая Медведица и Полярная звезда исчезли с ночного неба, и 2 апреля палящее солнце стояло в небе так высоко, что слепило глаза и уничтожало все тени. Душными были даже ночи, и матросы мучились от жары.
Вскоре корабли пересекли экватор, полуденное солнце оказалось у них за спиной, а в ночном небе ясно засиял среди перистых облаков Южный Крест. Матросы засматривались на огромные косяки летучих рыб, которые раз за разом выскакивали из воды, или на стаи белоголовых фрегатов, которые, держась вровень с парусами, иногда складывали огромные крылья, чтобы, упав камнем, схватить длинным клювом добычу. Когда за косяками рыб гнались крупные хищники, косяки выпрыгивали так высоко, что по десять или двадцать рыбин разом падали на палубы. Наконец исчезли даже рыбы и птицы, и окрест не было видно ничего живого. Жутковатую тишину нарушали лишь обычные мелкие несчастья: треск сломанной мачты или скрежет, с которым один корабль наталкивался на другой, так что приходилось тратить часы на то, чтобы распутать снасти.
К 23 апреля, дню Святого Георгия, корабли наконец поймали сильный попутный ветер и вернулись на курс. Посоветовавшись со своими капитанами, которых спрашивал, далеко ли еще, по их мнению, до мыса Доброй Надежды, да Гама взял курс на восток-юго-восток. Ветер опять повернул на встречный, и корабли погнало на запад в сторону Бразилии. Под конец мая, снова взяв нужный курс, флот настолько продвинулся на юг, что первые дни зимы длились не более восьми часов, и во время ужасной бури с «дождем, градом, снегом, громами и молниями» [453] западные ветра помогли морякам обогнуть мыс Доброй Надежды.
К тому времени удушливая жара сменилась, как записал один немецкий моряк, «холодом таким, каких не случается в Германии. Мы все мерзли, так как солнце лежало к северу, и многие наши от холода умерли. Море такое штормовое, что чудно и страшно смотреть» [454]. Немец плотнее заворачивался в промокший плащ, но его озноб, наверное, лишь усилился, когда ему рассказали, что всего два года назад в этом самом месте пропали четыре корабля – включая судно, капитаном которого был Бартоломеу Диаш. Днями напролет флот медленно и упорно продвигался с убранными парусами по бурному морю и под проливным дождем, и все были измучены к тому времени, когда адмирал указал на стаю птиц, которые охотились на море днем, но ночевать улетали на сушу: это, пообещал он, верный знак того, что берег близко. Капитаны гнали свои корабли как могли при неполных парусах, а 30 мая дозорные завидели землю, и вскоре суда бросили якорь. Пока матросы с облегчением праздновали небольшую победу, штурманы, изучив береговую линию, сравнили ее с картами и прикинули, что флот находится в сотне лиг за мысом Доброй Надежды.
Но стихия не собиралась униматься. «Потом мы подняли якорь и двинулись дальше, – возобновляет рассказ немецкий моряк, – и когда мы оказались в море, нас настиг ужасный шторм, и море было таким бурным, каким мы никогда его не видели». Бушприты и мачты ломались как ветки, и три корабля исчезли из виду. Волны били в борта и перекатывались на палубы, и после трех дней борьбы с волнами, течениями и ветрами даже бывалые моряки уверились, что им пришел конец. В самый худший момент из моря выпрыгнул гигантский дельфин и пролетел почти над мачтами, напугав суеверных матросов. Вскоре после этого горбатый кит с плавниками высотой с паруса плавал вокруг кораблей так долго и так при этом шумел, что матросы содрогались от дурных предчувствий. К их бесконечному облегчению, эти «гости» обернулись добрым предзнаменованием, шторм уступил место крепкому попутному ветру, и команды развесили мокрую одежду сушиться на слабом солнышке.
Вскоре после того как флот вошел в Индийский океан, адмирал созвал совет всех пятнадцати капитанов. Было решено разделиться: пять кораблей Висенте Сорде направятся прямиком к побережью Мозамбика, а остальной флот заглянет в прославившийся торговлей золотом порт Софала [455]. Товары, предназначенные для продажи в Софале, перегрузили на корабли да Гамы, и неделю спустя флот бросил якорь на значительном расстоянии от береговых зыбучих песков.
Согласно европейским легендам, Софала считалась сказочно богатым библейским портом страны Офир, местом, где располагались копи царя Соломона, и столицей царицы Савской или всеми тремя, вместе взятыми. «Наш капитан сказал, что некогда тут жил царь, приходивший поднести золото Господу нашему Иисусу Христу в Вифлеем, но что нынешний царь язычник», – записал немецкий моряк. Разумеется, под «язычником» подразумевался мусульманин. Местоположение города менялось вместе со смещением зыбучих песков: когда прибыли португальцы, он располагался среди пальмовых рощ и плантаций возле устья реки. Материк здесь образовывал широкий подковообразный залив, как бы обнимая остров, и вниз по реке спускались лодки, перевозившие добываемое в копях золото.
Да Гама снова созвал капитанов на совет. Предстояло обсудить, как подготовиться отразить враждебные действия, но при этом самим не показаться агрессивными настолько, чтобы спровоцировать упреждающую атаку. В конечном итоге было решено, что каждый капитан приведет в боевую готовность свое судно и вооружит команду, но само оружие будет спрятано.
На рассвете спустили шлюпки. На берегу уже столпились местные жители, и когда европейцы приблизились, пятнадцать или двадцать человек стащили на воду долбленую лодку. В нее сели пять или шесть арабов, которые поплыли навстречу чужеземцам. Когда лодка оказалась в пределах слышимости, представитель да Гамы внушительно объявил, что привез послание от адмирала Португалии. Арабы доложили об этом султану и вернулись с дарами – бананами, кокосами и сахарным тростником. Они сказали, что султан готов принять чужеземцев и желает выслушать послание.
Да Гама не намеревался рисковать и, прежде чем высадить своих людей, попросил заложников. Вскоре прибыли два важных с виду араба, и соответственно два португальца отправились во дворец. Вернулись они опять же с заверениями в гостеприимстве, бананами, кокосами и с коровой. После того как шлюпка разведала фарватер неглубокой, но проходимой гавани, в залив вошли флагман и еще три корабля. Торговые сделки заняли десять или двенадцать дней, в результате чего европейцы взяли на борт большое количество золота, обменянного на простые стеклянные бусы, медные кольца, шерсть и маленькие зеркальца. Отношения оставались дружелюбными, хотя, согласно одному сообщению, да Гама послал своих людей тайком разведать окрестности в поисках наилучшего места для строительства форта.
С финансовой точки зрения экспедиция началась великолепно, впрочем, удача вскоре от нее отвернулась: один груженный золотом корабль налетел на риф на выходе из гавани, и его едва успели эвакуировать, прежде чем он затонул. Остальной флот продолжил путь в Мозамбик, где неделю спустя воссоединился с эскадрой Сорде.
На сей раз султан Мозамбика встретил их с распростертыми объятиями и заверениями в готовности к сотрудничеству. В порту также нашли укрытие два из трех кораблей, потерянных в шторме, а люди Сорде торопливо строили из привезенных из Португалии материалов вооруженную каравеллу, которую предполагалось оставить патрулировать африканское побережье. Флот поднял на борт дрова и пресную воду и опять обменял бусы на золото, и когда все было готово, адмирал продиктовал письмо, где обрисовывал курс, которым намеревался следовать. Его он отправил в город с наказом передать второй волне кораблей, и тринадцать судов отправились к следующему заранее оговоренному порту.
Остров Килва, про который да Гама столько слышал в первое свое плавание, столетиями служил резиденцией самым могущественным султанам Восточной Африки [456], арабским правителям всего побережья от Софалы и Мозамбика на юге до Момбасы и Малинди на севере. Звезда династии уже некоторое время клонилась к закату – руины монументального дворца с просторными внутренними дворами, бассейнами для купания и тронными залами величественно пылились на мысе, выступающем в Индийский океан, – а три года назад угасла окончательно, когда султана убил его собственный эмир. Однако остров был еще очень и очень богат. Его влиятельные купцы-мусульмане выступали посредниками в торговле золотом и слоновой костью из Софалы и Мозамбика, которые находились слишком далеко к югу, чтобы суда из Индии и Аравии могли доплыть туда и успеть вернуться с поворотом муссонных ветров. Также отсюда везли золото, добываемое на огромном гранитном плато Зимбабве, равно как и серебро, а также амбру, мускус и жемчуг. Высокие городские дома были построены из красивого оштукатуренного камня, украшены декоративными нишами и стояли среди прекрасных цветников и садов. Большая мечеть с ячеистыми куполами и лесом колонн из кораллового песчаника походила на кордовскую Мескиту в миниатюре. Возможно, дни былой славы Килвы миновали, но она все еще оставалась для португальцев заманчивым трофеем.
Двумя годами ранее Кабрал по совету да Гамы приплыл сюда с предложением торговли и дружбы. Поначалу узурпировавший власть эмир Ибрагим будто бы одобрил предложение, но потом решил, что у португальцев неприятно воинственный вид, и удалился в свой дворец, где велел запереть все двери и окружил себя вооруженной стражей. Португальцы, как обычно, были убеждены, что мусульмане твердо вознамерились не торговать с христианами, и да Гаме было приказано сбить спесь с гордой Килвы.
Флот бросил якорь неподалеку от острова после полудня 12 июля, и да Гама осмотрелся. Гавань щетинилась мачтами, еще больше кораблей было вытащено на берег. Мужчины и женщины, переступая через корни мангровых деревьев, неспешно спускались к воде ради ежедневного купания в море. Чернокожие рабы и жители победнее ходили почти нагими, арабы же были облачены в длинные шелковые и хлопчатые одеяния. «Их тела красиво сложены, – отмечал один европеец, – а их бороды велики и ужасны с виду» [457].
Да Гама ожидал прохладного приема и объявил о своем прибытии шумным залпом пушечных ядер. Вскоре подошла лодка, но, как выяснилось, сидел в ней лишь дегредадо, оставленный здесь Кабралом. Бывший преступник передал письмо, которое дал ему, возвращаясь домой, Жуан да Нова. Да Нова не только излагал своему преемнику подробности кровавой стычки в Каликуте и успеха в Каннануре, но и предостерегал, что дружеским обращением они от правителя Килвы ничего не добьются.
Адмирал отправил дегрегадо назад с посланием для эмира. Гонцу велели объявить, что адмирала послал король, его господин, замириться с Килвой, и у него есть много товаров для торговли.
Получив такое послание, эмир тут же заболел.
Да Гама созвал капитанов на совет на своем корабле. Эмир Ибрагим явно старался избежать встречи с ним, а потому он просил каждого капитана высказать свое мнение. Было принято решение, и на следующее утро капитаны вооружили шлюпки и отправили их на берег. Шлюпки выстроились перед дворцом, и да Гама, командовавший операцией с собственной шлюпки, снова отправил гонца к эмиру. Если он не подчинится и не встретится с адмиралом, заявил гонец, флот откроет огонь по его дворцу.
После долгих препирательств здоровье эмира поправилось настолько, что он смог выйти на берег в сопровождении толпы – по прикидкам немецкого моряка – из более чем двух тысяч человек. Четверо слуг подняли посеревшего лицом Ибрагима и на руках перенесли его в шлюпку адмирала. Когда он уселся на ковре, да Гама сообщил ему, что привез письмо от своего короля, но поскольку время коротко, то просто сам перескажет ему суть. Если эмир желает получить защиту португальцев, ему придется выложить огромную сумму золотом и предоставить все товары, какие они потребуют, по местным ценам. В знак того, что он верный вассал португальского короля, ему придется посылать португальской королеве ежегодную дань из десяти жемчужин и поднять над своим дворцом португальский флаг. Если он не подчинится, да Гама бросит его в трюм и задраит люки.
Пораженный эмир, который не привык, чтобы к нему обращались в подобных выражениях, спросил, прибыл ли адмирал с войной или с миром. С войной, если эмир того пожелает, или с миром, если эмир того пожелает, – дело за ним самим, ответил адмирал и добавил, что сам он, оказавшись на месте эмира, не сомневался бы.
Эмир выбрал мир, но попытался увильнуть. У него недостаточно денег для выплаты первой дани, с сожалением сказал он, но он сделает все от него зависящее. Да Гама настаивал, что спорить бесполезно, но Ибрагим затянул переговоры настолько, что адмирал наконец согласился на гораздо меньшую сумму. В конце концов, главным был принцип.
После того как эмир выдал в качестве заложников трех видных лиц из своей свиты [458], его перенесли назад на берег. Толпа разразилась аплодисментами и криками радости, что война предотвращена, и поспешила рассыпать цветы под ноги узурпатору-убийце. Европейцы вернулись на свои корабли, и вскоре подошли лодки, везущие целое стадо дареных коров, коз и кур.
Через три дня «деньги за защиту» прибыли под аккомпанемент песнопений «Португалия! Португалия!» – так распевали женщины будто бы в спонтанном проявлении радости. Взамен эмир получил назад своих заложников, несколько алых накидок, четырнадцать отрезов темно-красного бархата, жалованную грамоту от имени короля Мануэла, который любезно принимал эмира в качестве своего вассала и обещал защищать его владения, и шелковое знамя, на котором золотом был вышит королевский герб. Привязанное к копью знамя послали на берег в сопровождении почетного караула, под звуки пушечного залпа и оркестра труб, кастаньет и барабанов. Прагматичный Ибрагим принял драгоценный знак с почестями. Он решил пойти до конца, и флаг пронесли по улицам под все новые крики «Португалия! Португалия!» и лишь потом с большими церемониями водрузили на самую высокую башню дворца.
Пока фламандский моряк пожирал газами полуголых местных женщин и удивлялся гигантским размерам здешних луковиц и местным овцам с толстыми хвостами, да Гама велел своему клерку составить памятную записку, чтобы ввести в курс дела следующую за ним флотилию. Эмир, заявлял он, повел себя весьма нелюбезно, «вследствие чего я, вооружив себя всеми имеющимися при мне людьми, твердо решил его уничтожить и пришел с моими шлюпками к его дому и послал за ним с гораздо большей нелюбезностью, нежели та, с которой он обращался со мной, и он подчинился и пришел, и я заключил с ним мир и дружбу при условии, что он заплатит дань королю, моему повелителю» [459]. Поскольку эмир считался теперь вассалом Португалии, да Гама приказал своему преемнику сохранять мир, пока эмир держит слово. Он добавил подробное описание курса, которым намеревался следовать, и проинструктировал опоздавших плыть день и ночь, чтобы его нагнать, а письмо подписал: «Адмирал дом Васко».
Корабли были вытащены на берег, проконопачены, просмолены и готовы к отплытию. Еще два дня ушло у флота на то, чтобы выйти в открытое море; из-за приливов, предупреждал идущих следом да Гама, выйти из гавани не так-то просто [460]. Всеобщее раздражение сменилось радостью, когда, не успели еще корабли покинуть бухту, на горизонте показался Эштеван да Гама на «Флор де ла Мар». Он отплыл из Лиссабона в мае, но два его корабля потерялись в шторм у мыса Доброй Надежды, и да Гама оставил свое послание в надежде, что они нагонят.
Объединенная армада из 16 кораблей направилась на север в Малинди. Если европейцы предвкушали прославленное гостеприимство султана, их ожидало разочарование. Начали завывать муссонные ветра, хлестал дождь, и корабли загнало на пять миль к северу от города. Флот бросил якорь в небольшой бухте, и матросы отправились на поиски пресной воды. Тем временем да Гама приказал своим капитанам составить списки пряностей, какие они надеялись взять на борт, а также опись денежных сумм и товаров, которые привезли с собой. Он объяснил, что хочет, пока они будут пересекать океан, выработать стратегию, какие именно сделки лучше заключать в Индии. Впрочем, он преследовал и не столь явные цели: несколько кораблей финансировали частные купцы, и он твердо решил не позволить этим кораблям соперничать друг с другом – или с торговыми агентами короля – за драгоценные пряности. «Мы все сочли разумным сообщить ему о наших товарах и денежных суммах, равно как и о том, что мы хотим купить, сохраняя для нас возможность взять на борт пряностей больше или меньше в зависимости от качества и цен, какие мы застанем» [461], – писал Маттео да Бергамо, торговый агент одного итальянского купца.
Султан Малинди видел, как корабли прошли мимо, и послал письмо адмиралу. К стоянке португальцев гонцам пришлось брести по пояс в воде, поскольку на суше по ночам бродили дикие звери, и да Гама отправил назад дружеское приветствие и новые инструкции отставшим кораблям не мешкать. Африканская часть его экспедиции прошла более-менее согласно плану, и да Гама решил направиться прямиком в Индию. После всего двухдневной стоянки флот поднял паруса в пятницу 29 июля.
Муссон не пошел им навстречу. Шторм загнал армаду едва ли не к Аравийскому полуострову, и когда флот наконец прибыл в Индию, то оказался к северу от Каликута на территории, контролируемой мусульманами. Корабли двинулись вдоль берега на юг и прошли мимо города, султан которого, как записал фламандский матрос, имел в своем владении по меньшей мере восемь тысяч лошадей и семьсот боевых слонов. Европейцы, добавил он, захватили четыреста кораблей, «и мы убили людей и сожгли их корабли» [462].
Имела место эта ужасающая бойня или нет (а если и имела, то почти наверняка в гораздо меньшем масштабе), адмирал Индийского океана твердо решил раз и навсегда очистить Аравийское море от арабов. Так приказал король. Бойня в Каликуте и нападения на португальские флотилии сделали это лишь еще более настоятельным. Да Гама был готов исполнить свой христианский долг, и, без сомнения, перспектива лично отомстить за то, как с ним здесь обошлись, ожесточала его душу.
Несколько дней спустя флот прибыл на остров Анджедива, где в первое путешествие был взят в плен Гаспар да Гама. К тому времени сотни матросов были поражены цингой. Их перенесли на берег и разместили в импровизированных хижинах. Загадочная болезнь наводила ужас на новичков, хотя фламандский матрос старался отвлечься от ее ужасов, охотясь на пятифутовых ящериц. Дружелюбные туземцы принесли много еды: свежую и вареную рыбу, огурцы и бананы, которые португальцы, одержимые этими плодами, называли «индийскими фигами», – но шестьдесят или семьдесят человек все равно умерли.
Однажды утром на горизонте появился парус, и адмирал послал три корабля и две каравеллы отогнать судно прочь. Когда они приблизились, на судне подняли штандарты и флаги, и команды разразились радостными криками. Это оказался один из двух кораблей, отплывших в мае и потерявшихся у мыса Доброй Надежды. Корабль принадлежал богатому «новому христианину» Руйю Мендешу де Брито [463], а капитаном на нем служил флорентиец Джованни Буонограция; на борту также находился клерк Томе Лопеш, взявшийся составить полный отчет о плавании. Когда корабль присоединился к флоту, матросы заполонили его палубу послушать новости из Португалии и узнать, не везут ли они письма. Отставший корабль заглянул по дороге в Малинди, и теперь моряки раздавали поправляющимся пациентам кур и апельсины – подарок тамошнего султана.
Вскоре объявился и второй потерянный в мае корабль, и теперь уже огромная армада поплыла к Каннануру, самому северному из трех главных портов Малабарского берега. По пути европейцы захватили несколько лодок и присвоили себе их груз риса, меда и масла. Подданных дружественных правителей отпустили; остальных обратили в рабство, а их суда сожгли.
Вместо того чтобы войти в порт Каннанура и начать торговать, адмирал приказал своим капитанам выжидать в море. Флот остановился напротив горы Эли, вехи, на которую держали курс арабские штурманы, и месте, которое сам да Гама впервые увидел в Индии.
К тому времени в план были посвящены все экипажи. Фламандский матрос изложил его как можно проще. Они должны были подстеречь торговые караваны, направляющиеся из Аравии в Каликут, «корабли, которые везут пряности, что попадают в нашу страну, и мы хотели их уничтожить, чтобы один только король Португалии получал пряности отсюда» [464].
Каждые несколько часов один из кораблей отправлялся бороздить морские пути, а когда заканчивалась его вахта, на место заступал другой. Такая эстафета тянулась днями, но ничего не дала. Один капитан по имени Фернан Лоуренцо попытался взять на абордаж гигантское четырехмачтовое дхоу с большой командой на борту, но после залпов из шести или семи бомбард у канониров закончились ядра, и когда спустилась ночь, добыча улизнула. Корабль, принадлежавший Руйю Мендешу де Брито, умудрился захватить самбук [465], небольшое двухмачтовое дхоу, но оно везло всего лишь паклю и ямс и направлялось, как выяснилось, в дружественный Каннанур. Да Гама приказал держать под строгим надзором 24 снятых с него моряка-мусульманина, пока решал, что с ними делать. В конечном итоге потребность в союзниках возобладала над императивами веры, и он передал их на попечение послу из Каннанура, который возвращался с его флотом в Индию.
Эти 24 человека вскоре узнали, какой участи им выпало избежать.
Армада держалась наготове, пушки были заряжены, офицеры постоянно устраивали смотр матросам, среди которых росло недовольство по мере того, как подходили к концу припасы. Наконец за два дня до конца сентября начали с поздними муссонными ветрами прибывать корабли из Джедды и Адена, и под парусами объявилась подходящая добыча.
Томе Лопеш, клерк с корабля Руйя Мендеша де Брито, позднее составил полный отчет об ужасах, творившихся в следующие несколько дней [466].
«Сан-Габриэл» совершал патрулирование, когда на горизонте показалось огромное арабское судно. По крику дозорных канониры бросились к орудиям и дали несколько предупредительных залпов поверх его носа. Европейцам показалось странным, что хотя судно и было вооружено, оно остановилось и спустило флаг. «Сан-Габриэл» стал с ним бок о бок, и солдаты поднялись на борт, не встречая ни малейшего сопротивления.
Арабское судно называлось «Мири». К глубокому удовлетворению португальцев, оно направлялось в Каликут. На борту у него теснились 240 мужчин и более 50 женщин и детей [467]. Большинство были паломниками, возвращавшимися из хаджа в Мекку, но также на борту находилось с дюжину самых богатых купцов Каликута. Они привыкли к столкновениям с пиратами у Малабарского берега и решили не сражаться, а откупиться частью богатств, которые везли.
Самого видного купца звали Джаухар аль-Факих [468], и он был, как узнали европейцы, ни много ни мало торговым представителем в Каликуте султана Мекки. «Мири» входил в состав его личного флота, и он взялся вести переговоры.
По просьбе аль-Факиха адмирал Индийского океана встретился с ним лично. Мусульманский вельможа начал с высокой ставки и в свойственной арабам манере, чтобы сохранить лицо, представил неприкрытую взятку как обычную деловую сделку. Мачта у него сломана, объяснил он, и за новую он готов предложить внушительную сумму золотом; более того, он лично позаботится о том, чтобы каждый корабль португальского флота наполнил свой трюм пряностями.
Да Гама отказал. Пять лет назад он разыграл целый спектакль, возмутившись, что мусульмане Каликута назвали его пиратом. Не без причины с ним сейчас обращались как с таковым. Однако за это время многое изменилось. Первая экспедиция да Гамы была разведывательным походом на трех маленьких кораблях. Вторая – завоеванием силами ощетинившейся пушками армады. Тогда он был первопроходцем. Теперь он крестоносец, и у него были замыслы посерьзнее простого вымогательства.
Аль-Факих поднял ставки. Если его, его племянника и одну из его жен отпустят, он гарантирует, что за собственный счет доверху нагрузит пряностями четыре самых больших корабля. Сам он готов остаться заложником на флагманском корабле; адмиралу нужно лишь разрешить его племяннику сойти на берег, чтобы обо всем договориться. Если, скажем, через пятнадцать или двадцать дней груз не объявится, они могут поступить с ним как пожелают, равно как и с ценным грузом «Мири». В дополнение ко всему он обещал выступить посредником между португальцами и заморином, чтобы обеспечить возвращение товаров на португальский склад и восстановить дружеские отношения вместо злополучной вражды, которая тогда возникла.
Адмирал грубо приказал торговцу вернуться на свой корабль и сказать своим собратьям-мусульманам, чтобы отдали все ценное, что находится на борту.
Переговоры с неотесанным европейцем были явно невозможны, и гордость аль-Факиха уже достаточно пострадала.
– Когда я командовал этим кораблем, – ответил он, – они слушались меня. Теперь им командуете вы, вот вы им и при-казывайте! [469]
Тем не менее он вернулся на «Мири», и после жарких дебатов купцы послали португальскому флоту скромную сумму. Да Гама ее принял, а затем послал шлюпки и солдат прочесывать арабский корабль в поисках новой добычи. Один из португальских солдат, перенося захваченные товары, оступился и упал за борт. Течение столкнуло два корабля, когда солдат находился между ними, и его раздавило. Адмирал стал еще более неумолим.
Нападение на корабли в море было уже военной операцией. Представители европейских купцов только недоуменно наблюдали за происходящим, а да Гама собрал совет капитанов. Маттео да Бергамо слышал, что солдаты захватили на «Мири» множество золотых и серебряных монет, равно как и турецкие бархаты, ртуть, медь и опиум. «Нам нельзя было даже говорить о добыче, – писал он, – и тем более потому, что в захвате ее мы не участвовали. Нам сказали, что это не наше дело» [470].
Переговоры зашли в тупик, патовая ситуация тянулась уже пять дней. «Был понедельник, 3 октября 1502 года, – писал Томе Лопеш, – день, который я буду помнить до конца моей жизни» [471].
К тому времени солдаты да Гамы забрали с арабского корабля все оружие, какое могли найти. Корабль был совершенно беззащитен, и адмирал приказал своим людям вернуться в шлюпки. Их задача была проста. Они должны были оттащить «Мири» в море на безопасное расстояние от португальского флота. Потом они должны его запалить и сжечь со всеми, кто был на борту.
Солдаты поднялись на «Мири», подожгли в нескольких местах палубу и, пока разбегались языки пламени и поднимались клубы дыма, попрыгали в шлюпки. Кое-кто из мусульман кинулся тушить костры, и один за другим их затоптали. Другие выкатили несколько малых пушек, которые умудрились спрятать от обыскивающих, и стали торопливо их заряжать. Паломники и купцы бросились хватать все, что могло бы служить снарядами, включая камни размером с кулак из груд балласта в трюме. Понимая, что и речи быть не может о том, чтобы сдаться, они твердо решили, что лучше умереть сражаясь, чем сгореть заживо.
Когда солдаты в шлюпках увидели, что костры затоптаны, они вернулись на веслах, чтобы запалить их снова. Стоило им приблизиться, как по ним открыли огонь из пушек, женщины наравне с мужчинами начали бросать камни. Скорчившись под градом камней, европейцы поспешно ретировались. Они попытались потопить «Мири», расстреляв его с расстояния из пушек, но орудия в шлюпках были слишком малы, чтобы причинить серьезный урон.
Мусульманки срывали с себя украшения и, сжимая в кулаках золото, серебро и драгоценные камни, протягивали их вслед шлюпкам, крича, мол, пусть забирают все, что у них есть. Они поднимали своих младенцев и маленьких детей и отчаянно умоляли христиан сжалиться над невинными. В последний раз купцы кричали и жестикулировали, мол, заплатят большой выкуп, если им сохранят жизнь.
Да Гама, скрытый из виду, наблюдал через бойницу на своем корабле. Томе Лопеш был потрясен, он был шокирован отказом адмирала смилостивиться и изумлен тем, что тот готов отказаться от подобных богатств. По его меркам, предложенного выкупа хватило бы, чтобы выкупить всех до единого христианских пленников в Марокко, и все равно осталась бы «великая казна» для короля. Бергамо и прочие торговые агенты, без сомнения, недоумевали, какая часть их прибылей вот-вот развеется дымом. Тем не менее среди экипажей было немало фанатичных христиан, которые, убивая мирных торговцев и паломников, испытывали мук совести не больше, чем их крестоносные предки. Обесчеловечивающая идея, что иноверцев нельзя считать по-настоящему людьми, въелась слишком глубоко, чтобы ее поколебать. Как святые воины до и после них, они избегали смотреть в глаза своим жертвам и продолжали делать свое благое дело.
«Мири» еще держался на плаву. Отчаявшиеся мусульмане вытащили на палубу матрасы и прикрывавшие груз циновки и продолжали стрелять и бросать камни из импровизированных укрытий. Корабль Томе Лопеша был ближе всего, и он и команда могли видеть, как люди в шлюпках размахивали флагами и просили прийти к ним на помощь. Они подплыли и взяли солдат на борт, половину на сам корабль, половину на захваченный ранее самбук, который все еще вели за собой. Канониры навели на «Мири» большую пушку, и ядро врезалось в основание мачты, расщепив дерево. Считая, что ситуация под контролем, португальский корабль подошел почти вплотную к вражескому судну.
Из них двоих «Мири» был гораздо больше и выше, и христиане развернули свой корабль так, чтобы верхушка его кормы стала против середины арабского судна. Мусульмане бросились действовать: они так быстро перекинули канаты на корабль Лопеша, что не успели солдаты оглянуться, как по канатам поползли мусульмане. Они цеплялись за сети, которые должны были служить преградой абордажным командам, вскарабкивались по оснастке и бросили канаты назад. Оставшиеся на «Мири» их подхватили и подтянули два корабля вплотную друг к другу.
Внезапно христиане оказались в большой беде. При столь тесном контакте их пушки были бесполезны. Противник сильно превосходил числом сорок или около того матросов, и стоило кому-то из них высунуть голову, как на них обрушивался град камней. Несколько солдат вскарабкались в воронье гнездо и вели ответный огонь, но запас стрел у них был весьма скудным, к тому же мусульмане стреляли в ответ, подбирая их же стрелы с палубы. Лопешу и его товарищам пришлось прятаться на баке и в трюме: только один солдат, вооруженный арбалетом, помешал людям с «Мири» хлынуть на борт.
Это был самый долгий день в году, позднее писал Лопеш (и уж точно казался таковым), но когда начали сгущаться сумерки, накал битвы как будто и не думал ослабевать. Мусульмане сражались с «такой яростью, что чудесно было смотреть, и пусть даже мы многих убили и ранили, казалось, будто ни один не умирает и ни один не чувствует ран» [472]. Они вырывали стрелы из тел и метали их во врагов, а после без промедления сами бросались в схватку. Четырнадцать или пятнадцать мусульман перепрыгнули на португальский корабль и атаковали ют со сверхчеловеческой яростью людей, знающих, что их дело правое. Теперь жертвы превратились в мстителей, и эти мстители напирали на дверь, отмахиваясь от вражеских копий. Забаррикадировавшихся на юте офицеров и солдат они принудили к кровавому отступлению на главную палубу. Сражаться остались только Томе Лопеш и Джованни Буонограция. Кираса, в которую облачился капитан, уже была помята и пробита под градом камней, и когда он поднялся, ремни порвались и нагрудная пластина упала на доски. Он повернулся к верному товарищу.
– О, Томе Лопеш, клерк сего корабля, – сказал он, – что мы делаем здесь, когда все остальные ушли?
И они тоже, оба тяжело раненные, покинули ют. Ворвавшись внутрь, мусульмане разразились победными криками. Осмелевшие люди с «Мири» хлынули на палубу португальского корабля. К тому времени большинство европейцев были ранены, многие погибли. Уцелевшие прятались за парусами, единственным укрытием, какое им осталось.
Поскольку ветер дул противный, остальная армада ничего не могла поделать, но наконец несколько кораблей сумели подобраться поближе. Португальцы не спешили стрелять из страха попасть в собственных людей, и у них на глазах несколько их товарищей, оставив всяческую надежду, бросились за борт. Раненые и измученные люди с «Мири» оступались, когда пытались дотащиться назад на свой корабль, и тоже падали в море, но на их место вставали все новые волны нападающих.
Наконец паруса «Жулина», сравнительно крупного португальского судна, поймали бриз, и он направился прямиком к «Мири». Мусульмане поспешили вернуться к себе, перерезали канаты и оттолкнули корабль. «Жулин» был больше подвергшегося нападению корабля Лопеша, но люди на нем поглядели на распаленного врага и решили оставить его в покое. «Мири» начала спасаться бегством.
Только тогда Васко да Гаме удалось прибыть на место схватки на «Лионарде». Главные боевые корабли шли за ним следом, и теперь они бросились в погоню за ускользающей добычей. Ветер крепчал, море вздымалось огромными валами, и эти валы забросили их сначала гораздо дальше «Мири», потом утащили назад. Проходя мимо, они дали несколько неприцельных залпов, потом их отнесло снова. Жуткая погоня продолжалась четыре дня и ночи, раненые мужчины и женщины «Мири» лежали, распластавшись на палубе, взывая к пророку спасти их от рук христиан.
Конец истории столь же омерзителен, как и все происходившее до того. Один молодой мусульманин спрыгнул с «Мири» и по бурному морю доплыл до ближайшего португальского корабля. Тяжело дыша, он пообещал капитану выдать секрет, как потопить арабское судно, если тот пощадит его жизнь. Мусульманин обещал привязать канат к рулевому веслу судна, и когда он так повредит «Мири», португальцам не придется гоняться за ним по всему морю.
Предатель сделал свое, и пушки выстрелили. «И так, – записал для потомков Томе Лопеш, – после тех сражений адмирал приказал сжечь корабль со всеми, кто был на нем, весьма жестоко и без малейшей жалости» [473]. Крики рвали воздух. Некоторые мусульмане бросались в море с ножами в руках и плыли к шлюпкам португальцев, но их убивали в воде, когда они пытались продырявить шлюпки или вскарабкаться на них. Все остальные [474] – почти триста мужчин и женщин – утонули.
Юный предатель настолько устыдился при виде ужасного зрелища, что сам взялся отомстить. На борту «Мири», сказал он, были огромные сокровища, которых христиане не нашли. Золото, серебро и драгоценные камни были спрятаны в бочонках масла и меда, и когда купцы поняли, что гибель близка, то все побросали в море.
Лишь в одном португальцы проявили толику милосердия и прагматизма. Перед тем как потопить «Мири», они забрали с него семнадцать детей [475]. Они считали, что, крестив их насильно, спасают их души. Еще они захватили штурмана корабля, горбуна с полезным опытом навигации в Индийском океане, и тут же нашли для него применение.
С мрачным удовлетворением да Гама продиктовал письмо заморину Каликута и приказал штурману его доставить. В письме объяснялось, что изо всех душ на борту «Мири» адмирал пощадил лишь нескольких детей и человека, который стал теперь его гонцом. Остальные, заявлял да Гама, были убиты в отмщение за португальцев, убитых в Каликуте, а дети были крещены в отместку за португальского мальчика, которого мавры забрали в Мекку, чтобы сделать из него мусульманина. Это, добавлял он, было «демонстрацией того, как португальцы возмещают урон, который они понесли, а остальное произойдет в самом городе Каликут, куда он очень скоро надеется прибыть» [476].
Васко да Гама вернулся в Индию на службе короля, который мечтал приблизить эру вселенского христианства. Чувство меры у визионеров уменьшается пропорционально размаху навязчивой идеи, а у мирового господства и честной игры нет общей границы. Если адмирал имел какое-то представление о естественной справедливости, оно тоже было пожертвовано призыву к священной войне.
Глава 15
Шок и трепет
Флаги крестоносцев триумфально развевались на мачтах и вороньих гнездах европейского флота. На распущенных парусах алые кресты завоевателей были видны издалека. Кресты здесь были не ради украшения и не просто как знак благочестия и мольбы о защите. Не все записывались в плавание, зная о безумном замысле короля Мануэла сокрушить ислам и помазать себя вселенским императором, но мало кто, если вообще таковые нашлись, верил, что они отправляются в мирную торговую экспедицию.
Подавляющее большинство моряков Васко да Гамы в точности знали, на чьей они стороне. В глазах солдат и матросов адмирал был истинным вождем, заслужившим их безусловную преданность. В глазах капитанов он был прозорливым командиром, который советовался с ними регулярно и не спускал неповиновения. В глазах священников он был крестоносцем, делающим Божье дело. Гражданских всегда затягивало в водоворот войн, врага всегда карикатурно выставляли недочеловеком, и бесчеловечные ужасы войны зачастую становились тем страшнее, когда люди считали, что сражаются за веру. В эпоху, когда для завоевателей обычным делом было вырезать целые города, ни поборники, ни противники да Гамы не считали его нападение на «Мири» поступком бессовестным. Только нескольких склонных к созерцанию людей, вроде клерка Томе Лопеша, потрясла человеческая трагедия священной войны.
У представителей купцов были иные причины для беспокойства. Их наниматели финансировали большую часть флота, однако Маттео да Бергамо отмечал, что адмирал как будто твердо решил поставить крестовый поход выше торговли. Дом Васко ясно дал понять, что лишь немногим торговым агентам позволит сойти с корабля, и в безошибочных выражениях предложил, чтобы они покупали свои пряности в тех местах, о которых условится он, и по тем ценам, которые он установит. Выбора у них не было: как выразился да Бергамо, «мы знали его пожелания и не хотели выказывать ему сопротивления. А потому мы согласились с радостью и единым голосом» [477]. Но они не могли не спрашивать себя: если эпизоды, подобные жестокому нападению на «Мири», повторятся, увезут ли они вообще что-нибудь домой?
Крестоносное рвение, возможно, вредило торговле, но у да Гамы были более дальние виды. Реалистичный капитан превратился в железного адмирала. Ему не было дела до того, что его больше боятся, чем любят, и он не собирался спускать сопротивления замыслам Португалии. Впрочем, реальность быстро напомнила ему, что природа не считается с замыслами адмиралов и королей.
Через несколько дней на горизонте показались еще четыре больших дхоу, и «Сан-Паулу» отправился за ними в погоню. Арабские корабли бежали к суше, и три из них скрылись в устье реки. Четвертый в спешке налетел на отмель, и, подойдя ближе, португальские матросы закинули на арабское судно крючья и бросили якорь, чтобы и их тоже не снесло на отмель. Абордажная команда перебралась на судно, и многие мусульмане попрыгали за борт. Не успели христиане очутиться на борту, как захваченный корабль страшно заскрипел и повалился на бок. С ним начал крениться и «Сан-Паулу», и экипажу пришлось расцепить суда. Подраненный корабль рывком сошел с отмели, а застрявшие на нем люди цеплялись за что могли и ждали спасения. Европейцы спустили шлюпки, но при бурных волнах от весел не было толку. Волны начали разламывать легкой конструкции дхоу, и оно быстро заполнилось водой и утонуло вместе с абордажной командой, которую было уже не спасти. Его груз, включая большой запас щитов и мечей, выбросило на берег, куда выбежала толпа местных жителей подбирать обломки.
13 октября объявился последний из трех кораблей, которые да Гама потерял у мыса Доброй Надежды. Он отсутствовал так долго, что его сочли утонувшим, и, как обычно бывает на море, настроение тут же переменилось с горестного на праздничное.
Флот уже месяц охотился на арабские корабли, но больше в их сети ни одного не попалось. Все это время адмирал получал письма от колаттири Каннанура, который раз за разом заверял адмирала, что он к его услугам и что отдаст все пряности своей страны по ценам, которые он назовет. Время загружать корабли подходило к концу, и да Гама неохотно отдал приказ поднять паруса. 18 октября девятнадцать кораблей обогнули скалистый полуостров, миновали мыс и бросили якорь в виду защищенной гавани Каннанура.
Во время первых двух экспедиций португальцев колаттири держался подчеркнуто любезно. Его расположение лишь возросло, когда вернулся отправленный им в Португалию посол и привез с собой 24 пленника, захваченных на самбуке. Пленные с близкого расстояния наблюдали битву с «Мири» (они укрывались под палубой самбука, привязанного к кораблю Томе Лопеша), и рев труб ознаменовал их облегчение.
Вскоре к христианскому флоту подошли посланники с дарами. Они кланялись, мол, они к услугам короля Португалии, и добавляли, что колаттири очень хотелось бы встретиться с адмиралом. Да Гаме равно не терпелось увидеться с индийским царем, но он отказался ступить на берег. Он твердо решил никому не доверять; возможно, он сознавал, что его собственное поведение не вызовет доверия у индусов.
Если да Гама не намеревался покидать свои плавучие владения, то колаттири не намеревался и шагу ступить за пределы собственного королевства. А потому был выработан изощренный компромисс. На берегу появились слоны, тащившие за собой массивные стволы, и плотники взялись за сооружение крепкого деревянного пирса. Довольно скоро он уже выдавался далеко в море.
На следующий день адмирал взял под свое командование одну из каравелл. Он уселся на полуюте в украшенное богатой резьбой кресло с роскошной подушкой и балдахином из темно-красного с зеленым бархата. Облачен он был в шелковые одежды, поверх которых надел две золотые цепи: одна из них охватывала его шею, другая спускалась на грудь. Каравеллу сопровождали двадцать шесть шлюпок, каждая шла под флагом ордена Христа и с заряженными орудиями. Пажи играли торжественную мелодию на трубах и барабанах, матросы танцевали джигу, – флотилия направилась к пирсу.
На берегу показался колаттири в сопровождении четырехсот стражников-наиров (десяти тысяч воинов, как утверждал португальский хронист, там скорее всего не было) и разнообразных экзотических животных, которых изумленный фламандский матрос не сумел назвать. Не меньше удивило тех, кто впервые приплыл в Индию, что все сановные лица, включая правителя, были по пояс голые.
В каждом конце пирса рабочие возвели по шатру из расписных тканей. Стражники остановились перед прибрежным павильоном, и колаттири и тридцать человек его свиты скрылись внутри. Потребовалось какое-то время, чтобы они вышли: солнце палило нещадно, колаттири было семьдесят лет, и свита запыхалась.
Когда каравелла адмирала подошла к павильону со стороны моря, колаттири сел в паланкин. Перед ним выступали два человека, размахивая тяжелыми шестами, украшенными головами быков, еще двое танцевали по сторонам с шестами, на которых были нарисованы белые ястребы; Томе Лопеш с насмешкой заметил, что они походили на парочку португальских девчонок.
Выйдя из паланкина, колаттири расположился на устланном роскошными коврами диване. Да Гама все еще отказывался сойти с корабля, и недоумевающему правителю пришлось податься вперед, чтобы поздороваться с ним через борт. Аудиенция пошла своим чередом, переводчики с пирса и с полуюта криком обменивались дипломатическими любезностями.
Поскольку колаттири пошел навстрчу, да Гама из собственных рук – в нарушение дипломатического протокола, о котором потом долго судачили, – подарил ему богатый набор серебряной с позолотой посуды, наполненной шафраном и розовой водой. В ответ колаттири преподнес адмиралу – хотя и из более скромных рук своих слуг – коллекцию огромных драгоценных камней. Драгоценные камни поменьше (всего лишь безделицы, как дал понять колаттири) были розданы капитанам и офицерам.
Да Гама быстро перешел к делу, но его попытки установить тариф на пряности, которые он хотел купить, получили августейший отпор. Гости приплыли слишком рано, ответил колаттири, и урожай пряностей еще не привезли. И вообще он не утруждает себя подобными делами. Он прикажет купцам явиться к ним, и тогда они смогут обсудить сделки.
Через два часа колаттири отбыл, сославшись на усталость. Португальцы проводили его церемониальным салютом, и, вернувшись к флоту, да Гама сообщил представителям торговых домов, что было достигнуто полное согласие. Колаттири, записал Маттео да Бергамо, сделает все, о чем попросят король Португалии и его адмирал, включая объявление войны заморину Каликута, а еще принудит своих купцов продавать пряности по тем ценам, которые установил адмирал. Да Гама был твердо настроен поставить на своем и добиться наилучших условий для португальского короля, но на самом деле колаттири ни на что подобное не соглашался.
Купцы прибыли на следующий день, и, к раздражению да Гамы, все как один оказались мусульманами. Как всегда, они сморщили нос при виде европейских товаров (европейцы были убеждены, что они стараются сбить цены), но, что хуже, запросили цены гораздо выше, чем раньше. После множества пререканий переговоры оборвались, и адмирал начал подозревать, что налицо дьявольский заговор [478].
Да Гаме грозила серьезная опасность потерять лицо, и он довел себя до профессиональной ярости на любого, кто отказывался играть по его правилам. Прогнав купцов, он немедля послал предостерегающее письмо колаттири. Очевидно, ярился он, правитель не является истинным другом Португалии. Нет иного объяснения тому, что он послал им купцов-мусульман, «которые, как ему прекрасно известно, издревле питают ненависть к христианам и величайшие наши враги» [479]. Он вернет незначительные объемы пряностей, которые уже погрузил, мрачно добавлял он, под громкий рев сигнальных рожков и множество залпов из пушек.
Напряжение возрастало, и тут объявился встревоженный португальский фактор, оставленный тут прошлым португальским флотом. Пайу Родригеш и его люди провели в Каннануре почти год и, как заверил он адмирала, нашли колаттири и местных жителей людьми крайне доброжелательными. Да Гама велел ему оставаться на корабле: хватит с него махинаций колаттири, бушевал он. Родригеш, не подчинявшийся да Гаме, наотрез отказался: он вернется, настаивал он, нравится это адмиралу или нет.
Да Гама ощетинился, но потом немного сдал назад. Вместо того чтобы задерживать Родригеша, он дал ему новое послание для колаттири. Флот, объявил он, уплывет и купит пряности в более дружественном порту, но пусть мусульмане его страны больше не считают себя в безопасности. Более того, если остающимся здесь христианам нанесут какие-либо обиду или бесчестье, народ колаттири за это поплатится.
Корабли подняли якорь перед рассветом 22 октября, всего через четыре дня после прибытия. Они двинулись вдоль побережья, остановившись перехватить небольшой самбук с грузом кокосового волокна и взять в плен 20 его матросов. Вскоре они увидели небольшой порт, где на берег были вытащены три крупных корабля, и да Гама лично направился туда с двумя каравеллами и восьмью шлюпками, набитыми солдатами. Когда бомбарды дали залп и европейская эскадра приблизилась, множество фигур попрыгали за борт и бежали на сушу. Какой-то человек, прыгнув в лодку, стал отчаянно грести к шлюпкам, пригибаясь под свистящими ядрами. Он вассал колаттири, кричал он адмиралу, все земли вокруг подвластны Каннануру. Иными словами, он не желал войны с португальцами: себе на беду, он отказался арендовать те самые корабли, что они только что атаковали, заморину Каликута для войны против христиан, и по этой самой причине он сам теперь враг Каликуту. Если адмирал сомневается в его словах, добавил он, он оставит заложниками своих людей и докажет, что говорит чистую правду.
Да Гама неохотно прекратил огонь.
Поздно ночью на гребной лодке торопливо приплыл один из людей Пайу Родригеша с письмом от колаттири. Он отвечает на полученные послания, писал с достоинством и снисходительной сдержанностью индусский правитель. Если адмирал желает убивать или похищать его людей, он волен так поступить, поскольку колаттири не станет выставлять стражу против своих португальских союзников. Даже тогда он сохранит мир, который заключил с королем Португалии и условиям которого верен. Но он позаботится известить короля Мануэла обо всем, что случилось. Что до христиан в его городе, то адмирал может сколько душе угодно нападать на него самого, им же от того не будет ни урона, ни позора.
Сопроводительное письмо Родригеша было написано в том же духе.
Да Гама нахмурился. Совершенно очевидно, португальский фактор подучил колаттири обращаться с адмиралом как с предателем и грозить обратиться к королю через его голову.
Размах португальских амбиций всегда требовал, чтобы правители Индии полностью переключили свою торговлю на запад и изгнали из своих земель мусульман всех до единого. Надежда, что они поступят так по собственной воле, таяла с каждым днем, и да Гама был более чем когда-либо уверен, что необходим шок, чтобы заставить их повиноваться. Утвердившись в желании отомстить, он отплыл в Каликут.
Проходя мимо Панталайини, города, где да Гама когда-то ступил на землю Индии, флот обогнал еще один небольшой самбук. Как всегда, матросов взяли в плен, и двое из них привлекли внимание детей, захваченных на «Мири». Дети были напуганы и желали услужить новым хозяевам, они обвинили двух пленников в том, что те приняли участие в нападении на каликутскую факторию. Один мальчик сказал, что один из пленных похвалялся в доме его родителей, что убил двух христиан, другой сказал, что второй пленный отрубил какому-то христианину руку. Да Гама велел объявить, что казнит матросов по справедливому суду, и повесил обоих на рее. Это были не первые жертвы террора детей: несколькими днями ранее да Гама приказал пронзить копьем другого мусульманина, которого дети обвинили в краже товаров с португальского склада.
Заморин, услышав о приближении мощного европейского флота, едва тот достиг Индии, и не дожидаясь нападения, решил сделать первый шаг. Пока флот еще стоял в Каннануре, до да Гамы дошли известия, что заморин написал радже Кочина, самого значительного из трех богатейших портов Малабарского берега. Португальцы, предсказывал заморин, нанесут большой урон всей Индии, и предотвратить его можно только одним способом: правители должны сомкнуть ряды и отказаться продавать чужеземцам пряности, которых те так жаждут. Если они объединят усилия, христиане сдадутся и уберутся восвояси, если нет, все индусы окажутся подданными португальского короля.
Правитель Кочина отказался. Как и колаттири Каннанура, он не был другом великого и ужасного заморина и написал в ответ, что уже заключил с португальцами весьма выгодный договор. Письмо заморина и свой ответ он показал торговому агенту Португалии, который их скопировал и переправил адмиралу.
Видя, что его планы расстроены, заморин отправил посла к самому адмиралу. Посол заявил, что его господин желает только мира и дружбы, и хотя все беды проистекли от португальских факторов, которые сами навлекли на себя смерть, он готов вернуть все товары, которые христиане оставили в его городе. Правда, кое-что из них следовало вычесть в счет уплаты пошлин, которые задолжали христиане, и часть он передал в возмещение владельцу корабля, который сжег Кабрал; но можно назначить судей, которые бы решили, кто и что кому должен. Что до умерших, добавлял он, их уже не вернуть, хотя, если все подсчитать, христиане сполна отомщены за свои потери.
По мере того как флот приближался к Каликуту, адмирал и заморин обменялись экстраординарными депешами.
Да Гама не отвечал, пока не прошел Панталайини. Если заморин хочет быть с ним в добрых отношениях, наконец ответил он через наира, который плыл с ним из Каннанура, он должен сначала вернуть все украденные товары; на это у него есть только один день.
Крайний срок миновал безо всякого ответа.
Флот прошел в виду Каликута 29 октября и зловеще выстроился на горизонте. Вскоре под флагом перемирия прибыл новый посол. Одет он был в рясу монаха-францисканца и на борт вскарабкался с возгласом «Deo gratias!» [480]. Он был быстро разоблачен как мусульманин и извинился за маскировку, необходимую, чтобы получить разрешение подняться на борт. Приветствовав адмирала, он произнес несколько фраз в духе первого послания заморина, мол, адмиралу тут рады, далее последовали изложенные в письме условия. Он добавил, что португальцы не только потопили «Мири» с сотнями мужчин и женщин на борту, но они продолжают притеснять и казнить подданных заморина. Уж конечно, они получили достаточное возмещение за свои обиды.
По любым подсчетам, христиане получили свое, но да Гаму более не интересовали репарации. Он твердо вознамерился разорвать узы, веками связывавшие народы и страны. Он ответил, что не станет заключать какой-либо договор, пока все до последнего арабы, будь то живущие тут или гостящие, не будут изгнаны из Каликута: «испокон веков мавры были врагами христиан, а христиане – мавров, и они всегда воевали друг с другом, и потому вследствие этого никакое заключенное нами соглашение не будет действенным» [481]. Если заморин желает мира, заключил он, он должен никогда больше не пускать арабов в свой порт.
На возмутительные требования да Гамы заморин ответил сдержанно. В его стране проживает более четырех тысяч арабских семейств, указал он; среди них множество богатых и могущественных купцов, которые облагородили его королевство. Его предки привечали их столетиями и всегда находили их людьми честными. Как и его предшественники, он получил от них множество услуг; чтобы назвать лишь одну, они всегда ссужали его деньгами для защиты границ его владений. Если он вышлет их, весь мир сочтет это скверным и достойным осуждения поступком. Он никогда не совершит подобного вероломства, и адмиралу не следует его искушать. Однако он готов пойти навстречу португальцам любым достойным образом и посылает своих послов с выражениями величайшего желания мира.
Да Гама швырнул письмо наземь.
– Оскорбление! – прорычал он и велел схватить гонцов.
Пока шли дипломатические препирательства, португальцы деловито захватывали рыбацкие лодки и отнимали грузы у судов в заливе. Высокочтимый заморин решил, что с него довольно, что чужеземцы обращаются с ним как с человеком низшего звания, а сами ведут себя как кровожадные пираты, и послал другого посла с менее дипломатичным сообщением. Если португальцы желают мира, заявил он, то для него не должно быть условий, а если они хотят получить назад свои товары, он просит компенсации за убытки и урон, который они нанесли его городу. Для начала они должны вернуть все, что забрали с «Мири», который принадлежал его народу. Каликут, напоминал он португальцам, – это свободный порт: он не может помешать кому-либо приплывать сюда для торговли, как не может выслать ни одного мусульманина. Если адмирал того хочет, они придут к согласию. Но никаких гарантий он давать не намерен. Его королевского слова достаточно, и если чужеземцы в нем сомневаются, то пусть немедля покинут его порт и никогда больше не показываются в Индии.
Отбросив всяческую сдержанность, да Гама отправил гонца с объявлением войны. Если он не получит полного удовлетворения, грозил он, то в полдень следующего дня откроет огонь по городу. Заморину не следует утруждаться, посылая новых гонцов, разве только он готов назвать сумму, которую выплатит адмиралу. Он, простой рыцарь на службе у короля Португалии, как человек много выше индусского правителя. «Из пальмы, – взорвался он, – вышел бы король получше его» [482], и вдобавок присовокупил несколько издевательских замечаний о привычке заморина жевать паан.
Тем вечером, а это было воскресенье, европейцы подняли фоки и выстроили пятнадцать кораблей носом к берегу, чуть позади остались лишь четыре самых больших. Они быстро поняли, что заморин их ожидает: он велел возвести импровизированный частокол, подтащив к краю воды ряды пальмовых деревьев, которые должны были помешать высадке и принять на себя огонь.
Пока канониры перетягивали тяжелые орудия на передние палубы, они увидели, как на берегу подобно звездам вспыхнули сотни факелов. В их свете копошились фигуры, выкапывавшие ямы на берегу. Потом индусы притащили железные пушки и установили их в окопах, так что поверх песка торчали жерла.
С наступлением утра да Гама приказал передней линии кораблей бросить якорь как можно ближе к городу. Когда солдаты и матросы заняли боевые позиции, из укрытия за пальмами вышли ряды защитников. Их оказалось гораздо больше, чем кто-либо мог вообразить ночью.
Назначенный срок, полдень 1 ноября, прошел без ответа.
Адмирал сделал свой ход. По его приказу шлюпки разошлись по флоту, распределяя по кораблям пленных мусульман, захваченных за предыдущие дни [483]. На каждый корабль ссаживали по два-три человека, а также оставляли инструкции ждать, когда на стеньге «Леитоа Нова» появится сигнальный флаг.
Через час после полудня флаг подняли. На каждом корабле головы пленников просунули в петли, а концы веревок перебросили через реи. Отбивающихся людей повесили в виду города. Томе Лопеш видел тридцать четыре тела, подергивающиеся среди снастей, Маттео да Бергамо насчитал тридцать восемь.
Все растущая толпа на берегу смотрела на происходящее с ужасом. Флагман да Гамы и одна каравелла дали залп изо всех орудий по людям, заставив их разбежаться и попрятаться в укрытия. Остальные корабли также открыли огонь, и индусы бежали, ныряя в выкопанные ямы, пока вокруг них громыхали каменные ядра, и ползком спасались с пляжа. Европейцы выкрикивали им вслед издевки. Солдаты в песчаных укрытиях стреляли в ответ, но у них имелось лишь несколько старых бомбард со сбитым прицелом, и на перезарядку уходило драгоценное время. Корабли начали обстреливать их позиции, и один за другим защитники бежали в город. Смена подбиралась ползком, но уже через час пляж был совершенно покинут.
Тогда бомбардировка города началась всерьез. Каменные ядра с грохотом врезались в земляные стены и соломенные крыши домов у воды. Обезглавленные пальмы раскалывались, стонали и валились. Были убиты десятки мужчин, женщин и детей, тысячи бежали.
С наступлением сумерек да Гама приступил к новым мерам устрашения. Его приказы были криками переданы с корабля на корабль, и трупы спустили на палубы. Им отрубили головы, руки и ноги, и части тел отправили на флагман. Да Гама велел сгрузить их на одну из захваченных лодок. Лодку привязали к ялику, и одинокий матрос вывел ее подальше в залив, чтобы прилив прибил лодку к берегу.
В кровавой груде торчала стрела, к которой было привязано письмо адмирала [484]. На малаяламе да Гама советовал заморину повнимательнее посмотреть, какому наказанию он подверг людей, которые даже не участвовали в нападении на португальскую факторию, – людей, которые не были даже жителями города, а всего лишь их родичами. Адмирал клялся, что гораздо более страшная смерть ожидает истинных убийц, и добавлял, что цена христианской дружбы возросла: теперь заморин должен возместить им не только награбленное у португальцев, но и выплатить компенсацию за порох и снаряды, которые они потратили, чтобы обстрелом заставить его одуматься.
Искалеченные туловища повешенных португальцы швырнули за борт, чтобы их выбросил на берег прилив.
Когда лодку прибило к берегу, несколько человек вышли посмотреть, что в ней, и с ужасом воззрились на жуткий груз. В ярком лунном свете европейцам ясно видна была эта сцена, и да Гама приказал своим людям не стрелять. Была поздняя ночь, но вскоре на берег вышли большие толпы народу. Отворачиваясь с отвращением, недоумевающие и напуганные люди возвращались по домам, кое-кто обнимал головы погибших родственников. Осиротевшие устроили бдение – не зажигая ламп или фонарей, которые осветили бы их горе, на случай если португальцы решат обстрелять и поджечь их дома. До самого рассвета бриз доносил погребальные мелодии и похоронный плач, не дававшие спать португальским матросам и наводнявшие их сны.
Дав заморину ночь на раздумье, Васко да Гама проснулся рано, чтобы нанести завершающий, смертельный удар. С наступлением нового дня да Гама приказал канонирам заряжать самые тяжелые орудия. Незатейливые дома у берега уже были обращены в пыль, теперь ядра ударили в роскошные особняки на склоне над ними. Потом – без сомнения, с особым удовольствием – да Гама велел целиться в дворец заморина. За последующие часы Томе Лопеш насчитал более четырехсот ядер, выпущенных из тяжелых орудий восемнадцати кораблей.
В полдень да Гама приказал прекратить огонь и стал ждать, когда заморин сдастся. Передняя линия кораблей отошла назад, но ответа с берега не последовало.
Сняв с захваченного самбука бочки меда и орехов, адмирал распределил деликатесы среди экипажей. Потом велел поставить самбук на якорь у берега и поджечь. Когда европейцы сели обедать и запылал предостерегающий бакен, от берега отошли десятки лодок, чтобы перерезать канат и оттащить горящее судно подальше от города. Побросав деревянные миски, португальские солдаты сели в шлюпки и гребли изо всех сил, собираясь догнать возвращающихся на берег индусов. Когда они приблизились к берегу, там собралась угрожающая толпа. Решив оставить преследование, португальцы поскорее отступили к флоту.
К тому времени стемнело. Самбук еще дымился, и да Гама решил, что сделал достаточно. Подходя реалистично, он мало что мог сделать еще. Пока он держался воды, на его стороне было преимущество в многократно превосходящей огневой мощи и неопытности противника. Религия воспрещала славящимся своей яростью в бою солдатам-наирам питаться тем, что происходит из моря, и они редко ступали на борт корабля. Их мусульманских собратьев подобные предписания не сдерживали, но они были не воинами, а торговцами и моряками. Однако в рукопашном бою на суше наиры многократно превосходили бы числом людей да Гамы. Адмирал Индийского океана превратил противостояние с заморином Каликута в полноценную войну, но подобно любому агрессору, неготовому к захвату чужой территории, мог только надеяться, что оказал достаточное давление, чтобы подорвать врага изнутри.
3 ноября да Гама отдал приказ отплыть от полуразрушенного города. Оставив Висенте Сорде командовать шестью кораблями и каравеллой, которые должны были блокировать гавань, он отплыл вдоль побережья на юг к Кочину.
Кочин был выскочкой среди портовых городов Малабарского берега. Его возраст насчитывал всего полтора столетия, и он был творением не человеческих рук, а муссона. Местные жители еще вспоминали сезон яростных муссонов 1341 года, когда гостеприимный залив древнего порта Мучири (процветающий город, известный еще римлянам и изгнанным из Иерусалима иудеям) внезапно превратился в лабиринт проток и островков, отмелей и озер. Старую гавань занесло илом, и раджа соседних земель воспользовался переменившимся ландшафтом, чтобы переманить купцов в собственную столицу.
Город Кочин был построен на оконечности странного, похожего на корявый большой палец полуострова, окруженного с трех сторон глубоким заливом. Напротив «большого» лежали три поросших густым лесом «пальца»-мыса, а четвертый загибался к материку. Остров Випеен, самый западный из «пальцев», почти касался края города, оставляя лишь узкий проход в переплетении тихих лагун и проток, питаемых семью крупными реками. Гавань тут намного превосходила все прочие на Малабарском берегу, а потому очень скоро стала процветать. Визитная карточка Кочина – огромные рыболовецкие сети, которые поднимали и опускали с берега на гигантских деревянных шестах, – была наследием десятилетий, когда приплывали китайские флоты, а внушительная община еврейских купцов имела собственный квартал и собственных судей.
Династия раджи питала честолюбивые замыслы превзойти более богатых и почтенных соседей – и особенно затмить высокомерного заморина Каликута. Как первостепенные правители побережья заморины оставляли за собой право наезжать в Кочин и величественно изрекать суждения, достойны ли его правители таких владений. Внезапное появление португальцев открывало слишком уж удачные возможности, и раджа Кочина Унни Года Варма встретил чужеземцев с распростертыми объятиями. Если адмиралу Индийского океана и могли где-то радоваться, то только в Кочине.
Флот подошел к городу 7 ноября, и адмирала тут же встретил приветственный комитет, в состав которого входили главы фактории, которых оставил тут Кабрал. Мусульманские купцы города также ожидали европейцев. Их уже достигли письма от родичей из Каликута, в которых подробно описывались нападение на город и зверства португальцев и содержалась просьба о помощи в снятии блокады. Христиане, горько жаловались они, не дают им даже рыбачить, и они на грани голодной смерти. Факторы предостерегли да Гаму, что следует ожидать враждебного приема.
Были и другие новости – и хорошие, и дурные. Португальские факторы прознали, что собирается огромная армада для войны с христианами на море. По слухам, заморин арендовал и реквизировал больше двухсот кораблей, и эти суда отплыли на поиски португальцев. Одно из более крупных судов выбросило на берег недалеко от Кочина, и его команда сообщила, что их огромный флот погиб во время страшного шторма. Раджа, как с удовлетворением сообщили факторы, захватил спасшихся людей и ни одного не вернул заморину. Как всегда, когда погода была на их стороне и против их врагов, португальцы сделали вывод, что рука Божья сотворила очередное чудо, и вознесли молитвы за спасение.
В тот же день прибыл один из сыновей раджи и после обмена приветствиями сообщил адмиралу, что явился специально поблагодарить его за то, что тот, когда жег и грабил побережье, не тронул корабли, принадлежащие Кочину. Он передал благодарность своего царственного родителя за милость, оказанную его людям из уважения к нему самому; в ответ, пообещал он, отец лично устроит так, чтобы португальцы с наибольшей выгодой могли нагрузить свои корабли пряностями.
Да Гама начал понемногу смягчаться. Его люди занялись починкой кораблей и расчисткой места под небывалый груз, какой ожидали взять на борт. Через три дня после их прибытия раджа дал знать, что наступил благоприятный день для начала погрузки, и в доках стали вырастать холмы перца. Однако следовало еще договориться о ценах, и купцы вскоре забастовали. Четыре дня спустя да Гаме пришлось просить раджу о встрече. Его трюмы все еще пустовали, а портов, где он мог бы вести дела, почти не оставалось.
Встреча была назначена на 14 ноября, через неделю после прибытия флота. Адмирал отправился на каравелле с обычными трубами, пушками и знаменами, и он и его капитаны вошли под парусами в устье гавани. Раджа спустился к берегу в своем паланкине в сопровождении шести боевых слонов и (по утверждению одного португальского матроса) десяти тысяч человек. Одни слуги обмахивали его опахалами, другие сдерживали толпу булавами. Наконец процессия остановилась. Индусские трубачи подняли свои инструменты и протрубили туш, несколько бомбард дали приветственный залп. Португальцы ответили собственными фанфарами и массированным залпом из орудий. Посланники сновали взад-вперед, улаживая последние дипломатические тонкости, но едва должна была начаться собственно встреча, поднялся ветер, воздух сотрясли раскаты грома, и чернильные небеса разверзлись. Раджа послал весточку, мол, это дурное предзнаменование, и встреча была перенесена еще на два дня.
Когда да Гама вернулся, раджа уже был в гавани, где восседал на большом плоту из досок, настеленных поверх четырех связанных вместе самбуков. Томе Лопеш записал, что толпы утратили интерес либо их не собрали, и раджу сопровождало всего четыре или пять стражников.
Как только каравелла адмирала подошла к плоту, на нее, радостно сияя, поднялся раджа. Повторяя сцену в Каннануре, да Гама подарил ему – опять из собственных рук – серебряные чаши, кувшины и солонки, позолоченные для того, чтобы походить на литое золото, а также трон, украшенный серебром, сто крузадо, отрез бархата и две богатые парчовые подушки. Раджа в ответ одарил адмирала и его офицеров драгоценными камнями. После долгой и веселой беседы он согласился на условия да Гамы и подписался под его перечнем цен, и адмирал сопроводил его роскошный плот до дворцовой пристани.
Португальские купцы ворчали на высокие цены, но на берегу теснились продавцы. Португальцы начали день и ночь заполнять свои трюмы экзотикой Востока: перцем, имбирем, кардамоном, кукурмой и зингибером и зедоари [485], дикой корицей, гвоздикой и ароматическими смолами.
Вскоре с тремя кораблями, оставшимися в Каликуте, приплыл Висенте Сорде. Как оказалось, они едва успели сбежать. Заморин втайне собрал еще один вооруженный флот из двадцати больших самбуков, чтобы напасть на эскадру Сорде. Когда флот был готов, флотилия рыболовных лодок заманила христиан в устье реки, которую да Гама с такой помпой пересекал в первую свою экспедицию. Флот ждал в засаде среди пальмовых деревьев, и индусы быстро окружили европейские корабли, обрушив на них град стрел. Попавшие в ловушку и раненные, португальцы запаниковали, и спасла их лишь случайность: один канонир, метя в рыбацкую лодку, взял прицел слишком высоко, и ядро попало в самбук, на котором находился командующий флотом. Когда самбук перевернулся, индусы поспешили ему на выручку, дав португальцам возможность улизнуть.
На корабле Сорде находился посланник из Каннанура, который явился в Каликут и попросил, чтобы его доставили к адмиралу. Его господин, сообщил он да Гаме, просил передать, что готов пойти на цены, которые европейцам назовут в других местах, и даже возместит разницу из собственного кармана; более того, он купит любые привезенные ими товары по установленным ими ценам.
Да Гама отправил Сорде проверить слова посланника и нагрузить королевские корабли. Его рискованный маневр себя оправдал: вместо того чтобы позволить европейским купцам конкурировать при закупке пряностей, он заставил малабарских правителей конкурировать за покупателей. Тем не менее Маттео да Бергамо и остальные купцы продолжали ворчать из-за условий в Кочине. Доставленные партии перца подходили к концу, а сбыть европейский товар, как и прежде, не удавалось. Городские купцы вечно повышали цены или находили другую причину прекратить погрузку, к тому же не раз восставали против приказов раджи и вообще отказывались торговать. Несколько раз да Гаме приходилось отзывать своих факторов и бушевать перед раджой о подлости мусульман: однажды он подобрался к его дворцу и – под видом салюта – выстрелил из бомбард, пока раджа делал вид, будто развлекается на веранде. Маттео да Бергамо и его жадным до прибылей товарищам все было мало. «Мы неустанно спрашивали себя, – пишет итальянец, – сможем ли мы нагрузить наши корабли в этом плавании хотя бы наполовину» [486]. И предложение из Каннанура не вызывало большого восторга. «Адмирал послал три королевских корабля, – добавлял да Бергамо, – потому что никто среди нас не хотел туда плыть, поскольку до нас дошло, что перца там слишком мало, а корица плохого качества».
Учитывая, что раджа твердо взял сторону португальцев, мусульманские купцы составили заговор. На «Жулин», который пришвартовался в гавани, чтобы загрузить пряности, явились три крестьянина и продали матросам корову. Разумеется, об этом донесли радже-индуисту, который сердито пожаловался адмиралу: подобно заморину, он, взойдя на трон, принес клятву защищать коров, во-превых, и браминов, во-вторых. Да Гама тут же объявил своим людям, что им под страхом порки воспрещено покупать коров и что они должны на месте арестовать и доставить к нему любого, кто попытается продать какой-либо скот. Когда трое крестьян снова явились с коровой, их притащили к адмиралу, который отослал радже и узников, и корову. Томе Лопеш сообщал, что преступников без суда посадили на кол «таким образом, что кол прошел через почки и грудь и вышел под подбородком, и колья были установлены на земле на высоте поднятого копья, а их руки и ноги [преступников] были растянуты и привязаны к четырем шестам, и потому они не могли сползти вниз, так как их удерживал шест поперечный. И такая над ними свершилась справедливость, ибо они продали означенных коров» [487].
В этот удовлетворительный момент межкультурного сотрудничества объявилась большая группа индусов, которые назвали себя христианами.
Новоприбывшие сообщили дому Васко, что явились от имени тридцати тысяч христиан, которые живут дальше к югу по побережью, и объяснили, что они потомки последователей апостола Фомы, похороненного в их городе. По сообщению Томе Лопеша, «выглядели они весьма честно», к тому же принесли с собой дары: овец, кур и фрукты.
Плавания да Гамы преобразовали карты Европы, но западная картина мира все еще была в значительной степени окрашена догадками библейских географов. А потому да Гама не нашел ничего удивительного в том, что один из учеников Христа добрался до Индии. Дальше к югу, объяснили новоприбывшие, лежит большой торговый город Килон [488], а рядом с ним, там, где суша выдается в море, апостол перед самой своей смертью чудесным образом возвел церковь. Согласно их легенде [489], апостол Фома пришел в лохмотьях, дабы обратить в новую веру низшие касты индусов. Однажды в гавань приплыло гигантское бревно и уперлось в песок. Раджа послал многих людей и слонов вытащить его на сушу, но оно и с места не сдвинулось. Одетый в лохмотья апостол пообещал убрать его из гавани, если король даст ему участок земли для строительства церкви во славу Господа. Он созвал всех плотников, каких смог найти, и они пилили бревно, пока не изготовили стропила и доски для стен церкви. В полдень апостол Фома взял лопату и зачерпнул ею песок, песок обратился в рис, и он накормил работников. Когда работа была завершена, он обратил щепки в деньги, которыми ее оплатил. Вскоре после этого апостол принял облик павлина и был случайно застрелен охотником. Поднявшись в небо птицей, он упал на землю человеком. Он был похоронен, но его правая рука никак не хотела уходить под землю. Со временем могильщики сдались и оставили ее торчать из земли, и паломники из многих стран стекались посмотреть на такое чудо. Одни китайские паломники пытались отрубить руку и увезти ее домой, но когда они ударили по ней мечом, она наконец втянулась под землю.
Чуть более прозаично гости объяснили, что последователи апостола послали в мир пять человек, чтобы установить контакт с братьями во Христе. После долгих скитаний эти пятеро пришли в Персию [490], где христианская община, говорящая на сирийском языке (языке, сходном с арамейским Христа), столетиями процветала независимо от остального христианского мира. С тех самых пор персидская церковь посылала своих епископов заботиться об индусской пастве.
После долгих и бесплодных поисков пресвитера Иоанна, после первоначальной эйфории, что нашли в Индии множество христиан, и постепенного осознания, что туземцы на самом деле исповедуют совершенно иную религию, перед да Гамой предстали наконец истинные индийские христиане. Конечно, подобно своим персидским наставникам, они были несторианами, верившими, что Иисус имеет две природы, человеческую и божественную, а потому, строго говоря, являлись еретиками. Конечно, их священники носили тюрбаны, ходили босиком и, как отметил немецкий матрос, были такими же черными, как остальные индусы. Но у них было шесть епископов, они служили мессу у алтаря с крестом, они принимали причастие, пусть это и был размоченный изюм, а не вино. И это было начало.
Да Гама принял гостей с великой радостью и одарил шелковыми тканями. Они же расспрашивали про европейские церкви и европейских священников, про дома и обычаи моряков и были изумлены, услышав, как далеко те забрались. Они предложили стать вассалами короля Португалии и в знак своей верности принесли адмиралу алый крюк с серебряным наконечником, украшенный маленькими бубенчиками, и письма от своих старшин. Хотя общину нельзя было назвать большой, они явно были готовы поддержать собратьев во Христе против своих правителей-индусов и мусульман, господствовавших в их городах. Они даже храбро предположили, что если португальский король построит крепость в их местности, он сможет господствовать надо всей Индией.
Когда по их возвращении известие о флоте европейцев достигло христианских общин вокруг Килона, оттуда прибыла в середине декабря вторая делегация. Ее представители сообщили, что в их городе много пряностей, и да Гама отправил на юг три корабля. Фламандский матрос был на борту одного из них, и он сообщал, что в Килоне «почти 25 тысяч христиан» [491], которые молятся в «почти 300 христианских церквях и носят имена апостолов и прочих святых». Отправившись посетить церковь апостола Фомы, он обнаружил, что от материка она отрезана морем, а близлежащий город, где при условии выплаты дани разрешили жить христианам, практически в развалинах. Тем не менее европейцы взяли на борт большое количество перца и некоторое количество корицы и гвоздики, за которые расплатились наличными, медью и опиумом, захваченными на «Мири».
Тем временем в Кочин наконец привезли перец нового урожая. Маттео да Бергамо все еще жаловался, что ему приходится продавать товары себе в убыток, что Кочин плохо снабжается лекарствами и драгоценными камнями и что его самого обвешивают местные купцы, но трюмы быстро заполнялись. А из Каннанура вернулась каравелла с известием, что Висенте Сорде не только взял на борт неимоверный груз пряностей, но еще и захватил в море и ограбил три больших корабля. На борту одного было более сотни человек, и большинство были взяты в плен или убиты. Если честная торговля давала сбой, всегда оставалось пиратство, помогающее свести концы с концами.
Глава 16
Противостояние на море
Рождество прошло в приподнятом настроении для христиан в Кочине и Килоне. Праздник был только чуть подпорчен 29 декабря, когда крепко спавшие матросы «Санто-Антонио» внезапно проснулись от того, что якорный канат их корабля лопнул, они налетели на берег, и в трюмах с пугающей быстротой собирается вода. Они дали два залпа, и на выручку им поспешили шлюпки, но корабль так и оставался у берега всю ночь, пока наутро его не смогли оттащить для экстренной починки.
С началом 1503 года даже варварское нападение да Гамы на Каликут как будто дало плоды. Заморин уже послал два самбука шпионить за флотом; португальцы их захватили и без промедления казнили экипажи. Но теперь прибыло посольство с новым посланием от заморина, в котором вновь приносились заверения в дружбе. Заморин обещал, что если адмирал вернется, то получит возмещение за конфискованные товары; в качестве гарантий он отдаст ему любого человека, которого он назовет и которого может держать в заложниках до полного своего удовлетворения.
Письмо доставил некий брамин, которого сопровождали его сын и два наира. «Сей брамин, – записал Лопеш, – у них вроде епископа и монаха и имеет большие поместья» [492]. Как и остальные в его касте, добавил он, брамин мог путешествовать в полнейшей безопасности, даже когда его страна находилась в состоянии войны, потому что любой, кто причинит ему вред, немедленно будет отлучен без надежды на отпущение грехов. Португальцам тем более польстило, что брамин объявил, дескать, желает отправиться с ними в Португалию. Он объяснил, что привез с собой достаточно драгоценностей, чтобы оплатить переезд, и, если ему позволят, хотел бы купить некоторое количество корицы для торговли. Он даже спросил, нельзя ли ему взять с собой сыновей и племянников, чтобы они выучили латынь и получили наставление в христианской вере.
Для да Гамы это было сладкой музыкой и улестило его забыть профессиональное недоверие. Он решил, что бомбардировка явно образумила заморина и стоит лично вернуться с послом. Когда его капитаны запротестовали, он без обиняков ответил, что если заморин нарушит слово, он повесит брамина и прочих гонцов. Риск того стоит: если он смирит Каликут и заставит его подчиниться португальскому контролю, домой он вернется с победой.
Драгоценности и пряности сановного гостя адмирал велел поместить под замок на флагмане. Сам он поднялся на борт «Флор де ла Мар», которым командовал его кузен Эштеван, и в сопровождении всего одной каравеллы отплыл в Каликут.
Увидев, что адмирал отбыл, купцы Кочина тут же побросали весы. Никакие увещевания раджи не дали результата, они жаловались – капризный христианин возвращается покупать пряности в Каликут. Во главе кочинского флота да Гама оставил дома Луиша Коутиньо, богатого аристократа, командовавшего кораблем «Лионарда», и теперь Коутиньо отправился урезонивать купцов. К двум часам дня он все еще не сумел добиться соглашения и послал Джованни Буонограцию вслед за адмиралом спросить его указаний. На борту находился собрат по оружию Буонограции Томе Лопеш, и снова благодаря ему мы знаем о случившемся.
Ветер был слабым, и чтобы попасть в Каликут, итальянскому капитану потребовалось три дня. По прибытии он осторожно подошел на расстояние полулиги к берегу, но не увидел и следа «Флор де ла Мар». Он поплыл прямиком в Каннанур, решив, что адмирал уже заключил мир и отправился на встречу с дядей, но поскольку из-за крепкого северо-восточного ветра войти в гавань оказалось невозможно, вернулся в Каликут, по-прежнему уверенный, что все хорошо. По счастью, ветер снова отказался сыграть ему на руку, и он вернулся в Каннанур, где наконец нашел потерявшиеся суда в полной боевой готовности, «точно они готовились сразиться с тысячью кораблей» [493]. Капитаны подняли флажки и вымпелы, а команды обменялись новостями.
Насколько понял Лопеш, едва да Гама подошел к Каликуту, то отправил в Каннанур каравеллу за дядей. На борту оставалось лишь несколько десятков матросов для защиты адмирала, и адмирал обратился с теплой речью к брамину и попросил передать ее заморину. Нередко случается, сказал он, что враги становятся большими друзьями, и таковыми христиане станут для заморина. С сего момента они будут вести торговлю так, словно они братья.
Брамин пообещал вернуться к ночи, но вместо него прибыл другой посланник, который объявил, что деньги и пряности для адмирала приготовлены, пусть только пришлет чиновника или офицера, который уладил бы все счета.
Да Гама начал подозревать, что его дурачат, и в ярости ответил, что не пошлет даже самого мелкого корабельного юнгу. В который раз он потребовал, чтобы заморин отдал все, что задолжал, или забыл о сделке.
Посланник советовал задержаться еще хотя бы на день: дескать, воля заморина и его народа адмиралу известна, и вскоре все прояснится. Он тоже пообещал вернуться с ответом.
Той же ночью в последнюю четверть склянки перед рассветом дозорные заметили, что от берега отчаливает самбук. Присмотревшись внимательнее, они различили, что на самом деле это не одно судно, а два, связанные вместе, и что направляются они к их кораблю.
Офицеры разбудили адмирала. Поспешно накинув кое-что из одежды, тот поднялся на палубу, уверенный, что заморин наконец посылает давно ожидаемые товары. Вместо этого он увидел, как от берега к нему беззвучно идут на веслах семьдесят или восемьдесят самбуков. Он решил, что это, наверное, рыболовецкий флот, направляющийся на утренний лов.
Без предупреждения два ведущих судна открыли огонь. Чугунные ядра запрыгали по воде и ударили в борт «Флор де ла Мар». Приблизившись, остальной боевой флот тоже открыл беспорядочную стрельбу. Едва над бортом показывалась голова христианина, с лунного неба сыпался черный дождь стрел. Враг уже подошел слишком близко, и от крупных орудий не было толку, поэтому европейцам оставалось только вскарабкаться на мачты и бросать оттуда камни.
По пути в Каликут да Гама захватил какой-то самбук, и теперь он был привязан к корме «Флор де ла Мар». Индусы завалили его дровами и порохом и подожгли. Пламя перекинулось на ахтерштевень португальского корабля, и матросы поспешно бросились рубить канат. Течение едва-едва успело отнести пылающую лодку.
Когда горизонт осветили лучи рассветного солнца, от берега стали отходить все новые суда. Вскоре вокруг португальского корабля уже роилось около двухсот лодок [494], и с каждой, едва она выходила на позицию, открывали огонь. Пушки на них были сравнительно маленькими, но мстительный заморин явно не пожалел затрат, приобретая любые орудия, какие смог отыскать.
Положение «Флор де ла Мар» становилось отчаянным. Поднятие якоря было делом долгим, к тому же матросы превращались в легкие мишени, поэтому они снова бросились рубить канаты.
Подняли паруса, но корабль не шелохнулся. Прошлой ночью да Гама втайне приказал бросить особый якорь на случай, если люди заморина попытаются перерубить остальные канаты. Этот якорь крепился несколькими железными цепями. Матросам оставалось только рубить их, пригибаясь под яростным шквалом стрел.
Ближе к полудню корабль наконец стронулся с места, и вражеский флот устремился в погоню. Почти сразу же ветер упал, паруса повисли, и снова вокруг закружили весельные лодки.
Как раз вовремя на горизонте лениво показались корабль Висенте Сорде и две каравеллы. Едва увидев, что происходит, они налегли на весла и с трудом погребли к индусскому флоту. Подойдя на достаточное расстояние, они открыли огонь из тяжелых орудий, и индусы рассеялись и отступили к городу.
Адмирал Индийского океана стремительно терял лицо. Он поддался на льстивые уговоры брамина и поплыл прямиком в ловушку. Он был ранен – одиннадцать раз, если верить одному португальскому матросу. Он недооценил смекалку противника и за ошибку едва не поплатился жизнью.
Оставшихся посланников – в том числе сына брамина – да Гама приказал повесить на реях каравелл и велел кораблям несколько раз пройти как можно ближе к городу. Собравшаяся на берегу толпа выкрикивала оскорбления, португальцы открыли по ней огонь. Дав индусам вдоволь насмотреться на омерзительное зрелище, адмирал приказал спустить тела и бросить в захваченную лодку. Ее он послал на берег с последним письмом заморину.
«Ты низкий человек! – говорилось в нем. – Ты послал за мной, и я явился на твой зов. Ты сделал все возможное и, если смог бы, сделал бы больше. Наказание будет таким, какого ты заслуживаешь: когда я вернусь, я заставлю тебя заплатить то, что ты должен, и не звонкой монетой» [495].
Угрозы приедались, а у да Гамы не было возможности подкрепить свои слова делом. Он поспешно отступил в Каннанур, где встретился с кораблем Томе Лопеша. Задержавшись на несколько дней, чтобы загрузить пряности, они отплыли назад в Кочин, обойдя Каликут стороной.
Непрекращающаяся война с Каликутом грозила сорвать саму экспедицию, и снова Васко да Гама нашел безопасную гавань в Кочине. Флот перегруппировался, матросы обменялись историями, а адмирал еще дважды встретился с раджой. Согласно их последней договоренности, в городе создавалась постоянная португальская фактория со штатом из трехсот человек, но на самом деле соглашение шло много дальше. Отныне под юрисдикцию главного ее фактора подпадали все португальцы в Кочине – и вообще все христиане во всей Индии. В знак того, как прочно раджа стал на сторону португальцев (хотя и не проникся их верой), фактор получал полномочия поступать, как пожелает нужным, с любым христианином, который перешел в ислам. Это был не просто торговый договор: он позволял создать первую европейскую колонию в Индии и – во всяком случае, в теории – превращал индийских христиан в подданных португальской короны. С точки зрения раджи (казалось бы, за малую цену нескольких пустых фраз), европейцы теперь были кровно заинтересованы в усилении его власти. Очень скоро выяснится, что цена будет много выше: соглашение опасно нарушало права его соседей.
К 10 февраля, когда письма и посланников к королю Мануэлу благополучно переправили на борт, дела да Гамы в Кочине были завершены. Он планировал один последний раз заглянуть в Каннанур и отплыть домой. Адмирал считал, что если бы удалось заключить сходный пакт с колаттири, он мог бы окружить упрямого заморина врагами и, если потребуется, столкнуть между собой своих новых союзников. Но не успел он отплыть, как с севера пришли тревожные известия. Заморин сумел оправиться, собрать новый боевой флот, и на сей раз он решил раз и навсегда избавиться от жестоких и неотесанных португальцев.
В холодной ярости да Гама приготовился к финальной битве. Он планировал выманить врага и спровоцировать его на атаку до того, как тот закончит приготовления. Подняв все паруса, адмирал и его дядя Висенте со всей возможной скоростью направились на север, а дом Луиш Коутиньо обошел оставшиеся корабли на шлюпке, приказывая капитанам следовать за ними на расстоянии.
Два дня спустя, когда караван Коутиньо осторожно подошел на расстояние пяти-шести лиг к Каликуту, дозорные увидели гигантскую армаду арабских дхоу, надвигающуюся на них с севера. Лопеш насчитал 32 судна, фламандский матрос – 35, португальский моряк – 36, Маттео да Бергамо – 38. Учитывая, что каждое дхоу могло поднять на борт до 500 человек, они были гораздо больше кораблей, нападавших на европейцев прежде, и гораздо больше любого португальского корабля. Да Гама выманил их, но не было никаких признаков того, что он застал их врасплох. Португальцы шли в крутой бейдевинд и продвигались медленно. Мусульманам ветер был попутный, и они шли под всеми парусами. Они надвигались быстро, и когда европейцы бросились занимать боевые позиции, бриз донес до них зловещий ритм, выбиваемый на больших арабских барабанах.
На португальских кораблях поднялся крик. От города к ним направлялся рой самбуков и длинных гребных лодок, все они были вооружены, и небольшие пушки с них уже стреляли. Люди да Гамы поспешили открыть ответный огонь, но лодки все подходили. Индусы научились двигаться вперед, пока не пройдут зону обстрела европейских пушек; так они могли воспользоваться преимуществом в численности в рукопашном бою. Очень скоро легкие быстроходные лодки достигли флота и засновали между кораблями, выпуская тучи стрел.
Португальские корабли были тяжело нагружены и в плохом состоянии. Когда рулевые налегали на румпели, суда плохо слушались, и понемногу их разнесло в стороны: одни в море, других к суше. Еще более запутывало ситуацию то, что за ними следовало два торговых судна Кочина. Ход у них был еще медленнее, и лодки заморина избрали их своей мишенью, стараясь потопить первыми. Оба корабля принадлежали мусульманам, но да Гама решил не жертвовать ими из страха поставить под угрозу договор, который только что заключил с раджой. По его настоятельному сигналу флот медленно перегруппировался вокруг них.
Положение было серьезным, но у европейцев оставалось одно крупное преимущество: их тяжелые орудия все еще превосходили огневой мощью все, что имелось в распоряжении противника. К тому времени арабский флот подошел на расстояние выстрела, и португальский корабль, находящийся к морю дальше остальных, открыл огонь. Канониры добились нескольких прямых попаданий, и дхоу чуть отошли к Каликуту. Почти сразу же ветер упал, и европейцы оказались неспособны вести преследование.
Да Гама рявкнул новые приказы. Невзирая на то что индусы продолжали стрелять, матросы спустили шлюпки, привязали к носам кораблей и налегли на весла, чтобы потащить весь целиком флот вдоль побережья. Через несколько мучительных часов они поравнялись с Каликутом, где вступили в бой. Лавины ядер врезались в борта арабских кораблей, которые врассыпную отошли к городу.
Две каравеллы поставили длинные весла и отправились в погоню за арабским флагманом. Внезапный порыв ветра погнал легкие, недавно просмоленные дхоу к берегу, а тяжело груженные каравеллы пыхтели следом, не переставая палить из всех орудий. Арабский флагман оказал отчаянное сопротивление, открыв ответный огонь, и каравеллам пришлось сохранять дистанцию. На каждой из них осталось не более двух десятков человек в целом, и противник сильно превосходил их числом.
Наконец в гавань медленно вошел крупный португальский корабль. Когда с него бросили абордажные крючья на арабское судно, другой арабский корабль врезался ему в бок. Матросы-мусульмане попрыгали за борт и поплыли к берегу. Христиане погнались за ними на шлюпках, бросая в них дротики и пронзая копьями в воде; согласно Томе Лопешу, только сотне человек удалось ускользнуть и спасти свои жизни.
Европейцы поднялись на борт двух дхоу и на одном нашли прячущегося мальчика. Да Гама тут же приказал его вздернуть, но потом передумал и велел его допросить. По словам мальчика, заморин понес такие убытки, что потребовал, чтобы мусульманские купцы сами воевали за свои прибыли, иначе, пригрозил он, он «отрежет им головы и их женщинам тоже» [496]. На суда мусульманских купцов погрузили всю артиллерию, какую заморин сумел купить, выпросить или позаимствовать, и каждый день он обрушивался на купцов, мол, именно из-за них оказался в состоянии войны с христианами. Семь тысяч человек записались служить в армаде и поклялись победить португальцев или умереть, но в конечном итоге заморину пришлось палками загонять их на корабли. Неподготовленность стала для них гибельной: когда битва только-только началась, с берега выстрелило несколько бомбард, и пугливые капитаны решили, что это сигнал к отступлению.
Грабить на захваченных кораблях было практически нечего [497]: португальцы нашли немного орехов, рис и воду, семь-восемь короткоствольных бомбард в плохом состоянии, несколько мечей и щитов и множество луков и стрел. В ходе обыска португальцы нашли еще двух спрятавшихся мусульман и убили их, не дав им даже помолиться. Покончив с обыском, они подожгли оба судна.
Кровь у европейцев кипела. Остальной флот надвинулся на город, так что носы кораблей едва не уперлись в берег, но арабские корабли уже спаслись на сушу. Даже Томе Лопеш недоумевал, почему адмирал не отдал приказ сжечь город. На стороне заморина, ядовито заметил он, было только то, что «всю ночь ветер с большой скоростью дул с моря, гоня убитых к берегу, где их можно было посчитать без спешки» [498].
Учитывая, что корабли были нагружены пряностями, а временное окно для обратного плавания сокращалось, адмирал, надеясь, что сделал достаточно, чтобы усмирить докучного заморина, взял курс на Каннанур.
19 кораблей прибыли туда 15 февраля, и навстречу им тут же вышли лодки, полные мусульманских купцов. Купцы уже получили известия из Каликута и везли с собой поразительные слухи. На борту боевого флота было шестнадцать тысяч человек, сказали они, и португальцы убили почти тысячу. Только на двух захваченных судах погибло семьсот человек. Из пятисот человек на флагмане половина погибла в ходе артобстрела, другой половине ядрами оторвало руки и ноги. Сам корабль понес такой урон, что затонул, не дойдя до берега.
К яростному удовлетворению да Гамы, купцы добавили, что сам заморин наблюдал за битвой с башни своего загородного дворца на холме. И что еще лучше – несколько человек среди мусульманских информаторов бросили заморина и его войну и перевезли жен и детей в Каннанур. Они говорили, что в Каликуте люди умирают с голоду: цена на продовольствие поднялась вдвое, и на собственных ресурсах город мог продержаться лишь еще несколько месяцев. Они добавили, что многие влиятельные купцы также бежали из города, поскольку никакие товары морем больше не поступают. Заморин вне себя от ярости и поклялся заживо зажарить первого же христианина, кто попадет ему в руки.
Вместо того чтобы винить чужеземцев, жители Кананнура как будто радовались их победе. Колаттири был счастлив. Он радушно принял беженцев из Каликута и снабдил их деньгами для найма матросов, да и сам он намеревался послать корабли в помощь европейцам. Безжалостные нападения адмирала на его заклятого врага наконец убедили его всецело стать на сторону христиан.
Да Гама решил, что все-таки может доверять правителю Каннанура. Он условился о создании постоянной фактории в просторном доме со штатом из двадцати человек и пообещал, что его соотечественники будут возвращаться каждый год. Колаттири поклялся защищать их и поставлять им пряности, а адмирал, в свою очередь, – защищать его княжество от нападений. Перед отплытием да Гама подарил колаттири роскошные золотые и алые одеяния – те самые турецкие бархаты, которые забрал с «Мири» больше четырех месяцев назад.
Трюмы португальцев теперь были доверху загружены пряностями. Запасы недавно пополнились пресной водой, рыбой и рисом. 22 февраля, когда были закончены последние приготовления, Васко да Гама во второй раз покинул Индию. Оба его дяди, Висенте и Браш Сорде, остались со своими тремя кораблями и двумя каравеллами патрулировать Индийский океан – первый постоянный европейский морской флот в восточных водах.
Адмирал решил попытаться проложить новый курс через Индийский океан – прямо на остров Мозамбик. Этим маршрутом он обходил Малинди и его лояльного султана, без помощи которого, возможно, вообще не добрался бы до Индии, но этот путь обещал сократить ценные дни обратного плавания.
Громадные пространства океана оставались для европейцев неизведанными водами. Во время перехода им встречались цепочки неизвестных островов [499], и, огибая мелководья, они подходили ближе, чтобы их рассмотреть. На одном острове туземцы разожгли большой костер, чтобы привлечь чужеземцев, но памятуя о своем ценном грузе, да Гама решил не рисковать.
На протяжении семи недель корабли шли галсом в шторма и дрейфовали при всех парусах в штили. Они были неповоротливы, имели много течей, и матросы начали молиться о том, чтобы добраться до суши и не потонуть. Два корабля меньших размеров пошли вперед и наконец перед рассветом 1 апреля проверили глубину и дали залп из бомбард. На следующее утро матросы различили знакомую зеленую ленту африканского побережья, а вечером 12 апреля флот бросил якорь в Мозамбике.
Долгое плавание, тяжелый груз и многочисленные битвы стали серьезным испытанием как для моряков, так и для технологий кораблестроения Европы того времени. Многие из 14 кораблей пришли в полную непригодность, и снова их пришлось разгружать и опрокидывать на бок. Корпуса были настолько изъязвлены червями, что походили на соты, и оставалось только осматривать их дюйм за дюймом и затыкать дыры деревянными штырями – по прикидкам Лопеша, таких потребовалось 5 или 6 тысяч. Потом корабли требовалось заново просмолить, спустить на воду, занести на них груз, провиант, а также запасы воды и дерева.
Да Гама выбрал «Сан-Габриэл» и «Сан-Антонио», которые были в лучшем состоянии, чем остальные, и отправил их вперед сообщить королю Мануэлу об успехе плавания. А Маттео да Бергамо с каждым кораблем послал по копии доклада своему нанимателю. На протяжении нескольких дней итальянец, уверенный в своих суждениях, которые сильно отличались от позиции адмирала, вносил последние поправки в свои письма, вероятно, надеясь, что никому не придет в голову их прочесть. Индусы и арабы, писал он, противники гораздо более грозные, чем выходит со слов португальцев, а следом:
«Мне представляется, что доводы, приводимые в Лиссабоне, дескать, их корабли лучше наших, неверны: по опыту мы видели, что верно как раз обратное. Мне представляется, что до тех пор, пока мы не заключим мир с Каликутом, индусы будут браться за оружие, и соответственно, чтобы мы могли защитить себя и нас не вынуждали бежать, необходимы большие, хорошо вооруженные суда. Ибо если бы индусы не понесли больших потерь в сем году во время шторма, который уничтожил более ста шестидесяти их кораблей между Каликутом, Кочином и Каннануром, с которых никто не спасся, боюсь – или, точнее, уверен, – что никто из нас в тех краях не остался и, возможно, не смог бы взять свой груз. Но если хотя бы 12 или 15 кораблей водоизмещением 200 или более тонн придут в эту местность хорошо вооруженные и экипированные, они могут загружаться в полной безопасности и найдут себе груз. Таково мое разумение» [500].
Сам Васко да Гама, добавлял итальянец, несколько раз утверждал, что португальский король ни за что не позволит купцам вооружиться, поэтому да Бергамо советовал своим нанимателям защищать свои интересы не только от индусов, но и от португальцев. Да Гама, жаловался он, отказался позволить ему и его товарищам самим вести переговоры об условиях поставок и приказал оставить непроданные товары у факторов короля в обмен на выплату в Лиссабоне или же выбросить их в море, и, точно этого мало, всю добычу с каждого захваченного корабля он прибрал для Португалии. Купцам, советовал итальянец, следует пересмотреть условия соглашения с португальской короной и потребовать компенсации за вредоносные действия адмирала.
Два корабля покинули Мозамбик 19 апреля [501]. Сам адмирал отплыл десятью днями позже с восемью кораблями, оставшиеся последовали еще через два дня.
Последняя флотилия едва успела покинуть гавань, когда дозорные увидели, что к ним возвращается флот да Гамы. Два его корабля – «Флор де ла Мар» и «Лионарда» – дали такую течь, что воду практически невозможно было вычерпать. Адмирал приказал всем тринадцати судам вернуться в Мозамбик для дополнительного ремонта.
4 мая да Гама выбрал и послал вперед еще два корабля на случай, если первая пара столкнулась с какими-либо неприятностями. Решение оказалось верным. 20 мая, залатав по возможности корпуса, 11 оставшихся судов снова вышли в море. Уже через несколько дней они вернулись опять.
И опять же о случившемся поведал Томе Лопеш.
До девятого дня плавания все шло хорошо. Потом налетевший внезапно шторм превратил море в бурлящий котел. Наступила ночь, и матросы горячо молились о спасении, как вдруг «Лионарда» налетела на корабль Лопеша. Столкновением снесло половину бака и расщепило часть палубы. Такелаж и паруса спутались, а волны были так высоки, что не давали работать людям, пытавшимся распутать снасти. Когда корабль Лопеша наконец высвободился, «Лионарду» опять бросило прямо на него, теперь она ударила ему в бок возле носа. Разверзлась гигантская пробоина, повсюду трещали доски и реи, носило обрывки кантов и парусов. Матросы были убеждены, что им конец, и от каждого нового треска или стука у каждого сердце замирало. Большинство оставили надежду на спасение и только молились.
Наконец нескольким сохранившим самообладание морякам удалось перерубить снасти, и рулевые развели два корабля. Выстроившись в цепочку, матросы вычерпывали поднимающуюся воду всем, что попадалось под руку. Еще одна группа по пояс в воде спустилась с фонарями в трюм и обнаружила, что киль цел, а низ корпуса остался водонепроницаем. И все равно многие были уверены, что судно вот-вот потонет, и 13 дезертиров прыгнули за борт, чтобы попытаться доплыть до «Лионарды».
Лопеш и остальные оставшиеся на борту были уверены, что их жизни были спасены одним только Божим промыслом. Никакая природная сила не могла бы вызволить их из подобной беды, записал клерк, и все они поклялись, вернувшись домой, совершить паломничество. Чудо чудом, но до безопасности было еще далеко. Как только они попытались развернуться к назначенному адмиралом курсу, снова хлынула вода, и корабль опасно накренился в сторону пробоины. Учитывая, что волны были еще высоки, офицеры решили рискнуть и развести на палубе костры, чтобы дать сигнал остальному флоту.
Первым на место прибыл корабль самого да Гамы, и он спросил матросов, желают ли они покинуть свое судно. Матросы же прокричали в ответ, что с Божьей помощью надеются протянуть до утра. На следующее утро появилась «Флор де ла Мар» и предложила послать за ними шлюпку. Команда «Флор де ла Мар» попыталась убедить своих товарищей, что на столь бурном море они неминуемо потонут, но Лопеш и его люди были убеждены, что их охраняют высшие силы.
31 мая флот снова повернул к суше, и штурманы обнаружили, что отошли от Мозамбика всего на десять лиг. В гавань они сумели войти только с третьей попытки, и на следующий день к ним приковылял корабль Лопеша. «Лионарда» тоже дала серьезную течь и отчаянно нуждалась в ремонте, процесс кренингования и проконопачивания начался сызнова.
Прошло уже столько времени, что запасы провианта опасно истощались. Моряков посадили на урезанный рацион хлеба и вина. Через четыре для после третьего захода в Мозамбик закончился купленный рис. Матросы перешли на африканское просо, но и оно тоже закончилось. Им пришлось варить обломки сухарей со дна бочек – во всяком случае, те, которыми побрезговали мыши. Поскольку не осталось ни масла, ни меда, сухари разваривали в воде. Получавшееся блюдо, по едкому замечанию Лопеша, «не нуждалось в приправах и соусах, хотя и пахло дохлой псиной, но мы все равно его ели, так как голодали» [502].
К 15 июня положение настолько ухудшилось, что да Гама приказал трем кораблям немедленно возвращаться домой. Они отплыли рано утром следующего дня и, попав в шторм с метелью, который разделил и едва не потопил их, в конечном итоге вышли к мысу Доброй Надежды. Там – словно в доказательство того, сколь многое изменилось с первого плавания да Гамы по Индийскому океану, – они наткнулись на два португальских корабля, недавно отплывших в Индию. Бомбарды дали залп, были спущены шлюпки. Передали известие о рождении наследного принца в одну сторону и мешки с хлебом – в другую. Направлявшиеся домой суда поплыли своим путем, смотрели на огибающие мыс Доброй Надежды стаи китов, стреляли из пушек в больших, гладких тунцов и остановились на некоем острове, чтобы поймать в силки и зажарить стаю птиц, так и не научившихся бояться людей. Если верить фламандскому матросу, птицы оказались не единственными жертвами. К середине июля провизия снова стала заканчиваться, а 13-го он буднично записал: «Мы нашли остров, на котором убили по меньшей мере 300 мужчин, и многих захватили, и взяли там воду» [503]. Без сомнения, он, как всегда, преувеличивал, хотя Томе Лопеш, чей корабль ожидал, не подходя к берегу, о случившемся там – что для него необычно – умалчивает.
Флотилия пошла дальше к островам Зеленого Мыса. До архипелага оставалось еще довольно далеко, когда налетел страшный шторм, и кораблям пришлось бросать якорь в бурном море. Все матросы на них заболели. И на протяжении 20 дней у них не было хлеба. Среди них был и немецкий моряк. Как раз вовремя, сообщил он, мимо проплыл другой португальский корабль, «с которого мы взяли муку и сухари и сварили кашу, которой вдоволь наелись. Каждый второй или третий день кто-нибудь умирал, а остальные были больны как никогда и в еще большем отчаянии от перемены воздуха» [504]. Наконец все три корабля подошли к Азорам, взяли на бот много свежей провизии и на западных ветрах понеслись к Лиссабону.
А оставшиеся в Мозамбике корабли стали отплывать по двое, по трое, едва на них удавалось загрузить провиант. Адмирал Индийского океана дождался отправки последнего корабля и сам отбыл 22 июня. Два корабля потеряли остальной флот темной штормовой ночью и приковыляли домой, черпая воду, сопровождаемые, по записи одного португальского матроса, одними лишь страхами. Когда они уже плыли к Азорам, весь экипаж заболел и не осталось никого, кто мог бы управлять кораблями. Из еды остались лишь плесневелые и кишащие червями сухари, и мучимые болезнями матросы сожрали двух собак и двух кошек, которых взяли на борт для ловли крыс.
Запах пряностей достиг суши раньше флотилии. 17 тонн перца, гвоздики, корицы, имбиря, муската, кардамона, древесины цезальпинии, алоэ, миробалана, камфоры, ароматических смол, тамаринда, мускуса и разных видов имбиря наводняли ароматами трюмы, маскируя запахи людей, почти два года проведших в море.
Первые суда достигли Лиссабона в начале августа, и известия о том, что они привезли, раз и навсегда упрочило славу Васко да Гамы. «Где бы он ни бывал, – сообщал наниматель Маттео да Бергамо купец Джанфранко Аффаитати находившемуся тогда в Испании венецианцу Пьетро Паскуалиго, – он везде – будь то любовью или силой – добивался всего, чего желал» [505].
10 октября адмирал Индийского океана с победой приплыл в Лиссабон. К концу месяца вернулись по меньшей мере 13 кораблей. Одно судно еще в начале плавания налетело на мель возле Софалы; другое, самое старое и самое маленькое во всем флоте, прибыло домой во время яростного шторма и было вынуждено бросить якорь в пяти милях от Лиссабона. «Дул столь сильный ветер, – сообщал один очевидец, – что порвались все якорные канаты и волны разбили корабль на части, а люди спасались на этих обломках, так что утонули не более четверых» [506]. Кроме них, Васко да Гама не потерял ни одного корабля.
Его успех выглядел тем ярче на фоне бед, постигших его величайшего соперника. Через три месяца после того, как адмирал Индийского океана отправился во второе свое плавание, адмирал Моря-Океана отплыл из Испании в четвертый и последний раз. Когда Христофор Колумб прибыл на Эспаньолу, губернатор проигнорировал его сообщение о том, что надвигается ураган, и не позволил ему войти в порт. Два дня спустя первый испанский флот с сокровищами отплыл из колонии и вошел прямиком в тропический шторм. Двадцать из тридцати кораблей затонули, утащив с собой на дно огромное количество собранного золота и пятьсот человек, включая самого губернатора. Четыре престарелых корабля Колумба нашли укрытие в протоках устья реки, и когда шторм миновал, Колумб отправился исследовать сушу, на которую наткнулся в предыдущее свое плавание. В Панаме он узнал, что всего в нескольких днях пути лежит совершенно новый океан, и решил, что нашел протоку, через которую сможет проплыть прямиком в Индию.
Взяться за поиски этой протоки ему так и не довелось. Избежав одного шторма, его флот попал в другой, еще более яростный. Один из поврежденных кораблей попал в ловушку в реке, и когда на него напали туземцы, Колумбу пришлось бросить судно. Корпуса оставшихся трех были изъедены червями и быстро набирали воду, и едва флотилия подняла паруса для обратного плавания, пришлось бросить еще один корабль. Когда последние два корабля направлялись к Кубе, на них обрушилась еще одна буря, и, чтобы они не затонули, Колумбу пришлось вытащить их на берег на Ямайке. Испанцев на Ямайке не было, и Колумб и его люди там застряли. Один из капитанов купил у местного туземного вождя каноэ и на веслах добрался до Эспаньолы, где новый губернатор тут же бросил его на семь месяцев в тюрьму. Колумб еще торчал на Ямайке, пытаясь подавить мятеж собственной команды и поразив туземцев предсказанием лунного затмения (чем заработал на пропитание матросам), когда Васко да Гама вернулся домой.
Весь двор вышел к морю приветствовать адмирала и сопроводить его во дворец. Он торжественно шел по улицам под звуки фанфар и барабанный бой, предшествуемый пажом, который нес огромную серебряную чашу с золотыми подношениями из Килвы. Придя во дворец, он преподнес гору золота королю Мануэлу.
Впервые ценная дань была привезена домой из какого-либо города восточных сказок. Впервые мусульманский правитель сделался вассалом португальского короля. Впервые у Мануэла появились тысячи христианских подданных в Индии. Сомнения, посеянные тягостной экспедиций Кабрала, были развеяны.
Мануэл воздавал чрезмерные хвалы своему адмиралу, заодно восхваляя себя самого. Васко да Гама превзошел древних. Он напал на «мавров из Мекки, врагов святой католической веры» [507], он заключил нерушимые договоры с двумя индийскими правителями и благополучно привел свой флот домой, «хорошо нагруженный и с большими богатствами». Что до золота из Килвы, Мануэл велел переплавить его на сверкающую дарохранительницу для огромной монастырской церкви, строящейся в Белеме, – богато изукрашенный африканской резьбой и чудесами Востока каменный монумент мощи и прибылей, которые Португалия приобретет за счет пряностей.
Глава 17
Морская империя
Всего несколькими годами ранее Лиссабон был захолустным городом на краю света. Теперь он преобразился в коммерческий центр, способный соперничать с богатейшими гаванями Востока. В его порту теснились корабли трех континентов. Его склады полнились трещащими по швам мешками перца. По его переулкам гремели повозки, нагруженные муслинами и парчой, мускусом и амброй, ладаном и миррой, гвоздикой и мускатным орехом. Полы в его домах устилали персидские ковры, а стены были увешаны восточными занавесями. Со всей Европы сюда стремились поглазеть, купить и приобщиться к очарованию новизны.
Для многих повеяло пьянящим ветром свободы. Соблазн увидеть новые земли, встретиться с новыми людьми и привезти домой поразительные сувениры и даже экзотических животных оказался непреодолимым для европейских искателей приключений, и неиссякаемый поток новых марко-поло бросал свои дома и отправлялся в длительное путешествие на Восток. Это были люди вроде Лодовико де Вартема, покинувшего Болонью в 1502 году ради иссушающей жажды странствий, славы и экзотических сексуальных приключений. Если верить его захватывающим «Путешествиям», де Вартема выдавал себя за солдата-мамлюка в Сирии, сражался с пятьюдесятью тысячами арабов в бытность свою охранником при караване верблюдов, проник в Каабу в Мекке [508] и в гробницу Мухаммеда в Медине, имел страстный роман с женой султана в Адене и приобрел репутацию мусульманского святого, прежде чем вернулся в Европу на португальском корабле.
Но доблестные португальцы открыли путь на Восток не для развлечения сорвиголов. Небольшая страна поставила перед собой задачу монументального масштаба, и выполнение ее только начиналось.
Один итальянский банкир в Лиссабоне утверждал, что Васко да Гама отплыл на восток с недвусмысленным наказом «подчинить всю Индию» [509] своему повелителю. Его железная воля проложила курс десятилетиям безжалостных битв за господство в Индийском океане. Однако Индия перестала быть отвлеченной идеей, сияющим плодом воображения европейцев. Это был огромный субконтинент, одолеваемый собственными внутренними распрями, со сложным многообразием культур и пугающе безразличный к чужеземцам, шебуршащимся у его берегов. Португальцы только-только начали наносить на карты побережье, но материковая часть полуострова оставалась непроницаемой загадкой: таковы были недостатки войны на море.
Правду сказать, банкир несколько забежал вперед. Для Васко да Гамы и его людей Индия была средством достижения цели. И этой целью были головокружительные амбиции Мануэла короновать себя королем Иерусалима, а первым шагом в этом крестовом походе было не завоевание Индии, а изгнание всех ее мусульманских купцов. Да Гама употребил для этого все средства, однако его августейший враг по-прежнему восседал у себя в каликутском дворце, а мусульманские купцы по-прежнему вели свою торговлю. Что до остальных задач, португальцы так и не нашли пресвитера Иоанна, который только и ждал, чтобы отдать под их командование бесчисленные армии, а те немногие христиане, которых они встретили, были слишком слабы и бессильны воевать за дело веры. Еще предстояло перекрыть поток пряностей в Египет, и португальцы даже не приблизились к Красному морю, которое, по их мнению, способно было привести их в Святую Землю. Для всех, кроме самых доверчивых и религиозных фанатиков, было очевидно, что грандиозный план Мануэла потребует невероятных затрат времени, человеческих и денежных ресурсов, что еще глубже затянет Португалию на Восток.
Но короля ничто не могло остановить. Он считал, что вера и пушки покорят все. Однако Индия находилась в другой части света, и без нужного человека на командном посту корона была бессильна контролировать шаги, предпринимаемые от ее имени.
Гниль же завелась уже среди родственников самого да Гамы.
Висенте Сорде и его брат Браш остались в Индии с широкими полномочиями защищать португальские фактории и грабить мусульманские корабли. Едва их строгий племянник отбыл, они решили, что вторая из этих задач гораздо прибыльнее первой, и уплыли грабить корабли, которые везли пряности и шелка к Красному морю. Их команды негодовали, впрочем, причиной тому был не праведный гнев, а нежелание братьев делиться добычей. Один разозленный капитан пожаловался на них самому королю Мануэлу: Браш, писал он, присвоил себе всевозможные товары, «не внеся их в книги вашего величества, помимо много того, из чего он брал что хотел, ибо никто не смел ему перечить, поскольку его брат позволял ему делать что пожелает» [510]. Нахальные братья получили по заслугам, когда со смехом отмахнулись от советов бедуинских пастухов отвести корабли с пути надвигающегося шторма, и все тот же капитан с праведным возмущением докладывал о последствиях королю: «А потому, мой господин, на следующий день ветер поднялся такой силы и море стало таким бурным, что корабль Висенте ударило о берег, а за ним и корабль Браша Сорде со сломанной мачтой, и у каждого корабля было по шесть канатов на носу». Висенте погиб тотчас же (в результате кораблекрушения); его брат убил штурманов из мести за гибель Висенте за то, что они не смогли предотвратить кораблекрушения. Сам адмирал наказывал не пренебрегать познаниями штурмана-горбуна; осведомитель Мануэла добавлял, что это был лучший штурман во всей Индии и «крайне необходимый для вашего величества».
Заморин не замедлил воспользоваться шансом, который представился в отсутствие флота. Свой гнев он обратил на мятежного раджу Кочина, который все еще упрямо отказывался нарушать свой договор с христианами, и во главе крупой армии пересек границу. Радже, португальским факторам, клеркам и страже пришлось бежать из разоренного города и прятаться на ближайшем острове. Они все еще сидели там, когда прибыл следующий португальский флот, и когда португальцы вернули радже трон, в Кочине начали спешно возводить деревянное сооружение, названное форт Мануэл, – первую европейскую крепость в Индии.
Быстро становилось ясно, что поставленную Мануэлем задачу – раз и навсегда пресечь торговлю мусульман в Индийском океане – способна выполнить только постоянная вооруженная оккупация. А это требовало командующего, который мог бы принимать решения на месте, и в 1505 году Мануэл назначил первого вице-короля Индии. Подобно титулам, которые Мануэл изобрел для себя и своего адмирала, этот скорее свидетельствовал о намерениях, чем отражал реальное положение вещей, но подразумевал, что приоритеты Португалии сместились: теперь они намерены перенести военные действия с моря на сушу. Мануэл выбрал дома Франсишку ди Алмейда, испытанного и верного старого солдата, сражавшегося при осаде Гранады в 1492 году, и не только наделил его властью заключать договора, объявлять войну и творить суд, но и приказал создать цепь укреплений по берегам всего Индийского океана.
Начал ди Алмейда с Килвы. Высадившись, его солдаты направились прямиком ко дворцу эмира-узурпатора, «милостиво пощадив жизни тех мавров, кто не оказывал сопротивления» [511]. Один придворный яростно размахивал из окна оставленным да Гамой флагом и кричал: «Португалия! Португалия!» Проигнорировав его, португальцы взломали двери дворца и начали убивать и грабить, а священник и группа францисканских монахов размахивали крестами и распевали «Тебя, Бога славим». Эмир бежал, и ди Алмейда назначил на его место марионетку. Конфисковав самый укрепленный дом на побережье, он до основания снес окрестные постройки и превратил его в тяжело вооруженный форт, в котором разместил гарнизон, состоявший из капитана и восьмидесяти солдат.
Затем европейцы перешли к Момбасе. Султан их ждал, и с бастиона у входа в гавань в корабли полетели ядра. Защитники бастиона стреляли, пока не взорвался запас пороха и сам бастион не загорелся, потом, не переставая отстреливаться, ушли на лодках в гавань. Высадившись большим отрядом, португальские солдаты под градом камней и стрел защитников подожгли деревянные строения города. Огонь с деревянных построек с соломенными крышами перекинулся на соседние дома: Момбаса, докладывал немецкий матрос Ханс Мейр, бывший в составе экспедиции, «пылала, как один большой костер, затянувшийся почти на всю ночь» [512]. Уцелевшие жители бежали в пальмовые рощи за пределами города, и на следующий день победители разграбили дымящиеся руины, топорами и таранами ломая двери домов и из арбалетов сбивая с крыш последних защитников. Достигнув дворца, они разгромили пышные покои, а капитан тем временем вскарабкался на крышу и поднял королевский штандарт. На телегах были вывезены горы ценностей, включая роскошный ковер, который послали королю Мануэлу. Согласно все тому же Мейру, более пятнадцати тысяч мусульман – мужчин, женщин и детей – лежали убитыми, хотя погибло только пятеро христиан, – диспропорцию он отнес за счет Божьей милости, а не человеческого умения.
Флот направился в Индию, и, построив форт в Каннануре, португальцы поплыли в Каликут, готовясь к ежегодной схватке с заморином.
В марте 1506 года 209 судов из Каликута – из них 84 крупных – атаковали 11 португальских кораблей. Искатель приключений из Болоньи Лодовико де Вартема, случайно оказавшийся в тех краях, не преминул принять участие в битве.
Заморину удалось наконец обзавестись эффективной артиллерией – по иронии судьбы для де Вартема пушки были итальянского производства, – и расстановка сил складывалась не в пользу европейцев. Командовавший португальской эскадрой Лоуренсу ди Алмейда, сын вице-короля, собрав своих людей, призвал их пожертвовать собой словами истинного крестоносца:
«О господа, о братья, настал день, когда должно вспомнить о страстях Христовых и сколько мук Он претерпел во искупление грешников. Сегодня тот день, когда спишутся все наши грехи. Ради этого заклинаю вас исполниться решимости и доблестно выступить против этих псов, ибо я надеюсь, что Господь подарит нам победу и не допустит, чтобы Его вера была посрамлена» [513]. Потом священник с крестом в руках произнес зажигательную проповедь и даровал отпущение всех сущих грехов. «И так хорошо он умел говорить, – вспоминал позднее де Вартема, – что большая часть нас плакала и молилась Господу, чтобы допустил нам погибнуть в той битве».
Забили барабаны, загрохотали пушки, и, как писал де Вартема, «жесточайшая битва велась с невероятным кровопролитием». Сражение продолжалось и на следующий день. «Прекрасно было созерцать, – вспоминал итальянец, – галантные подвиги одного весьма доблестного капитана, который на своей галере порубил столько мавров, что невозможно описать». Другой капитан прыгнул на борт вражеской лодки. «Иисус Христос, даруй нам победу! Помоги верным тебе!» – крикнул он и отрубил несколько голов. Индусы дрогнули под столь яростным натиском, и европейцы перебивали отступающих без жалости. Вернувшись на место битвы, молодой командор послал своих людей подсчитать трупы. Де Вартема записал исход: «Они нашли, что убитых на берегу и на море и на захваченных кораблях насчитывалось три тысячи шестьсот тел. Да будет вам известно, что еще многие были убиты, когда побежали, и еще многие, когда бросились в море». Несостоявшимся мученикам пришлось удовлетвориться победой, потому что, согласно де Вартеме, несмотря на огонь итальянских орудий, не погиб ни один христианин.
Пока победитель праздновал свой триумф, другой португальский воин, приблизительно одних лет с вице-королем, прилагал все силы, чтобы украсть его славу.
Афонсу де Албукерки уже было под пятьдесят, когда он впервые оказался в Индийском океане. Он был среднего роста, со здоровым цветом лица, большим носом и «почтенной бородой, которая спускалась ему ниже пояса и которую он носил завязанной в узел» [514]. Как аристократ, состоящий в отдаленном родстве с королевской семьей, он получил хорошее образование и был известен своим красноречием А еще он был заядлым крестоносцем, который еще в молодости десять лет воевал в марокканских войнах. Он был командором ордена Сантьяго, того самого, в который мальчиком посвятили Васко да Гаму, и он решил, что его будущее лежит на Востоке. С адмиралом Индийского океана его роднили не только решительность и личная смелость, но и сила характера, кроме того, он превосходил своего младшего современника несгибаемой жестокостью и готовностью проявлять ее не только к врагам, но и к собственным людям.
В 1506 году де Албукерки отплыл с эскадрой из шести кораблей, чтобы перекрыть поставки пряностей в Египет, Аравию и Иран. Быстро захватив каменистый остров у входа в Красное море, он выстроил там форт. Со своей новой базы он устраивал рейды ко Вратам Слез, выискивая корабли, направляющиеся в Аден и Джедду. В следующем году он отправился к другому побережью Аравийского полуострова, чтобы блокировать Персидский залив [515]. Его военная эскадра бросила якорь в подковообразной гавани Муската, древнего порта у входа в Персидский залив, и дала предупредительный залп. Португальские матросы вскарабкались на высокие земляные стены достопочтенного города и заполонили улицы. Путь к славе они проложили себе по горам трупов и отрезали носы и уши тем мужчинам и женщинам, которых оставили в живых. Они порубили топорами главную мечеть, «очень большое и красивое здание, построенное по большей части из бревен и украшенное красивой росписью» [516], и подожгли ее. Затем де Албукерки начал терроризировать соседние порты и некоторое время спустя отплыл дальше к главной своей цели – Ормузу. Прибыв на место, он пригрозил построить крепость из костей его жителей и прибить к дверям их уши и, запугав защитников, уничтожил весь флот города, виртуозно продемонстрировав как навыки мореплавания, так и превосходящую огневую мощь. Малолетний царь Ормуза стал вассалом короля Мануэла, и над городом из европейских сказок [517] возник португальский форт Богоматерь Победная, построенный не из костей, а из камня.
Де Албукерки систематически разорял морские центры евроазиатской торговли ислама. По мере того как все больше и больше пряностей оказывалось в трюмах португальских кораблей, рынки Александрии пустели. Египтяне уже больше не могли сложа руки смотреть, как исчезает их монополия. Кончилось терпение и у их союзников венецианцев.
В 1500 году внезапно зачахла роща бальзамовых деревьев [518] [519].
В новости не было бы ничего примечательного, если бы не тот факт, что ухаживавшие за рощей монахи коптской церкви утверждали, что первое деревце тут посадил младенец Иисус [520]; считалось, что драгоценная пряная смола есть эссенция его пота, который Мария выжала из его рубахи после того, как постирала ее в источнике, забившем по его приказу. Столетиями под бдительным оком слуг султана монахи извлекали из деревьев тягучую смолу. Смолу распускали в масле, а полученную жидкость расхваливали как чудодейственное лекарство от самых разнообразных хворей. Ее продажу тщательно контролировали – разумеется, венецианцы были в числе привилегированных клиентов, – и европейцы выкладывали умопомрачительные суммы за крошечные пузырьки священного масла. Но внезапно древние деревья исчезли, точно их никогда и не было, и египтяне всех конфессий оплакивали их гибель.
Это стало любопытным символом разорения, которому Васко да Гама подверг морские пути поставок пряностей. Почти тысячу лет торговля в Индийском океане велась на условиях, которые диктовали мусульмане. Внезапно португальцы разрушили традиционный порядок. Целые регионы исламского мира оказались перед угрозой экономического упадка, их гордости был нанесен нежданный и тяжкий удар. Подобно роще мирровых деревьев, древний устоявшийся уклад внезапно начал чахнуть под ледяными ветрами.
Летом 1504 года к папскому двору прибыл францисканский монах [521] с ультиматумом от султана Египта. Монах был блюстителем монастыря горы Сион [522] в Иерусалиме, который все еще находился в руках египтян. Султан грозился сровнять с землей христианские святыни в Святой Земле, если португальцы немедленно не уйдут из Индийского океана. Папа римский умыл руки и отправил монаха к королю Мануэлу с письмом, в котором спрашивал совета. Если тронут христианские святыни, ответил Мануэл, он объявит новый крестовый поход в их защиту. Он напомнил папе о победах своей семьи над исламом и поклялся, что не изменит свою политику, пока неверные не будут сокрушены. Мануэл добавлял, что уже преодолел столь внушительные преграды, что его поход, несомненно, получил благословение свыше.
По пути к папе монах остановился в Венеции. Официально Синьория просила султана не исполнять угрозу, но тут же направила в Каир нового тайного агента. Этот посланник, Франческо Тельди, выдавал себя за торговца драгоценными камнями и свое истинное имя раскрыл, только получив приватную аудиенцию у султана. Европейские державы, заверил он египетского правителя, слишком разобщены, чтобы осуществить совместный поход в Святую Землю. Португальцы подрывают экономику не только Венеции, но и Египта, и пока еще не поздно, султан должен сломить их.
В Венеции царило такое же уныние, что и в Каире. В 1498 году, когда Васко да Гама впервые пересекал Индийский океан, в Александрию доставили такой груз пряностей, что даже у венецианцев не хватило денег скупить их все. В 1502 году, когда да Гама вернулся из своего второго плавания, их корабли пришли домой полупустыми. Три четверти торговых галер Венеции были законсервированы, а остальные корабли пропускали три из четырех обычных плаваний.
Венецианцы отказались даже от видимости дружбы с Португалией и перешли на сторону Египта. Синьория послала в Лиссабон новых шпионов (один был разоблачен и брошен в казематы Мануэла [523]) и на какое-то время даже оживила старинные планы прорыть канал из Средиземного моря в Красное, зачатки Суэцкого канала. В конечном итоге идею забросили еще до обращения к султану, вместо этого Венеция взялась строить ему флот.
Это был экстраординарный план – перевертыш давно вынашиваемых замыслов Португалии: Венеция собиралась спустить на воду корабли в Красном море, чтобы мусульмане могли уничтожить торговые пути христиан.
Османская империя тоже с тревогой смотрела, как от нее ускользает торговля с Востоком. Турецкий султан был в еще худших отношениях с Египтом, чем с Венецией, но три оказавшиеся под угрозой державы заключили невероятный альянс. Стамбул поставлял Египту материалы для строительства военного флота, равно как и офицеров и канониров в экипажи кораблей, а руководить строительством отправились умелые кораблестроители Венеции. Венецианцы надзирали за доставкой материалов в Александрию, погрузкой их на верблюдов и транспортировкой через пустыню, а после собирали корабли на берегах Красного моря.
На верфях Суэца поднялись двенадцать великолепных галер венецианского типа из дуба и пихты. Отлитые из бронзы турецкие пушки установили на носу и корме – но не по бортам, где слишком много места занимали весла и гребцы, – и армада направилась к Индии.
После длительной задержки она наконец прибыла в начале 1508 года и бросила якорь в гавани Диу, – островок, на котором располагался этот порт, был стратегически расположен в устье Камбейского залива на северо-западе Индии и принадлежал индусскому государству Гуджарат. Согласно плану, она должна была соединиться с кораблями, посланными заморином Каликута, который, оправившись от недавнего поражения, снова отстроил флот и, проплыв на юг, разрушил все до единой португальские крепости и фактории вдоль побережья. Однако египтяне опоздали: корабли заморина уже заходили сюда и ушли. Вместо этого египтяне объединились с эскадрой правителя Диу и основательно потрепали небольшой португальский флот у близлежащего Чаула. Среди прочих португальцев погиб сын вице-короля, Лоуренсу ди Алмейда, герой морского сражения при Каликуте.
Для Португалии это было первое морское поражение в Индийском океане, и победные барабаны рокотали в Каире три дня. Однако Египет не сумел воспользоваться одержанной победой. Флот вернулся в Диу и простоял там весь сезон зимних муссонов: корпуса кораблей гнили, команды понемногу разбегались. На следующий год на порт надвинулись восемнадцать португальских боевых кораблей, наступление возглавлял ди Алмейда на «Флор де ла Мар» [524]. Уже через несколько часов закаленные португальцы одержали кровавую победу, и мстительный вице-король поплыл вдоль побережья, по пути расстреливая из пушек в упор пленных и бомбардируя их головами города, мимо которых проходил. Заморин наконец запросил мира, и португальцы построили форт в Каликуте.
Венецианцы предприняли новое дипломатическое наступление с целью уговорить Стамбул спонсировать еще один египетский флот, но их прошения пропали втуне. Через семь лет после битвы при Диу турецкие пушки скосили элитные части египетской кавалерии и положили скорый конец 267 годам бурного правления мамлюков. Османская империя снова обратила свое внимание на Европу и еще тридцать лет не будет посылать крупных флотов против португальцев. Тем временем папа объединился с французами и испанцами [525], чтобы поставить на место Венецию. Ла Серениссиму лишили территорий, которые она приобретала столетиями, и хотя она оправилась, но уже не сумела вернуть себе прежний статус мировой державы.
Как и первым крестоносцам, португальцам колоссально повезло с выбором времени. С разгромом Венеции и сокрушением ее египетского союзника господству Португалии в Индийском океане не осталось других соперников. Морские пути в Юго-Восточную Азию только и ждали захватчиков.
С какой бы яростью ни мстил вице-король ди Алмейда за гибель сына, он оказался не из тех, кто безоговорочно поддерживал мессианские планы Мануэла. Под влиянием купеческого лобби и групп аристократов, желавших приобрести себе состояние грабежом арабских кораблей, вице-король пришел к убеждению, что война на суше станет верным способом растратить все то, что Португалия завоевывала на море. Он советовал королю, мол, много лучше использовать мощь кораблей, чтобы запугать правителей Индии, и упрочить прибыльный бизнес по организованному пиратству. Тот факт, что колаттири Каннанура заручился помощью своего бывшего врага заморина Каликута, чтобы разрушить португальский форт в своем городе, только подкрепил его аргументы. Прежний колаттири, с которым заключил договор Васко да Гама, умер, а его преемник поклялся, что европейцы кровью поплатятся за омерзительный эпизод, когда португальцы потопили индусский корабль, зашили его матросов в паруса и заживо бросили в море. Огромная армия осаждала крепость четыре месяца, и от голодной смерти португальцев спасло только то, что прямо им к порогу вымыло множество крабов, а после подоспел португальский флот.
Как раз когда ди Алмейда уговаривал Мануэла несколько уменьшить размах своих амбиций, в самой Португалии вспыхнул пожар религиозной нетерпимости. В 1506 году некий человек, которого подозревали в том, что он марран, – то есть «новый христианин» или окрещенный еврей, втайне исповедующий веру своих предков [526], – вызвал вспышку возмущения в Лиссабоне, рискнув предположить, что сверхъестественное сияние, исходящее от креста, может иметь вполне материальное объяснение. Толпа женщин вытащила сомневающегося из церкви и забила до смерти, а священник произнес зажигательную проповедь, побуждая паству с корнем вырвать врага из своей среды. Еще два священника прошли по улицам, размахивая крестами, и толпа местных мужчин и матросов с кораблей в гавани устремилась громить кварталы предполагаемых марранов. За два дня были вырезаны две тысячи мужчин и женщин – включая некоторое число католиков, отдаленно походивших на евреев. Вспыхнувшую крестоносную лихорадку трудно было обуздать.
Мануэл приказал казнить зачинщиков, включая священников. Однако он более чем когда-либо был убежден, что его историческая миссия – поскорее вернуть весь Восток в лоно христианство, и он заменил противящегося его замыслам ди Алмейду на Афонсу де Албукерки [527].
Крестовый поход вышел на новый уровень. Как и король, де Албукерки воображал себе колоссальную азиатскую империю, объединенную вселенским христианством, в которой подавляемый ислам понемногу зачахнет. Чтобы покрыть астрономические затраты на ее создание, Португалия должна полностью перекрыть поставки пряностей в Средиземноморье и превратить эту торговлю в монополию короны – наперекор стенаниям разобиженных купцов. Королевские факторы не будут больше торговаться за мешки с перцем на набережных индийских портов. Следует открыть первоисточник самих драгоценных пряностей, следует построить новые крепости, чтобы перекачивать ароматные сокровища в руки португальцев, следует построить флот плавучих складов, которые станут доставлять эти сокровища домой под охраной эскадр боевых кораблей.
Де Албукерки позволил себе увлечься. В одном случае он подумывал изменить русло Нила, чтобы задушить Египет засухой; в другой раз он придумал похитить останки пророка Мухаммеда для обмена на Гроб Господень в Иерусалиме [528]. Он без раздумья вешал на реях собственных людей либо приказывал отрезать им носы, уши или рубить руки при малейшем признаке того, что неповиновение ставит под угрозу его великие замыслы. Однако этот фанатик был еще и поразительно талантливым морским стратегом. Он быстро понял, что империя, основанная на одних только кораблях, особенно на кораблях, которые плохо содержат и на которых служат плохо обученные матросы, вскоре рухнет. Теперь из Португалии шел поток зеленых рекрутов, но многие из них были простыми батраками с ферм, и обучать их приходилось с нуля. Предстояло создать резервные части, которые заступали бы на место погибших или заболевших. Суда требовалось чинить, переоснащать и надежно снабжать провизией. Де Албукерки требовалась надежная морская база, и вскоре он нашел идеальное место.
Островок у побережья Гоа был отделен от материка узкими проливами, уровень воды в которых поднимался во время приливов, так что его было легко оборонять, а еще создавало хорошо защищенную гавань. Напротив него лежал город, самый оживленный после Каликута порт Индии, который мог похвалиться множеством умелых кораблестроителей. Там велась успешная торговля арабскими скакунами из Ормуза, на которых был большой спрос среди индийских вельмож и которых невозможно было разводить под зноем Индостана. Город был старым, большим и богатым (Лодовико де Вартема утверждал, что даже на обуви слуг короля красовались рубины и алмазы) и подобно остальной Северной Индии находился в руках мусульман. С помощью честолюбивого индусского пирата и авантюриста Тиможи – того самого, которого заморин некогда послал охотиться на корабли Васко да Гамы, – де Албукерки отобрал город у его прославленного султана. Уже через несколько недель ему пришлось отступить, когда подошла огромная армия мусульман, но три месяца спустя он вернулся с новым военным флотом. Вырезав защитников на берегу, его люди преследовали их до города и учинили резню на улицах. В ходе этой резни многие жители Гоа утонули или окончили свои дни в пасти аллигаторов, когда пытались спастись, переплыв реку. Как удовлетворенно писал королю де Албукерки, шесть тысяч мужчин и женщин были убиты, тогда как всего пятьдесят португальцев простились с жизнью.
Гоа теперь стал штаб-квартирой экспансионистской колониальной державы с базами в западной части Индийского океана, и поздравить воинственного нового правителя созвали послов соседних государств. Чтобы колония пустила корни, де Албукерки при помощи денег, домов и земель подкупал своих людей, чтобы они женились на местных индианках. По сообщению хрониста, смешанные браки с самого начала стали источником проблем: «Однажды ночью, когда праздновали несколько таких свадеб, невест так перепутали, что некоторые женихи отправились в постель с чужими женами; и когда на следующее утро ошибка была обнаружена, каждый взял себе назад собственную жену, ибо все были равны с точки зрения чести. Некоторым кавалерам это дало повод насмехаться над мерами вице-короля; но он преследовал свои цели с твердостью и преуспел в создании на Гоа оплота португальского могущества в Индии» [529].
С Гоа португальские флотилии уходили разведывать Индокитай и Юго-Восточную Азию. Они уже достигли Цейлона, места, где росла лучшая на свете корица, и в 1511 году де Албукерки отплыл на восток к Малайскому полуострову. Местом его назначения был международный портовый город, контролировавший узкий проход в Малаккский пролив, оживленный морской путь между Индийским и Тихим океанами. Город также назывался Малакка, и его влияние простиралось далеко. «Кто хозяин Малакки, тот держит руку на горле Венеции», – драматично заявлял один португальский фактор [530]. Это было не простое преувеличение: Малакка была конечной точкой в плаваниях китайских моряков, многие из которых осели тут в собственном квартале, носившем название Китайский холм, а купцы из Индии, Персии и Аравии приплывали сюда за фарфором и шелками. Городом и окрестными землями правил могущественный султан-мусульманин, и как раз это делало Малакку соблазнительным трофеем для христиан.
Де Албукерки вошел в гавань под всеми флагами и с пушечными залпами и сжег десятки кораблей. Его войско высадилось на берег, и после яростного рукопашного боя (исход его решили несколько удачно брошенных копий, от которых боевые слоны вздымались на дыбы и сбрасывали на землю солдат) последний султан бежал. Возник еще один форт, и из Малакки португальцы отправлялись теперь на юг и на север.
На севере король Сиама (современного Таиланда) давно уже присматривался к богатой Малакке. Де Албукерки отправил посла для выработки условий альянса и, переправившись на берег в джонке, стал первым европейцем, посетившим Таиланд. В 1513 году экспедиция из Малакки отплыла на восток и достигла китайского города Гуанчжоу, который португальцы окрестили Кантоном. Первые контакты обернулись катастрофой: китайцы потопили два португальских корабля, а посланников приговорили к смерти за дурное поведение их соотечественников, которые, по убеждению китайцев, были каннибалами. Случившееся описал один из осужденных, бывший аптекарь из Лиссабона Томе Пиреш, который, взявшись за перо, утешал себя, мол, даже ценой собственной жизни следует способствовать крестовому походу святой католической веры против лживой и дьявольской религии омерзительного и фальшивого Мухаммеда [531]. Со временем португальцы создали постоянную базу в соседнем Макао и прибрали к рукам морскую торговлю Китая, а чуть позднее, когда трех купцов ветром сбило с курса, наткнулись на Японию и основали еще одну прибыльную торговую факторию в Нагасаки [532].
На юго-востоке португальцы доплыли до Индонезии и самих Островов Пряностей. С малайскими штурманами в качестве проводников флотилии обошли Суматру и Яву, прошли между Малыми Островами Сунда и вышли в Молуккский пролив. Тут на горстке вулканических островков они наконец нашли источник гвоздики и мускатного ореха. Ислам и тут пустил корни, по мере того как сходили на нет индуизм и буддизм, но христиане нашли достаточно союзников, чтобы здесь закрепиться: среди последних был султан острова Тернате, который наряду со своим заклятым врагом, правителем острова Тидор, был крупнейшим мировым поставщиком гвоздики.
Владения Португалии были лишь крошечными точками на карте, но соединенные воедино, эти точки образовывали силуэт огромной морской империи. Череда поселений, крепостей и зависимых от них территорий тянулась вдоль побережий Западной и Восточной Африки, обоих берегов Персидского залива, по западным берегам Индии и уходила глубоко в Юго-Восточную Азию. Самое поразительное в другом: эта империя была создана всего за четырнадцать лет с тех пор, как Васко да Гама впервые приплыл на Восток. «Мне кажется, – заключал Лодовико де Вартема после продолжительного путешествия по Юго-Восточной Азии, – что если Богу будет угодно и если король Португалии будет столь же победоносен, как и до сих пор, он станет самым богатым королем в мире. И воистину он заслуживает всех благ, ибо в Индии и особенно в Кочине каждый праздник крестят по десять, а то и по одиннадцать язычников в христианскую веру, которая повседневно преумножается стараниями сего короля; и по этой причине можно полагать, что Господь даровал ему победу и впредь станет ему способствовать» [533].
Король Мануэл без тени скромности похвалялся перед изумленной Европой новообретенным величием и в 1514 году отправил в Рим грандиозное посольство. Центральной его фигурой был слон, которого сопровождали 140 служителей в индусских костюмах, кроме него, зоопарк экзотических животных включал гепарда из Ормуза. Некоторую неловкость породило то, что Мануэл решил сэкономить на расходах самого посла и тому пришлось занять крупную сумму, чтобы прокормить свою свиту и животных. На тогдашнего папу римского, происходившего из семейства Медичи, непросто было произвести впечатление, однако он подписал новую буллу и послал в Лиссабон собственные богатые дары. Стремясь превзойти его, Мануэл в следующем году отправил в Рим носорога на корабле, доверху нагруженном пряностями, впрочем, судно с редким зверем так и не прибыло на место, затонув неподалеку от Генуи.
Купаясь в восточной роскоши, португальский король готовился к последнему рывку в борьбе за Иерусалим и вечную славу.
Подгоняемые крестоносным рвением и жаждой пряностей, португальцы с поразительной быстротой уничтожили монополию мусульман на богатейшие торговые пути мира. Однако порожденный манией величия план Мануэла вторгнуться в Святую Землю одновременно с востока и с запада никогда не имел ни реалистичной стратегии, ни адекватных средств для его осуществления. Мануэл всегда полагал, что Господь вступится за его народ и поможет в исполнении великого замысла.
План же вскоре начал разваливаться – и притом с поразительной быстротой.
В 1515 году десять тысяч португальских солдат высадились в Марокко [534] – прямо под скоординированный огонь мусульманских пушек. Деревянную крепость, которую они приплыли построить, ядра разнесли в щепы, равно как и большую часть их кораблей, и запаниковавшие крестоносцы бежали домой. Мануэл послал на смерть четыре тысячи человек, и его план выступить маршем через Африку рухнул в облаке серного дыма.
В том же году многочисленные враги Афонсу де Албукерки наконец добились его смещения, – опрометчивое прошение де Албукерки о пожаловании ему титула герцога Гоа лишь упростило им задачу. Шестидесятитрехлетний строитель империи, который получил это известие, когда возвращался в свою столицу из второй экспедиции по покорению Ормуза, пришел в глубокое отчаяние. Он написал королю исполненное достоинства письмо с оправданием своих действий, и дописывал за него писец, когда у вице-короля задрожали руки. Де Албукерки умер, когда его корабль пересекал экватор, и был похоронен в полном доспехе крестоносца, как и пристало человеку, который больше кого-либо – за исключением Васко да Гамы – сделал для того, чтобы по всему Востоку поднялись окровавленные кресты.
С уходом воина на сцену вышли фигуры более слабые и алчные.
В 1517 году португальский флот с более чем тремя тысячами матросов и солдат на борту отплыл из Индии, чтобы захватить контроль над Красным морем. Вторжение планировалось уже давно, но трудно было бы выбрать более благоприятный момент. Османский султан Селим Грозный только что завоевал Египет и подвластные ему Сирию и Аравию, но на бывших землях мамлюков все еще царил хаос. На краткий миг показалось, что до исполнения заветного желания Мануэла рукой подать: из Суэца до самого Иерусалима было всего несколько дней пешего пути.
Флот прибыл в Аден [535], где крестоносцев неожиданно встретили с большой радостью. Аден был объят всеобщей паникой в связи с приближением турок, которые издавна славились своей жестокостью по отношению к арабам. Немецкий купец Лазарус из Нюрнберга сообщал, что португальцам достаточно было сказать, что они желают получить город, и его тут же бы им передали. Однако вместо того, чтобы принять ключ к Красному морю, заколебавшиеся капитаны продолжили путь к Джедде. Там они бросили якорь и, собравшись на совет, решили, что ворота Мекки слишком хорошо охраняются, и не рискнули их атаковать. Они вернулись в Аден, но к тому времени его правитель утратил веру в нерешительных христиан, и флот бесцельно ушел назад в Индию. Ко времени его возвращения на Гоа большинство солдат и матросов, которые не успели дезертировать, погибли в яростных штормах.
По мере того как разрастались коррупция и спекуляции и новорожденная империя утрачивала почву под ногами, снова заявило о себе давнее соперничество Португалии с Испанией. В 1516 году скончался Фердинанд, король Кастилии и Арагона, – через двенадцать лет после того, как сошла в могилу его возлюбленная жена Изабелла. Трон перешел к их дочери Хуане Безумной, получившей свое прозвище за необузданную ревность к своему неверному мужу Филиппу Красивому, и сыну Хуаны Карлу. С Арагоном он получил троны Сицилии, Сардинии и Неаполя. Со стороны отца из династии Габсбургов Карл унаследовал обширные семейные земли в Бургундии и Нидерландах. В 1519 году он унаследовал эрц-герцогство Австрийское и был избран императором Священной Римской империи. Более серьезную угрозу интересам Португалии трудно было даже себе представить.
Карл I Испанский – теперь уже император Карл V – едва успел прибыть в Севилью, когда к нему с поразительным предложением обратился один португальский моряк.
Фернан Магеллан восемь лет провел, открывая новые земли и сражаясь ради своей страны в Индийском океане. Он принял участие в завоеваниях Гоа и Малакки под командованием де Албукерки, а когда вернулся на родину, отправился в крестовый поход в Марокко. Он был уверен, что заслуживает награды, однако его прошения дать ему командование кораблем не были услышаны при португальском дворе. Как и Колумб до него, он с обиды переметнулся в Испанию, куда увез накопленные опыт и знания.
Магеллан изложил возможному патрону поразительный замысел. Что, если, предложил он, продлить установленную по договору в Тордесильясе демаркационную линию на Восточное полушарие? Согласно его расчетам, Острова Пряностей оказывались по испанскую сторону границы. Разумеется, такой линии не существовало – всего двадцать три года назад никому и в голову бы не пришло, что европейцы будут оспаривать друг у друга дальние уголки планеты, – но если испанцы объявятся в Юго-Восточной Азии, само их присутствие поставит вопрос ребром.
Была лишь одна проблема: монополия на маршрут вокруг мыса Доброй Надежды находилась в руках португальцев. Вопрос был не только просто практический. Поскольку заморская экспансия Европы по большей части зависела от умений навигаторов, повсеместно признавалось, что открытые ими морские пути являются своего рода интеллектуальной собственностью страны, спонсировавшей плавание. Испанцам придется отыскать другой путь – путь, который ведет на запад.
В 1506 году умер Христофор Колумб, менее чем через два года после того, как наконец добрался на родину с Ямайки, все еще убежденный, что достиг Азии. К тому времени другой итальянец на службе Португалии, Америго Веспуччи, разведал побережье Бразилии и пришел к заключению, что суша тянется гораздо дальше на юг, чем виделось Колумбу. В следующем году на мировой карте впервые появился новый континент, названный Америкой, – по первому имени Веспуччи.
В Америке все еще видели не самоцель, а скорее барьер продвижению на восток [536], и все еще было не ясно, можно ли вокруг нее обойти, как это было с Африкой. Однако Магеллан храбро пообещал преуспеть там, где потерпел неудачу Колумб, – проплыть на восток через запад. Отказавшись от португальского гражданства, он подписал контракт с Карлом V, который посвятил его в командоры ордена Сантьяго. В сентябре 1519 года он отплыл с флотилией из пяти кораблей искать южный путь вокруг Америки, и разозленный Мануэл послал за ним в погоню свою эскадру.
Три года спустя в Испанию приковылял один-единственный корабль. Более двухсот матросов погибли в штормах, кораблекрушениях, мятежах и битвах, включая самого Магеллана, которого насмерть закололи на Филиппинах, когда он ввязался в склоку между туземными вождями. Уцелело всего восемнадцать человек, но они первыми обошли вокруг земного шара. Одержимость Португалии Востоком погнала ее заклятую соперницу вокруг Америки и через бескрайние просторы Тихого океана – континента и океана, о существовании которых всего три десятилетия назад даже не подозревали. Вскоре испанские галеоны станут перевозить китайские шелк и фарфор через Тихий океан в Мексику и Перу и возвращаться с горами только-только добытого серебра.
Но к тому времени и Карл V тоже решил, что получил наказ свыше уничтожить ислам и положить начало новому христианскому миру. Император отправил военный флот, чтобы он прошел маршрутом Магеллана, оккупировал Острова Пряностей и объявил их собственностью испанской короны. И снова португальские и испанские переговорщики сошлись поделить мир – на сей раз в приграничном испанском городе Бадахос. Португальские астрономы трудились сутки напролет, чтобы определить местоположение Островов Пряностей, а картографы – для гарантии – спешно подправляли карты. У испанцев имелся высокопоставленный информатор в португальской делегации, и тем не менее жаркая дискуссия ни к чему не привела, стороны разошлись, так и не придя к соглашению. На протяжении четырех лет соседи по Пиренейскому полуострову вели схватку по другую сторону света, и спор был улажен [537], лишь когда Португалия выплатила Испании астрономическую сумму золотом за признание своих прав. Пройдет еще немало времени, прежде чем докажут, что Магеллан ошибался: Молуккские острова все-таки находились по португальскую сторону от воображаемой линии.
Но к тому времени Мануэл Счастливый был давно уже мертв. Король-визионер никогда не переставал верить в свою ниспосланную Богом миссию, и за несколько месяцев до смерти от чумы, поразившей Лиссабон в 1521 году, его молитвы как будто были услышаны. Весной в Португалию прибыли известия, что португальский экспедиционный корпус высадился в Эфиопии и добрался до имперской столицы. «Письмо с известиями, достигшее нашего короля, об обнаружении пресвитера Иоанна» поспешили напечатать, и Мануэл в последний раз предался тщеславным мечтам. Как раз сейчас заключается союз с пресвитером Иоанном, сообщил он в письме папе, очень скоро Мекка, гробница пророка и «дьявольская секта Мафамеда» [538] будут уничтожены. Радостное возбуждение сменилось тихим унынием, когда эфиопский монарх оказался совсем не тем, кто мог бы стать ответом на вековые чаяния христиан.
Корабли Мануэла отплыли из маленькой Португалии и создали первую европейскую империю Нового времени. Они первыми разведали моря от Бразилии до Китая. Они преобразили европейскую картину мира и рывком раздвинули границы ее влияния. Но с точки зрения честолюбивых замыслов Мануэла, они потерпели поражение. Его план пройти по Африке, переплыть Красное море, победить турок и египтян и вернуть Иерусалим обернулся лишь миражом. При всех грандиозных разговорах о том, что возглавит Последний крестовый поход, Мануэл никогда не покидал родины.
Король Жуан III, девятнадцатилетний сын и наследник Мануэла, много лет пребывавший в ссоре с отцом, был коронован с имперской помпой, но унаследовал империю, столь же беспомощную, как корабль без рулевого весла. Он отчаянно нуждался в масштабной фигуре, которая своим авторитетом закрепила бы его власть над разобщенными землями.
В последний раз Васко да Гаму призвали на службу.
Глава 18
Именем короля
На протяжении 23 лет дом Васко да Гама пожинал плоды славы.
Из Индии адмирал вернулся богатым человеком. Он привез сундуки, наполненные предметами роскоши, в том числе, по слухам, коллекцию великолепных жемчужин. Король жаловал ему все новые привилегии, позволил да Гаме отправлять на Восток собственных людей, которые заботились бы там об интересах адмирала, избавил его и его домашних от уплаты налогов. Дому Васко даже дозволялось охотиться в королевских угодьях и взимать штрафы с браконьеров.
Ему было мало. Титул и положение играли первостепенную роль, а он еще оставался простым фидальго, кавалером двора. Честь, которой он жаждал больше всего, – владение отцовским городом Синишем – по-прежнему от него ускользала. Типично для него и его времени он все равно перевез туда семью и начал строить себе роскошный дом. Великий магистр ордена Сантьяго пожаловался на дерзкого рыцаря королю, у которого не оставалось иного выбора, как приказать дому Васко, его семье и его детям в течение тридцати дней покинуть Синиш и никогда больше там не показываться под угрозой такого наказания, «какому подвергают тех, кто не подчиняется своему королю и повелителю» [539]. Да Гама никогда больше не возвращался в город, который надеялся передать по наследству своим потомкам, и из ордена Саньтьяго переметнулся в орден Христа.
Многие вельможи считали, что дерзость мореплавателя переходит всяческие границы. За отказ удовлетвориться тем, сколь высоко он уже поднялся над своим происхождением, его порицали как неумеренного, неблагодарного и неразумного. Да Гама тем не менее продолжал гнуть свое. В 1518 году – в тот самый год, когда Магеллан переметнулся в Испанию, – он сам обострил ситуацию, пригрозив, что уедет из Португалии и предложит свои услуги за границей. Уступить сопернику пару штурманов одно дело, но потерять адмирала – совсем другое. Король несколько месяцев отказывался его отпускать, пока он не поостыл, «а к тому времени, мы надеемся, вы поймете, какую ошибку совершаете, и решите снова служить нам, а не совершать крайний шаг, какой вы предлагаете» [540]. Дом Васко остался на родине и в следующем году, через двенадцать лет после бесцеремонного изгнания из Синиша и через шестнадцать после возвращения из Индии был пожалован титулом графа Видигейры. Этот титул, говорилось в королевской жалованной грамоте, даруется ему в награду за службу, «особенно за открытие Индий и их заселение, из которых проистекали и проистекают великие блага не только для нас и короны нашего королевства, но и всеобщая вселенская выгода для его подданных и для всего христианства по причине возвышения святой нашей католической веры» [541]. Да Гама и раньше не оставлял политической деятельности как советник в имперских делах, теперь же он стал одним из всего девятнадцати аристократов страны и величественной фигурой на государственных церемониях.
Когда новоиспеченный король улестил грозного пятидесятитрехлетнего старика вернуться на место его триумфа, тот решил рискнуть всем. Империя была его наследием, и шанс перестроить ее по собственным меркам был слишком важен, чтобы от него отказаться.
16 апреля 1524 года Васко да Гама отплыл в Индию в третий и последний раз [542]. С ним отправились два его сына [543]: Эштеван, которому в юном возрасте девятнадцати лет предстояло принять титул командора Индийского океана, и Паулу, который был еще младше его. Перед отплытием да Гама добился от короля гарантий, что в случае его смерти все поместья и титулы перейдут к его старшему сыну Франсишко, который остался в безопасности на родине.
В свое первое плавание на Восток Васко да Гама был лишь командором. Теперь титулы одевали его непроницаемой броней. Адмирал Индийского океана и граф Видигейра стал в придачу вице-королем Индии. Новый вице-король – всего лишь второй, кто после ди Алмейды носил этот титул, – получил назначение незадолго до отплытия и трижды принес торжественную клятву верности королю.
Это была важная экспедиция во всех смыслах. Новейшую артиллерию закупили во Фландрии, с нуля построили несколько крупных кораблей; флагман да Гамы «Санта Катарина до Монте Синаи» несла на носу статую александрийской мученицы, умершей на римском пыточном колесе, – по слухам, когда ее тело выкопали пять столетий спустя, ее роскошные локоны продолжали расти. Всего в экспедицию отправилось четырнадцать кораблей и каравелл с тремя тысячами мужчин – и несколькими женщинами – на борту. Многие мужчины были ветеранами индийских вояжей, и необычно большое число среди них были рыцарями, кавалерами и дворянами, которых заманили или уговорили служить под началом великого да Гамы. Женщины проскользнули на борт в последний момент. Брать с собой в тяжелое плавание жен, любовниц или «женщин для утех» было строжайше воспрещено, – скорее по причине подрывающих дисциплину ссор, какие вызывало их присутствие, чем ради их душ. Запрет регулярно нарушался: в одном плавании, замечал пассажир, матроса, поднимавшего грот-парус, взяли под стражу, поскольку «он держал наложницу, которую привез из Португалии, а она была в тягости, когда села на корабль, и разродилась от бремени на нашем корабле» [544]. Извечный поборник строгой дисциплины, да Гама поклялся положить конец оргиям на борту; перед отплытием из Лиссабона он приказал объявить на кораблях и на берегу, что любая женщина, найденная в море, «будет публично высечена, пусть даже она будет замужней, а ее мужа отправят домой в колодках; а если она будет рабыней или захваченной пленницей, то будет конфискована в пользу выкупа за пленных; и если капитан найдет женщину у себя на борту и ее не выдаст, за то потеряет патент» [545]. Предостережение написали также на деревянных табличках, которые прибили к мачтам, – никто не мог его пропустить или усомниться в том, что граф исполнит свое обещание.
После привычных испытаний у мыса Доброй Надежды флот 14 августа прибыл в Мозамбик. Едва он бросил якорь, как женщин притащили на флагман. На судне в море ничто скроешь, и было невозможно прятать их так долго. Мрачный от неповиновения, распространившегося среди направляющихся в Индию матросов, да Гама велел взять женщин под стражу, чтобы разобраться с ними позднее.
Экспедицию ожидало много худшее. Готовясь отплыть из Африки, да Гама послал каравеллу принести его извинения и доставить письма и дары долготерпеливому султану Малинди. К тому времени экипаж и штурман успели отчаянно невзлюбить капитана каравеллы, который был родом с Майорки, и едва оказались предоставлены самим себе, убили его, а после сбежали в сторону Красного моря, чтобы там грабить [546].
Сама природа как будто противилась возвращению адмирала. Один корабль налетел на риф у побережья Африки, и его пришлось бросить, хотя команду удалось спасти. Пока юго-восточный муссон трепал флот при переходе в Индию, один корабль и одна каравелла бесследно исчезли посреди океана. Когда оставшиеся десять кораблей приблизились к берегу, яростный ветер внезапно сменился мертвым штилем. Вдруг во время дневной вахты воды ужасно задрожали, точно вскипело само море. Высокая волна ударила кораблям в бок с такой силой, что матросы решили, будто налетели на гигантский косяк рыбы, и один человек бросился за борт. Остальные подняли якорь и спустили шлюпки, выкрикивая предостережения, пока корабль подбрасывало и качало. Когда они сообразили, что весь флот выстрелами из пушек подает сигналы бедствия, то воззвали к Господу, умоляя сжалиться над ними, уверенные, что попали в лапы силам дьявола. Они опустили лоты, чтобы замерить глубину, и когда лини были вытравлены полностью, но не достигли морского дна, стали креститься еще сильнее. Дрожь вод унялась, потом вернулась с новой силой. И снова корабли подбрасывало так отчаянно, что люди валились с ног и из конца в конец по палубам швыряло сундуки. На протяжении часа дрожь то стихала, то начиналась снова, «всякий раз за время, которое надобно, чтобы прочесть “Верую”» [547].
Адмирал словно врос в палубу своего корабля. Один ученый доктор, заигрывавший с астрологией, объяснил ему, что флот вошел в эпицентр подземного землетрясения.
– Мужайтесь, друзья! – кричал адмирал своим людям. – Само море дрожит в страхе перед вами [548].
Да Гама вернулся.
Через три дня после землетрясения один из кораблей захватил дхоу, возвращавшееся домой из Адена. На борту его были взяты тысяча золотых монет и товары на сумму в три раза большую. В отсутствие заморина, которому требовалось преподать урок, да Гама забрал ценности, а команду отпустил. На сей раз он твердо решил прежде всего подать пример собственным людям и, дабы избежать даже тени обвинений, велел своим клеркам занести в отчетные книги все до последнего крузадо.
Мусульмане неумышленно ему отомстили, сказав, что до побережья всего три дня ходу. Шесть дней спустя не было видно ни следа суши, и наиболее доверчивые из матросов начали перешептываться, что ее поглотили волны землетрясения. Сущая паника охватила их, когда вспомнилось предсказание нескольких видных европейских астрологов, дескать, когда все планеты выстроятся в доме Рыб, начнется второй всемирный потоп [549]. Ряд португальских дворян подготовились к бедствию, построив гору из ящиков в качестве убежища, на вершину которой водрузили десяток бочек с сухарями, чтобы протянуть, пока не спадет вода, хотя в конечном итоге год обернулся засушливее обычного.
Вскоре выяснилось, что корабли взяли неверный курс. Два дня спустя они прибыли в Чаул, где в свое время погиб Лоуренсо ди Алмейда. Тремя годами ранее здесь вырос новый португальский форт, и вокруг него уже успело возникнуть поселение.
Да Гама огласил приказ короля, назначившего его вице-королем, и занялся делом.
Грандиозные мечты никогда не были свойственны Васко да Гаме. Он был верным слугой своего господина, беспрекословно выполнявшим его распоряжения, прирожденным лидером, намечавшим свой курс и твердо ему следовавшим, и из Португалии с отвращением наблюдал, как его океан подвергается разграблению в ущерб короне. Если бы он мог, заявил он, исполненный сознания долга, «то обогатил бы короля, ибо величайшее благо, каким может заручиться народ, устроить так, чтобы его король хорошо снабжался» [550]. Он намеревался разогнать хапуг и никчемных бездельников, какие скопились тут за десять лет подкупов и непотизма, и привез с собой лично отобранных людей, чтобы поставить их на многие посты. Он уволил всех разом офицеров Чаула, и на улицах было объявлено, что все, кто не находится тут по официальному делу, должны немедленно подняться на борт и уплыть, не то лишатся жалованья. Перед отплытием да Гама отдал первый приказ новому командующему крепости: если, как ожидается, объявится дом Дуарте де Менесеш, которого приплыл сменить да Гама, командующий должен отказать ему в разрешении сойти на берег, игнорировать его приказы и дать ему провизии ровно на четыре дня.
Не обращая внимания на мольбы своих раздражительных от длительного плавания и страдающих цингой матросов разрешить им сойти на берег, да Гама ушел на Гоа. Там его встретили публичными молебнами и пышными празднествами и в ходе торжественного шествия отнесли в собор, а оттуда – в крепость. На следующий день он сместил командующего крепостью Франсишку Перейру и возбудил расследование по длинному списку обвинений против него, поданных жителями города. В число обвинений входили заключение в тюрьму без суда и следствия противников (в том числе городских законников и судей), захват их имущества и изгнание из домов их жен и детей. Собрались толпы, чтобы обвинить Перейру в других «великих злодеяниях» [551], и да Гама без суда приговорил разъяренного бывшего командующего выплатить им компенсацию.
По крайней мере Перейра пустил захваченное имущество на доброе дело: роскошную больницу для европейцев, которые каждый год сотнями заболевали на Востоке [552]. Однако на больницу и равно грандиозный монастырь Святого Франциска было истрачено столько денег, что не осталось средств на жизненно необходимое – вроде артиллерии. Да Гама только взглянул на лечебницу и ее пациентов, многие из которых как будто использовали ее как гостиницу, и приказал старшему лекарю не принимать больше никого, если только он не сможет предъявить язвы. Даже раненых следовало прогонять, если эти раны были получены в драке; причинами драк, чопорно заявил вице-король, неизменно являются женщины, а от них нет лекарства. Многие его люди были больны и все еще ждали разрешения покинуть корабли и горько жаловались. Да Гама резко отвечал, мол, точно знает, как их исцелить, и объявил, что вот-вот будут розданы их доли в добыче с захваченного им корабля. Обещание привлекло также большое число обитателей лечебницы, но когда они попытались вернуться, то обнаружили, что двери перед ними заперли.
Оставалась еще проблема трех женщин, прятавшихся на кораблях. Городской глашатай огласил приговор: «По правому суду короля, нашего суверена, сим приказывается, чтобы этих женщин высекли, ибо у них нет страха перед королевским судом и они приплыли в Индию, невзирая на его запрет» [553]. Разумеется, речь шла о суде и решении да Гамы, действовавшего на Востоке от имени суверена, и наказание было назначено им.
Вне зависимости от их статуса и нравственности, португальские женщины в Гоа были редкостью, и их бедственное положение тут же наделало шума. Монахи-францисканцы, монахи ордена Милосердных братьев и даже епископ Гоа выражали протест чиновникам вице-короля, а дворяне города предложили выкупить несчастных.
Да Гама остался глух к их просьбам, и экзекуция была назначена на следующий день. Незадолго до назначенного часа францисканцы и Милосердные братья процессией с распятием прошли к резиденции вице-короля и объявили, что пришли с последней мольбой о помиловании. Да Гама велел им возвратить распятие на алтарь, а когда они вернулись, произнес пространную речь. Процессия к его дому под знаком креста, ледяным тоном сказал он, «была своего рода заговором и устроена с тем, чтобы показать людям, как он жесток и безжалостен», и такое не должно повторяться. Когда монахи попытались объяснить ему необходимость милосердия, он резко возразил, что милосердие удел не людей, а Господа, и что он поклялся, что если хотя бы один человек в годы его пребывания в должности совершит преступление, он казнит его в стенах города.
Женщин должным образом высекли, и урок возымел желаемое действие. «Люди были сильно возмущены тем, что случилось с этими женщинами, – сообщал Гаспар Коррейя, находившийся в то время в Индии и взявший на себя обязанности хрониста, – и считали вице-короля человеком жестоким; но видя столь великую твердость в исполнении своей воли, они прониклись большим страхом и были осторожны и исправили многое зло, какое существовало в Индии, особенно среди кавалеров, которые были весьма распущены и склонны к злым делам».
Невзирая на диктаторские замашки, новый вице-король был, без сомнения, человеком много большей честности, нежели его непосредственный предшественник. Члены муниципального совета Гоа направили королю Жуану III пространный отчет [554], прославляя решимость да Гамы в деле служения короне, искоренения злоупотреблений и возмещения обид. Особенно они были поражены тем, что он отказывался принять дары (вежливое обозначение взяток), которые ему – по заведенному порядку – преподнесли. Однако да Гама спешил продолжить начатое и, к огорчению совета, уплыл из Гоа, когда просители еще толпились у его порога. Оставив инструкции, согласно которым дому Дуарте де Менесешу не следует тут повиноваться, он поднялся на галион и поплыл на юг, флот следовал за ним по пятам.
За годы, прошедшие с последнего плавания да Гамы, устья рек и гавани Малабарского берега до самого Кочина стали прибежищем воинственных пиратов-мусульман. Многие из них были купцами, которые остались не у дел и питали глубокую ненависть к португальцам. Каждое лето они, укрепив себя пааном и опиумом, отплывали на войну с оккупантами; угроза на всю жизнь стать рабами на королевских галерах сделала их не менее, а более безрассудными, и тех захваченных португальцев, за которых нельзя было получить выкуп, они убивали на месте. Да Гама многое слышал об этой угрозе и настаивал на заходе в устья рек, чтобы увидеть все собственными глазами. Пираты замечали чужие корабли с дозорных башен, и, к возмущению вице-короля, люди с экстравагантными усами нагло сновали на своих легких, быстрых суденышках вокруг неуклюжих португальских кораблей – и продолжали это делать, даже когда показалась эскадра из восьми кораблей, отряженная патрулировать побережье. Да Гама немедленно отправил своего сына Эштевана с флотилией вооруженных шлюпок преподать им урок и расположил шесть кораблей у речных отмелей в устьях. Он поклялся, что, наведя порядок в собственном доме, вернется разобраться с этой напастью.
Смещенный губернатор все еще не давал о себе знать, но неподалеку от берега да Гама наконец наткнулся на его брата. Дом Луиш де Менесеш плыл из Кочина на встречу с домом Дуарте, который как раз должен был вернуться на юг из Ормуза. Взвились флаги, взвыли трубы, забили барабаны, но да Гама настоял, чтобы дом Луиш повернул назад и сопровождал его в Кочин.
Флот ненадолго остановился в Каннануре, где да Гама сменил еще одного командующего и пригрозил наказать нового колаттири за то, что позволил мусульманам торговать в своем городе и что не искоренил логова пиратов. Испуганный колаттири выдал вождя мусульман, и тот был взят под стражу и позднее повешен.
Обойдя стороной Каликут, который вот уже двадцать шесть лет оставался занозой в боку Португалии, да Гама в начале ноября прибыл в Кочин.
Флот стал на якорь после наступления темноты, и корабли дали салют, неумышленно убив двух человек на каравелле. Вспышки орудий осветили также корабль, который потерялся прошлой ночью и тишком входил в гавань. Он принадлежал купцу, который ускользнул, чтобы обогнать конкурентов, и да Гама велел посадить владельца в колодки.
На следующий день к флагману подплыл дом Луиш на богато украшенной галере, на веслах которой сидели рабы, а на палубе выстроились дворяне Кочина и был накрыт богатый стол, и предложил перевезти вице-короля на берег. Тот отказался и в город отправился на собственной шлюпке.
Двадцать один год миновал с тех пор, как он в последний раз видел Кочин, и многое тут изменилось. Вдоль берега вырос целый португальский город, и его старшины и сановники приветствовали нового вице-короля необузданными славословиями. Священнослужители с распятиями препроводили его в главную португальскую церковь, а после мессы его навестил на своем слоне местный раджа. Водворившись в крепости, да Гама сместил ее капитана и взялся перестраивать коррумпированную, обрюзгшую империю в хорошо отлаженную машину, управляемую с военной эффективностью из его конторы. Кандидатам даже на самые низшие посты было приказано явиться к вице-королю для строгой личной беседы. Клеркам, многие из которых едва знали грамоту, приказывали написать что-либо в его присутствии. Он настаивал на том, чтобы лично выдавать патенты каждому капитану – под угрозой смерти на случай, если они попытаются избежать проверки. Он грозил конфисковать суда и имущество купцов, а их самих выгнать с Востока, если они и впредь будут присваивать товары из королевских факторий. Он отменил выплаты и рационы тем женатым людям, которые увиливают от призыва на военную службу или на службу на кораблях. Он расследовал обвинения о присвоении налоговых сборов чиновниками и нескольких чиновников арестовал. Он запретил своим капитанам брать на борт бочки с вином без его письменного на то разрешения и воспретил участвовать в сражениях тем, кто не отбыл срок военной службы. Честь битв, подчеркнуто заявил он, он отдаст солдатам, которые одерживали в них победы с мечом в руке, без оглядки на их дворянское или низкое происхождение.
Старый мореплаватель всегда поддерживал на своих кораблях железную дисциплину и теперь приспосабливал тот же жесткий подход к управлению империей. «Он велел провозгласить, – сообщал Гаспар Коррейя, – что всем до единого морякам следует облачаться в плащи только по воскресеньям или к мессе в дни святых, в противном случае плащи должны быть конфискованы констеблями, а виновные с позором отправлены на целый день вычерпывать воду из трюмов, и что каждый человек, который получает плату как фитильщик, должен носить свой фитиль закрепленным на руке. Он сильно порицал солдат за то, что носят плащи, ибо в них они не похожи на солдат. Он приказал, чтобы все рабы, если они таковых держат, были мужчинами, способными оказать помощь в любых работах, ибо им не позволят взять на борт королевских кораблей неженок, разодетых наподобие кукол» [555]. Всякий, кому не нравился новый аскетизм, объявил вице-король, волен возвращаться в Португалию, если только у него нет долгов и он не находится под следствием. Чтобы совсем не лишить колонии населения, он провозгласил трехмесячную амнистию, иными словами, простил все преступления, совершенные за три месяца до его прибытия. Этот период был сокращен до одного месяца для тех, кто расхищал артиллерию: как оказалось, некоторые капитаны и офицеры продавали пушки со своих кораблей и крепостей купцам, которые затем перепродавали их врагам Португалии, а на требование представить отчетные книги виновные эти книги сожгли.
Да Гама изнурял себя работой и отказался сбавить темп, даже когда начал нарастать летний зной. По утрам и по вечерам он посещал склады на берегу, чтобы поторопить с погрузкой кораблей. Он отправил два корабля на Цейлон для закупки пряностей и четыре – на Мальдивы для искоренения гнезда мусульманских пиратов, которые нападали на караваны судов, пересекающих Индийский океан. Он подготовил эскадру для отправки к Красному морю под командованием своего сына Эштевана и выписал опытного генуэзского кораблестроителя спроектировать флот новых судов, которые могли бы обогнать пиратские дхоу Малабарского берега. «Господин, я построю вам бригантины, которые поймают даже москита», – пообещал корабельщик [556].
На горизонте маячили все новые угрозы. Требовалось поставить заслон рейдам испанцев [557]: да Гама поклялся, что вне зависимости от договоров, будь его воля, испанские корабли станут таинственным образом исчезать вместе с экипажами. На севере стягивали силы турки, и с каждым годом становилось все более вероятным, что они пустят в ход все силы, чтобы оспорить господство Португалии в Индийском океане. Тем временем один епископ написал португальскому королю [558], жалуясь, что заморин и его мусульманские подданные подвергают гонениям христиан Индии; многие, писал он, были убиты и ограблены, а их дома и церкви сожжены. И снова да Гама стал планировать массированную атаку на старого врага, снова вспыхнула застарелая ненависть. Он объявил, что едва уйдет торговый флот, он «разорит Каликут и все побережье Индии, чтобы ни на суше, ни на море не осталось ни одного мавра» [559]. В империи, даже отягощенной внутренними усобицей и угрозами со стороны соседей по Пиренейскому полуострову, костры священной войны все еще пылали.
Многим из пяти тысяч португальцев в Кочине жилось много привольнее до тех пор, пока не объявился граф Видигейра и не нажил себе немало врагов своей железной суровостью. Публичные собрания стали принимать угрожающий оттенок, и христиане наряду с мусульманами стали покидать Кочин, чтобы вести свои дела подальше от глаз вице-короля. Недовольство разжигал главным образом разобиженный дом Луиш де Менесеш: половина Кочина, заметил Гаспар Коррейя, как будто обедала за его столом, и за обедами начали плестись заговоры. Ситуация обострилась, когда, получив холодный прием в Чауле и Гоа, в Кочин наконец добрался брат Луиша дом Дуарте де Менесеш. Да Гама привез с собой в Индию длинный перечень жалоб на своего предшественника и начал втайне заслушивать свидетелей. Де Менесеша обвиняли в том, что он пускал деньги короля на собственные торговые предприятия и нарушал королевскую монополию на торговлю пряностями. Он присваивал себе имущество европейцев, умерших в Индии, и вместо платы раздавал солдатам и матросам рабов. Он спал с женами европейских поселенцев, не говоря уже об индианках или мусульманках, и даже принимал взятки от мусульманских правителей, чтобы не предпринимать против них суровых шагов. Едва бывший губернатор вошел в порт, как да Гама послал делегацию, воспрещающую ему сходить на берег [560], и устроил так, чтобы перевести его на корабль, который отвезет его на родину узником.
Дуарте де Менесеш был старшим сыном графа, могущественного аристократа, крупной фигуры в ордене Сантьяго и прославленного военачальника. О выдвинутых против него обвинениях он узнал заранее, и они не слишком его напугали, поэтому он не спешил в Кочин. По пути он сделал несколько остановок, чтобы наполнить свои сундуки перед плаванием на родину, а еще привез с собой большие сокровища, состоявшие из добычи, даней и взяток из Ормуза. Все это он высокомерно отказался передать эмиссарам вице-короля. Однако де Менесеш не принял в расчет лояльность, какую пробуждал да Гама в людях, восхищавшихся его решимостью служить своему повелителю. Когда он напомнил одному чиновнику, что его, де Менесеша, отец лично посвятил его в рыцари, посланник ответил, что отрубил бы голову собственному отцу, если бы так повелел король.
Смещенный губернатор отказывался официально сложить с себя полномочия и дожидался в гавани, надеясь, что новые обстоятельства избавят его от праведного вице-короля. Сторонники хорошо снабжали его сведениями о событиях на суше и вскоре известили его, что у него есть причины надеяться на благополучный исход.
На протяжении многих дней Васко да Гаму мучили острые и необъяснимые боли. Плотные нарывы вскочили у него в основании шеи, и ему мучительно стало поворачивать голову. Закрывшись у себя в комнате в крепости, он отдавал приказы, лежа в постели. Вынужденное заточение, сообщал Гаспар Коррейя, привело к «большим приступам раздражительности в дополнение к тяжким заботам, какие угнетали его из-за многого, что, он полагал, ему необходимо сделать, так что его болезнь удвоилась» [561]. Вскоре боли стали настолько мучительны, что он мог отдавать распоряжения лишь хриплым шепотом.
Ночью да Гама велел тайно позвать ему исповедника. Его перенесли в дом одного португальского вельможи, куда он вызвал к себе чиновников. Он заставил каждого из них подписать клятву продолжать проводить в жизнь его планы до тех пор, пока на смену ему не пришлют другого губернатора. После чего он исповедовался и принял причастие.
Когда он был уже при смерти, его клерк записал его завещание. Своим сыновьям Васко да Гама приказал вернуться в Португалию с флотом пряностей и взять с собой тех из его слуг, которые пожелают уехать на родину. Он наказал раздать его одежду и лучшую мебель церквям и больнице, остальное его имущество следовало отвезти домой, ничего не продавая. Он просил, чтобы его прах вернули в Португалию [562], и наказал одному из свидетелей написать королю, умоляя его позаботиться о его жене и детях и взять к себе его слуг. Наконец, так, во всяком случае, утверждали слухи, он приказал послать крупные суммы каждой из трех женщин, которых он высек в Гоа, чтобы они могли найти себе хороших мужей и выйти замуж.
Умер он в три часа утра. Был канун Рождества 1524 года.
Не было ни криков, ни слез. В доме царила тишина. Весь день двери оставались закрыты. После наступления темноты его сыновья и слуги объявили о смерти дома Васко, и оплакивать вице-короля пришли многие его друзья и сторонники. Вскоре весь город собрался у близлежащей португальской церкви.
Настроение было торжественно мрачным, но для многих облегчение перевешивало горе. «Капитаны, факторы, клерки и прочие чиновники, верно, получили большое удовлетворение от смерти вице-короля, – писал королю четыре дня спустя один почитатель да Гамы, – ибо не желают справедливого суда в своем доме, который он принес» [563].
Тело великого мореплавателя облачили в шелка. Потом застегнули позолоченный пояс, меч вложили в ножны. К каблукам прикрепили шпоры, а на голову надели квадратную шапку. Напоследок старого крестоносца завернули в плащ ордена Христа.
Непокрытые похоронные носилки внесли в главный зал дома. Несущие гроб, каждый в плаще воинского религиозного братства, подняли его на плечи. Верные люди да Гамы шли рядом с зажженными свечами в руках, далее следовали горожане. К худу или к добру, без Васко да Гамы ни один из них не оказался бы в Индии.
Граф Видигейра, адмирал Индийского океана и вице-король Индии был похоронен в простой францисканской церкви Святого Антония. На следующий день монахи отслужили исполненную достоинства погребальную мессу, впереди собравшихся стояли сыновья да Гамы. Ночью молодые люди вернулись в церковь, чтобы одним оплакивать отца, «как и было разумно, – писал Гаспар Коррейя, – при утрате родителя столь почитаемого и таких заслуг в королевстве Португалия» [564].
«Ибо Господу было угодно, – продолжал он, – наделить этого мужа столь сильным духом, что, не испытывая страха обычного смертного, он преодолел множество ужасных опасностей на пути в Индию… и все во имя любви к Господу, великого преумножения католической веры и ради великого почета, славы и прославления благородства Португалии, которую Господь по своей милости возвысил до того состояния, в котором она пребывает ныне».
Да Гама привез с собой в Индию письмо о наследственной передаче своей должности, скрепленное королевской печатью. В церкви это письмо вскрыли и прочли. К немалому своему возмущению, Дуарте де Менесеш обнаружил, что они с братом остались не у дел.
Флот с пряностями отплыл домой с сыновьями да Гамы и братьями де Менесеш на борту. Разобиженные братья по мере сил осложняли жизнь молодым людям, оплакивавшим отца, но под конец сполна получили по заслугам. Корабль Луиша де Менесеша потерялся в бурю после того, как обогнул мыс Доброй Надежды; один французский пират позднее показал на дознании, что его брат захватил корабль и прикончил Луиша и его команду, а сам корабль поджег [565]. Дом Дуарте тоже едва не потерпел кораблекрушение, но все-таки добрался до Португалии. Ходили слухи, что, отправив корабль вперед, сам он высадился на побережье, чтобы закопать награбленное. Корабль затонул, не дойдя до порта; поговаривали, что причиной этому был саботаж, дабы скрыть кражу сокровищ, которые должны были достаться короне. По этой ли причине или за его гнусные дела король на семь лет бросил дома Дуарте в тюрьму. Закопанные сокровища, разумеется, так и не нашли.
Глава 19
Безумное море
Молодой король, пославший Васко да Гаму подлатать свою империю в Индии, вскоре пал жертвой наследственной мании величия. Подобно отцу, он начал фантазировать о том, как каплю за каплей выжмет Индийский океан, пока тот не очистится, превратившись в христианское озеро. Все более жестокие кампании велись против мусульман, строились все новые крепости, и старания да Гамы управлять громоздкой империей как единым целым были вскоре забыты. По мере того как форпосты разносило все дальше по карте, а стоимости годовых поставок пряностей в Лиссабон уже не хватало на содержание гарнизонов, Португалия все больше превращалась в узкоземледельческую державу, доход которой зависел от налогов на крестьян.
Поскольку торговля пряностями оставалась монополией короля, португальские корабли, субсидируемые европейскими купцами, стали бороздить Индийский океан, перевозя персидских лошадей в Индию, индийские ткани – в Индонезию и Восточную Африку, а китайские шелка и фарфор – в Японию. Так называемая заморская торговля обернулась гораздо прибыльнее долгого маршрута вокруг мыса Доброй Надежды, и португальцы вскоре затмили мусульманских купцов в Азии: к середине XVI века пиджин-португальский сменил арабский в качестве языка международной торговли в портах всего Востока. Но по мере того как связи с Португалией становились все более эфемерными, значительные области империи оказалось практически невозможно контролировать.
Только самые безрассудные и отчаявшиеся люди готовы были служить в отдаленных уголках земли, и подобно своим предкам-крестоносцам, многие отправляющиеся на Восток имели весьма мало шансов дома. Они желали жить как гранды и не проявляли особой щепетильности в способах, какими сколачивали себе состояния. Когда недоучки, закоренелые преступники, банды уголовников и младшие сыновья без гроша за душой хлынули из Португалии, назад в Европу стали просачиваться шокирующие рассказы об их пороках.
Самое поразительное из многих разоблачений принадлежит перу французского путешественника Жана Моке [566]. Исполняя должность аптекаря при французском короле, Моке отвечал за составление королевских снадобий из обширного арсенала смол, минералов и ароматических веществ. Возможно, оттого, что он каждый день сталкивался с экзотикой Востока, у него развилась жгучая тяга к путешествиям. Король позволил ему странствовать по земному шару при условии, что он привезет домой странные и чудесные сувениры для королевского кабинета диковин, и Моке отправился в десятилетнюю одиссею. После Африки, Южной Америки и Марокко четвертое плавание привело его в Гоа. Как многие искатели приключений той эпохи, он вел пространные заметки о своих путешествиях и страницу за страницей посвящал едкой критике португальцев.
К середине XVI века Гоа разросся в колониальный город, достаточно величественный, чтобы заслужить прозвище «Рим Востока» [567]. Его улицы и площади украшали пятьдесят церквей и многочисленные монастыри, странноприимные дома и колледжи, в которых трудились тысячи священнослужителей. Его величавый белый кафедральный собор был центром епархии архиепископа, в чьем ведении находилась паства от мыса Доброй Надежды до Китая. Дворец губернатора, общественные здания и особняки вельмож представляли собой великолепные образчики архитектуры Ренессанса и раннего барокко, выросшие среди буйной растительности Индии; пышные процессии и живые картины расцвечивали улицы в праздники в честь дней святых или побед. Но за величественным фасадом проглядывал фронтирный городишко с кабаками, борделями и пьяными драками, где по улицам шлялись банды подвыпивших солдат, а самозваная португальская аристократия утверждала свою власть оружием.
Социальное давление на новоприбывших было чудовищным. Едва они, полумертвые, спотыкаясь, сходили с корабля, одетые по обычаям родной страны, как подвергались насмешкам столь ядовитым (излюбленным оскорблением было тут «вшиголовый»), что прятались по временным жилищам, под лодками или на задворках церквей, пока не придумывали, как продать свой плащ или меч и купить такую одежду, чтобы сойти за ветеранов. Уже через неделю, язвительно замечал Жан Моке, они начинали именовать себя кавалерами, «хотя сами простые крестьяне и торговые люди». Один такой кавалер по имени Фернанду, сообщал он, приглянулся богатой женщине и расхаживал по улицам, красуясь золотыми цепочками и свитой из рабов, однако его вдруг опознал сын его бывшего хозяина в Португалии. Фернанду сделал вид, будто его не знает, и спросил, кто он, «на что другой ответил: «А разве ты не тот, кто прежде пас свиней моего отца?» Услышав такое, сей кавалер, отведя его в сторону, признался, что действительно был в Португалии свинопасом, но здесь его величают «дон» и видят в нем знатного человека, и, умоляя о молчании, дал ему денег, однако это не воспрепятствовало тому, что его узнали несколько других, которые сами на сем нажились». Другим новоприбывшим посчастливилось меньше: если они осмеливались открыть рот, их избивали. Даже солдаты самого низшего ранга обзаводились мальчиком-рабом, чтобы носил за ними зонт или плащ, и принимали вид величественной серьезности, а когда ссорились (что случалось часто), то любой отказавшийся поддержать кого-то из своей клики сам становился легкой добычей.
В период своего расцвета Гоа давал приют более чем двумстам тысячам жителей, – столько же жило в Париже, и это было больше, чем в Лондоне или в самом Лиссабоне. Но всего несколько тысяч из них были португальцами, и почти все они были местикос, то есть потомками колонистов и туземных женщин. Остальные были индусами по вере, индийскими христианами и рабами, которых в большом числе держали в каждом португальском доме, в каждой семинарии, каждом женском или мужском монастыре. Дурно обращались со всеми. Индусов, которые не кланялись своим новым хозяевам или не рвали перед ними шапки, пронзали мечами, били бамбуковыми палками или длинными узкими мешками с песком. Одна клика капитанов, отправившись как-то ночью выкрасть из индуистского храма золотого идола [568], остановилась по пути, чтобы поджечь ближайшие дома – в качестве отвлекающего маневра. Внутри храма они обнаружили пятьсот храмовых женщин, танцевавших во всенощном бдении. При виде чужаков женщины взялись за руки и сплели ноги, и не успели португальцы их растащить, как пламя от зажженных ими костров начало лизать стены. Они рвали драгоценности из ушей женщин, отрубали им пальцы, чтобы заполучить кольца, и поспешили убраться восвояси без идола. По сообщениям, женщины «производили столь жалобный шум, что большая жалость была их слышать: бегущие от пожара португальцы оставили всех этих благочестивых молодых женщин гореть, и никто не мог прийти им на помощь; и с такой жестокостью португальцы обращаются со своими лучшими друзьями и союзниками».
Без сомнения, танцовщицы опасались за свою честь, поскольку женщины в португальской Индии редко бывали в безопасности. Особенно большой опасности подвергались местикос, сохранившие связи с индуистской общиной, и незамужние дочери с любым движимым имуществом. Рабов последних подкупали, чтобы добраться до девушек, после чего их похищали, а когда любовники проигрывали их драгоценности, самих девушек регулярно душили и закапывали – по меньшей мере в одном случае под половицами собственного жилища. Тем временем мужей-португальцев терзала паранойя, что их жены-местикос опаивают их, а сами резвятся с любовниками прямо перед их невидящими глазами. Они столь подозрительны, предостерегал Моке, что рискуешь жизнью, даже взглянув в лицо их женщинам, а если они увидят, что их женщины разговаривают с другим мужчиной, то женщин «вскоре душат или травят; а задушив, ищут утешения у соседей, говоря, мол, обморок унес жену, когда она сидела в кресле, и она так и не оправилась; или зовут цирюльника, чтобы пустил кровь, говоря, мол, жене дурно, а когда цирюльник уходит, распускают повязку и дают крови течь, пока несчастное создание не умрет; и опять же зовут соседей, чтобы те сами убедились, какая напасть приключилась с женой во сне».
Другие водили жен искупаться в ручье или пруду и «там держали головой в воде, а некоторое время спустя посылали рабов искать хозяйку, которую рабы находили утонувшей, а знающий о том заранее муж делал вид, что весьма поражен и убит горем». Француз добавлял, что знал кое-кого, кто так избавился от трех или четырех жен. Впрочем, по слухам, женщины тоже избавлялись от неверных мужей – обычно при помощи яда. Многие винили в этом климат: он, писал Моке, «столь жарок, что если только мужчина найдет способ заговорить с женщиной или девицей, он, конечно, уверен, что получит от них все, что пожелает».
Наиболее вопиющим было обращение колонистов с рабами. По сотне разом рабов, захваченных по всей Азии и Африке, выставляли на аукцион в Гоа, где продавали по цене в десять раз меньше стоимости арабской лошади. Девушек, которых продавали как девственниц, осматривали, чтобы убедиться в целости плевы; одних держали потом в качестве наложниц, других поливали духами и посылали продавать себя. Какое бы применение им ни нашли, утверждал Моке, рабов, рассердивших хозяина или хозяйку, забивали почти до смерти, «ибо их держат в двойных колодках, потом бьют дубиной по пятисот ударов за раз и заставляют ложиться животом наземь, после чего приходят двое рабов, которые по очереди ударяют их как бревно». Если владельцы особенно религиозны, едко замечает Моке, то отсчитывают число ударов на четках. «И если случайно тот, кто наносит удары так, бьет, на взгляд хозяина, недостаточно сильно или склонен пощадить своего товарища, хозяин приказывает ему ложиться на место избиваемого, чтобы и его избили безо всякого милосердия».
Именно эти злоупотребления в долгом перечне обвинений Моке шокировали даже ту бурную эпоху. Нагнетая атмосферу, француз громоздит пример за примером. По ночам в его жилище, пишет он, ему мешали спать звуки ударов и «какой-нибудь слабый, задыхающийся голос, ибо им [рабам] затыкают рты тряпками, чтобы они не кричали. После избиения они приказывают резать их тела бритвами, потом натирать раны солью и уксусом из страха, чтобы они загноились». Иногда, утверждал он, хозяева приказывали рабам ложиться на живот, раскаляли докрасна совок, и с него капали растопленным жиром на обнаженную кожу. Однажды к нему домой прибежала девушка-индианка, «плача и прося помощи и моля меня получить для нее снисхождение; но я, к великой моей печали, не мог ее спасти. Ибо ее забрали, положили на землю и били палками без жалости». Одна женщина-местикос убила пять или шесть рабов и закопала их в саду; когда она наказывала последнюю свою жертву, наносящий удары раб бросил палку и сказал, что рабыня мертва. «Нет, нет, – ответила она, – она притворяется… Давай же, давай, это хитрая лиса». Одной рабыне, замешкавшейся поспешить на зов хозяйки, прибили к спине подкову, и она вскоре умерла от гангрены, другой веки пришили к бровям. Некоего раба подвесили за руки на два или три дня за то, что пролил молоко, а после «основательно побили палками».
Когда Моке услышал, что в его собственном доме бьют молодую женщину, брат хозяина объяснил, мол, это ничто в сравнении с тем, что претерпели остальные: «Еще он рассказал мне, как его брат, владелец гостиницы, купил однажды яванскую рабыню, красивую девушку, и как он, обедая с женой, сказал в шутку, что у этой рабыни исключительно белые зубы, а жена промолчала, но выжидала удобный случай, когда мужа не будет дома, а потом приказала связать бедную рабыню и вырвать ей все зубы без сострадания; а другой приказала проткнуть раскаленным железом срамные места, когда заподозрила, что муж с ней развлекается, от чего несчастное создание умерло».
«Таково, – заключает Моке, – жестокое и варварское обращение, которому португальцы подвергают своих рабов на Гоа, чье положение хуже, чем у скота». Много лет спустя он все еще содрогался от увиденного.
Справедливость была не частым явлением. Банды португальцев, надев маски, врывались в обеденное время в дома и, похватав со стола, заталкивали в мешки обеденную посуду, а после требовали выкуп за ее возвращение и еще один за то, что оставят в живых хозяина дома. На тот случай, если их схватят, они носили при себе мешочки с порохом и привязанными к ним спичками и грозили взорвать каждого, кто к ним приблизится. Убийцы имели возможность сбежать на материк и там дождаться объявления амнистии, – учитывая число дезертиров, спрос на солдат не иссякал. Тем временем один губернатор за другим набивали себе карманы и терроризировали бедных. Огромные количества пряностей, золота и слоновой кости исчезали, так и не появившись в королевских учетных книгах. Капитаны присваивали половину сумм, выдаваемых им на покупку провианта, и держали своих людей на половинном рационе, добавляя жертв голодной смерти к тем, кого унесли цинга, дизентерия и малярия. В отчаянии корона сократила королевские грузовые флоты и стала продавать патенты на капитанство крепостей сроком на три года тем, кто предлагал наибольшую цену. Это лишь подстегнуло отягощенных долгами чиновников выкачивать из системы все возможное, пока не истек их срок в должности. Некий капитан, командовавший крепостью в Софале [569], убил одного мусульманского купца, у которого был глубоко в долгу, и продолжал убивать конкурентов другого мусульманского купца, с которым был заодно, а затем попытался заколоть королевского фактора, когда тот вздумал жаловаться. Португальский Восток превращался в предтечу Дикого Запада, где солдатам платили натурой, а капитаны обстреливали корабли друг друга.
Усвоенная в крестовых походах вражда к людям иного вероисповедания была экспортирована на Восток. Насилие порождало насилие. Когда король Сиама захватил несколько европейцев, сообщал Моке, то не проявил особого милосердия: «Ибо одних он велел посадить голышом на медные сковороды и поджарить на медленном огне, других посадить между двух больших костров, чтобы они умерли в муках; третьих он отправил к слонам, чтобы их затоптали, и придумал еще тысячу варварских жестокостей, чтобы подвергнуть им несчастных португальцев».
Юго-Восточную Азию и до прибытия португальцев едва ли можно было назвать просвещенным регионом. Тот же самый сиамский правитель, услышав, что его командиры не явились на битву, поскольку жены не могли снести разлуки с ними, «послал за этими женщинами и, велев отрезать им срамные места и прибить их ко лбам мужей, приказал последним ходить так по городу, а после отрубил им головы». По слухам, колдуны так настроили одного короля Бирмы против собственного народа, что он решил извести всех своих подданных: на протяжении трех лет он под страхом смерти воспрещал кому-либо пахать или засеивать землю, и его страна ударилась в каннибализм. Однако для местных жителей португальцы были чужеземными дьяволами, и по мере того как росли агрессивность и высокомерие португальцев, против них начали восставать их прежние союзники. «Португальцев сильно ненавидят почти во всех частях Индии, – с немалым удовлетворением сообщал один венецианский посол в Испании, – ибо тамошние жители видели, как они понемногу строят укрепления и делаются хозяевами тамошних земель… я думаю, трудности будут возрастать с каждым днем» [570].
Среди всех этих трудностей истинная цель первых португальских экспедиций позабылась. Крестоносные короли Португалии планировали перекачать несметные богатства исламского Востока в христианскую Европу, а затем покорить и обратить в истинную веру магометан и язычников всего мира. Первая часть их плана имела некоторый успех, пусть даже значительная часть денег оседала в чужих карманах. Однако если вера и вдохновляла первый рывок на Восток, для большинства строителей империи, последовавших за первопроходцами, она оказалась на отдаленном втором месте, а на первый план выступила грызня за барыши.
Португальцы любили заявлять, что после их прибытия на Восток вся Индия перестала подчиняться исламу. Они, несомненно, мучили и притесняли мусульман Малабарского берега, которые на утрату былого могущества отвечали стремлением к мученичеству в джихаде, затянувшемся с перерывами до ХХ века [571]. Однако их политика была далека от попыток словом наставить новую паству на путь христианской веры, не говоря уже о том, чтобы приблизить эпоху вселенского христианства, о котором мечтали их короли. Со временем они вернулись к старому испытанному методу насильственного обращения, и на улицах Гоа появились мрачные фигуры инквизиторов.
В 1515 году Мануэл I подал петицию папе римскому об учреждении инквизиции в Португалии. Просьба Мануэла явилась еще одним следствием его брака с дочерью католических монархов. В начале своего правления Фердинанд и Изабелла оказали давление на Рим, заставив его узаконить возрождение религиозных трибуналов с правом пытать, судить и казнить еретиков – эта практика временно затихла в начале XIII столетия. К тому времени, когда со сходной просьбой обратился Мануэл, инквизиция нанесла Испании такой ущерб, что папство задержало ее дебют в Португалии на двадцать один год. Четыре года спустя, в 1540 году первая партия марранов была публично приговорена к первому в Португалии аутодафе, и начались сожжения.
К тому времени Жуан III стал столь же фанатичным, как и его отец, и его все более смущал нехристианский образ жизни его колонистов. Проблемой было, разумеется, не насилие, много больше тревожило то, что столь большое число поселенцев поддалось мирским удовольствиям Индии и почти превратилось в туземцев. Король обратился к недавно образованному Обществу Иисуса, основатели которого (все, кроме одного), включая самого Игнация Лойолу, были испанцами или португальцами. В 1541 году, через год после того, как Жуан III приказал разрушить на Гоа все индуистские храмы, иезуиты послали на Восток впоследствии канонизированного Франциска Ксаверия, баска из Наварры.
Старания Франциска Ксаверия повысить нравственность колонистов растворились в знойной дымке безразличия. Четыре года спустя он сдался и написал королю Жуану, советуя создать на Гоа трибунал инквизиции как единственный способ очистить колонию от скверны. Сам Франциск Ксаверий уехал в Индонезию, где его проповеди нашли гораздо более благодатную аудиторию, и умер, стараясь добраться до Китая [572], за несколько лет до того, как наконец прибыли инквизиторы.
К тому времени у Португалии было более полувека на то, чтобы силой привести Африку и Индию в лоно католической церкви. Ватикан со все большим недовольством взирал на то, что считал апатией португальцев, и напомнил королю, что наделил его властью над землями, которые он открыл, только при условии распространения католической веры. Поскольку это quid pro quo [573] было забыто, церковь пригрозила открыть Азию для всех желающих. И угроза сработала – на определенный лад. Колониальная администрация предложила рис для индусов низших каст и посты в администрации для представителей высших каст, если только они согласятся на крещение. Многих «рисовых христиан» макали в воду, после чего они забирали награду и возвращались к прежней жизни.
Теоретически под юрисдикцию инквизиции подпадали только христиане, но первым ее актом было объявить вне закона открытое отправление индуистских обрядов – под страхом смерти. Индусы, которых Васко да Гама и его современники еще совсем недавно перепутали с христианами, обнаружили, что их насильно загоняют в церкви, где им приходится выслушивать насмешки над собственной верой, и подвергают дискриминации: от мелочной, как, например, запрет передвигаться верхом или в паланкине, до разорительной. На этом краю шкалы оказались запреты христианам нанимать на работу индусов, а индусам – христиан. Все больше индусов выстраивались в очередь за крещением, но не могли отказаться от старой привычки держать в доме статуэтки исконных богов или напевать себе под нос мантры и, подобно «рисовым христианам», оказывались под лупой религиозного очищения.
Гонениям инквизиции подверглись также многие «новые христиане», бежавшие от нее из Португалии. Сотни были сожжены на кафедральной площади, тысячи искали убежища на мусульманских территориях. Наконец инквизиция обратилась против общины христиан Святого Фомы, которые так радостно предложили союз Васко да Гаме и его стране. В 1599 году на основании того, что они практикуют еретическую форму восточного православия, их массово обратили в католичество. Их книги сожгли, их древний литургический язык запретили, а их священников бросили в тюрьму или же подослали к ним наемных убийц. По мере того как заполнялись казематы и камеры пыток, инквизиторы жаловали друг другу имущество жертв и сговаривались с колониальным правительством, чтобы угрозами принудить их передать свои земли под контроль португальцев.
Инквизиция на Гоа [574] была одним из самых жестоких и чудовищных изо всех этих скандальных духовных трибуналов. А еще – поразительно безуспешным. Одержимость чистотой доктрины никак не способствовала обращению людей с радикально иными религиозными традициями. Миссионеры, пытавшиеся понять эти традиции и привить более близкую, туземную церковь, действовали эффективнее, хотя многие из них за этот самый успех сами стали жертвами инквизиции. Образованные иезуиты, в целом не страдающие манией величия инквизиторов, прибыли в Китай, выучили местный язык и волосы и бороды носили согласно местным обычаям; даже в условиях, когда публичные проповеди карались смертной казнью, они многих обратили, в том числе влиятельных мандаринов и даже губернаторов нескольких областей. Но и их миссионерской деятельности мешало отталкивающее поведение их португальских хозяев, а Жан Моке предложил типичное для него язвительное объяснение ужасающим бедам миссионеров в Японии. Японцы, сообщал он, «люди хрупкие и настороженные, видя, что португальцы замышляют, превратив их в христиан, лишить их всяческими способами земель и добра, а потому невысоко ставили их дружелюбность и еще менее желали, чтобы они правили, и это, возможно, было причиной того, что они подвергли мученической смерти столь многих иезуитов, которые во всем этом были совершенно неповинны; ибо японцы с большой ревностью относятся к своим женам, а у португальцев не было иной цели, как их заполучить, особенно женщин вельмож, чтобы после делать с ними что пожелают».
«В Индиях я узнал, – разъяренно добавляет Моке, – что распутство, честолюбие, алчность и жадность португальцев были одной из главных причин, почему индусы не обратились так легко в христианство». При всей предвзятости француза миссионерам нечего было надеяться на крупный успех без действенной поддержки прочной империи, и многие встретили мученическую смерть.
Самое странное, что в то время как индусов и христиан преследовали со все возрастающим пылом, ненависть к мусульманам, погнавшая Васко да Гаму в Индии, долгое время как будто дремала.
И дело было не в недостатке угрозы с их стороны. В 1524 году узбекский полководец Бабур, происходивший по отцовской линии от ужасного Тамерлана, а по материнской – от Чингисхана, ворвался в Индию через горные перевалы Афганистана. Бабур решил вернуть наследство, принадлежавшее ему по праву, и основал империю дома Тимуридов – европейцы называли ее государством Великих Моголов. Моголы смерчем пронеслись по Северной Индии, но у них не было флота, чтобы оспаривать превосходство Португалии на море, а прагматичные португальцы отказались сражаться с ними на суше. Большую тревогу европейцам внушало то, что все более могущественная Османская империя наконец снова заинтересовалась морскими путями Востока. Мусульмане и христиане вели морские сражения от Индии до Индонезии, но туркам так и не удалось распространить свое господство дальше Красного моря. В 1538 году внушительный флот из восьмидесяти боевых кораблей отплыл из Египта вести «священную войну… [и раз и навсегда] отомстить за злодеяния португальских неверных» [575], но вторая битва при Диу закончилась решительной победой португальцев, и к 1557 году с турецкой угрозой было покончено.
Не меньшие опасения внушала и ситуация вокруг основных португальских территорий: в 1565 году некогда грозная Виджаянагарская империя попала в руки соседей – мусульманских султанов. Армии султанов дошли до побережья, чтобы изгнать португальцев, и колонисты смогли удержать сам Гоа только после жестокой десятимесячной осады. Но и задолго до этого местные хозяева неуправляемой теперь империи решили, что выгоднее вступить в союз с мусульманскими купцами, чем стараться изгнать их. То же решение, очевидно, принимало все большее число дезертиров с кораблей и людей, разыскиваемых властями, которые скитались по Азии и Африке и, взяв себе жен, включались в местные торговые сети и принимали местный образ жизни и местную веру. Многие находили свой хлеб в роли посредников между мусульманами и империей, в которой все труднее было узнать португальскую. В Восточной Африке возникла своего рода конвивенсия – содружество наемников, просуществовавшая до 1570-х годов, когда молодого португальского короля [576] охватила крестоносная лихорадка и он снова послал армии вырезать мусульман по обоим берегам Индийского океана.
По мере того как приближался к концу XVI век, крестоносные флоты практически сошли на нет. Причина была проста: не хватало португальцев, которые желали бы плыть на Восток.
Смерть всегда подстерегала первопроходцев, но в эпоху, когда жизнь была дешева, награда перевешивала риск. Люди, жившие в страхе перед адом и с надеждой на рай, стремились служить Богу как крестоносцы; рожденных в бедности голод гнал приобщиться к богатствам Востока. Однако богатства оседали в карманах элиты, а вера обернулась непрочным щитом против болезней, штормов и голода. Даже самые набожные стали спрашивать себя, действительно ли Господь избрал их для выполнения своего плана. Величайший хронист Португалии сетовал в середине XVI века: «Сдается, что за грехи наши или вследствие некоего приговора Божьего, от нас скрытого, у врат сей великой страны Эфиопии, куда плывут наши корабли, он поместил грозного ангела с огненным мечом в виде смертельных лихорадок, которые не позволяют нам проникнуть в глубь страны, чтобы найти источники, которые орошают сей рай земной и из которых бегут к морю – в столь многих областях, которые мы тут покорили, – реки золота» [577].
За три десятилетия, прошедших с первого плавания Васко да Гамы, в колонии отправилось около восьмидесяти тысяч португальских мужчин – и несколько женщин. Вернулся приблизительно каждый десятый. Для страны с населением в миллион мужчин, женщин и детей это была невосполнимая потеря. Когда чума вновь обрушилась на Португалию и унесла несметное число жизней, города и селения по всему королевству опустели и быстро пришли в упадок.
Полный крах предотвратило лишь то, что соблазн Востока начал тускнеть.
Плавание вокруг Африки всегда было трудным маршрутом со смертельными опасностями и множеством преград. Теперь оно стало к тому же и утомительно обыденным. Не осталось новых побережий, чтобы их исследовать, новых народов и звезд, чтобы наносить их на карты, и очень мало надежд найти в конце его сказочные богатства. Португальцы все еще цеплялись за старую систему, разделявшую матросов и солдат и отдававших их под командование людей, которые свое назначение получали не по способностям, а по праву рождения, и драки на борту стали угнетающей обыденностью жизни в море. Они возникали тем более часто, что купцы фрахтовали огромные двухсоттонные суда, построенные ради перевозки грузов, а не ради судоходных качеств или удобства людей. Конструкция этих кораблей с высокими надстройками на носу и корме и бочкообразным корпусом мало изменилась со времен Васко да Гамы, но, увеличиваясь в размерах, они становились все более неповоротливыми и легко переворачивались. В путь они отправлялись перегруженными товарами и пассажирами, а поскольку их не содержали в должном порядке и служили на них рабы и неопытные матросы, каждое четвертое терпело крушение.
Изо всех португальских судов, погибших в результате кораблекрушения, нападения пиратов или войн, судьба одного во многом сказалась на всех последующих плаваниях.
В феврале 1552 года судно «Сан-Жуан» отплыло из Кочина с одним из величайших грузов пряностей всех времен на борту [578]. Оно вышло под конец сезона и у мыса Доброй Надежды угодило прямиком в шторм. Бурей у него сорвало грот-мачту и рулевое весло, и корабль вынесло на берег Наталя. Сто двадцать уцелевших – в том числе капитан корабля, дворянин Мануэл де Соуза де Сепульведа и его жена дона Леонор с детьми – выбрались на берег со столькими ценными вещами, сколько сумели затолкать себе под одежду. У них не было припасов, вскоре их начали терзать голод и жажда, и когда они повстречали группу африканцев, то попросили отвести их к местному вождю.
Вождь послал передать, что не пустит чужаков в свое селение, но если они станут лагерем в роще деревьев, он даст им еду. Поскольку португальцы понятия не имели, где находятся, они поступили, как сказано, и, съев принесенную им пищу, решили ждать, когда мимо пройдет какой-нибудь корабль. Для защиты у них было при себе лишь пять мушкетов, которые они сумели спасти из обломков корабля.
Мануэл де Соуза послал одного из своих людей просить предоставить дом для него самого, его жены и двух маленьких сыновей. Вождь ответил, что даст ему дом, но только в том случае, если его люди разойдутся по окрестным селениям, поскольку сам он прокормить всех не сможет. Старейшины селений, добавил он, отведут чужаков в их новые дома и будут заботиться о них, но сперва они должны отдать оружие. Пропустив мимо ушей предостережение одного старейшины, который советовал европейцам держаться вместе, и протесты жены, которая была более крепкой закваски, де Соуза приказал своим людям отдать мушкеты.
«Ты сложил оружие, – печально сказала дона Леонор, – и теперь я считаю себя погибшей».
Отказавшись от малейшей попытки руководить своими людьми, капитан предложил им добираться домой как смогут. Он останется здесь и умрет со своей семьей, если так будет угодно Богу. Африканцы отвели матросов группками через буш в свои селения, где сорвали с них одежду, ограбили и избили. В селении вождя у Мануэла де Соуза, его семьи, пяти рабынь и десятка людей, кто остался с ним, отобрали деньги и драгоценности и велели идти разыскивать остальных.
Многие из разобщенных матросов сумели отыскать друг друга, и снова никто не взял на себя командование. Без оружия, одежды и денег они пошли по пересеченной местности под палящим зноем: кто-то направился к лесам, кто-то к горам. Униженный и почти бредящий капитан потащился следом с ослабевшими домочадцами, но на них почти сразу же снова напали африканцы и лишили одежды, а самого де Соузу ранили в ногу. Дона Леонор пыталась отбиваться от нападавших кулаками, но ее муж умолял ее позволить снять с себя одежду, «напоминая, что все рождаются нагими и что, поскольку на то воля Господа, она должна покориться». Под плач сыновей и их крики дать им воды дона Леонор бросилась на землю, прикрываясь волосами и царапая ногтями землю, чтобы закопать себя в нее по пояс. Она отказалась встать, даже когда ее старая кормилица дала ей порванный плащ, которым прикрывалась сама, и больше не двинулась с места.
Остальные мужчины смущенно стояли поодаль. «Вы видите, в каком жалком мы состоянии и что мы не можем идти дальше, но должны погибнуть тут за наши грехи, – сказала дона Леонор одному из них, штурману корабля. – Идите своим путем, постарайтесь спастись и помолитесь за нас Господу. Если вы когда-нибудь доберетесь до Индии и Португалии, расскажите, в каком состоянии оставили Мануэла де Соуза и меня с моими детьми».
Большинство мужчин ушли в буш, а де Соуза, рана которого нагноилась, а рассудок помутился, потащился на поиски фруктов. Когда он вернулся, дона Леонор едва не теряла сознание от голода и слез, и один из его сыновей был уже мертв. Он закопал маленького мальчика в песке. На следующий день он обнаружил, что рабыни рыдают над телами его жены и второго сына. Отослав рабынь, он сидел без движения, подперев подбородок кулаком и неотрывно глядя на тело жены. Через полчаса он встал и, выкопав яму в песке, похоронил последних членов своей семьи. Закончив, он ушел в буш, и больше его никогда не видели.
Трем рабыням удалось добраться в Гоа, где они рассказали эту страшную историю. Тридцать семь лет спустя неподалеку выбросило на берег еще один португальский корабль [579], и местный вождь, пришедший посмотреть на кораблекрушение, предостерег уцелевших не отходить от берега, не то их обворуют и убьют грабители. «Он сказал, что его отец предупреждал Мануэла де Соуза де Сепульведа, когда шел этим путем, – записал хронист, – и тот погиб, не вняв его совету». Матросы перебрались вброд на островок и разбили лагерь в заброшенном португальском поселении, построенном торговцами слоновой костью. Когда между матросами и солдатами начались стычки и свары, капитан – еще один португальский дворянин – заперся в полуразрушенной хижине и стал умолять своих людей оставить его в покое, «ибо он стар и устал и, оказавшись с женой в таких бедствиях, намерен вести жизнь отшельника, проведя остаток своих дней в покаянии за грехи». Четыре года спустя группа с еще одного потерпевшего крушение корабля проявила много большую дисциплину и более трех месяцев шла по суше, чтобы нагнать корабли остального флота. По пути им встретился африканец, который поклонился и сдернул перед их вожаком шапку. «Целую руки вашей милости», – сказал он на португальский манер. Как выяснилось, его воспитали португальцы, уцелевшие после крушения «Сан-Жуана».
Для суеверных матросов жуткая история «Сан-Жуана», безумного Мануэла де Соуза и трагической доны Леонор то и дело оживала призрачным напоминанием обо всех возможных бедствиях плавания. Неповоротливые грузовые корабли исчезали в море с ужасающей регулярностью. Их капитаны, невзирая на благородное происхождение, зачастую оказывались никчемными командирами. Туземцы были в лучшем случае негостеприимны, а в худшем – одержимы ярой ненавистью к незваным гостям. Климат подрывал здоровье европейцев, а тропические болезни их приканчивали. Потери были ужасающими: только в больнице одного Гоа на протяжении XVII века умерло двадцать пять тысяч пациентов. По обоим побережьям Индийского океана кресты и надгробные камни отмечали могилы бесчисленных молодых людей, ушедших из жизни до срока. Еще большее число было похоронено в море или погибло на затонувших кораблях, и об их существовании напоминали лишь шрамы в душах родных.
Священник-иезуит, отец Антонио Гомеш подвел итог переживаниям многих несчастных. В 1640-х годах Гомеш сам потерпел крушение на побережье Суахили. Добравшись до ближайшего селения, он попросил отвести его к местному вождю. Появился старик с загрубевшей кожей и седой бородой, и Гомеш храбро предположил, что он, верно, помнит времена Васко да Гамы.
«Я начал жаловаться на море, принесшее нам столько бед, – писал священник, – а он дал мне ответ, который я счел весьма мудрым:
– Господин, если вы знали, что море бессмысленно и безумно, почему вы рискнули в него выйти?» [580]
Эпилог
В 1516 году в почтенном возрасте 64 лет Леонардо да Винчи переехал во Францию. С собой он привез три свои работы: две картины на религиозные темы и один загадочный портрет, который станет известен как «Мона Лиза».
Подземный ход связывал увенчанный башенками особняк Леонардо с замком Амбуаз, любимой резиденций французского короля. Франциску I было всего двадцать два года, но они виделись каждый день и стали близкими друзьями. Когда спустя три года после приезда Леонардо умер, Франциск держал голову художника у себя на руках. «Подобный ему никогда не родится на свет, – сетовал король. – Мир не увидит человека, который знал бы столько, сколько знал Леонардо» [581].
Ренессанс пришел во Францию. Зародившийся в соперничающих городах-государствах Италии, вскормленный на великолепии Востока и принесенный на север ветрами войны, этот интеллектуальный переворот привил стране, одержимой битвами, тягу к учености и искусству. Франциск отправил своих агентов в Италию скупать картины, скульптуры и манускрипты; они даже пытались перевезти во Францию «Тайную вечерю» Леонардо – вместе со стеной, на которой написана фреска. По всему королевству Франциска, как грибы после дождя, возникали великолепные дворцы и замки, включая замок Шамбор, самый поразительный охотничий домик в мире, к архитектурным планам которого, возможно, приложил руку сам Леонардо, – там в 1539 году Франциск принимал своего заклятого врага, императора Карла V Испанского.
Их связывали давние и непростые отношения. Двадцатью годами ранее девятнадцатилетний Карл одержал верх над двадцатичетырехлетним Франциском в схватке за корону Священной Римской империи. С тех самых пор они были заклятыми врагами, император даже несколько раз вызывал французского короля на личный поединок. Наибольший удар по гордости французов был нанесен в 1525 году, когда войска Карла V захватили Франциска в ходе войны за контроль над герцогством Миланским; французского короля увезли в Мадрид и бросили в тюрьму.
Регентом на время той военной кампании Франциск оставил свою мать Луизу Савойскую. Услышав о пленении сына, Луиза решила, что необходимы решительные меры, и направила посольство в Стамбул.
Первый посол пропал в Боснии, но второй добрался до столицы Османской империи. В его башмаках были спрятаны письма султану Сулейману Великолепному, в которых регентша просила о союзе между Францией и Турцией. Леонардо да Винчи, возможно, не одобрил бы. За десять лет до переезда на Луару он спроектировал арочный мост, чтобы украсить Стамбул [582]. Дед Сулеймана султан Баязет II отверг фантастический проект как абсурдно непрактичный, а вместо да Винчи обратился к соотечественнику Леонардо Микеланджело.
Со временем альянс с Францией был заключен, и Сулейман, ненавидевший более удачливого претендента за желанный титул цезаря-императора, послал Карлу ультиматум: пусть освободит французского короля и выплачивает туркам ежегодную дань или пеняет на себя. Карл отказался, и весной 1529 года турки выступили на его город Вену. Стодвадцатитысячное войско Сулеймана многократно превосходило оборонительные силы Габсбургов и ополчения Вены, но после нескольких месяцев зимней распутицы здоровье солдат Сулеймана было подорвано, запасы на исходе, и когда начался сильный снегопад, турки отступили.
Неудачная осада пришлась на пик могущества турок, но и после ее провала Османская империя оставалась единственной сверхдержавой ренессансного мира. Следуя путем первых завоевателей-арабов, турки прошли из Египта на запад и бурей прокатились по Северной Африке. Шестьдесят тысяч турецких солдат и моряков выгнали последние пять сотен рыцарей-госпитальеров из крепости на Родосе и оттеснили их на Мальту. Берберский пират Хайр ад-Дин, более известный как Барбаросса [583], был кооптирован в турецкий флот адмиралом и навязал свою волю всему Средиземноморью. Французский альянс с турками возмутил остальных христиан, однако был отражением политической реальности.
В 1535 году Франция учредила постоянное посольство при Блистательной Порте – такое название носили ворота в стамбульский дворец Топкапы, где принимали иностранных послов, и – по метонимии – так в дипломатических кругах стали называть саму Османскую империю. Турецкие корабли зимовали в Марселе и предпринимали совместные с французами атаки на Италию и Испанию. Французский флот потом зимовал в Стамбуле, и союзники вели свои кампании до тех пор, пока Франциск и Карл не заключили наконец перемирие. Вскоре после этого Франциск пригласил своего противника в Шамбор.
Оттепель вскоре снова сменилась заморозками. Агенты Карла V совершили покушение на посла Франциска в Порте, и снова христиане объединились с мусульманами, чтобы сражаться против христиан [584]. Корабли Барбароссы соединились с французским флотом и разорили Ниццу, принадлежавшую тогда стороннику Карла V, впрочем, союзники произвели на бывшего пирата отнюдь не благоприятное впечатление, как гласит о том известный анекдот. «Твоим морякам обязательно заполнять бочки вином вместо пороха?» [585] – спросил он любящего выпить французского адмирала. Когда тридцать тысяч матросов и солдат турецкого флота зимовали в Тулоне, Франциск приказал всему населению покинуть город и превратил городской собор в мечеть. Союз турок и французов сохранялся и после сокрушительного поражения османского флота в битве при Лепанто в 1571 году, еще одной осады турками Вены в 1683 году и вплоть до XIX столетия.
Франция была не единственной европейской державой, обращавшей свои взоры на Стамбул. В 1578 году английский предприниматель Уильям Харборн приплыл в Блистательную Порту засвидетельствовать свое почтение султану Мураду III. В следующем году завязалась длительная переписка между Мурадом и королевой Елизаветой I. В ответ на первое письмо Елизавета послала султану богато украшенные дорожные часы и – более провокационно – большое количество свинца для изготовления боеприпасов, значительная часть которого была снята с крыш католических монастырей. Елизавета не впервые вступала в контакт с мусульманской страной: она уже дала разрешение на продажу доспехов и ядер в Марокко и отправляла теплые письма и послов к его правителю.
К тому времени протестантская реформация [586] расколола Европу на два враждующих теологических лагеря. В 1570 году папа римский отлучил от церкви «Елизавету, самозваную королеву Англии и слугу преступления» [587], и Елизавета обратилась к мусульманскому миру в поисках потенциальных союзников против Испании, главной католической державы. Как и правитель Марокко, турецкий султан был не прочь установить дипломатические отношения. По разительному контрасту с инвективами папы он в своих письмах обращался к «красе женщин, следующих за Иисусом, самой превосходной даме, почитаемой среди людей мессии, третейской судии в делах христианской общины, простирающей шлейф величественности и серьезности, королеве владений Инглетерских, королеве Элизаиде» [588]. Ислам и протестантство, намекал он, родственные религии: в отличие от католичества обе они отвергают поклонение идолам и верят в силу книги. Елизавета ответила согласием от всего сердца и присовокупила фрагменты разбитых икон, а Уильям Харборн, который к 1583 году стал первым послом Англии в Блистательной Порте [589], в ответ обращался к Мураду, употребляя обороты, которые пришлись бы по вкусу Мехмеду Завоевателю – «августейший и милостивейший цезарь» [590]. Харборн потихоньку нашептывал мудрые советы на ухо советникам султана, и два суверена планировали совместную кампанию против Испании.
Под Испанией Елизавета подразумевала также и Португалию. В том самом году, когда Харборн прибыл в Стамбул, двадцатичетырехлетний король Себастьян I Португальский исчез во время катастрофического крестового похода в Марокко. Последний раз его видели, когда он, скача во весь опор во главе кавалерийской атаки, врезался в мавританское войско, и его считали умершим, хотя «себастианские настроения» существовали еще долго: верой в то, что молодой король внезапно объявится и спасет Португалию в самый черный ее час, не раз пытались воспользоваться самозванцы. «Себастианские настроения» во многом были связаны с кризисом престолонаследия, порожденным исчезновением короля. На трон претендовали три внука Мануэла I, и в 1580 году один из них вторгся в Португалию и разбил фаворита самих португальцев. Новый король был сыном старого недруга Франции Карла V, а по смерти своего отца он стал королем Филиппом II Испанским. Еще он был королем Неаполя и Сицилии, эрцгерцогом Австрийским, герцогом Бургундским и Миланским, правителем Нидерландов и на протяжении четырех лет брака с дочерью Генриха VIII Марией – королем Англии и Ирландии. К огорчению многих своих новых подданных, он включил гордившуюся своей независимостью Португалию в состав могущественной – и притом насквозь происпанской – империи.
Шестьдесят лет две страны, две основные движущие силы эпохи Великих географических открытий окажутся в единой упряжке неустойчивого союза. По этой причине Португалия теперь очутилась в ссоре со своими старыми союзниками – англичанами и голландцами. Голландцы, десятилетиями перепродававшие восточные товары Португалии в Северную Европу, восстали против правления Филиппа II в 1568 году, тем самым развязав Восьмидесятилетнюю войну; в ответ Филипп воспретил им появляться в Лиссабоне. В 1585 году свояченица Филиппа королева Елизавета послала армию в помощь голландским протестантам, что привело к началу девятнадцатилетней англо-испанской войны. Сэр Фрэнсис Дрейк получил патент на разграбление испанских портов и флотилий и в ходе своих рейдов совершил кругосветное путешествие, а Испанская армада выдвинулась в Ла-Манш – с катастрофическими последствиями.
Многие годы английские и голландские первооткрыватели преодолевали опасности в водах России и Канады в поисках северного прохода к теплым морям Востока. Теперь Португалия стала врагом, и последние угрызения совести, которые мог бы вызвать захват ее океанских путей в Азию, сгорели на костре национализма.
В 1592 году, спустя четыре года после того, как Армада приковыляла домой, английская эскадра захватила возле Азорских островов огромный испанский корабль. Длиной в сто шестьдесят пять футов, с тридцатью двумя огромными медными мушками на семи палубах и более чем шестьюстами пассажирами и членами экипажа, испанский галеон «Мадре де Диос» был в три раза больше любого английского судна, и он шел из Индии, нагруженный сокровищами. Захватчики отвели его в Англию, в Дортмунд, где вскоре стало ясно, что борта галеона выше домов возле доков. Провели инвентаризацию его трюмов – результат потряс всю Англию. Пять лет спустя Ричард Хэклуит привел перечень найденного в своем обширном сборнике повествований о путешествиях англичан – под крайне неубедительным заголовком: «“Мадре де Диос” взята. Исключительная гуманность проявлена к врагу» [591]. Помимо большого числа драгоценностей, таинственным образом исчезнувших до того, как был составлен инвентарный перечень:
«…было найдено, что главные товары… состояли из пряностей, смол, шелков, ситцев, покрывал, ковров, красителей и прочее. Пряностями были перец, гвоздика, мейс, мускатный орех, корица, зеленый имбирь; смолами были камфора, ладан, бензойная, галагового корня, мирровая, алоэ. Из шелков: дамасты, тафты, тонкая шелковая тафта, алтобассо [592], который есть поддельная золотая парча, китайский шелк-сырец, непряденый шелк, камчатый шелк, белый пасмовый шелк. Из ситцев: набивной, простой белый, широкий некрашеный, тонкий крахмаленый, плотный бурый и хлопчатые нити в пасмах. Помимо того, занавеси и узорчатые полотна с ромбовидным рисунком, покрывала из плотной шелковой тафты и из плотного белого хлопка, ковры, подобные тем, что привозят из Турции. Помимо того, жемчуга, мускус, сивет и амбра. Остальные товары были велики числом, но меньшей ценности, как то: слоновьи зубы, фарфоровые сосуды из Китая, кокосовые орехи, шкуры, эбеновое дерево чернее сажи и кровати из него, материи из коры деревьев, странные и диковинные в выделке».
Сущий ад разразился в доках, и раздраженная королева Елизавета отправила сэра Уолтера Рейли спасать то, что осталось от ее доли добычи. По приблизительным подсчетам, общая стоимость груза составляла астрономическую сумму в полмиллиона фунтов или почти половину английской казны. Даже после того, как каждый матрос, рыбак и вор на мили вокруг затолкал под рубаху столько, сколько мог унести, оставшееся приблизительно равнялось 15 000 фунтов, «кои разделили меж учинившими сию авантюру (из коих ее величество была главной), и его достало, чтобы все остались довольны».
К своему восхитительном каталогу Хэклуит присовокупил мысль, показавшуюся бы знакомой Васко да Гаме и его собратьям-первопроходцам: «И тут я не могу не предаться размышлениям и не признать великую милость Господа нашей стране, который, дав нам в руки сию добычу, явил нам тайные торговые пути и богатства Индии, которые до сей поры были сокрыты и хитроумно спрятаны от нас и существование которых было промеж нас лишь украдкой и смутно прозреваемо, а ныне обернулось в свете дня ясным и полным знанием. А потому сдается, что воля Господа (если мы в своей малости сподобимся ее узреть) для нашего блага, чтобы мы торговали сими богатствами Индий и, создав законные пути, преумножили дарованные нам средства способствовать истинной вере и святому служению Господу».
Весьма удобным оказалось и то, что на галеоне был обнаружен некий документ, «запертый в шкатулку кедрового дерева и, точно несравненная драгоценность, завернутый стократно в белую ткань тончайшего хлопка», в котором со множеством подробностей излагалась система торговли в Индийском океане.
Это была не единственная коммерческая тайна, просочившаяся с Востока. Хэклуит также приводит отчет англичанина Ральфа Фитча, который в 1583 году повез письма королевы Елизаветы императору Китая. Португальцы захватили Фитча в Ормузе и бросили в тюрьму в Гоа, но ему удалось сбежать и отправиться в путешествие по Индии, Бирме и Малакке. Почти в то же самое время голландец Ян Хуиген ван Линшотен, непреклонный кальвинист, который, однако, провел шесть лет в Индии секретарем архиепископа Гоа, опубликовал отчет о португальской навигации в Азии, который тут же стал бестселлером на трех языках [593]. Оба путешественника рисовали захватывающую картину экзотического Востока и неприглядный портрет беззаконной Португальской империи, но Линшотен не только привел подробные инструкции, какой курс взять, чтобы попасть из Европы в Индию, Китай и Японию, но и включил ворох морских карт, которые тайно скопировал в Гоа.
Секреты, которые Португалия ревниво хранила на протяжении ста лет и которыми вынужденно поделилась с Испанией, внезапно стали всеобщим достоянием. Новая волна искателей приключений отправилась сломить столетнюю монополию Португалии на торговлю с Востоком, и на сей раз ее соперниками стали две Ост-Индские компании, одна из которых была основана англичанами, а другая голландцами.
Через два года после того, как англичан изумили сокровища с «Мадре де Диос», из Индии вернулся на родину первый английский флот [594]. В следующем году первый голландский флот отплыл из Амстердама. И в том, и в другом плавании большая часть экипажа погибла, но было доказано, что не только португальские суда способны переносить тяготы моря.
Голландцы посылали на Восток столько кораблей, сколько успевали строить, и довольно быстро обогнали англичан. В 1603 году голландский флот захватил вблизи Сингапура португальское судно, везшее 1200 тюков китайского шелка и огромный груз мускуса, и в последовавшем затем фуроре голландский юрист Гуго Гроций сформулировал радикальную идею «Маре Либерум» – моря, открытые для всех. Прикрываясь этим фиговым листком, голландцы начали присваивать себе разбросанные крепости Португальской империи. В 1604 году заморин Каликута с готовностью стал на сторону голландцев против португальцев, – а ведь совсем недавно заключил с ними договор, чтобы подавить восстание мусульман. Из Батавии (совр. Джакарта), своей новой индонезийской столицы, голландцы каждый год отправляли эскадры для блокады Гоа. В 1641 году они захватили мощную крепость и торговый центр Малакку, а в 1656 году покорили Кочин. Цейлон пал в 1658 году, Каннанур – в 1663 году. Когда мировой поток пряностей, предназначавшийся Западу, пошел из Батавии напрямую в голландскую колонию у мыса Доброй Надежды, а оттуда в Нидерланды, муссонные ветра Аравийского моря перестали определять цикл мировой торговли. Жизнь в древних портах Красного моря и Аравийского залива стала замирать, с их рынков исчезало все, кроме рабов и фиников. Предприимчивые купцы Каира и Александрии уцелели и даже процветали, но только потому, что переключились на торговлю новым модным предметом роскоши – кофе.
Англичане и голландцы последовали туда, куда проложили путь португальцы, и на их стороне было преимущество – возможность учиться на ошибках предшественников. Обе страны стали строить округлые галеоны с большей маневренностью и огневой мощью, чем у неповоротливых португальских кораблей, и превратили их экипажи в единые боевые подразделения матросов-солдат во главе с профессиональными морскими капитанами. Португалия подтолкнула своих конкурентов к созданию первых флотов современного типа, а ее неудавшаяся попытка ввести монополию на торговлю пряностями побудила новых игроков положиться на свободное предпринимательство. Свободное не означало общедоступное: яростные столкновения, столь опустошительно сказавшиеся на португальской коммерции, показывали, как важно железной хваткой держать в своих руках пути поставок. Вытеснив с рынка местных купцов, голландцы взяли под свой прямой контроль Острова Пряностей и перебили или обратили в рабство большое число местных жителей.
Голландцы сумели быстро утвердиться в Юго-Восточной Азии, а англичане извлекли из трудностей Португалии иной урок. К тому времени моголы, говорившие на фарси и столь же чужие в Индии, как и сами европейцы, подчинили себе весь Индостан, кроме самой южной его оконечности. В 1615 году английский посол сэр Томас Рое [595] прибыл ко двору моголов, заделался собутыльником императора и заключил договор, дававший Ост-Индским компаниям исключительное право торговли на территории империи. В то же время англичане объединились с Персией, которой управляли теперь шииты, твердо намеревавшиеся бросить вызов турецкому господству в исламе, и в 1622 году союзники изгнали португальцев из Ормуза, покончив с почти столетием неустойчивой оккупации. Хотя со временем агенты Ост-Индских компаний взялись за оружие, готовность компании к сотрудничеству, невзирая на пропасть между религиями, позволила ей проникнуть в местные структуры власти так, как никогда не удавалось – или не хотелось – португальцам. Для древних культур Востока последствия такого вмешательства были еще более катастрофическими. Когда наконец начала тускнеть маниакальная одержимость пряностями и новейшей и крайне дорогостоящей модой в Европе стал чай, Британия обменивала выращенный в Индии опиум на выращенный в Китае чай и превратила в наркоманов целую страну.
Пока англичане, голландцы и португальцы вели жестокие войны за земли и торговлю, моря Востока наводнили военные корабли и пиратские суда соперничающих европейских стран, и каждая старалась перехитрить или превзойти пушками конкурентов. Открытый Васко да Гамой морской путь превратился в проводник жесточайшей схватки за колонии, которой, казалось, не будет конца.
Сегодня Гоа, былая столица Португальской Индии, – город-призрак. Не осталось и следа его складов, больниц, особняков и дворцов. На протяжении всей его истории в нем то и дело вспыхивали эпидемии малярии, и в XIX веке он был заброшен и почти снесен. Осталось только с полдюжины поразительной красоты церквей, живописно разбросанных по ухоженным лужайкам как аттракционы в религиозном тематическом парке. Прибывающие автобусами туристы гадают об их назначении и посещают монументальный склеп Франциска Ксаверия, против воли ставшего бичом христиан, индусов и евреев Индии. Когда садится солнце и отбывают экскурсии, гигантские напоминания об ушедшей в прошлое мечте хмурятся словно роскошные невесты, брошенные на попечение немногих терпеливых священников и монахинь.
По ту сторону Индийского океана лежат развалины столицы Португальской Африки. Остров Мозамбик утратил свое значение через несколько лет после падения Гоа, когда открытие Суэцкого канала отодвинуло в тень путь в Европу вокруг мыса Доброй Надежды [596]. Деревья выросли на развалинах колониальных домов. На заброшенных верфях ржавеют пушки. Огромное здание больницы в стиле неоклассицизма величественно плесневеет на прекрасной площади, куда на возвышение для оркестра приходят поиграть местные дети, живущие, как жили их предки, в поселке из скученных и крытых соломой хижин. Перед красивым красного кирпича зданием иезуитского колледжа [597] стоит могучая, строгая фигура в одеянии крестоносца: кулак прижат к груди, меч вот-вот будет выхвачен из ножен, неумолимый взгляд устремлен в море. Недавно статую повалило циклоном, и хотя ее вернули на пьедестал, буквы, из которых некогда складывалась надпись «ВАСКО ДА ГАМА», потерялись. Больше человеческого роста, но лишенная смысла, она представляется комментарием к личности и репутации того, кому посвящена.
В Сеуте, где все началось, в алтаре церкви Санта-Мария-де-Африка на видном месте все еще стоит скульптура Богоматери, подаренная в 1421 году Энрике Мореплавателем. Португальский принц послал статую рыцарям ордена Христа, защищавшим город, и, говорят, она совершила множество чудес, хотя и не помешала Сеуте перейти на сторону испанцев в 1640 году, когда Португалия вела войну за независимость. Она и остается испанской, хотя владение ею яростно оспаривается Марокко, к побережью которого она льнет так же, как Гибралтар, противоположный ей Геркулесов столб, прилепился к Испании. Тут пути, столетиями протоптанные воинами за веру, еще не стерлись.
В последние годы Сеуте уделяли внимания больше, чем на протяжении нескольких прошлых столетий. В 2006 году Айман аз-Завахири, лидер группировки «Исламский джихад», окрещенный интеллектуальным главой «Аль-каиды», призвал к «освобождению» Сеуты [598] от христианской оккупации; два года спустя он провозгласил ООН врагом ислама за то, что ООН признала Сеуту неотъемлемой частью крестоносной Испании. Сеута перестала быть стратегическим трофеем, каким являлась когда-то, но через тринадцать веков после того, как исламская армия двинулась отсюда в Европу, и почти через шесть столетий после того, как, начиная свою африканскую одиссею, сюда вторглась Португалия, для некоторых она все еще символизирует контрнаступление мусульман на Запад.
Сходные идеи стояли за заявлением аз-Завахири в 2001 году, мол, падение аль-Андалуса было «трагедией». Для многих мусульман аль-Андалус кажется идеальным обществом, раем учености и культуры, а его утрата – началом долгого отступления ислама. Экстремисты оплакивают не толерантность, способствовавшую процветанию аль-Андалуса; с их точки зрения, Испания и Португалия оккупировали и продолжают оккупировать исламскую территорию, которую необходимо вернуть. Через три года после восхвалений прошлого в речи аль-Завахири группа сторонников джихада взяла на себя ответственность за взрывы в Мадриде, которые разнесли четыре пригородных поезда. «Мы с успехом проникли в сердце крестоносной Европы и нанесли удар по одной из баз крестоносного альянса» [599], – похвалялись они, добавляя, что целью этого была плата по старым счетам. Выражение «крестовый поход» в последнее время тоже звучало достаточно часто – и как инвектива террористов, и на волне событий 11 сентября из уст президента Джорджа Буша [600]. В одном заявлении исламистские лидеры объявили, что долг каждого мусульманина убивать американцев и их союзников по «альянсу крестоносцев-сионистов» [601], чтобы освободить мечеть аль-Акса в Иерусалиме.
Едва ли требуется говорить и тем не менее нужно сказать, что все акции террористов есть публичное оскорбление основного течения ислама. Мучительно ясно, что многие из этих заявлений, по сути, представляют собой зеркальное отражение христианской полемики в десятилетия, предшествовавшие эпохе Великих географических открытий. Еще более удивляют средства, которые выбирает «Аль-каида» для нанесения ответного удара Западу: разрушить коммерцию, взрывая самолеты и вызывая «кровоизлияние в авиационной промышленности, которая имеет столь важное значение для торговли и перевозок между США и Европой» [602]. Замените самолеты на корабли, а Атлантический океан на Индийский – и вернетесь на пять веков вспять. Трагично, но террористическая ловушка расставлена. Пока мы расходуем огромные ресурсы на войну с терроризмом и наши армии снова увязают на Ближнем Востоке, утверждения исламистов о затевающемся новом крестовом походе обретают все большую аудиторию, особенно когда их связывают с поддержкой, которую Запад оказывает Израилю. Тем временем многие люди на Западе начинают видеть в своих соседях-мусульманах пятую колонну, и обе стороны прибегают к приевшимся шаблонам, выставляющим соседей средневековыми фанатиками или выродившимися дьяволами.
С точки зрения, которую мы до недавнего времени считали безопасно современной, и после всех некрологов, которые писали историки, трудно понять, почему вернулся преследовать нас конфликт вековой давности. Если взглянуть шире, а только так можно увидеть его истоки, этот конфликт лежит в нашем общем прошлом.
Почти тысячу четыреста лет назад столкнулись, а после соперничали за богатства и души мира две великие религии. Обе имели общие корни, и обе несли практически ту же весть. Они были соседками с одним наследием и соперницами за одни и те же земли. Каждая претендовала на обладание высшей истиной, и каждая стремилась донести до всего человечества высшее откровение Господа. Обе торжествовали победу над смертью, но при всей благодати вечной жизни, какую они рисовали, и при всем утешении, какое обещали, общей их темной стороной стала воинственность. И для христиан, и для мусульман вера была не просто личным делом каждого, внутренним стремлением к невозможному идеалу, нет, это был публичный завет, дарованный Богом своему избранному народу, строить его царствие на земле, – и мало кого удивляло, что он претворяется посредством мечей и пушек.
Более восьми столетий христиане вели все ту же обреченную битву с мусульманами во все тех же привычных землях, когда несколько человек откололись и открыли новый фронт. Они отправились на задворки ислама – за союзниками и богатствами, которые надеялись обрести на Востоке. Вооруженные железной уверенностью, что им суждено распространять истинную веру, португальцы изменили ход истории. В 1522 году испанский хронист Лопес де Гомара объявил открытие путей в Восточную и Западную Индии «величайшим событием с сотворения мира, помимо сошествия и смерти Того, кто сей мир создал» [603]. Два столетия спустя гуманисты все еще высказывали эту мысль – только в более светском ключе. «Открытие Америки и прохода в Восточные Индии вокруг мыса Доброй Надежды – два величайших и важнейших события в истории человечества», – писал в 1776 году Адам Смит [604]. Оба эти события подтолкнули плавания португальцев, и для большинства современников Смита они были равно весомы. Но даже когда стал ясен размах открытия, совершенного Христофором Колумбом, давно уже было очевидно, что для победы на Западе нужно сперва покорить Восток.
Когда Васко да Гама вошел в Индийский океан, Европа смогла наконец поверить, что мировой баланс сил сместился на ее сторону. Когда вынашиваемые столетиями фантазии уступили место зафиксированным на картах фактам, открылись новые не только географические, но и интеллектуальные горизонты. Основывались колонии, в неведомых доселе местах строились церкви, и превосходство ислама уже не казалось неопровержимым. Огромные запасы ресурсов – драгоценных металлов, человеческих и, разумеется, пряностей – подпали под контроль христиан, и у Запада наконец появились средства сдержать и со временем отразить османскую угрозу у своего порога [605]. Без этого судьба значительной части Европы, поселений в Америке и открытия новых, тогда еще неведомых земель могла бы пойти по иному пути.
Это Васко да Гама положил начало долгим, богатым событиями векам западного империализма в Азии [606], и именно успех глобального крестового похода, известного как эпоха Великих географических открытий, позволил западному христианству отмахнуться от старого соперничества с исламом как от пережитка более темных веков. Однако это соперничество оставалось мощным подводным течением истории, даже когда христиане сражались с христианами, мусульмане с мусульманами, а временами объединялись против общего врага [607]. Для исламистов, которые мечтают о возрожденном халифате, управляющем восстановленной империей, война еще не закончена, а мировой порядок, основанный на волне краха колониализма – включая образование ООН и саму концепцию демократии, – глобальный западный заговор для внедрения чуждого образа жизни, иными словами, крестовый поход, но только в более изощренном обличье. Тем временем начинается новая эра, в которой Индия и Китай вновь занимают свое традиционное место движущих сил мировой экономики, и, однако, как раз теперь, когда нам следовало бы конкурировать за глобальные рынки и умы людей, мы обнаруживаем, что нас затягивает в давний религиозный конфликт.
Удариться в фатализм легко. Может показаться, что христиане и мусульмане так давно разделились на два враждебных лагеря, что ничего уже нельзя поделать. Ни у кого нет монополии на истину, и все заинтересованы во взаимопонимании, однако взаимное недоверие коренится слишком глубоко. Сотрудничество иногда процветает, но религиозные войны никогда не прекращаются.
Есть и иной путь – путь, показанный многими мужчинами и женщинами, которые инстинктивно отвергали разделение земного шара на соперничающие религиозные блоки. Были мусульмане Кордовы и Багдада, алхимики бурного взаимодействия культур. Были христиане Толедо и Сицилии, поддержавшие эту прогрессивную традицию. Был Фридрих II, договорившийся с султаном об аренде Иерусалима. Был Мехмед Завоеватель, образованный тиран, превративший Стамбул в горнило народов. Был Леонардо да Винчи, стремившийся просвещать патронов там, куда заводила его судьба. Были даже короли и королевы Франции и Англии и их союзники, султаны Османской империи. Подобно первым крестоносцам, было также бесчисленное множество европейцев, очарованных древними культурами Азии и перенявших местный образ жизни – к ужасу оставшихся дома современников.
Последствия столкновений между Востоком и Западом были столь же плодотворными, сколь и разрушительными. Но само противостояние не угасало никогда, и догматики и консерваторы с обеих сторон вскоре обнаруживали, что отстали от жизни. Среди таких оказались и первопроходцы, сами португальцы. Та истовая вера, которая погнала Васко да Гаму и остальных мореплавателей на другую сторону земного шара, в конечном итоге обернулась против них самих. При всех их грандиозных достижениях Последний крестовый поход – священная война ради окончания всех священных войн – был и остается безумной затеей.