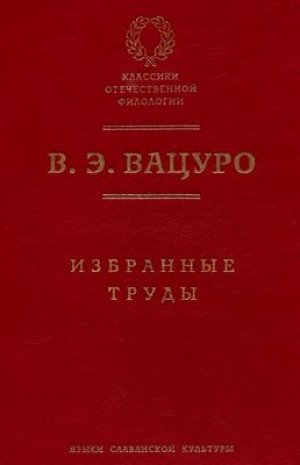
СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ
1964–1999
К вопросу о философских взглядах Хемницера[1]
Философские взгляды И. И. Хемницера до сих пор не подвергались систематическому обследованию. В 1873 г. Я. К. Грот сделал достоянием общественности подлинное литературное наследие Хемницера, до тех пор известное русскому читателю в переделках первых редакторов баснописца — Львова и Капниста. Издание Грота включило и некоторые черновые заметки Хемницера и так называемую «записную книжку», откуда последующие биографы черпали материалы для жизнеописания одного из выдающихся русских писателей-вольнодумцев. Вместе с тем многочисленные записки, выписки, заметки, сделанные Хемницером для себя и, на первый взгляд, не имеющие непосредственного отношения к его литературному творчеству, остались за пределами издания Грота.
В Советское время часть этих материалов была введена в научный обиход (Г. В. Битнер, Л. Е. Боброва)[2]. Г. В. Битнер обратила внимание на философские интересы Хеминцера, плодом которых были, в частности, басни «Народ и идолы» и «Муха и паук».
Однако в поле зрения исследователей попали не все черновые заметки Хемницера; не было обращено достаточного внимания и на первоначальные наброски басен, который дают в некоторых случаях интересный и принципиально важный материал.
В настоящей статье мы ограничимся рассмотрением только тех материалов, которые имеют отношение к философским взглядам Хемницера, оставляя до другого раза текстологические и биографические изучения.
Естественно, что философские размышления Хемницера стимулировались в первую очередь чтением французских философов. В этом отношении он отнюдь не являлся исключением в массе русской дворянской интеллигенции второй половины XVIII в. При этом нужно иметь в виду, что философская мысль Хемницера развивалась не изолированно от «русского вольтерьянства», а впитывала как раз те проблемы, которые были для него наиболее характерными.
Философские заметки Хемницера сделаны в конце 1770 — начале 1780-х годов, уже после смерти Вольтера и Руссо и после восстания Пугачева, когда «русское просветительство» вступило в новую фазу, а правительственное отношение к идеям французских просветителей претерпело резкую и показательную эволюцию. Вольнодумство Хераскова, И. Богдановича и других идет на спад; резкие выступления против атеистов особенно учащаются. В то же время идеи просветительства удерживаются и культивируются в разных преломлениях, причем значительную роль здесь играют масонские журналы[3]. Что касается официальной политики, то Екатерина, всю жизнь видевшая в Руссо своего личного врага и провозвестника смут (характерно, что позднее книга Радищева вызвала у нее ассоциацию именно с Руссо, равно как и события французской революции)[4], теперь считает нужным противопоставить Руссо слишком резкому антиклерикалу Вольтеру, образ которого, впрочем, также приводится в соответствие с требованиями официально допустимого. Эта позиция отразилась в «Санктпетербургских ведомостях»[5].
В такой обстановке мысль Хемницера обращается к наиболее остро звучавшей проблеме философии религии. Как известно, критика церкви и духовенства Вольтером находила отклик не только среди образованного дворянства, но и самых широких слоях населения, где «Вольтеро в а вера» была синонимом атеизма вплоть до середины XIX в. «Несодержание постов, бывшее доселе в домах вельможеских, — вспоминал Г. С. Винский, — начинало уже показываться в состояниях низших, как и невыполнение некоторых обрядов с вольными отзывами на счет духовенства и самых догматов, чему виною можно поставить теснейшее сообщение с иностранцами и начавшие выходить в свет сочинения Вольтера, Ж.-Ж. Руссо и других, которые читалися с крайнею жадностью»[6]. Характерно сопоставление в этой связи имен Вольтера и Руссо.
Круг чтения Хемницера мы не можем установить с точностью. Нужно думать, он был достаточно широк. Кроме Вольтера и Руссо, он несомненно знал и других представителей просветительской философии. В его памятной книге был реестр сочинениям, выданным друзьям для чтения; среди них значатся сочинения Фридриха II, «Система природы» Гольбаха, вышедшая к тому времени в нескольких изданиях под именем Мирабо, а также «Les trois imposteurs» и «Philosophiе de la Nature». Первая книга («Trait é des trois imposteurs») — известный атеистический трактат, изданный впервые в Амстердаме или Гааге в 1719 г. под названием «La vie et l’esprit de Mr. Benois de Spinosa»; с середины века он получил название «Трактат о трех обманщиках» и выдержал до 1789 г. не менее 6 изданий[7]. Вторая — труд Делиля де Саля (Жана-Батиста Изоара — Jean-Baptiste Isoard, dit Delisle de Sales, 1743–1816), вышедший впервые в 1769 г. и в феврале 1777 г. навлекший на автора чудовищный приговор (один из них предусматривал наказание кнутом, клеймо и вечную каторгу; второй — позорный столб и публичное по-каяние)[8]. Список в достаточной мере рисует направление интересов Хемницера (и его друзей, бравших книги из его библиотеки).
Хемницера — философа и художника — занимает проблема бытия бога. И первое, с чем он должен был столкнуться в деистической литературе, — вопрос о существовании разумного начала в природе.
Доказательство бытия бога посредством телеологических доводов было одним из наиболее распространенных среди деистически настроенных философов.
Напомним, что долгая и не лишенная противоречий эволюция Дидро от деизма «Философских мыслей» и «Прогулок скептика» к атеизму «Мыслей об объяснении природы» в значительной мере шла через преодоление телеологического аргумента. Для Дидро-деиста, «разумность» и «целесообразность» явлений природы находит подтверждение в новейших достижениях естествознания, установившего согласованность функций различных органов в живом организме. В то же время в уста атеиста («Прогулка скептика») философ вкладывает серьезные и, по существу, неопровержимые возражения. Представление о миропорядке, говорит он, существует в уме наблюдателя, подобно тому, как муравьи, нашедшие жилище среди обломков и мусора в саду, стали бы восхвалять целенаправленную деятельность садовника. Анонимный предшественник блестящей плеяды французских атеистов, написавший «Трактат о трех обманщиках», пользуется тем же аргументом. Люди, говорит он, судят о гармонии в природе согласно своим представлениям о зле и добре, прекрасном и уродливом, разумном и неразумном. «Нельзя судить о совершенстве и несовершенстве бытия, не зная его сущности и природы»[9]. На место разумного перводвигателя ставятся необходимые законы самой природы.
К последовательному отрицанию деистического бога французский материализм пришел в «Системе природы» Гольбаха (1770). Аргументы раннего Дидро в защиту мировой гармонии здесь оборачиваются против деизма. Провозглашая движение неотъемлемым свойством материи, Гольбах, естественно, исключает из мировой системы «бога-часовщи ка», «бога-пер-водвигателя», в котором он более не нуждается. Всеобщая детерминированность явлений природы для него — показатель действия присущих ей неизменных законов. «Порядок — продукт определенного рода движений, которые есть необходимое следствие законов материи»[10]. «Пусть нам не говорят, — писал он далее, — что… мы приписываем все слепой причине, случайному (fortuit) столкновению атомов, случаю (hasard)… Природа не есть слепая причина; она не действует случайно… Все, что она производит, — необходимо, является всегда следствием ее неизменных, постоянных законов…»[11]. Что же касается соображений морального порядка, то «не лучше ли зависеть от рока или судьбы, чем от какого-то безрассудного бога, наказывающего созданную им тварь за недостаточный разум и знания, которые он сам же и сообщил ей?»[12].
Естественно, что деисты отнеслись к «Системе природы» резко критически. 8 августа 1770 г. Вольтер писал м-м дю Деффан: «Дьявол во плоти, по внушению Вельзевула, опубликовал книгу под названием „Система природы“, где на каждой странице пытается доказать, что не существует бога. Книга эта всех устрашает, и все хотят ее прочесть… Ее буквально пожирают»[13]. На протяжении нескольких месяцев Вольтер в своих письмах постоянно возвращается к «Системе природы». Это и понятно, ибо через все философское наследие Вольтера — от «Трактата о метафизике» (1738) до «Невежественного философа» (1766) проходит идея о «высшем геометре», которому вселенная обязана гармонией и целенаправленной деятельностью своих элементов.
Сущность своих философских расхождений с Гольбахом он резюмировал в помете на книге «Le vrai sense du Système de la Nature» (1774), излагавшей идеи «Системы природы»: «Будь они (модификации материи. — В. В.) обязаны своим существованием только движению, то существовала бы лишь первичная материя, а никак не животные, растения, солнца, планеты, вращающиеся вокруг этих солнц согласно законам математики. Чем более являешься математиком, тем более следует признавать архитектора природы»[14].
Когда Хемницер читал «Систему природы», в поле его зрения, как уже сказано, были не только сочинения Вольтера. Гольбах в своем сочинении прямо нападал и на «символы веры» «савойского викария», изложенные в знаменитом «Profession de foi de vicaire savoyard» Ж.-Ж. Руссо. Книга Руссо вышла в свет раньше «Системы природы», но полемизировала она со взглядами Гольбаха и группировавшихся вокруг него энциклопедистов. Историю своей ссоры с «гольбахианцами» (holbachiens) Руссо рассказал в «Исповеди»; женевского гражданина отталкивали принципы атеизма, провозглашенные на вечерах у Гольбаха значительно ранее, чем они получили печатное выражение в «Системе природы». «Я верю, — писал Руссо, — что воля двигает вселенной и дает жизнь природе… Сколько нужно нагромоздить софизмов, чтобы не признать гармонию существ… Не в моей власти заставить себя верить, что инертная и мертвая материя могла произвести живые и чувствующие существа, что слепая судьба (une fatalité aveugle) могла произвести разумные существа»[15]. Аргументация Вольтера и Руссо здесь сближается настолько, что современники не увидели в них никакой разницы. Сам Вольтер считал религиозную концепцию «савойского викария» непосредственным развитием своих собственных идей[16].
В конце 1770 — начале 1780-х годов Хемницер создаст басню «Муха и Паук», где слышится явственный отзвук философских споров о происхождении вселенной. Философствующая муха, стараясь «входить в глубину вещей», задает глубокомысленный вопрос: кем создано здание, где она находится, и создано ли оно вообще. Это здание,
призвано, по мысли баснописца, символизировать вселенную. Собеседник мухи, паук, дает ответ согласно «здравому смыслу». Здание создано «искусством», чему свидетельство — «порядок в нем видимых вещей». Искусство же предполагает творца, расположившего элементы здания согласно законам гармонии. Такая космогоническая система не удовлетворяет муху, которая, в поисках «вещам и бытия причин», пришла к мысли о самопроизвольном возникновении «здания»:
Считая нужным определеннее указать на адресата своей басни, Хемницер добавил инвективу против «умов великих», которые
Легко заметить, что Хемницер оставляет в стороне разницу между категориями необходимости («слепая судьба») и случайности в космогонических теориях материалистов. И Дидро, и Гольбах для него — атеисты, оба они отрицают разумное организующее начало в природе и тем самым, по мнению деистически настроенного автора басни, вступают в противоречие со здравым смыслом. Согласно Хемницеру, теория естественного происхождения вселенной могла явиться лишь в результате спекулятивных размышлений, метафизических умствований философов, совершенно абстрагировавшихся от чувственной реальности. Фигура метафизика подобного рода появляется в баснях Хемницера неоднократно (знаменитый «Метафизический ученик», «Лисица и сорока», отчасти «Буквы»). Хемницер явно склонен разделять ту характеристику, которую давали «метафизикам» Вольтер и Руссо: «Эти пустые и ничтожные болтуны, вооруженные своими пагубными парадоксами, стекаясь отовсюду, подкапываются под основы веры, уничтожают добродетель. Они встречают презрительной улыбкой такие слова, как отечество и религия, и употребляют свои таланты и философию на разрушение и поношение всего, что священно для людей»[19]. Читая рассуждения об атеизме в книге Делиля де Саля, Хемницер вновь затрагивает остро волновавший его вопрос.
«Rien de plus ridicule, — замечает он, — que de voir une infinité de volume <s> remplis de disputes sur l’existence d’un Etre éternel. Eh! d’où viendroit donc la première idée d’un Etre suprême au premier qui l’a manifesté si ce n’est de cet Etre même. Fous que vous êtes cessez donc de raisonner»[20].
Здесь перед нами — онтологическое доказательство бытия бога, восходящее к средневековой теологии, но поставленное на службу деизму.
Вместе с тем как раз выписки из Делиля де Саля позволяют уловить антиклерикальные тенденции в деизме Хемницера. Так, он записывает: «Tiré de la Philosoph<ie> de la Nat<ure>, t. I, p. 87. Le Panthéon de Rome contenoit 30 000 idoles. La difficulté de concevoir un Etre suprême existant en tous lieux a produit l’idée du Polythéisme. D’où je conclus: chacun se fait un Dieu selon sa phantaisie. I. Ch. Ibid., p. 92. Mahomet a peut-être le mieux exprimé l’idée de Dieu, en le définissant de cette manière: Dieu est Dieu, et Mahomet est son prophète»[21].
Критика религии у Хемницера начинается с художественного анализа происхождения религиозных культов. В последней редакции басни «Народ и идолы» высказана мысль, что в основе религии лежит обман. Об этом писали и Дидро, и Гольбах, и Вольтер; такая точка зрения была распространена и в русской философской литературе (см., например, «Рассуждение из натуральной богословии о начале и происшествии натурального богопочитания» Д. С. Аничкова, 1769). В первоначальном прозаическом плане басни («Кумир, или Идол и народ») Хемницер предполагал дать характеристику народа как склонного к «дурачествам», т. е. такого, который легко обмануть. «Должно представить, что это был народ, который не закоснел в предрассуждении и жил по понятию простой природы. Из них же один выискался похитряе, который хотел простотою этого народа пользоваться; начал всякие выдумывать способы к обману их и завел между прочим идола, коему он молился; народ спросил его, для чего он это делает. Он говорил, что для того, что у него всего будет довольнее, нежели есть. И таким образом народ уловил, и народ сей идолу стал молиться. Плут этот был такой, как сказывают, жрец»[22]. Басня должна была кончаться прозрением народа и изгнанием жрецов. В окончательной редакции сарказм баснописца более тонок и скептичен:
Нападение на религию и обрядность вообще (в том числе и на христианскую) здесь достаточно недвусмысленно. Оставшиеся в рукописи заметки Хемницера с полной очевидностью показывают, что острие его антиклерикализма направлено против всякого официального культа и в первую очередь против христианства. Характерна запись по поводу книги Боссюэ «Discours sur l’histoire universelle» — курса лекций, читанного Боссюэ для дофина: «Bossuet dit au Dauphin dans son disc<ours> sur l’hist<oire> univ<erselle>: „que vos ancêtres ont mis la plus grande gloire d’être les Pro-tecteurs de la religion chrétienne“. — Protecteurs de religion de Christ. La religion de Christ avoit donc besoin d’être protegée. — Beau trait satyrique quant à un autre. Tout a donc besoin de protecteurs!»[24].
Далее Хемницер пишет: «Боже единый! боже всемогущий! долго ли еще человечеству быть ослепляему лжеучением религий, в столь разных видах ему представляемых! Да проповедуют только тебя единого все племена и языцы в равном понятии и да не делают зла друг другу. Изжени лжеучителей попов и со всеми законодателями лживых религий»[25]. Здесь явственно слышатся отзвуки «Трактата о трех обманщиках» и антицерковных выступлений Вольтера. В бумагах Хемницера сохранились наброски перевода «Орлеанской девственницы», внимание его привлекло начало поэмы и отдельные строки из песен I и XI, дающие ясное представление о точке зрения, с которой он читал поэму. Приводим наиболее существенные из набросков.
<1>Не мое дело святых прославлять. Голос у меня слабый, да к тому же и немного на светскую стать; однако быть вам пропеть ту Жанну, которая, сказывают, превеликие чудеса наделала. Старанием ее девичьим рука укрепилась наших галлов, корень галльский и Карла доставила в способ увенчаться в земле на царство.
<Chant I, 1–8>.
<2><Chant I, 314–315>.
- Не бойтесь, я именем Дионисий
- И ремеслом святой.
- <Puis il dit: «Ne faut vous effrayer:
- Je suis Denis, et saint de mon métier».
<3><Chant I, 345>.
- Кругом запахло святым.
- <Odeur de saint se sentait а la ronde.
<4>Георгий хоть без носа очутился, однако храбрость не потерял и в отмщение чести своего лица снес у Дионисия тотчас ту часть, которую в некоторый четверг Малх откроил какому-то из воинов[26].
<Chant XI, 193–198>.
- <George, sans nez, mais non pas sans courage,
- Venge а l’instant l’honneur de son visage,
- Et jurant Dieu, selon les nobles us
- De ses Anglaises, d’un coup de cimeterre
- Coupe а Denis ce que jadis Saint-Pierre
- Certain jeudi, fit tomber а Malchus.
Внимание переводчика концентрируется на тех эпизодах поэмы, где антиклерикализм Вольтера переходит в прямое издевательство над святыми христианского пантеона. В 1-й песни поэмы, откуда взяты наброски 2 и 3, святой Денис, покровитель Франции, спустившись на землю, вступает в препирательство с «насмешником» Ришмоном. Вся сцена носит отчетливо пародийный характер, который сохранен и в набросках Хемницера. Фрагмент 4 — кульминационный момент сражения между святыми Георгием и Денисом; ирония Вольтера в этом знаменитом эпизоде направлена, конечно, не только против эпической поэмы типа «Илиады», где бессмертные наносят друг другу физические увечья, но и против самого представления о «святых-покровителях», которые предстают в чрезвычайно материализованном и сниженном виде. Заметки Хемницера по поводу прочитанных глав еще более откровенны и порой достаточно вольны[27]. При этом нужно заметить, что «вольтерьянство» Хемницера имело достаточно глубокие корни и не являлось простым поверхностным эпатажем, как у многих его современников. Переводы из Вольтера — показатель не атеизма, а антиклерикализма, что вполне согласуется с содержанием других заметок Хемницера.
Отвергнув атеизм и официальные культы, Хемницер останавливается на естественной религии. Некоторый свет на взгляды Хемницера в этом отношении проливает басня «Народ и идолы». Идеальный народ (соседи угнетенного жрецами племени) служит богу милостивому и благому, «вид» которому он «не может дать». Здесь снова обнаруживается сближение Хемницера с концепцией Руссо. «Савойский викарий» связывает с именем бога «идеи о разуме, могуществе, воле и идею о доброте, которая неизменно следует из них»; но, продолжает он, «от этого я не узнаю лучше существа, которому я приписал ее; оно все так же неуловимо для моих чувств, как и для моего разума»[28]. «Я преклоняюсь перед его высшим могуществом и меня умиляют его благодеяния. Меня не нужно обучать этому культу, сама природа внушила его моему сердцу»[29]. Вольтеровское понимание природной гармонии не отличалось такой определенностью; представление Вольтера об атрибутах верховного существа претерпевало изменения. Следует иметь в виду, кроме того, что в России с именем Вольтера прочно связывалась «Поэма о гибели Лиссабона» (в 1763 г. к ней обращается Богданович) и «Кандид», где фернейский мудрец вступил в борьбу с идеей оптимизма и благости провидения. Как известно, «Поэма о гибели Лиссабона» вызвала полемику между Руссо и Вольтером об универсальном и специальном провидении (ср. письмо Руссо к Вольтеру 1 августа 1756 г., письмо Руссо к де Бомону и др.)[30]. Через два года Вольтер опубликовал «Кандида», где прямо ответил на оптимистические теории Руссо[31]. Поэтому есть основания предполагать, что представление Хемницера о естественной религии ближе к руссоизму, чем к вольтеровской концепции[32].
Защищая принципы естественной религии, Хемницер в плане «Кумир, или Идол и народ» делает существенное замечание: народ, о котором идет речь, «не закоснел в предрассудках» и жил «по понятиям простой природы». Доктрина естественной религии развивается им планомерно и непротиворечиво. Действительно, говорит он, невежество является питательной средой для расцвета предрассудков; однако следование «понятиям простой природы» не может внушить иной идеи божества, кроме как милостивого и благого. Если устранить обманщиков жрецов, «не закосневший в предрассудках» народ способен вернуться к истинной религии. Как ни парадоксально, Хемницер довольно б лизко следует схеме «Трактата о трех обманщиках»: до происхождения религии люди жили согласно естественному закону и разуму. Но естественный закон и разум Хемницер отождествляет с естественной религией.
Можно думать, что «Philosophie de la Nature» Делиля де Саля также не прошла бесследно для формирования мировоззрения Хемницера. Книга Делиля де Саля была эклектическим изложением основ деизма. Сохраняя «общие места» учения, автор в целом ряде случаев противоречит Руссо, вступая иной раз в прямую полемику с ним с вольтеровских позиций (ср. отрицание им антропоцентризма, оптимизма Руссо и т. д.). Однако в сознании современников «Философия природы» прочно связалась с именем Руссо, хотя женевский гражданин энергично отрицал свое авторство и давал резкие характеристики «Философии природы» и ее автору, не читав, впрочем, самой книги. Действительно, дух руссоизма проник в книгу Делиля де Саля[33]. Уже в предисловии он отдает дань руссоистскому культу чувства: «В меньшей степени следует пытаться завоевать ум (l’esprit), нежели покорить сердце; если бы случилось, что чтение некоторых из этих глав исторгнет те сладкие слезы, которые делают честь равно книге и ее читателям, цель философа была бы достигнута при помощи этого высшего триумфа природы»[34]. Автор провозглашает принципы религиозной терпимости по отношению ко всем культам; «из всех заблуждений касательно божества наиболее опасное есть индифферентизм»[35]. Принципы добродетели, согласно автору, вытекают из естественного закона, на основе которого должно быть построено утопическое идеальное общество. В природе все гармонично; человек, следуя естественному побуждению любви к себе, удерживает эту всеобщую гармонию в той сфере, на которую распространяется его деятельность; эта частная гармония (harmonie particulière) составляет для него закон природы (la loi de nature). Отсюда — естественное основание моральных норм. Делиль де Саль критикует как «атеистическую систему» Лукреция, так и Гоббса и Локка, не признающих естественного закона основанием гражданского. Что же касается суеверий, то они являются частным случаем искажения естественного закона.
В нашем распоряжении почти нет материалов, которые позволили бы проследить, как идея естественного закона преломилась в мировоззрении Хемницера. Его постоянные инвективы против общества, в котором люди
напоминают аналогичные высказывания Руссо, но не дают возможности делать какие-либо определенные заключения. Однако можно думать, что откликом на споры о «естественном человеке» является басня «<Остяк> и проезжий», где прямо противопоставлены «естественный человек», живущий по изначальным, врожденным нормам справедливости, и «Европа», где эти нормы ценности не имеют.
Показателен здесь самый выбор народности — «остяк». Еще в начале XIX в. это понятие не имело никакой этнической определенности. «Остяками» (отяками) называли аборигенов Сибири, вне зависимости от племенных различий. Остяк — дикарь, близкий к природе, живущий в первобытной простоте[36]. Хемницер как бы соглашается с Руссо, что развитие цивилизации влечет за собой развращение нравов, но делает это в достаточно осторожной форме. Он не склонен к далеко идущим выводам. Рационалист и просветитель, с широкими естественнонаучными интересами, Хемницер не мог, конечно, отрицать цивилизацию; однако, внимательно присматриваясь к аргументации Руссо, он не отвергал ее целиком. Проблема «естественного челове ка» во второй половине XVIII в., занимала русскую философскую мысль[37] и Хемницер, конечно, должен был на нее как-то откликнуться.
По-видимому, к концу 1770 — началу 1780-х годов относится «Надпись к комедии Палиссо „Философы“». Она была опубликована Я. К. Гротом (в русском и французском вариантах) без каких-либо пояснений:
В рукописи Хемницера название несколько иное: «Перевод надписи к Палиссотовой комедии „Философы“». Французские стихи — оригинал Палиссо. В изданиях сочинений Палиссо они служили подписью под фронтисписом, изображающим сцену из комедии.
Как известно, комедия «Философы» Шарля де Монтенуа (Палиссо — Palissot, 1730–1814) была кульминационной точкой той борьбы, которую обуреваемый честолюбивыми замыслами комедиограф начал против кружка философов-энциклопедистов. Поставленная в 1756 г., комедия имела успех скандала. Намеки на Дидро, Дюкло, Гельвеция, Руссо были совершенно очевидны; автор прямо указал на осмеиваемых философов, назвав их сочинения и прозрачно зашифровав фамилию Дидро (Dortidius — Diderot)[38]. Наибольший эффект имела IX сцена III акта, из которой и взяты переведенные Хемницером стихи. В этой сцене в кружке философов появляется «слуга женевского гражданина» Криспен, входящий на четвереньках и произносящий следующий монолог:
и т. д[39].
Намек на Руссо с его «Рассуждением» для Дижонской академии и трактатом о происхождении неравенства не требовал никаких разъяснений, тем более, что несколько раньше «Discours sur l’inegalité» фигурирует в руках одного из философов. Однако Палиссо в одном из поздних изданий своих сочинений для отражения нападок воспользовался авторитетом Вольтера. Охарактеризовав трактат Руссо как «парадоксы… странные, неприемлемые для рассудка», он процитировал известное письмо Вольтера к Руссо: «Я получил, сударь, вашу новую книгу против рода человеческого. Никогда до сих пор не употребляли столько ума из желания превратить нас в животных. Читая ваш труд, испытываешь острое желание ходить на четвереньках, однако, более шестидесяти лет назад оставив эту привычку, я чувствую, к несчастью, что не могу к ней вернуться»[40]. У Палиссо было тем больше оснований сослаться на иронические замечания Вольтера, что как раз эту IX сцену комедии Палиссо Вольтер хвалил в письме к автору: «…так как гражданин Женевы виноват в оскорблении комедии, вполне естественно, что комедия ему отплачивает тем же»[41].
Позиция Вольтера совершенно ясна, если вспомнить возражения Руссо против театра в «Письме к Даламберу» и всю историю его конфликта с «фернейским патриархом». Впрочем, Вольтер упрекал Палиссо за оскорбительные выпады в адрес Гельвеция, Даламбера, Жокура и Дидро, к чьим глубоким знаниям он «всегда питал уважение»[42].
Литературная и сценическая история «Философов» не могла не быть известна Хемницеру, так как она нашла достаточно полное отражение в собраниях сочинений Палиссо. Выбрав для перевода двустишие с прямым намеком на философские идеи Руссо, Хемницер тем самым как-то определял и свою позицию в «споре философов».
В бумагах Хемницера сохранилось несколько записей, где упоминается имя Руссо. В одной из них значится: «Celui qui pourra lire Rousseau sans sentir la force et le vrai de ses sentiments, n’en a sûrement lui-même»[43].
Эмоциональное восприятие творений Руссо сочеталось у Хемницера с глубоким уважением к нему как к личности. Н. А. Львов вспоминал: «Живучи в Париже целую неделю, ходил он (Хемницер. — В. В.) каждое утро стеречь, когда Жан-Жак выйдет из дому своего, и, увидев его один раз, мне уже покою не было, что я, живучи с ним в одной комнате, не видал Жан-Жака»[44]. Очевидно, Руссо для Хемницера был воплощением проповедуемого им нравственного идеала[45]. Нет сомнения, что ему импонировала также и независимость философа, решительно отвергавшего всякие попытки коронованных особ приблизить его к себе[46]. В ином свете рисовалось Хемницеру поведение Вольтера, неожиданно ставшего во главе придворных панегиристов[47] и прямо заявлявшего Екатерине: «… что должен я писать, ты мне сама внушай». Хемницеру было легко поверить, что исторические работы Вольтера прямо инспирированы Екатериной; этот взгляд отразился в эпиграмме Хемницера:
При этих обстоятельствах обращение Хемницера к скандальной комедии Палиссо казалось бы необъяснимым, если бы отношение ее автора к «гражданину Женевы» не было сложнее, чем это представляется на первый взгляд.
Некоторые современники склонны были видеть в «Философах» пасквиль на Руссо. Через 30 с лишним лет после первого представления комедии ее престарелый автор, домогавшийся в ту пору «certificat du civisme» (удостоверение в лояльности к республике), был обвинен Шометтом в том, что «пытался забросать грязью венец знаменитого Ж.-Ж. Руссо… Он осмелился поставить Руссо на четвереньки и заставить его есть салат!». В своем письменном оправдании Палиссо указывал, что вовсе не имел в виду осмеять Руссо, выведя на сцену лишь его лакея. Объяснение удовлетворило обвинителя и муниципальный совет[49].
Печатая комедию в собрании сочинений, Палиссо приложил к ней серию объяснительных статей и философских этюдов, в которых изложил свои симпатии и антипатии. Авторитетом Руссо Палиссо пользовался для борьбы против «философов» (кстати, перепечатав тот самый отрывок из «Исповеди савойского викария», который так сходен с характеристикой «метафизиков» у Хемницера). Самого же Руссо Палиссо называл «одним из добрых гениев века» («un des plus beaux genies de се siècle»), оригинальным и неповторимым в своем поведении и трудах[50]. Против «Рассуждения о науках и искусствах» и «Трактата о неравенстве» Палиссо возражает: это сочинения, наполненные странными парадоксами. Вспомним, что русская просветительская мысль тоже отвергала или далеко не полностью принимала инвективы Руссо против цивилизации (ср., например, высказывания на этот счет Я. Козельского)[51].
Все эти обстоятельства объясняют, почему пасквиль Палиссо привлек внимание Хемницера. Но фраза Криспена, получившая самостоятельную жизнь на правах отдельного двустишия, изменила свою функцию. Буффонада Криспена имела целью разрушить коварные планы «философов» и расстроить предполагаемый брак между Розалией и главой кружка философов Валером. Формула «Sur ces quatre piliers mon corps se soutient mieux» пародировала идеи Руссо лишь косвенно, включаясь в контекст всей сцены; сама же по себе она была направлена против «глупцов», которым адресовалась. Эпиграмма Хемницера имеет именно этот смысл; а так как под «глупостью» баснописец понимал вообще любое уклонение от нормы мышления, поведения и т. д., то адресат эпиграммы мог быть понят расширительно. Стать на четвереньки — единственный способ устраниться от общества глупцов. Ходячая формула, осмеивающая идею естественного человека, превратилась в парадоксальное оправдание этой идеи, в ироническое утверждение рациональности мотивов, управляющих деятельностью эксцентричного философа.
Философские заметки Хемницера — интересный и показательный пример восприятия французской философии русскими просветителями.
Не являясь оригинальным философом, не будучи вообще философом par excellence, Хемницер отдал дань острому интересу русской интеллигенции к центральным философским вопросам своего времени. Его ориентация на Руссо и антипатия к Вольтеру окрашивались в тона третьесословной оппозиционности. Оппозиционность эта выступает тем более выпукло, что она проявляется во второй половине 1770 — начале 1780-х годов. Разночинец, усвоивший идеи естественного права и внесословной ценности человека, лишь недавно вернувшийся из предреволюционной Франции, Хемницер определяет свое место в идеологической борьбе эпохи, руководствуясь принципами, которые впоследствии провозгласят вожди буржуазной революции. Хемницер отнюдь не радикал; оппозиционность его воззрений скрыта за эзоповым языком басен, но в записках для себя он обнаруживает откровеннее и резкость своего антиклерикализма, и глубину своей антипатии к аристократической верхушке.
Характерно и другое. В строго ортодоксальную классицистскую эстетику, защитником которой всегда оставался Хемницер, начинает вторгаться руссоистская доктрина. Через некоторое время она послужит одним из краеугольных камней сентименталистской и романтической литературы. У Хемницера она еще не угрожает основам эстетических представлений, ибо не накладывает отпечатка на характер изображения человека (тем более в творчестве сатирика и баснописца). Но процесс скрытой диффузии эстетических идей уже начался, и детальное исследование этого процесса, вероятно, сможет обнаружить его зарождение и первоначальное развитие.
Из разысканий о Пушкине[52]
1. Пушкинский анекдот о Павле I
В черновой тетради В. А. Соллогуба, хранящейся в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина и содержащей ранние редакции статей, очерков и повестей («Взяточник», «Именины» и др.) и записи услышанных рассказов, находится несколько исторических анекдотов о Павле I. Среди них особое внимание привлекает приводимый ниже рассказ, слышанный Соллогубом от Пушкина.
«Пушкин рассказывал, что, когда он служил в Министерстве ин.<ост-ранных> дел, ему случилось дежурить с одним восьма старым чиновником. Желая извлечь из него хоть что-нибудь, Пушкин расспрашивал его про службу и услышал от него следующее.
Однажды он дежурил в этой самой комнате, у этого самого стола. Это было за несколько дней перед смертью Павла. Было уже за полночь. Вдруг дверь с шумом растворилась. Вбежал сторож впопыхах, объявляя, что за ним идет государь. Павел вошел[53] и в большом волнении начал ходить по комнате; потом приказал чиновнику взять лист бумаги и начал диктовать с большим жаром. Чиновник начал с заголовка: „Указ е.<го> и.<мператорского> в.<еличества>“ — и капнул чернилами. Поспешно схватил он другой лист и снова начал писать заголовок, а государь все ходил по комнате и продолжал диктовать[54]. Чиновник до того растерялся, что не мог вспомнить начала приказания и боялся начать с средины, сидел ни жив ни мертв перед бумагой. Павел вдруг остановился и потребовал указ для подписания. Дрожащий[55] чиновник подал ему лист, на котором был написан заголовок и больше ничего.
— Что ж государь? — спросил Пушкин.
— Да ничего-с. Изволил только ударить меня в рожу и вышел.
— А что же диктовал вам государь? — спросил снова Пушкин.
— Хоть убейте, не могу сказать. Я до того был испуган — что ни одного слова припомнить не могу»[56].
Тетрадь Соллогуба заполнялась в середине 1840-х годов (одна из последующих записей датирована 1846 г.). Таким образом, наша запись, хотя и сделанная по памяти, принадлежит к числу довольно ранних. Близкое, хотя и недолгое, общение Соллогуба с Пушкиным увеличивает достоверность его свидетельства: можно думать, что он слышал рассказ сам, а не получил через вторые руки, как иногда бывало[57]. В таком случае это произошло не ранее середины 1830-х годов, когда Соллогуб встречался с Пушкиным у Карамзиных, и вероятнее всего с 1836 г., уже после благополучного окончания их конфликта, едва не закончившегося дуэлью. К осени 1836 г. Соллогуб относит свое «короткое сближение» с Пушкиным. «Не могу простить себе, что не записывал каждый день что от него слышал», — замечал он впоследствии[58].
Между тем услышал Пушкин анекдот не в 1830-е годы, а гораздо раньше, когда ему случалось дежурить в Коллегии иностранных дел. Это было в первые годы после выхода из Лицея. 15 июня 1817 г. он был приведен к присяге и зачислен на службу, и до своего отъезда из Петербурга в мае 1820 г. он мог нести дежурство неоднократно (исключая, конечно, время отлучек — например, с 8 июля по конец августа 1817 г. — или болезни)[59].
Анекдот, таким образом, как бы имеет две даты и связан одновременно с двумя стадиями исторического и литературного сознания Пушкина. В 1810-е годы его остро интересует история цареубийства 11 марта, но прежде всего в своей социально-политической и философской основе. Так она появляется в «Вольности» и позднее, уже на юге, в «Заметках пo русской истории XVIII века». Нет сомнения, что Пушкин в это время не раз слышал анекдоты о Павле и его времени — от Карамзина, от Греча, сообщившего десятки их в своих поздних записках; на юге — от Ланжерона, Болховского и др[60]. Все вероятные источники осведомленности Пушкина, разумеется, учесть невозможно, как невозможно представить себе тематический и сюжетный репертуар рассказов, бывших в его поле зрения. Один их них, однако, может привлечь наше внимание: это несомненно известный Пушкину рассказ об отце В. К. Кюхельбекера, перед самым падением Павла едва не попавшем во временщики. Накануне своей последней ночи Павел посылал его узнать, что означает собрание нескольких титулованных особ между дворцом и садом. На следующее утро Карл фон Кюхельбекер уже прощался с телом бывшего императора, стоя за сомкнутыми штыками часовых[61]. Как и в публикуемом нами рассказе, случайность играет здесь принципиальную, а в литературном отношении и сюжетообразующую роль. Тем не менее ни один из этих исторических анекдотов не отражается ни в художественном творчестве, ни в письмах и записях раннего Пушкина, дошедших до нас. Интерес к анекдоту как жанру придет позже, вместе с эволюцией исторических представлений Пушкина. Вероятно, «история домашним образом» уже представала в уничтоженных Пушкиным автобиографических записках. В 1826 или 1827 г. Пушкин задумывает трагедию «Павел I», о которой рассказывает на вечере у Полевого 19 февраля 1827 г[62]. С другой стороны, по-видимому, к этим же годам относится сохраненный Вяземским юмористичекий рассказ Пушкина о некоем академике, который имел «свой взгляд на историю»: 11 марта 1801 г., вызванный ночью к ректору, он обнаружил на столе пунш — и на этом кончились его исторические воспоминания[63]. Этот бытовой, «нижний» регистр политических событии в 1830-е годы также включается Пушкиным в понятие «истории»; oн отражается в «Table Talk», в записях бесед с Загряжской, в дворцовых анекдотах, которыми обменивается Пушкин со Смирновой-Россет. То же самое мы находим в дневнике 1833–1835 гг., который является и красноречивым свидетельством постоянного интереса Пушкина к личности и судьбе Павла — «романтического нашего императора»; это определение косвенно указывает на новую фазу интереса — внимание Пушкина обращается теперь и на психологию личности, в которой странно смешиваются противоположные свойства и наклонности: гуманные побуждения с бессмысленной жестокостью, своеобразная «рыцарственность», кодекс сословной чести, чувство справедливости с неограниченным деспотизмом и самодурством, здравый смысл с психическими аномалиями. К этому времени в памяти Пушкина и всплывает забытый анекдот, характеризующий данное направление интересов, и он прекрасно включается в общий контекст других услышанных или рассказанных им тогда же анекдотов-новелл на близкие темы.
Не зная исходного рассказа, мы не можем судить, как он преобразился в передаче Пушкина; нам неизвестно, какую трансформацию он претерпел и под пером Соллогуба. В поздних мемуарах Соллогуб цитировал по памяти пушкинские письма с почти текстуальной точностью. Здесь он, очевидно, не ставил себе такой задачи: об этом свидетельствуют, между прочим, и следы его работы над текстом, сохраненные рукописью. С другой стороны, работа эта минимальна; в черновой рукописи мы обнаруживаем лишь единичные исправления и невыправленные погрешности против практической стилистики, что говорит об экспромтном характере записи. Она позволяет уловить общие принципы пушкинского построения новеллы: стремительно развивающийся сюжет, освобожденный от побочных описаний и еще подчеркнутый протокольным лаконизмом малораспространенных предложений, и остропсихологическая ситуация, занимающая как бы периферию рассказа, — парализованный страхом чиновник действует силой канцелярского автоматизма, предписывающего начинать переписывание с заголовка; способность к рациональной волевой деятельности у него подавлена полностью и восприятие диктуемого текста заторможено; наконец, чувство страха и ожидание наказания увеличивается у него с каждым пропущенным словом, безостановочно следующим одно за другим. По динамически возрастающему напряжению эта ситуация напоминает другой психологический этюд Пушкина — переданную Нащокиным историю любовного приключения со светской женщиной (видимо, с графиней Д. Ф. Фикельмон)[64]. В нашем рассказе напряжение разрешается резким спадом, производящим впечатление комического облегчения по контрасту с ожидаемым: расправа, сравнительно легкая, последовала мгновенно и исчерпала инцидент — император «ничего-с»: «изволил <…> ударить <…> в рожу и вышел». Столкновение стилистических рядов — канцелярски-«высокого» и вульгарно-просторечного — усиливает разрешающий комизм концовки. При этом она оказывается совершенно «в духе Павла», верн е е, того его облика, который закреплен многочисленными рассказами о его импульсивном поведении: под влиянием минуты принят важный указ, под влиянием минуты и по случайному поводу указ этот уходит в небытие.
Здесь мы подходим к глубинному смыслу анекдота, скрытому за пародийностью внешнего сод е ржания. Этим смыслом он не мог наполниться в 1810-е годы. Проблема исторической случайности стала занимать Пушкина только в Михайловском. 13 и 14 декабря 1825 г. он пишет «Графа Нулина», «пародируя» «историю и Шекспира», и одновременно начинает развертываться цепь парадоксальных случайностей в его собственной судьбе: неудачный выезд из Михайловского в канун выступления на Сенатской площади, неожиданное освобождение и т. д. В заметке о «Графе Нулине» (1830?) окончательно формулируется мысль о том, что большое историческое событие может не произойти в силу случайности. Факты собственной биографии Пушкина способны были лишь дать новую пищу его историческим размышлениям[65].
История царствования Павла обогащала проблему историческими прецедентами. Последние дни его царствования были чреваты переменами, которых ждали с минуты на минуту; непредсказуемая воля императора могла на какое-то время изменить течение внешней и внутренней политики страны, коснуться престолонаследия, разрушить случайными арестами уже зревший заговор[66]. Эта обстановка, прекрасно памятная современникам, конечно, была известна Пушкину; она объясняет не только интерес Пушкина к содержанию указа, продиктованного спешно, ночью, в пустом здании Коллегии иностранных дел, но и определяет место, которое принадлежит указу в сюжетной структуре рассказа. Два контекста — созданный самой повествовательной сферой и более широкий, реально-исторический — увеличивают «суггестивность» мотива, ожидаемую значительность события и поднимают концовку на уровень не только стилистического, но и исторического гротеска.
Такова эта новелла Пушкина о «несостоявшейся истории» — один из немногочисленных сохранившихся образцов его устного повествовательного мастерства, отразивший в миниатюре его литературные и исторические интересы 1830-х годов.
2. «Побежденная трудность»
Крылатое словцо «побежденная трудность» («difficulté vaincue»), по-видимому, были одним из излюбленных у Пушкина. Оно появляется впервые в статье «О поэзии классической и романтической» (1825), где Пушкин характеризует им рифму: «побежденная трудность всегда приносит нам удовольствие» (Акад., XI, 37). Охотно пользовался им Пушкин и в разговоре. «Он выше всего ставил „la difficulté vaincue“», — вспоминал барон Е. Ф. Розен. На этот раз речь шла о своеобразной особенности трагедии Розена «Басманов» — отсутствии в ней фигуры Лжедимитрия, персонажа, казалось бы, неизбежного при избранной Розеном теме. В том, что драматург сумел обойтись без Лжедимитрия в пьесе о Басманове, Пушкин видел особое искусство, «побежденную трудность». Розен утверждал, что Лжедимитрий не был нужен ни для авторского замысла, ни для движения сюжета, «Какая побежденная трудность, — возразил я, — когда я и не боролся!», «Voil à justement ce qui prouve que la difficul té est complètement vaincue» («Это-то и доказывает, что трудность вполне побеждена»), — ответил Пушкин[67].
По-видимому, Розен довольно точен в передаче деталей разговора; ту же тему и те же выражения мы находим в сохранившемся письме его к Пушкину от 13 декабря 1836 г., где он говорит о своем либретто к «Ивану Сусанину»: «Personne ne remarque la peine inouie que m’a coûtée cette composition; je m’en glorifie: c’est une preuve, que j’ai vaincu la difficulté» («Никто не замечает огромных усилий, которых мне стоило это произведение; я этим горжусь; это доказывает, что я победил трудность») (Акад., XVI, 197, 399). В этой фразе слышатся отзвуки предшествующих бесед о принципах драматического искусства.
Нам уже приходилось указывать, что пушкинская формула восходит к письму Вольтера Г. Уолполу о трагедии и к его же «Рассуждению о трагедии», где Вольтер требует соблюдения жизненной «достоверности» сценического действия в пределах классических «правил»; это и есть та «трудность», преодоление которой приносит «пользу и удовольствие»[68].
С легкой руки Вольтера выражение «побежденная трудность» получило распространение в русской литературе. Так, Батюшков писал в «Прогулке в Академию художеств» (1814): «…я не одних побежденных трудностей ищу в картине»[69]. Конечно, Пушкин мог заимствовать формулу у Вольтера непосредственно, однако при этом он учитывал русскую традицию ее бытования, и, вероятно, не только письменную, но и устную. Известно, например, что эту формулу любил и часто цитировал Карамзин. В 1799 г. Г. П. Каменев, посетивший Карамзина, сообщал в письме к С. А. Москотильникову: «Стихи с рифмами <Карамзин> называет побежденною трудностью…»[70]. Вслед за Карамзиным Пушкин употребляет это определение, характеризуя рифму.
«Побежденная трудность» — не единственное речение, перешедшее к Пушкину через Карамзина. Ту же судьбу имели афоризм Бомарше «Il nе faut pas que l’honnête homme mérite d’être pendu» («He должно, чтобы честный человек заслуживал повешения»), взятый в качестве эпиграфа к статье «Александр Радищев», и слова «подвиг честного человека», примененные Пушкиным к самому Карамзину[71]. Кс. Полевой вспоминал, что Пушкин «любил повторять изречения или апофегмы Карамзина»[72].
Искусство беседы, которым Пушкин владел с блеском, питалось разными истоками, и кружок Карамзина, по-видимому, был одним из них. Во всяком случае мы знаем теперь, что некоторые изречения прославленных французских остроумцев XVIII столетия, воспринятые Пушкиным, получили первоначальное хождение именно в этой среде, давшей, кстати сказать, таких известных в свое время острословов, как Вяземский и Д. Н. Блудов.
3. Пушкинская поговорка у Лермонтова
В лермонтовском «Журналисте, читателе и писателе» в монологе Журналиста есть строки:
Э. Г. Герштейн впервые обратила внимание на то, что для речевой характеристики Журналиста Лермонтов воспользовался ходовым выражением, употребительным в кружке Карамзиных. В августе 1840 г. Вяземский вспоминал его как «старую прибаутку». «Войдите в мое положение! — голос значительно возвысить на слоге „же“. Эта фраза с этим ударением была в большой моде прошлым летом у Карамзиных и пущена в ход, кажется, Лермонтовым»[73].
Между тем есть и иное свидетельство о происхождении этого выражения, 5 мая 1846 г. Плетнев писал Я. К. Гроту: «Приготовься видеть в № 6 „Современника“ одни учено-сериозные статьи без малейшей примеси легкого чтения. Я знаю, что ты будешь бранить меня. Но войди в мое положение (как любил в таких случаях говаривать покойный Пушкин)…»[74].
Плетнев указывает на свой источник более определенно, чем Вяземский, и по-видимому с полным основанием. Вряд ли поговорка попала к нему от Карамзиных, с которыми он общался редко и никогда близок не был. Пушкина же, особенно в последние годы жизни поэта, он знал домашним образом и был связан с ним теснее, нежели Вяземский; в памяти его запечатлелись речения, привычки, характерные мелочи и особенности повседневного поведения его покойного друга, — о них он вспоминал часто в письмах к тому же Гроту. Вероятнее всего, поговорка, приведенная им, была в ходу у Пушкина и Карамзиных, откуда она уже и попала к Лермонтову. Вяземский же приписал ее Лермонтову по совершенно понятной аберрации: к августу 1840 г. он уже знал «Журналиста, читателя и писателя», опубликованного в апрельском номере «Отечественных записок» за 1840 г.
Пушкинское речение совершенно естественно входит в стихотворение Лермонтова, ближайшим образом связанное с литературно-полемической позицией Пушкина и его группы и включающее целый ряд реминисценций из стихов и полемических статей 1830–1831 гг. Эта особенность «Журналиста, читателя и писателя» достаточно хорошо известна. На нем лежит и отпечаток литературно-бытовой среды, в которой возникло стихотворение. Пушкинская поговорка в нем, однако, является чем-то большим, нежели простая реминисценция: она, конечно, рассчитана на узнавание и на определенное интонирование, как об этом пишет Вяземский. По-видимому, она читалась с жалобно-просительной интонацией, с особым эмфатическим подчеркиванием фразы, и тем самым получила дополнительные смысловые акценты.
4. К истории пушкинского экспромта
В своих воспоминаниях о Пушкине («Ссылка на мертвых», 1847) Е. Ф. Розен рассказывает следующий эпизод.
Пушкин охотно выслушивал его критические реплики по адресу близких писателей, зa исключением лишь одного, имя которого Розен обозначил буквенной анаграммой N. N. Однажды в разговоре Розен заметил это Пушкину. «Вы знаете, что я уважаю и как человека и как писателя N. N.; но как только коснусь его слабой стороны, вы тотчас вооружаетесь серьезною миною, так что поневоле замолчишь. Воля ваша, я не поверю, чтобы вы всегда оставались серьезны, читая стихи N. N., например (тут я привел одно место, где для рифмы, и чрезвычайно некстати, мелькнул „огнь весталок“). Пушкин не утерпел, расхохотался и признался мне, что, читая это место, он невольно закричал в рифму „Палок!“. Тут-то и объяснилось, что частые резкие изысканности у N. N., так и вызывающие эпиграмматическую критику, побудили Пушкина вооружиться против нее, единожды навсегда, этою серьезною миною»[75].
Этот писатель, не названный Розеном, — П. А. Вяземский, а цитированное стихотворение — его известное «Послание к М. Т. Каченовскому» (1820), бывшее в свое время предметом ожесточенной журнальной полемики и начинающееся словами:
Добросовестный мемуарист, Розен, конечно, не выдумал этот эпизод, но смысла его не понял, так как не мог знать его предысторию.
Послание Вяземского было резким памфлетом на Каченовского как «зоила» Карамзина. Оно появилось в январский книжке «Сына отечества» за 1821 г.; сразу же по выходе Каченовский перепечатал его в своем «Вестнике Европы», снабдив издевательскими примечаниями. Одно из них касалось замеченной Розеном строки с «весталками». Изысканный и неточный образ, как считал критик, дан только для рифмы; малоталантливый автор изнемог в борьбе с техническими трудностями стиха. Каченовский приводил к случаю признание «дурного поэта» из сатиры И. И. Дмитриева «Чужой толк»:
Выпад Каченовского был подхвачен; другой критик «Вестника Европы» в мартовской книжке журнала замечал: «Огонь в храме Beсты был священнейшим, благодетельнейшим для римлян <…> а здесь, для рифмы, он служит примером мучительному огню зависти!!»[77]. Еще через два месяца Каченовский печатает ответное послание Вяземскому С. Т. Аксакова, где тоже не забыт «огнь весталок»:
Уже 19 февраля 1821 г. в письме А. И. Тургеневу Вяземский отвечал на упреки: «Можно прибрать и палок и галок, и все это будет не hors d’oeuvre»[79].
Пушкин на юге следил за «журнальной войной» и тоже принял в ней некоторое участие. Посланием Вяземского он не был доволен и 2 января 1822 г. писал автору, что для Каченовского достаточно было «легкого хлыста» эпиграммы и не было надобности в «сатирической палице» (Акад., XIII, 34). Вслед за тем он пишет сам такую эпиграмму — известное четверостишие, посланное в письме Л. С. Пушкину 21 января 1822 г.:
Эти строки каламбурны и имеют в виду как раз примечание о «весталках». Нападая на рифму «жалок» — «весталок», Каченовский подсказывает («ищет чутьем») другую, более естественную — «палок». Любопытно, что Вяземский также шел к этому каламбуру, но остановился на полпути. В марте 1823 г. Пушкин посылает текст эпиграммы и самому Вяземскому (Акад., XIII, 60). А 7 июня 1824 г., как будто продолжая начатый за два года до этого спор об эпиграмме как средстве полемики, он пишет Вяземскому по поводу эпиграммы последнего на М. Дмитриева и А. Писарева («Цып, цып, сердитые малютки»): «Критики у нас, чувашей, не существует, палки как-то неприличны, о поединке и смех и грех было и думать: то ли дело цып-цып или цыц-цыц» (Акад., XIII, 96).
Прямые или косвенные отзвуки этой полемики прослеживаются в творчестве Пушкина и позднее. Среди приписываемых ему стихотворений некоторое время печатался экспромт, как раз на четыре упоминавшиеся рифмы:
Принадлежность этого экспромта Пушкину была предметом сомнений и колебаний. П. А. Ефремов, исключивший его из своего издания, как написанный С. А. Соболевским, в следующем же томе напечатал поправку, указав на авторство Пушкина — с глухой ссылкой на источник своих сведений[80]. Позднее он раскрыл этот источник: им оказалось свидетельство П. П. Вяземского, удостоверившего, «что четверостишие это действительно пушкинское»[81]. Атрибуция Вяземского в дальнейшем, впрочем, была отвергнута, и лишь недавняя находка автографа — по-видимому, пушкинского — вновь ставит этот вопрос. Текст, напечатанный Ефремовым, был либо одной из редакций, либо переданным по памяти и искаженным текстом пушкинского экспромта «К портрету N. N.»:
Каков бы ни был адресат эпиграммы, литературная генеалогия ее ведет к «Посланию к М. Т. Каченовскому» и последующим полемикам, и весьма любопытно, что именно семейная традиция Вяземских безоговорочно приписывала это четверостишие Пушкину.
Ни история полемик вокруг послания Вяземского, ни пушкинский экспромт, конечно, не были известны Е. Ф. Розену, с рассказа которого мы начали этот этюд. Розен вошел в пушкинский круг лишь в конце 1820-х годов; в начале десятилетия он едва знал русский язык. Имя Вяземского он скрыл: в 1847 г., когда писались его мемуары, Вяземский был жив, еще не сошел с литературной сцены и Розен поддерживал с ним отношения. Тем более вероятным представляется рассказ Розена, который осмысляется как одно из звеньев длинной цепи литературных фактов. Вместе с тем, конечно, мемуарист переставил акценты и дал наблюдению собственную интерпретацию, как это делал нередко. Замечание Пушкина касалось не творчества Вяземского в целом, как думал Розен, но одного лишь эпизода его литературной биографии, которого Розен, сам того не зная, коснулся в случайном разговоре, заново пробудив в Пушкине весь круг связанных с этим эпизодом ассоциаций.
К изучению «Дум» К. Ф. Рылеева[83]
Думы К. Ф. Рылеева принадлежат к центральным и наиболее изученным явлениям в гражданской поэзии 1820-х годов. Их всестороннее текстологическое и историко-литературное исследование ведется более столетия. Уже в фундаментальном труде В. И. Маслова «Литературная деятельность К. Ф. Рылеева» (Киев, 1912) содержался богатый материал для их комментирования и интерпретации; издания Рылеева, монографические работы и статьи о нем, появившиеся в советское время, подняли изучение дум на качественно новую ступень[84]. Можно считать, что в настоящее время ни в эдиционном, ни в историко-литературном отношении думы Рылеева не представляют сколько-нибудь неясной проблемы, — и, может быть, этим обстоятельством следует объяснить определенный спад исследовательского интереса к ним за последние десятилетия: мы можем назвать за это время лишь единичные работы, специально им посвященные; последней по времени является их академическое издание, осуществленное в серии «Литературные памятники», с полным сводом вариантов и вступительной статьей Л. Г. Фризмана[85]. Вместе с тем и в изучении дум, как и в любой научной области, остаются вопросы спорные и нерешенные или решенные не до конца и преждевременно снятые с повестки дня. Цель настоящих заметок — привлечь внимание к некоторым из таких вопросов; они касаются текста и историко-литературной интерпретации отдельных дум и в дальнейшем, как нам кажется, могут послужить отправной точкой для более углубленного анализа.
1. Закончена ли дума «Владимир Святый»?
Вопрос этот кажется вначале несколько неожиданным, и в науке о Рылееве он не возникал. Дума всегда рассматривалась как завершенный текст, не попавший в прижизненное издание 1825 года предположительно по цензурным причинам. Она сохранилась в единственном автографе — беловом, на который нанесена правка, превратившая его в черновик (рукописный отдел Ленинградского отделения Института истории). Мы знаем, однако, что ее не было в числе дум, запрещенных цензурой к включению в сборник 1825 года; никаких положительных сведений о том, что она вообще подавалась в цензуру, у нас нет. Более того, самое предположение о бесцензурности ее содержания (Владимир изображен в ней язычником и братоубийцей), внешне правдоподобное, вызывает сомнения по существу: именно так Владимир предстает не только в «Истории государства Российского», печатавшейся с «высочайшего разрешения», но и в одновременно появившейся «Русской истории» С. Н. Глинки, проходившей общую цензуру. У Глинки муки совести Владимира после убийства Ярополка превращаются в прямой лейтмотив повествования, приобретающий даже характер аллюзии: «Обагрясь кровию брата своего Ярополка и невольно смущаясь страхом, Владимир, помраченный тьмою невежества, возмечтал, что умилостивлением мнимых своих богов заглушит голос совести, карающий и сильного венценосца!»[86]
Все эти доводы заставляют нас предполагать, что цензура не была причиной того, что дума «Владимир Святый» не появилась в печати. Анализ самого содержания думы и сопоставление ее с источником убеждают в том, что мы имеем дело с незаконченным текстом. История Владимира доведена до эпизода появления «святого» перед преступным князем и до рассказа о страшном суде, побудившего его принять крещение. Далее следует сцена похода Владимира на Корсунь и заключительная сентенция:
Эти строки прямо опираются на Карамзина: «Гордость могущества и славы не позволяла также Владимиру унизиться, в рассуждении греков, искренним признанием своих языческих заблуждений и смиренно просить крещения: он вздумал, так сказать, завоевать веру христианскую и принять ее святыню рукой победителя»[87]. По рассказу Карамзина, эта попытка была лишь первым этапом на пути к крещению: завоевав Корсунь, Владимир не «завоевал» веру, и лишь приезд царевны Анны, внезапная слепота и последующее исцеление повлекли за собою его «прозрение». Карамзин ссылается на богословов, толкующих «прозрение» в мистико-символическом духе; он приводит и мнение Татищева, согласно которому слепота была послана князю в наказание за сомнение и ослушание[88]. Именно здесь заключалась моралистическая идея посрамления гордыни земного владыки — и есть некоторые основания полагать, что дума писалась отчасти и на эту тему. Во всяком случае, она никак не могла заканчиваться эпизодом похода на Корсунь: такая концовка разрушала бы целостность легенды и вся дума лишалась бы прямого смысла.
Впрочем, уже одно внимательное чтение последнего четверостишия дает возможность уловить в нем ту осуждающую авторскую интонацию, которая совершенно не согласуется ни с названием думы, ни с другими ее местами (описание райского блаженства, ожидающего Владимира-христианина, строки «Крести ж, крести меня, о дивный! В восторге пламенном воскликнул мудрый князь» и т. д.). Можно думать, что Рылеев оставил работу над этой думой, оборвав ее посередине. Чем была вызвана эта остановка — сказать трудно; может быть, причины коренились в самой исходной легенде, которая не давала возможности ни для прямой героизации Владимира, ни для безусловного его осуждения. Она могла быть разработана, скорее всего, в религиозно-моралистическом плане, причем самому Владимиру принадлежала пассивная роль. Его характер терял ту четкость и определенность контуров, которые были необходимы для дидактического рассказа; становилась затруднительной мотивировка перехода от преступника-братоубийцы к святому христианского пантеона. Так это или нет — об этом мы можем только строить предположения; несомненно, однако, что, рассматривая «Владимира Святого» как целостный текст, мы наталкиваемся на непреодолимые затруднения: начатые поэтические темы оказываются оборванными, сюжет — незавершенным, характер героя — неясным, авторские оценки — немотивированными. Между тем как раз эти особенности чрезвычайно характерны для восходящих частей сюжета, построенного на принципе контрастных противопоставлений — который лежит, между прочим, и в основе легенды о крещении Владимира.
2. Неизвестный автограф думы «Видение императрицы Анны»
Это произведение — одна из интереснейших дум Рылеева — было до последнего времени известно в двух автографах: черновом, хранящемся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, с заглавием «Голова Волынского», затем измененным на «Видение императрицы Анны», и беловом автографе Пушкинского дома, озаглавленном «Голова Волынского». В последнее время Л. Г. Фризману удалось обнаружить третий автограф, беловой, с названием «Видение Анны Иоанновны», хранящийся в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА). По этому автографу, проанализированному Л. Г. Фризманом в специальной статье[89], дума была напечатана им и в издании 1975 года[90]. Таким образом, возник вопрос об источнике текста этой думы. Напомним, что при жизни Рылеева она не была напечатана; «одобренная» в Вольном обществе любителей российской словесности 16 октября 1822 года, она, по-видимому, тогда же встретила противодействие цензуры; вторично Рылеев пытался ее включить в сборник 1825 года, но она снова не была пропущена — вместе с думой «Царевич Алексей Петрович в Рождествене».
Основные отличия автографа ЦГАДА от традиционного источника текста — автографа Пушкинского дома — отсутствие первой строфы и разночтения в стихах 8 («Торжествовали смерть героя» вместо «казнь героя»), 32–33 («И в шуме пиршеств и в глуши» вместо «в тиши») и 67–68, 70–72 последней строфы. Он находится на одном листе с думой «Петр Великий в Острогожске» (стихи 1–28), представленной в Вольное общество любителей российской словесности 16 мая 1823 года. По предположению Л. Г. Фризмана, именно по этому автографу Рылеев имел в виду публиковать думу в сборнике 1825 года, — и потому лист был приобщен к цензурному экземпляру дум, вместе с которым хранится и по сие время.
Л. Г. Фризман исследовал три этапа работы Рылеева над текстом, отразившиеся в трех имеющихся автографах. Исследование это, закрепленное в статье и в текстологической сводке в издании, имеет серьезное текстологическое и историко-литературное значение. Однако в настоящее время мы уже имеем возможность дополнить общую картину и даже внести в нее некоторые коррективы. Дело в том, что исследователям Рылеева остался неизвестен еще один, четвертый, и также беловой, автограф «Видения императрицы Анны», хранящийся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР)[91]. Автограф этот почти не дает новых строк; за небольшими разночтениями он совпадает с беловым автографом Пушкинского дома (далее: ПД). Озаглавлен он «Видение императрицы Анны», при этом последние два слова зачеркнуты. К заглавию сделано примечание: «Содержание из народного предания». Разночтения — в стихах 37 («незапно» вместо «внезапно»), 50 («пылает» вместо «сияет»), в стихе 60, который подвергся правке:
а) «Равны там раб и Царь надменный»,
б) «Равны там Царь и раб презренный» (как в ПД),
в) как а),
и в стихе 80 («Идет домой с тревожной думой» вместо «Спешит домой с тяжелой думой»). В стихах 51–52, окончательный вариант которых совпадает с ПД, первоначально было:
Все эти разночтения имеются уже в черновом автографе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (далее: ЛБ). Таким образом, подобно автографу ЦГАДА, наш автограф является более поздним, чем ЛБ. По-видимому, он предшествует ПД: в разночтениях он еще связан с отвергнутыми потом вариантами ЛБ. Между тем на нем стоит весьма симптоматичная помета (не рылеевской рукой): «Для Соревнователя». Это, несомненно, та редакция, которую Рылеев передал для печати после чтения думы в Обществе в октябре 1822 года.
Здесь нам следует обратить внимание на характер исправлений. Изменено заглавие — причем чисто механически и с явным ухудшением (простым зачеркиванием имени Анны Иоанновны; осталось «Видение»); подверглась правке строка «Равны там раб и Царь надменный» (правка эта ни к каким результатам не привела). Можно предположить с некоторыми основаниями, что в обоих случаях исправления носили вынужденный — автоцензурный — характер. Возможно даже, что изменение заглавия было предложено не Рылеевым. Нужно думать, что возвращение к первоначальным вариантам заглавия и анализируемых строк, которое мы находим в автографе ПД, является попыткой Рылеева (попыткой, как мы знаем, неудачной) хотя бы частично нейтрализовать ожидаемые цензурные претензии. Тогда это — еще один довод в пользу позднего происхождения автографа ПД.
В самом характере разночтений автографа ПД по отношению к ЦГА-ДА обнаруживается некоторая последовательность. Они направлены на смысловое уточнение текста: «Торжествовали казнь героя» (вместо «смерть» в строке 8); «И в шуме пиршеств, и в тиши Меня раскаянье терзает» (вместо «в глуши» — строки 41–42 в автографе ЦГАДА). Эта последняя формула имеет свою судьбу: она варьируется по меньшей мере в трех думах Рылеева, где речь идет о мучимом раскаянием носителе власти:
Эти примеры показывают, что вначале сложилась формула с оппозицией «хижина — дворец» («чертоги — глушь») и была механически перенесена в иной контекст («шум пиршеств — глушь»), а затем уточнена («шум — тишь»). Наконец, в последней строфе Рылеев явно пытался соблюсти согласование глагольных времен:
(вместо: «Все ждут царицу, но вотще, Не возвращается царица»).
Эти разночтения автографа ПД по отношению к ЦГАДА, кажется, также говорят в пользу текста ПД как последней по времени редакции. Во всяком случае, вопрос о соотношении редакции ЦГАДА и ПД с появлением автографа ЦГАОР возникает вновь, и его решение должно быть осуществлено с привлечением всей совокупности палеографических данных. Творческая история думы «Видение Анны Иоанновны» (или «Голова Волынского») выдвигается, таким образом, как особая исследовательская проблема.
Любопытно примечание к этой думе в новонайденном автографе: «Содержание из народного предания». Указания такого рода нередко бывали фиктивны и играли роль цензурного заслона. Однако здесь оно, как можно думать, соответствует действительности. Устные предания о бироновщине были, по-видимому, распространены. Еще В. И. Маслов указывал на рассказ, приведенный в записках И. И. Дмитриева, где речь шла о том, что императрица Анна перед смертью видела своего двойника, всходящего на трон. Дмитриев свидетельствовал, что предание это было широко известно и передавалось из уст в уста[92]. Известна была и другая легенда — о призрачном шествии из Адмиралтейства в Зимний дворец накануне смерти Анны; о нем рассказывал Н. И. Гречу астроном Шретер, якобы сам его видевший; его рассказ Греч включил в свой роман «Черная женщина»[93]. Ни та, ни другая легенда не имеют отношения к думе Рылеева, где основным сюжетным мотивом является именно призрак Волынского. Между тем о предании такого рода сведения есть; они содержатся, например, в книге Н. И. Тургенева «Россия и русские»: «Говорят, что как Елизавета после казни d’Essex, так и императрица Анна после ужасной казни Волынского не знала более покоя. Измученный и окровавленный призрак ее прежнего министра преследовал ее беспрестанно. Даже на смертном одре ей казалось, что она видит его, и в момент смерти на лице ее был изображен страшный ужас»[94]. Здесь мы, несомненно, имеем дело с поздним отзвуком устной традиции, которая дала жизнь и рылеевской думе. Вероятно, она может быть восстановлена — в первую очередь по мемуарным источникам, так как в печати она задерживалась цензурой[95]. С другой стороны, в думе Рылеева она, конечно, подверглась обработке и, вероятно, была контаминирована с какими-то иными мотивами. Изучение сюжетного генезиса этой думы — специальная задача, которая, видимо, еще привлечет внимание исследователей.
3. К истории текста думы «Ольга при могиле Игоря»
Текст этой думы при современном состоянии материала не может быть обоснован бесспорно, — однако печатать ее, на наш взгляд, при всех обстоятельствах следует несколько иначе, чем это делается обычно. В цензурном экземпляре «Дум» (ЦГАДА) и первопечатном тексте она состояла из одиннадцати строф. Монолог Ольги, повествующей Святославу об истории гибели его отца Игоря, заканчивался в ней поучением:
В 1954 году в «Литературном наследстве» А. Г. Цейтлин опубликовал беловой автограф строфы, пропущенной в первых публикациях, — вероятнее всего, по цензурным соображениям. Цитированные строки также имели весьма симптоматичные разночтения:
По предположению публикатора, разночтения последнего четверостишия с печатным объясняются стилистической правкой в неудачном первом стихе. Кем бы ни была осуществлена эта правка (самим Рылеевым или редактором первой, журнальной публикации думы), Рылеев санкционировал ее в издании 1825 года и в цензурной рукописи. А. Г. Цейтлин предложил поэтому ввести пропущенную строфу в основной текст, а последнее четверостишие печатать по прижизненным публикациям[96].
Такое решение было принято и всеми последующими редакторами Рылеева, между тем оно представляется спорным. Прежде всего, разночтения в последнем четверостишии не только стилистические: в печатной редакции — иная центральная мысль. Идея осуждения страстей на престоле здесь отсутствует совершенно: акцент ложится на идею гражданских добродетелей, противопоставляемых не только военному хищничеству, но и военной славе («боле князь, чем воин»). Эта мысль владеет Рылеевым и позднее: к 1823 году относятся «Видение» и «Гражданское мужество», где она развита в обширном поэтическом рассуждении. В думу «Ольга при могиле Игоря» она могла быть привнесена только самим Рылеевым. Все это показывает, что перед нами — две редакции думы, разнящиеся не только по тексту, но и по смысловой основе. Но этого мало. Есть основания думать, что автограф, опубликованный А. Г. Цейтлиным, дает не ранний, подвергшийся правке текст, а позднейшее дополнение к нему. Сейчас нам известно, что 12 января 1825 года Рылеев посылал Вяземскому «несколько поправок для „Дум“», которые просил «отослать в цензуру или к Селива-новскому» вместе с тремя дополнительными думами[97]. Естественно предположить, что перед нами — одна из таких «поправок», отвергнутая цензурой вместе с двумя присланными тогда же думами; в противном случае нам трудно будет объяснить появление двенадцати строк отдельно от всей думы. Если это предположение правильно, тогда, введя эту «поправку», мы получаем окончательный текст. Как бы то ни было, нельзя интерполировать пропущенную строфу, ничего не меняя в последней: необходимо либо остановиться на тексте прижизненной публикации, либо (что с нашей точки зрения справедливее) печатать по автографу все двенадцать стихов.
4. Из источников думы «Димитрий Донской»
Традиционно считается, что источниками этой думы являются изложение летописных данных в «Истории» Карамзина и напечатанная в 1812 году в «Русском вестнике» «Речь Димитрия Донского к войску перед сражением на Куликовом поле» И. Ламанского[98]. Оба они были названы еще В. И. Масловым[99]. Первый из них не вызывает сомнений: некоторые строфы думы написаны как прямая парафраза изложения Карамзина. Второе же произведение довольно далеко от рылеевской думы — и, вероятно, о его воздействии следует говорить с большей осторожностью. Во всяком случае, мы можем назвать более вероятные источники, и один из них — трагедия В. А. Озерова «Димитрий Донской» (1806), пользовавшаяся совершенно исключительной популярностью в период патриотического подъема, связанного с наполеоновскими войнами, да и позднее. Роль этой трагедии для жанрового формирования дум уже была отмечена в литературе[100], но она, как нам представляется, имела для Рылеева еще и другое значение: на протяжении десятилетий она служила своеобразным резервуаром, откуда черпались фразеологизмы и афористические формулы героико-патриоти-ческого содержания — с самыми разнообразными целями и функциями (напомним, например, что печально известная трагедия Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла» была обязана своим названием монологу вестника (Боярина) во втором явлении пятого действия «Димитрия Донского»). Триумф Озерова-драматурга совпал с пребыванием Рылеева в Первом кадетском корпусе, и до него, несомненно, доходило устное предание об авторе «Донского», окончившем то же учебное заведение, а затем служившем адъютантом начальника корпуса графа Ангальта — личности, почти легендарной среди кадетов. Ф. Булгарин, также окончивший Первый кадетский корпус, вспоминал об «исступленном энтузиазме», который вызвала первая постановка трагедии и содержавшиеся в ней аллюзии: «Все сильные стихи, имевшие отношение к тогдашнему положению России, были выучены наизусть почти всеми грамотными людьми…» «Я помню, — продолжал он, — что однажды весь партер единогласно повторил последний стих: „Языки ведайте: велик российский бог!“ — и вслед за этим раздалось общее громогласное ура!»[101]
Есть все основания поэтому считать, что формулы «Силен русский бог» и далее в концовке: «Велик нас ополчивший в брань! … Он, он один прославил нас!» — имеют непосредственным источником заключительные слова трагедии (ср. в том же последнем монологе у Озерова: «Прославь, и утверди, и возвеличь Россию!»). Равным образом к ней восходят и иные ключевые формулы, сами по себе не индивидуально озеровские, но нашедшие себе место в его монологах: «И сокрушен гордыни рог» (ср.: «Поможет нам сотреть гордыни вашей рог» — действие I, явл. 3); «И окрест их татар громада В своей потопшая крови» («И на земле вкруг них татарских груда тел» — действие V, явл. 5); «Расторгнул русский рабства цепи И стал на вражеских костях» («И русский в поле стал, хваля и славя бога» — действие V, явл. 2). Число примеров можно было бы легко умножить. При разнице метрических характеристик (александрийский шестистопный и четырехстопный ямб) парафразы не могут быть более близкими; впрочем, конечно, Рылеев и не перелагал монологи, а, как и многие его современники, держал в памяти словесные формулы трагедии.
Но как раз «Димитрий Донской» показывает, что в разных эпизодах Рылеев мог ориентироваться на разножанровые образцы. Картина битвы у него близка к аналогичным сценам «Руслана и Людмилы»; если это и не прямое заимствование, то ориентация на самый тип описания. Ср.:
У Пушкина:
Трагедия Озерова и пушкинская поэма, по-видимому, должны учитываться в числе наиболее вероятных источников этой думы.
5. Источник «Ивана Сусанина»
В той же XVIII части «Русского вестника» за 1812 год, где напечатана «Речь Димитрия Донского…», находится рассказ об Иване Сусанине, послуживший, по-видимому, непосредственным источником этой думы. Он не попал в поле зрения комментаторов, так как был включен в более обширное целое — «Опыт о народном нравоучении», принадлежавший, несомненно, самому издателю — С. Н. Глинке. «Опыт» был предварен изображением Сусанина, с девизом: «Умрем все за веру и царя-государя. Слова крест.<янина> Сусанина. Опыт о нар.<одном> нрав.<оучении>. Ст.<атья> 7» (ср. у Рылеева парафразу этих «слов»: «Не дрогнув, умру за царя и за Русь!»). Эта статья седьмая и была занята «нравственным и историческим повествованием» о подвиге Сусанина[102], гораздо более подробным, нежели в позднейшей «Истории» Глинки, где был дан лишь сокращенный ее пересказ (с текстуальными заимствованиями). Отсюда Рылеев взял почти все эпизоды думы: как и в рассказе Глинки, Сусанин приводит поляков на ночлег в деревню, где угощает вином, сам же проводит ночь в бодрствовании и молитве. Очень точно воспроизведена следующая сцена: сын Сусанина, посланный матерью, находит отца и умоляет вернуться. «Сам бог меня сюда привел!» — говорит он у Глинки. Эти слова вложены Рылеевым в уста Сусанина: «Приводит сам бог тебя к этому дому». Последующий разговор Сусанина с сыном, поручение предупредить царя о необходимости бежать, патриотическая речь Сусанина — аналогичны в «повествовании» и в думе. Сходными оказываются и частные детали (ср. у Глинки: «Вьюга вовсе укротилась»; у Рылеева — «Свист ветра умолкнул, утихнула вьюга»). Все это не оставляет сомнений в том, что Рылеев переработал именно данный рассказ Глинки, который под его пером претерпел существенные изменения как в идейном, так и в стилистическом отношении. Дальнейшее исследование должно прояснить характер соотношения думы и ее источника; оно неизбежно затронет вопросы творческой истории и даст дополнительный материал для изучения жанровой природы дум.
На этом мы хотели бы закончить наши заметки о некоторых частных вопросах, возникающих в связи с изучением и изданием рылеевских дум. Не претендуя ни на бесспорность суждений, ни на окончательность выводов, они могут оказаться небесполезными при дальнейших переизданиях рылеевских текстов, — и в этом случае задача их будет выполнена.
Некрасов и К. А. Данненберг[103]
Ранний период петербургской жизни Некрасова — с момента его приезда в июле 1838 года — принадлежит к числу наименее документированных в его биографии. Провинциальный юноша в столичном городе, еще только вступающий на путь журналиста и литератора, вынужденный перебиваться случайными заработками и постоянно менять квартиры по требованию хозяев, на долгое время порвавший связи с домом, — он как будто выпадает из той стабильной социальной сферы, откуда обычно доходят до нас письменные документы. Мы знаем об этом периоде его жизни главным образом по поздним мемуарам, всегда не вполне точным и противоречивым, всегда смещающим хронологию и рисующим своего героя извне — как эпизодическое лицо в случайных встречах. Автобиографические произведения в этом отношении, вероятно, еще менее надежны: мы никогда не знаем, где в них кончается воспоминание и начинается художественный вымысел.
По всем этим обстоятельствам биографические свидетельства о раннем Некрасове, идущие из его непосредственного окружения, представляют собою явление не совсем обычное и весьма любопытное для биографа. К числу таких материалов относятся письма, послужившие основанием настоящему этюду. Они принадлежат известному в биографии Некрасова Клавдию Андреевичу Данненбергу, его недолгому сожителю и приятелю, связанному с ним, как мы попытаемся показать далее, и более глубокими литературными интересами. Письма эти отражают повседневный быт будущего великого поэта в осенние месяцы 1839 года, содержат некоторые неизвестные ранее данные для его литературной биографии и, сверх того, дают нам небезынтересный материал для характеристики самого их автора, которого мы отныне должны причислять к ранней некрасовской литературной среде.
Личность Данненберга интересовала биографов Некрасова, но известно о нем было мало. В описываемое время ему было двадцать три года: он родился в 1816 году[104]. Воспоминания Н. В. Успенского и В. А. Панаева рисуют его разносторонне одаренным человеком — художником и музыкантом; мы увидим далее, что он был не лишен и поэтического дарования. Успенский сообщал, что Данненберг учился в Казани на медицинском факультете университета и против воли отца оставил его, чтобы поступить в Петербурге в Академию художеств[105]. Сведения эти верны: с 3 октября 1833 года Данненберг был студентом Казанского университета, откуда 17 февраля 1839 года уволился по прошению[106]. От Успенского и Панаева, передававших рассказы самого Некрасова, мы знаем об общении его с Данненбергом в Петербурге. В последнее время об этом появились новые данные: как было доказано О. В. Ломан, Данненбергу посвящено одно из ранних стихотворений Некрасова, написанное уже после выхода сборника «Мечты и звуки»[107]. Дальнейшая судьба Данненберга не была известна; последний след его пребывания в столице — статья о Казанском театре в «Пантеоне русского и всех европейских театров» (1840), возможно, попавшая сюда при содействии Некрасова[108].
Сейчас мы можем расширить круг этих сведений. Материалы как о самом Данненберге, так и об общении его с Некрасовым находятся в бумагах Николая Ивановича Второва (1818–1865), известного впоследствии ученого и литератора демократического направления, главы воронежского краеведческого кружка, сыгравшего столь важную роль в личной и литературной биографии И. С. Никитина[109]. Данненберг и Второв были товарищами еще в Самаре, где прошло их детство; они одновременно учились и в Казанском университете (Второв провел здесь 1834–1837 годы). Дом Второвых, где сходился кружок университетских студентов, был одним из средоточий казанской культурной жизни; отец Н. И. Второва, Иван Алексеевич, сам выступавший на литературном поприще еще в конце XVIII — начале XIX столетия, сохранял и умножал свои петербургские, московские и казанские литературные связи, к которым приобщал и сына. Он знал Крылова, Рылеева, Греча, Гнедича, Дельвига; в его дневнике мы находим описание встреч с Пушкиным[110].
Второвы общаются с казанскими литераторами разных поколений. Они дружны с Фуксами — Карлом Федоровичем, естествоиспытателем и медиком, профессором университета, и женой его, писательницей, хозяйкой одного из самых значительных провинциальных салонов тогдашней России, гордившейся своим родством с Г. П. Каменевым и знакомством с Пушкиным. Они знакомы с казанскими Панаевыми. В дневниках Второва и письмах Данненберга постоянно упоминается имя Рындовских; глава этого семейства, Федор Михайлович, был женат на Поликсении Ивановне Панаевой, любимой сестре идиллика В. И. Панаева, т. е. был дядей И. И. Панаева по отцовской линии; сам он был в свое время довольно плодовитым поэтом, постоянным участником «Благонамеренного» А. Е. Измайлова; уже в 1818 году, по предложению Измайлова, «доктора медицины» Рындовского избирают действительным членом вновь возобновленного Общества любителей словесности, наук и художеств[111]. Второв постоянно бывает в его доме[112], — и вслед за ним здесь как свой человек принят Данненберг; в письмах в Казань он постоянно интересуется судьбой этой семьи. Каролина Гильтер, мать его невесты, пишет ему: «Старик Рендовский (так!) очень худ, ждут ноньчи или завтри его кончины, с ним сделался удар, — как мне жаль ето семейство, нещастие его со всех сторон давит»[113]. Он умер 27 сентября 1839 года[114], и Данненберг, получив известие, пишет Второву: «Воображаю, каково положение остального семейства Рындовских; едва ли П. Ив. перенесет эту потерю»[115]. Вся эта переписка, как и посещение Данненберга В. А. Панаевым, падает на то время, когда Данненберг и Некрасов уже живут вместе, и в эти же месяцы, по-видимому, Некрасов знакомится с И. И. Панаевым у М. А. Гамазова[116]. Последующая их тесная связь, вероятно, в какой-то степени оказывалась подготовленной и общими знакомствами.
Это — семейные связи Второва и отчасти Данненберга; едва ли не большее значение для нас имеют их университетские связи. В переписке Данненберга постоянно упоминаются его товарищи-студенты и окончившие курс; мы встречаем здесь и имена, получившие впоследствии известность в ученом мире. К ним принадлежит, например, Александр Яковлевич Стобеус, окончивший в 1837 году кандидатом с золотой медалью и затем преподававший правоведение; он был давним приятелем Второва и сохранял с ним близкие дружеские отношения в последующие годы[117], или Карл Александрович Демонси (ум. 1867), выпуска 1836 года; в 1839 году он уже ассистент, издавший на латинском языке диссертацию по медицине; впоследствии он будет ординарным профессором и деканом медицинского факультета при Харьковском университете. Экстраординарным профессором Петербургского университета по кафедре турецкого языка станет Вильгельм Францевич Диттель (1816–1848), уже в 1837 году, сразу по окончании, получивший степень кандидата арабо-персидско-турецкой словесности. В этой среде, по-видимому, также прочны литературные интересы. Казанские студенты издают свой рукописный журнал «Северное созвездие», которым руководит Евлампий Кириллович Огородников, вначале, как и Данненберг, учившийся на медицинском факультете (с 1833 года), а затем увлекшийся восточными языками; в 1839 году он был своекоштным студентом III курса по разряду восточной словесности (китайский язык). Он окончил курс в мае 1841 года, получил звание кандидата и серебряную медаль[118]. Три книжки журнала, объединившего опыты двадцати молодых литераторов (семнадцать из них были студентами университета), вышли в 1838–1839 годах; четвертая была обещана к осени 1839 года; появилась ли она, неизвестно. Данненберг был среди участников журнала; к сожалению, мы не знаем, что именно здесь принадлежит ему, так как все произведения анонимны, и авторы лишь перечислены в общем списке[119]. Вероятнее всего, он поместил стихи. Стихи в этом кругу пишут все: их пишет Второв, Данненберг и, по-видимому, даже невеста Данненберга; во всяком случае, вместе с письмами она посылает Данненбергу и стихи — причем, вероятнее всего, ею сочиненные, а не переписанные. В «Северном созвездии» сказались ультраромантические симпатии казанских поэтов — то характерное поэтическое умонастроение, которое породило поэзию А. В. Тимофеева, учившегося здесь десятью годами ранее. В переписке Данненберга сохранились образцы его поэтического творчества; нам небезынтересно познакомиться с ними уже потому, что они стилистически довольно близки ранним стихам Некрасова, с которым Данненберг вскоре установит литературный контакт.
Весной 1839 года, уволившись «по прошению», Данненберг выехал из Казани с намерением отправиться в столицу. По пути он посетил родную Самару, откуда 9 июня отправил Н. И. Второву письмо — первое из той пачки писем, которая займет теперь наше внимание.
По рассказам Н. В. Успенского было известно, что Данненберг уехал с соблюдением всех мер предосторожности и, во избежание гнева родителей, «решился некоторое время вовсе не писать им о себе»[121]. По письмам Данненберга мы можем представить себе ситуацию и более полно, и более точно. Предосторожности, принятые им, были связаны не только с намерением сделаться из медика художником, как думал Успенский, но и с его планами женитьбы, которые никак не могли вызвать одобрения в его семействе, жившем в это время в Самаре. Его избранницей была Любовь Августовна Гильтер, сестра его университетского товарища Павла, учившегося на медицинском факультете; мать их, Каролина Петровна (ум. 1853), была повивальной бабкой при университетской больнице[122]. Данненберг собирался взять в жены бесприданницу из огромной и малосостоятельной семьи. «…У моих детей ничего нет, окроме их доброго сердца», — писала ему Каролина Гильтер[123]. Чувство молодых людей было взаимным, и брак был решен; по городу уже ходили слухи об их отношениях (слухи эти несколько утихли с отъездом Данненберга)[124]. Оставалось преодолеть сопротивление родителей — прежде всего отца, твердо решившего воспрепятствовать этому браку: до него уже доходили рассказы о матримониальных планах сына. Семья Данненбергов интересовалась, действительно ли Клавдий «женился на какой-то Л.<юбови> Авг.<устовне> и уехал в Петербург; маминька К<лавдия> Андреевича согласилась на его женитьбу и благословила его; но отец никак об этом слышать не хотел и теперь в ужасном горе»[125]. Каролина Гильтер писала Данненбергу еще в 1840 году: «Странно, право, что старичок ваш вам не верит и возымел такое худое мнение как об вас, так и об нас…» «Конечно, — писала она далее, — он не знает ни наших правил, ни наших суждений об долге детей к родителям и родителей к детям…»[126] Невеста безропотно переносила и тоску ожидания, и тревогу о неизвестном будущем; с каждой почтой она посылала «милому другу Клавдию Андреевичу» большое письмо. Положение было сложным; еще в ноябре 1839 года Данненберг спрашивал Второва: «Как бы это сделать, чтоб никто ко мне больше не писал? Тс — никому ни слова, прошу тебя. Дома у меня кутерьма: думают, что я в Казани женился и уехал с женой в Питер (не говори об этом Гильтеру). Чтоб поправить свои обстоятельства, я непременно должен приехать скорее домой в Самару; а не то все пойдет к шаху. — Не дивись, — или подивись, как судьба вертит мной. Сил не достает!»[127]
17 августа 1839 года Данненберг сообщал Второву, что посетил Нижний Новгород. Настроение его не слишком радужно; он уже начинает испытывать недостаток в деньгах. 4 сентября он приезжает в Петербург[128].
В столице депрессия его усиливается. «…Смотрю на все слишком равнодушно, может быть, оттого, что мне скучно до того, что ты себе представить не можешь, и потому меня ничто не занимает. Видел картину Брюллова; прекрасна, но я нашел менее, нежели воображал. На днях начнется в Академии выставка, буду там и постараюсь после описать тебе, что особенно привлечет мое внимание, — а я должен быть недели три совершенно без дела, потому что занятия начнутся не раньше как после выставки. Я избрал архитектуру, причем вменяется в обязанность и рисованье, а это мне и на-руку, — что-нибудь сотворим». Он дает Второву и адрес: Васильевский остров, 3 линия, дом Шлиманна. Он просит известий из Казани и жалуется на одиночество и горести, его преследующие. «Одно осталось утешение: это воспоминание, — когда я мыслию переношусь в Казань, где так был я счастлив, где для меня все, для чего я живу и переношу много-много; но ужели я не увижу конца моим испытаниям?» Из взятых с собою денег у него осталось только 75 рублей[129].
Обо всем этом Данненберг сообщает Второву 14 сентября. Это время — канун встречи его с Некрасовым. В начале сентября Некрасов живет еще у Д. И. Успенского, учителя греческого и латинского языков Петербургской духовной семинарии, приютившего его у себя. Нам известен его адрес: «Рождественской части, 6-го квартала у Малоохтенского перевоза в доме купца Трофимова»[130]. Затем происходит ссора с Успенским; Некрасов оставляет его квартиру, и начинаются поиски временного пристанища. Все эти события падают, по-видимому, на конец сентября — начало октября; в первой половине октября 1839 года он уже живет вместе с Данненбергом[131].
Как произошло их знакомство, Данненберг не рассказывает, и, восстанавливая общую ситуацию, мы вынуждены опираться на уже известные автобиографические рассказы Некрасова, переданные Н. В. Успенским и В. А. Панаевым. Из писем Данненберга мы можем извлечь лишь некоторые косвенные данные, вносящие в них дополнительные штрихи. Тяготясь одиночеством, он, видимо, искал себе товарища; небольшие деньги, которыми он располагал, таяли. Бродя по Васильевскому острову, он, если верить Успенскому, обратил внимание на объявление о сдаче комнаты, которое вывесил Некрасов, дошедший до материальной крайности, и зашел к нему. По свидетельству Панаева, он просто ошибся адресом, разыскивая кого-то из своих знакомых. Некрасов рассказывал, что неприветливо принял незнакомого «господина в плаще», справлявшегося о местопребывании некоего «N», и не обнаружил желания вступать в беседу. «Вижу, — продолжал он, — что господин в плаще не уходит. Подождав немного, я ему сказал:
— Что вам нужно? Небось, любуетесь на мою обстановку.
— Признаюсь, — ответил он, — ваша обстановка озадачила меня; хотя я тоже не в завидном положении, но у меня есть в кармане двадцать рублей и довольно хорошая квартира; не пожелаете ли поселиться у меня? Пожалуйте хоть сейчас, я живу очень близко отсюда.
— Мне нужно заплатить хозяйке пять рублей, — сказал я.
— Вот вам пять рублей, заплатите и идемте со мною.
Я тотчас же расстался с хозяйкой, взял под мышку коврик и подушку, и мы отправились вместе с господином в плаще. Фамилия этого человека была Данненберг…»[132]
Рассказ, переданный Панаевым, безусловно, достовернее версии Успенского, согласно которой Данненберг нанял комнату Некрасова и тут же «переехал» в нее, бросив в угол узелок, составлявший все его имущество. Некоторые мелкие и совершенно конкретные детали воспоминаний Панаева подтверждаются письмами. Данненберг в стесненных обстоятельствах, но еще не впал в нищету: три недели назад у него было семьдесят пять рублей, от которых осталось двадцать к моменту разговора; он жил на Васильевском острове — стало быть, действительно близко от Некрасова; средства позволяли ему снимать квартиру, а не угол. Достоверна, наконец, самая ситуация: уже в цитированном нами письме видно стремление Данненберга освободиться от своего одиночества. Случайное знакомство с молодым литератором (род занятий Некрасова, конечно, стал ему понятен с первого взгляда) предоставляло для этого благоприятную возможность.
Следующее письмо Данненберга Второву — от 17 октября 1839 года[133] — содержит первое упоминание о Некрасове. Оно представляет особый интерес, и мы приведем его целиком.
<К. А. Данненберг — Н. И. Второву>17 октября.
Любезный дружище Николай Иванович!
Проходя во второй раз по выставке, я остановился у сосновой доски (нарисованной), на которой повешено несколько картинок на булавках, 1 портрет, завешенный китайской бумажкой, а другой за разбитыми стеклами; обман удивительный. Еще превосходная картина была Иисус с Никодимом при свете лампы. Было несколько хороших пейзажей, впрочем, нынешняя выставка больше портретная. Благодарю тебя за огромное письмо твое; нельзя ли нам почаще меняться такими; право, это мне будет не неприятно. Между прочим, ты просто твердыня; зачем тебе было сказывать, что получил письмо незапечатанным? лубок, я думал, что ты догадаешься; а не тут-то было; и по твоей милости я получил нос, хотя и небольшой, а все как-то не хорошо. Вперед не буду, не буду, вот те солно краснышко, к тебе с такими поручениями адресоваться. Я это сделал, чтоб не платить за 2 письма. Ну да бог тебя простит. — За новость тебе скажу, что я написал повесть Друг Мишель, помещу ее, кажется, в Альманахе, который мы хотим издать с моим сожителем Некрасовым, — его стихи ты встречал в «Сыне отеч.<ества>» и «Б.<иблиотеке> для ч.<тения>». — Работай поскорее Болгарскую статью и присылай, — если она будет не так велика, так мы ее тут же тиснем; в противном же случае можно будет продать в «Б.<иблиотеку> для ч.<тения>», а после, пожалуй, напечатать особо с приложением видов. — Я теперь достал себе источник денежный, взялся Полевому переводить с француз.<ского> статьи в «Сына отеч.<ества>» и беру по 60 руб. за лист. Шумим! В ноябре, я думаю, не позже Некрасов пишет либретто, а я музыку, и к новому году опера «Испанка», блестящая нашими именами, выдет в свет. Шумим! Послушай, мусье Николя! уговор лучше денег, — хлеб-соль вместе, а невесту врозь. Если ты смеешь быть к ней неравнодушен, берегись! Я приеду через год непременно, если не раньше, и откушу тебе нос и уши. Слышишь? — Мне от Академии задано нарисовать что-нибудь с натуры, и я вчера намахал портрет с Некрасова до<во>ль-но похоже, величиною с обыкновенный лист, карандашом[134]. прилагаемое письмо потрудись отдать Демонси, он тебе покажет адрес; но ты пиши не так, а вот как: на Васильевском острове, во второй линии между Большим и Средним проспектом в доме Духанина № 132. Да передай Шмукеру записочку, а билеты я посылаю тебе для штуки. — Объявление о вашем переводе будет напечатано в след.<ующ>их №№ «Северной пчелы» и «Литературных приб.<авлений>» или Инвалидных прибавлений к русской литературе. Это все равно. Я нашел здесь Ленивцева и вижусь с ним раза 3 или 4 в неделю. Поклонись Александрову, Удельному Депутату с братьями, Долгову, Терзиеву, Диттелю, Стобеусу и всем, всем, всем[135]. Папеньке мое почтение. Прощай! еще спасибо за письмо. Не говори, что я ленив, — видишь, отвечаю, и вперед буду. Только пиши ты; да попроси знакомых студентов следовать твоему примеру. Будь здоров, не забывай
твоего К. Данненберга
Кланяйся Огородникову и скажи ему, не пришлет ли он в наш Альманах побольше хороших стихов из его журнала. И ты не найдешь ли где. Прощай!
Поздравь ее со днем рожденья 2-го ноября[136].
Письмо поражает своим резко изменившимся тоном. Меланхолические жалобы на судьбу сменились мажорными интонациями; Данненберг полон оптимизма и жажды деятельности. Он шутит, даже несколько бравируя и пересыпая свои фразы студенческим арго. Его художественные интересы вновь заявляют о себе; он начинает с обещанного описания годичной выставки в Академии художеств. Внимание его привлечено не столько работами академиков, сколько картиной непрофессионального художника — «любителя художеств, камер-юнкера» Вонлярлярского «Беседа Христа с Никодимом»; об этой картине («копии с Ферстейга»), кстати, сообщала и «Северная пчела», также находившая в ней «талант и вкус»[137]. Между прочим, в стихах Некрасова есть также следы впечатлений от петербургских выставок — в первую очередь, конечно, от «Последнего дня Помпеи» Брюллова; эту картину описывает в меру своего разумения «Феоклист Онуфрич Боб» («Провинциальный подьячий в Петербурге», 1840).
Нет сомнения, что петербургские художественные впечатления Данненберга были небезразличны и адресату письма и в известной степени характеризуют ту интеллектуальную атмосферу, которая царила в казанском кружке. Второва занимали в это время проблемы живописи и архитектуры. Еще 14 сентября Данненберг просил его прислать «статью о Боґлгарах», теперь он вновь напоминает о ней, имея в виду устроить ее в печать. Статья была результатом их совместной работы: не далее как осенью 1838 года они совершили поездку по Казанской губернии с этнографическими и археологическими целями; в конце сентября они осматривали развалины в Болгарах, и Данненберг, несмотря на сильный холод, пытался сделать зарисовки[138]. Выставка, по-видимому, заставляла его спешить с опубликованием: развалины привлекли уже внимание столичных художников, и Данненберг, конечно, не был безучастным созерцателем целой серии этюдов и картин братьев Чернецовых с изображением казанских окрестностей, в числе которых была и «Внутренность развалин в Боґлгарах, Казанской губернии» Г. Чернецова[139]. Как явствует из письма, он брал на себя выполнение и других литературных комиссий Второва.
Это имеет значение для биографа Некрасова, потому что последний мыслился в качестве деятельного участника литературных начинаний Данненберга и даже их перводвигателя. Более того, у нас есть все основания думать, что именно Некрасов ввел своего нового приятеля в петербургские литературные круги. В письме от 11 ноября 1839 года Данненберг сообщал: «Некрасов (не родня казанс.<кому>[140]) жил у Полевова и потому знаком с ним; по просьбе моей он взял у него статью для перевода и передал мне; а я перевел ее и отнес сам к Полевому, — вот тебе и знакомство. Переведу ему еще листа 4 или 5, получу деньги, да и марр.р. рш отсюда; здесь хорошо, а в Казани лучше»[141]. Мы не можем сейчас сказать сколько-нибудь определенно, имеем ли мы дело с реальным биографическим фактом или неточной передачей какого-то разговора: никаких сведений о том, что Некрасов жил у Полевого, у нас нет, мы знаем только, что он бывал там, — и, по-видимому, довольно часто. Как бы то ни было, связи с Полевым продолжаются у Некрасова еще в конце 1839 года, когда он уже перестает печататься в «Сыне отечества», и через Полевого он добывает для Данненберга журнальную работу. Обещая Второву продать его статью в «Библиотеку для чтения» или поместить объявление о его переводе в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» или «Северной пчеле», Данненберг, конечно, рассчитывает на связи Некрасова с этими изданиями, тем более, что в двух первых Некрасов печатал свои стихи. Данненберг обещает очень уверенно, а в одном из последующих писем удостоверяет, что Некрасов находится в хороших отношениях с главными петербургскими журналистами.
Совместные литературные планы Некрасова и Данненберга также не оставляют сомнений в том, что уже к осени 1839 года за плечами Некрасова есть некоторый опыт профессиональной литературной работы. Это вовсе не романтически настроенный провинциальный юноша, пассивно переносящий горькую нужду, — это сложившийся, хотя и еще очень молодой литератор, изыскивающий средства жить профессиональным трудом. Он вхож в достаточно широкие литературные и журналистские круги, в которых ориентируется сравнительно свободно, и модус его поведения типичен для литератора-профессионала тридцатых годов. Замысел альманаха, о котором сообщает нам Данненберг, — обычное для этого времени литературно-издательское предприятие. Осуществление его требовало от издателей как раз широты литературных связей, и мы можем пожалеть, что Данненберг не сообщил, кого именно собирался привлечь Некрасов: один список имен обозначил бы его литературную среду в 1838–1839 годах. Вместе с тем уже скудные сведения по истории этого альманаха, которые мы можем извлечь из письма Данненберга, показывают, что среда эта не была ни слишком обширной, ни высокоавторитетной в литературном отношении. Издатели уже заранее предвидели недостаток материалов. Во всяком случае, Данненберг прибегал к Второву не только как к потенциальному автору, но и как своего рода эмиссару, прося его искать «хорошие стихи» и обратиться за ними к Огородникову — издателю того самого «Северного созвездия», о котором речь уже шла выше. Он знал, конечно, что участники этого журнала не могли конкурировать со столичными литераторами, и тем не менее счел нужным пригласить их к сотрудничеству.
Альманах Некрасова и Данненберга не состоялся, как и задуманная ими опера «Испанка», работа над которой, видимо, была уже начата. Самый замысел оперы, однако, был не менее любопытен, чем замысел альманаха, и также говорил об известной ориентированности авторов — уже не только в литературной, но и в театральной жизни Петербурга.
«Испанские» темы, проникавшие в Россию и непосредственно, и через посредничество французской романтической литературы, в конце 1830-х годов были уже настолько популярны, что обращение к ним перестало быть признаком сколько-нибудь определенной литературной ориентации. Их широко культивировали, в частности, в кружке Полевого, с которым были связаны первые литературные шаги Некрасова. Среди стихов, повестей и драм на «испанские» темы, сочиненных литературными знакомыми Некрасова, мы находим в немалом числе и такие, в которых фигура женщины-испанки занимает особое, и в иных случаях центральное, место. В драматическом конфликте обычно действуют «любовь» и «честь» или родовая гордость. Н. Бобылев, посещавший кружок Полевого одновременно с Некрасовым, — и, кстати, тогда же издавший альманах, — в 1837 году перевел повесть герцогини д’Абрантес «Испанка», где героиня жертвует своей жизнью и жизнью ребенка, чтобы отомстить завоевателям-французам за смерть мужа; Луиза, из переведенной Н. Полевым повести Рейбо, отвергает любовь испанского короля, сохраняя верность своему избраннику; то же делает и Клара в повести А. Мейснера, послужившей потом основой для драмы Полевого «Мать-испанка» (1843). Героический женский характер в мелодраматической «испанской» ситуации появляется и в повести Бальзака «Испанская честь» («Le grand d’Espagne»), переведенной Ф. Кони, также бывавшим у Полевого в 1838 году[142]. Эти и многие другие образцы — мы указываем лишь на ближайшие по времени и явившиеся в непосредственном окружении Некрасова — легко могли послужить стимулом для замысла оперного либретто.
Следов этого либретто в наследии Некрасова не осталось; однако через год или два экзотические «испанские» и «итальянские» сцены займут свое место в некрасовских повестях в «Пантеоне» — «Певица» (1840) и «В Сардинии» (1842), при чем обе повести окажутся связанными с впечатлениями от музыкального театра. В первой мы находим вставные арии; во второй — прямую сюжетную реминисценцию: сардинский рыбак намерен с кинжалом в руке мстить обольстителю своей сестры. Ситуация прямо перешла сюда из знаменитой «Фенеллы», как в петербургской постановке была названа «Немая из Портичи» Обера. Либретто оперы подверглось на русской сцене значительным цензурным изменениям; Мазаниелло, роль которого с шумным успехом исполнял Голанд, был назван Фиорилло[143]. Это-то имя («Фиорелло») носит некрасовский мститель-рыбак, выдавая таким образом свою литературно-театральную генеалогию.
До сих пор мы имели дело с теми замыслами и опытами друзей, которые несли на себе черты высокой романтической традиции. Ею отмечены ранние стихи Данненберга и Некрасова; нужно думать, что она должна была сказаться и в либретто и музыке неосуществленной оперы. Однако Данненберг упоминает в своем письме еще об одном своем произведении, также неизвестном нам, — повести «Друг Мишель». В этом названии ощущается как будто фельетонная манера. За неимением образцов прозы Данненберга, нам стоит обратить внимание на стилистические особенности его дружеских писем. Одно из них особенно интересно, так как намеренно стилизовано под «повесть»; под вымышленными именами-кличками из студенческого жаргона («Твердыня», «Абдул Крепость») здесь описывается предполагаемая встреча и разговор адресата и корреспондента. Разговор пародиен; однако самая пародия заключается в том, что оба собеседника предстают в объективированном виде воображаемых литературных героев. В этой псевдоповести мы находим целый ряд черт, которые будут свойственны и повестям и фельетонам раннего Некрасова: именно, установку на речевую характеристику, с широким использованием бытового просторечия и поговорочных речений. «Виновааааааат! — завопил во все горло Абдул Федотыч, чертя указательным пальцем левой руки по своей шее. — Ага! Попался! — возразил Твердыня, — и не совестно тебе на всет божий смотреть, продолжал он, — как тебе не стыдно не писать ко мне так долго! скажешь: некогда». «Виноват — снова произнес Абдул, — не прикажите казнить, прикажите речь говорить! Ведь время на время не приходит; иногда лучше родится рожь, иногда пшеница, бывает в году и масленица, бывает и великий пост; понял — ладно, а не понял — не прогневайся, лучше сказать не умею, ведь я живу хоть и в Питере, а ем пряники-то не писаны». И далее: «кто в бурю на море не бывал, да кто в Питере в нужде не бывал, тот досыта богу не маливался»[144]. Подобные же речения мы находим уже в «Повести о бедном Климе» (1842–1843): «ни брат, ни сват… кузнец двоюродный нашему слесарю», «грош заплочено да пять раз ворочено!.. Вынести на базар — четвертак дадут да полтинник сдачи попросят»[145]; позднее, в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» появится фигура дворового человека Егора Спиночки, сыплющего прибаутками (VI, 289 и след.). Еще более близкое совпадение обнаруживается в романе «Три страны света» Некрасова и Панаевой: вторая глава пятой части названа здесь: «Кто на море не бывал, тот богу не маливался»[146]. Отметим пока самое тождество формул: нам придется еще к нему вернуться.
Одновременное обращение писателя к «высокому» и «низкому», к элегической медитации и пародии — явление хорошо известное в истории литературы и даже для романтика не представляющее собою ничего исключительного, скорее напротив. Однако в творчестве романтика 1830-х годов удельный вес пародии несколько иной, чем в предшествующее десятилетие, и она нередко тяготеет к превращению в автопародию. Разрушающаяся эстетическая система, эклектичная в самых своих основах, облегчала этот переход, и едва ли не эту тенденцию мы улавливаем, сопоставляя бытовое просторечие писем Данненберга с мелодраматической патетикой его же «Невесты». Если «Друг Мишель» действительно был повестью фельетонного типа, то в этом случае творческое сознание Данненберга оказывалось типологически близким некрасовскому. Вспомним, насколько быстрым оказался переход Некрасова от романтических стихов к журнальному фельетону, — и от «серьезной» трактовки романтических ситуаций к их прямому пародированию. В «Несчастливце в любви, или Чудных любовных похождениях русского Грациозо» (1841) травестированы сцены, пользовавшиеся еще в конце 1830-х годов необыкновенной популярностью: к ним принадлежит, например, сцена прыжка всадника на коне со скалы в бурную реку[147]. Более того: уже в 1841 году Некрасов начинает пародировать свои собственные стихи, вошедшие в «Мечты и звуки», включая их в иронический или снижающий контекст. В том же «Русском Грациозо» мы встречаем вплетенные в повествование традиционные формулы из этих стихов (ср., например, эпизод с куртизанкой Франциской, к которой герой был «прикован» «неразрывной цепью страсти», и строки в «Признании»: «Я навек к тебе прикован Цепью страсти роковой» — V, 218); в рассказе «Двадцать пять рублей» (1841) сниженно воспроизведены несколько строк из «Турчанки» (V, 123) и т. д. Если бы речь шла о зрелом Некрасове, в этом не было бы ничего удивительного, но ведь, например, повесть «В Сардинии», с ее ультраромантическим сюжетом, пишется всего годом позже. Речь идет, таким образом, не об отмене, а о внутреннем разрушении, коррозировании романтической эстетики раннего Некрасова.
Литературные планы и замыслы, о которых сообщал Данненберг в своем первом письме, оказались неудачны. Приятели продолжали жить вместе в доме Духанина на второй линии Васильевского острова, изыскивая средства поправить свои материальные дела. По-видимому, адрес этот, указанный Данненбергом, был первым из их петербургских адресов; впрочем, его нельзя считать совершенно несомненным. Данненберг, судя по письму, имел два адреса для писем и давал Второву один из них. Мы не знаем достоверно, был ли это реальный адрес или лишь наиболее надежный, — например, на случай смены квартиры.
К тому времени, как составлялись проекты альманаха и оперы и делались поденные переводы для Полевого, Некрасов уже предпринял все необходимые шаги для издания сборника своих стихов. Еще 26 июня, задолго до знакомства с Данненбергом, он отнес в петербургскую цензуру рукопись на 114 листах, под названием «Стихотворения Н. Некрасова». 25 июля рукопись была одобрена, и 8 августа автор получил ее обратно[148]. Таким образом, к осени 1839 года процензурованная тетрадь — будущая книжка «Мечты и звуки» — лежала у Некрасова по неимению средств на ее издание; Г. Ф. Бенецкий, рекомендовавший поэту издать сборник, распространил среди кадетов Павловского корпуса по предварительной подписке «до сотни билетов», как вспоминал сам Некрасов (впрочем, цифра эта, как мы увидим, оказалась преувеличенной). Шансов добыть деньги для печатания было, по-видимому, столь мало, что Данненберг, перечисляя совместные замыслы, ни словом не упоминает о сборнике вплоть до 12 декабря 1839 года, когда он пишет Второву обширное письмо, отчасти разъясняющее нам обстоятельства выхода в свет первого некрасовского сборника.
«У меня есть до тебя просьба, — пишет Данненберг, — будь, пожалуйста, понахальнее и распехай по рукам (ежели можно) своим и моим знакомым прилагаемые билеты; но с тем, чтоб деньги отдавали тут же на руку, и первой же почтой пришли по возможности вырученное. Я пустился на аферы, — вместе с товарищем издаем его стихи. Здесь в Питере пущено 50 билет.<ов>; но все-таки мало, чтоб на эти деньги можно было напечатать. Впрочем, не думай, чтоб стихи были дурные; прочти обращики в „Б.<иб-лиотеке> для ч.<тения>“ или „С.<ыне> отеч.<ества>“, с подписью Некрасов. Напечатаны будут на хорошей бумаге, в цветно<й> обертке, величиною листов в 7 в 8-ю долю. Между прочим, вот тебе кому можно подсунуть: троим Огневым[149], Стобеусу, Демонси и еще кому знаешь, т. е. кому возможно. Сказать, что я издаю, — можешь; но что я назначил имена под-пис<чи>ков — не смей». И далее: в приписке: «Стихи по напечатании с первой же почтой будут присланы. Не позже 1 х месяц.<ев>. Постарайся, чтоб к 12 генваря вырученные деньги были здесь. Если будет барыш, то долг мой пришлю тебе в скорости. Нет сомнений, что удача будет, потому что Некрасов со всеми главными журналистами в ладах»[150].
Хлопоты Второва, по-видимому, были успешны, и у нас есть основания думать, что поддержка казанских друзей Данненберга в немалой степени подвинула издание сборника. Печатание между тем задерживалось; может статься, что как раз в это время Некрасов начал испытывать сомнения в достоинстве стихов, о чем он вспоминал в своих автобиографических набросках; он собирался «изорвать» рукопись, но его убедили отправиться за советом к Жуковскому. Визит этот известен; его описал сам Некрасов (XII, 11–12, 22). Жуковский похвалил одно или два стихотворения[151], но советовал снять имя с титульного листа. Некрасов так и поступил, и сборник, получивший новое название «Мечты и звуки Н. Н.», появился в свет 6 февраля 1840 года[152]. Теперь началось распространение самой книги, при помощи Н. Ф. Фермора; сам Некрасов безуспешно пытался продать ее через коммиссионеров[153]. Все это время у издателей книги не было возможности вести переписку, и лишь 19 февраля 1840 года Данненберг отправляет Второву письмо с благодарностью и объяснением вынужденного молчания.
<К. А. Данненберг — Н. И. Второву>«Любезный дружище Ник.<олай> Иванович. Мне пишут, что ты уже начинаешь жаловаться на мое молчание; виноват! но ведь сам посуди, что мне совестно было бы писать, не отправляя книг, — проклятая типография замешкалась, — на прошлой неделе только вышли стихи из печати, и тебе вот они как снег на голову. Спасибо тебе за хлопоты; напрасно ты на свое имя взял экземпляр, мы бы тебе и так подарили, Некрасов тебя так уважает заочно, что хочет написать оду под заглавием: „Доброта и аккуратность Н. И. Второва“. Так вот тебе 16 экземпляров, один отдай Павлу Августовичу, а прочими распорядись как знаешь.
Скажу тебе весточку, что я скоро получу звание художника и место в Перми, скоро увижусь с тобой; но не говори этого никому; извини и то, что не остановлюсь у тебя, несмотря на давнишний уговор, — мне не хочется, чтобы многие знали об моем приезде или проезде. Ко мне не пиши. Папеньке мое почтение, знакомым поклон. Конец последнего письма твоего остался для меня какой-то неприятной и щекотливой загадкой. Об „Гете и Шиллере“ я узнаю, и можно будет без меня выписать через Ленивцева, на него можно положиться. Прощай — до свидания.
Твой К. Данненберг.19 февраля 1840 года»[154].
Написав это, Данненберг снова замолчал, почти на месяц. Только 15 марта он пишет следующее письмо — короткую записку, где извещает, что намерен отправиться в Пермь немедленно, как только закончит свой академический проект. Ему срочно нужны деньги; он просит Второва заложить или продать его перстень, хотя бы за 75 рублей вместо 90; он объясняет, что не пишет домой, так как не рассчитывает получить оттуда ответ ранее чем через месяц, а уехать хотел бы до весенней распутицы. Он сообщает свой адрес: Васильевский остров, 7 линия, между Большим и Средним проспектами, дом Герасимова, квартира Эйхгорна, — и просит писать по экстра-почте[155].
Уехать, однако, ему в этот раз не удалось. Проект его, очевидно, не был принят; Каролина Гильтер 30 марта упрекала его: «зачем прежний ваш проект не работали прямо в академии, то теперь были бы уже в Казани». Казанские друзья и особенно невеста ждали его приезда со дня на день; он сообщил им, что вынужден задержаться еще на две недели. Павел Гильтер грозил шуточными карами «канальям профессоришкам». «… Однако позволь тебе заметить, что ты чудак преогромный, — как написать 2 проекта и не вздумать, что могут придраться и испортить!» Тем не менее дела поправить было нельзя; в утешение Гильтер сообщал, что Второв отвечает той же почтой «и, кажется, посылает pecuniam»[156]. Две недели оказались тоже иллюзией; 28 марта Данненберг писал Второву с той же квартиры, что не надеется закончить дела ранее праздников, и вновь повторяет просьбу о деньгах: «… теперь у меня денежных источников нет, и потому порядочно нуждаюсь»[157]. Но прошли и праздники, а Данненберг по-прежнему вынужден был жить в Петербурге. Задержка его раздражала друзей; их беспокоило и то, что Данненберг писал мало и редко. Второв послал «pecuniam» с обиженным письмом, на которое обеспокоенный Данненберг поспешил откликнуться 22 апреля: «Любезный друг Николай Иванович! Признаюсь, я не ждал получить от тебя такое письмо, или, лучше сказать, обидную записку. Ты полагаешь, что переписка с тобой мне тягостна; из чего ты это мог заключить — не знаю. Я начинаю думать, что ты не получил сочинения Некрасова; то если это в самом деле так, — следовало бы упомянуть об этом в письме; и теперь прошу тебя уведомить меня об этих книгах; я перед тобой, да и перед всяким, подлецом быть не хочу». Опасения Данненберга были напрасны: Второв получил книги. Во всяком случае, «Мечты и звуки» были в составе его библиотеки, которую он пожертвовал в пользу города в 1844 году, уезжая из Казани[158]. «Ты очень ошибаешься, — продолжал Данненберг, — если думаешь, что я не дорожу дружбой того, с кем я был почти все детство вместе и провел лучшие лета жизни, и следов. <ательно> кого я мог узнать хорошо. Если я в самом деле что дурно сделал, то ты еще хуже: ты послал ко мне деньги с таким обидным письмом, не сказавши о причине; ты думал, что деньги для меня дороже твоей дружбы, и ошибся, — здесь можно только нуждаться, а умереть с голоду нельзя, и ты лучше бы сделал, если бы не присылал ничего, а твое сострадание ядовито до nec plus ultra. У меня друзей так мало, что и троих не перечесть, и мне будет слишком ощутительна потеря тебя»[159]. «Впрочем, кажется, этому случиться трудно», — оговаривается он, и на этом прекращает выяснение отношений, переходя на свой обычный спокойно-дружеский тон.
По-видимому, в это время он живет еще вместе с Некрасовым и тяготы, переносимые им, — это тяготы обоих. Визит к ним В. А. Панаева датируется обычно концом апреля — началом мая 1840 года[160]. Адрес, названный Панаевым, впрочем, разнится от того, который сообщал Данненберг в Казань: он вспоминал, что друзья жили «в четвертой линии, на втором этаже, окнами на улицу». Расхождения эти мы не можем сейчас объяснить достаточно убедительно; может быть, здесь ошибка памяти мемуариста, может быть — очередная смена квартиры. В мартовском номере «Пантеона русского и всех европейских театров» Некрасов печатает посвященные Данненбергу стихи; тема их — тоска по родине, по берегам Волги, с которыми «жизнь сердца связана», — равно близка и автору, и адресату. В мае, по-видимому, их совместная жизнь окончилась, вскоре после того, как в Петербург приехал казанский приятель Данненберга Владимир Александрович Деммерт. Он учился в университете в 1838–1839 годах и 5 сентября 1839 года уволился «по прошению»[161], чтобы повторить путь Данненберга. Еще в ноябре 1839 года последний пытался через Второва отговорить Деммерта от поездки в Петербург. «Скажи Гильтеру, чтоб он передал Деммерту, что он дурно сделал, что вышел из универ.<ситета> и хочет ехать сюда в живописцы. Это бесконечная работа; много их здесь, и надо быть выше Брюлло, чтоб иметь известность; надо проучиться лет 6 на своем содержании (1000 руб. в год) — немного невыгодно. Я лучше Деммерта рисую, и то не соглашусь быть здесь академистом живописи; здесь нынче поступают только для усовершенствования; все низшие классы уничтожены, и его, кажется, не примут; впрочем, как он хочет, а это мое мнение»[162]. Эти увещания не возымели действия; да Деммерта, видимо, и не так легко было уговорить. В Казани он пользовался репутацией отъявленной богемы. «Я етого Демерта не очень люблю, — писала Данненбергу К. Гильтер, — он очень огорчил свою мать, что пошел в актеры, да когда он и здесь еще был, то был уже пьяница и все что вам угодно»[163]. Данненберг защищал товарища, и Гильтер с удовлетворением приняла известие, что беспутный человек «переменил род своей жизни» и «раскаивается»; она даже готова была благословить его на новое поприще[164].
С этим Деммертом и поселился теперь Данненберг. «Так как ты живешь вместе с Демертом, — писал ему П. Гильтер, — то скажи ему, что я на него сердит за то, что об себе ни строчки не напишет, — я бы желал знать — что и как он»[165]. Письмо написано 30 мая, нужно думать, что прежние друзья съехались не позднее середины месяца.
Что делал Данненберг далее — об этом мы можем судить только по письмам к нему семейства Гильтеров. К 27 мая они получают от него письмо с ошеломляющим известием, что его приезд откладывается еще на три с половиной месяца. Он не приехал ни тогда, ни позже: в октябре К. Гильтер советовала ему не ссориться с профессорами и терпеливо выносить наложенную «епитимию»[166]. В ноябре выяснилось, что Данненбергу предстоит еще искать места; проект его, по-видимому, все еще не был принят[167]. Письма в Казань приходят от него все реже. 13 февраля 1841 года П. Гильтер пишет ему: «Недели две назад читал я у Вани Огнева копию с твоего письма, котор<ое> ты писал Туманову в Саратов (стихами) и между прочим прочел в нем, что в январе отправляешься в Пермь архитектором, но вот и январь проехал, да и февраль доезжает, скоро и ему карачун, а тебя все нет да нет. — Эх-ма! дурно! вот что значит одному-то жить…»[168]
Это были уже последние письма. След Данненберга потерялся в середине 1841 года — чтобы вновь открыться — неожиданно и драматически — на могильной плите казанского православного кладбища. В «казанском некрополе» Н. Агафонова мы находим его имя; он скончался двадцати пяти лет от роду 24 января 1842 года[169]. Видимо, он добрался до Казани, куда так стремился, но как сложились последние полгода его жизни, успел ли он соединиться со своей невестой, от чего и при каких обстоятельствах умер — нам неизвестно.
В конце 1847 года Некрасов в обществе В. А. Панаева и нескольких других знакомых вспоминал свое еще не столь далекое прошлое, и Панаев напомнил ему о прежнем товарище; они вспомнили и о совместном житье Некрасова и Данненберга в квартире с оригинальными солнечными часами, и о щах, составлявших их дневную пищу, «и после того много, много Некрасов рассказал еще доброго о Данненберге»[170]. Ни рассказчик, ни слушатели не подозревали, конечно, что история уже дописала печальный конец этих мемуаров; они вызывали из незаслуженного небытия живой облик молодого, полного сил, веселого и одаренного человека.
В то время, когда происходил этот разговор, Некрасов и Панаева уже, по-видимому, начали писать или, во всяком случае, обдумывать новый роман «в 8 частей и 60 печатных листов», об окончании которого Некрасов сообщал Тургеневу в письме от 12 сентября 1848 года. Это был роман «Три страны света», о котором нам уже приходилось мельком упоминать: одна из его глав была названа поговоркой, употребленной в письме Данненберга.
Совпадение это могло быть случайным: ходовое речение не есть реминисценция; более того, самое авторство глав в «Трех странах света» устанавливается лишь предположительно. И вместе с тем впечатления от общения с Данненбергом, как кажется, отразились в нескольких эпизодах обширного романа. История Каютина, покидающего «на несколько лет» невесту, чтобы устроить свою и ее жизнь, находит параллель в биографии друга некрасовской молодости. «У меня нет ни гроша. Буду работать день и ночь, заработаю рублей триста — и марш» (VII, 34), — говорит Каютин Полиньке, как будто прямо повторяя фразу из другого письма Данненберга, цитированного нами выше. «…Вы лучше подумайте, в чем вы сегодня со двора выйдете», — возражает ему Полинька, — и здесь уже прямо слышатся отголоски автобиографических рассказов Некрасова о совместной жизни с Данненбергом. Мотив кольца, подаренного уехавшим женихом, и письма, подоспевшего в день рождения Полиньки (часть II, гл. II, «Рожденье Полиньки»), — не есть ли это также отзвук подлинной истории отношений Данненберга к Любови Гильтер, о которых мы узнаем из его переписки? Как и Данненберг и Панаевы, Каютин связан с Казанской губернией, где было поместье его отца и осталось имение дяди; сюда-то, в Казань, отправляется он в поисках средств для снаряжения экспедиции (часть II, гл. VIII, «Выстрел»). Наконец, подобно Данненбергу, он пишет стихи; они слегка иронически процитированы в главе «Свадьба» (часть III, гл. I), — и в той же главе мы находим его за фортепьяно: он владеет инструментом как подлинный музыкант, не только играя популярные мелодии, но и «фантазируя», импровизируя. Сходство этим, впрочем, ограничивается. Данненберг не был, конечно, прототипом Каютина; мы можем говорить лишь о близости отдельных черт личности, поведения, духовного облика. Наряду с Каютиным мы находим в «Трех странах света» и персонаж иного рода, который будет и позднее занимать воображение Некрасова: тип бедствующего художника, по-видимому приезжего в Петербурге, которому нужно зарабатывать деньги, чтобы учиться. Этот художник — Митя — живет на Васильевском острове «в шестнадцатой линии» — в непосредственной близости от временных квартир Некрасова и Данненберга; он ждет, пока ему удастся его шедевр, и связывает с ним свои надежды на будущее, как Данненберг со своим академическим проектом; тем временем он перебивается случайными заработками и умирает совсем молодым от чахотки (часть VI, гл. VIII, «Полинькины родные»). О смерти Данненберга Некрасов мог и не узнать; о какой-то болезни, быть может, чахотке, разрушающей его организм, знал отлично: в письмах казанских друзей Данненберга мы находим встревоженные вопросы о здоровье; до них дошли слухи, что молодой художник чувствует себя плохо. История Мити также могла опираться на реальные, еще не потускневшие впечатления.
Так это или нет — мы не можем сказать с полной уверенностью. Во всяком случае, такая гипотеза кажется нам не лишенной вероятия. Автобиографичность прозы Некрасова — установленный факт, и среди множества неизвестных нам по имени, но существовавших в действительности людей, давших писателю материал для художественного воплощения, естественно искать того, кто оставил в его жизни глубокий и светлый след.
Болгарские темы и мотивы в русской литературе 1820–1840-х годов
(Этюды и разыскания)[171]
В длительной и многообразной истории культурных связей России и Болгарии первая половина XIX в. представляет собою период, особенно сложный для изучения. Материалы, документирующие их в это время, разрознены, частью утрачены; контакты деятелей русской культуры с поселенцами болгарских колоний на юге России нередко вообще не отражались в письменных источниках и навсегда ускользнули от внимания исследователей. Но даже то, что осталось, еще ждет своего фронтального изучения; если болгарская филология располагает рядом первоклассных работ, специально посвященных выдающимся деятелям болгарского Возрождения, то деятельность Венелина, Вельтмана, Липранди, Теплякова лишь изредка привлекает к себе то внимание, которого она заслуживает. Нельзя сказать, чтобы это были забытые имена; мы можем насчитать известное число весьма ценных работ, исследующих их славянские, в частности болгарские, связи; однако здесь лежит еще обширное поле изучения, изобилующее «белыми пятнами». Настоящие заметки отнюдь не претендуют на то, чтобы восполнить все эти пробелы; цель их скорее в том, чтобы обозначить некоторые проблемы, попавшие в поле зрения автора, и предпринять разыскания, более или менее частные, о болгарских мотивах и сюжетах в творчестве того же Вельтмана или Теплякова. В силу этих обстоятельств самое исследование не носит монографического характера; это именно заметки, этюды, разыскания в области русской литературы и ее славянских связей, — заметки, которые, быть может, окажутся небесполезными для дальнейшего обобщающего исследования.
Липранди и Вельтман
В истории русско-болгарских культурных связей 1820-е годы составляют особую и весьма важную страницу. Это период постепенного развертывания «восточного кризиса», период борьбы за освобождение греков и славянских народностей Оттоманской империи, — борьбы, которая имела столь существенное значение для внешней и внутренней истории России и Болгарии. Именно в это время «балканская проблема» возникает как первоочередная и для русского правительства, и для деятелей тайных обществ: в правительственных сферах обсуждается вопрос о войне с Турцией; Пестель и «соединенные славяне» вынашивают планы создания славянских федераций[172]. Юг России — Бессарабия, Одесса, охвачен броженьем; издавна существовавшие здесь болгарские колонии отнюдь не остаются безучастными к греческим событиям; славянские иммигранты непрерывно пересекают русскую границу; в рядах гетеристов действуют болгарские отряды. Эти события прочно входят в литературное сознание времени.
Среди политиков и литераторов, охваченных живым и жгучим интересом к развертывающимся событиям, есть, однако, некоторое число людей, силою обстоятельств поставленных в несколько особое положение. Это кишиневский и одесский круг, в котором в 1821–1824 гг. находится и Пушкин: В. Ф. Раевский, В. И. Туманский, И. П. Липранди, А. Ф. Вельтман. Их контакты с участниками движения носят более непосредственный характер, нежели у столичных литераторов; сфера их наблюдений и диапазон устных сведений богаче и разнообразнее. Они знают болгарских гетеристов. Им известны полулегендарные исторические личности; со слов очевидцев Пушкин пишет повесть «Кирджали»; Липранди также рассказывает про «Георгия Кирджали, родом нагорного болгара», и упрекает Пушкина за неточности[173]. В общении с Липранди возникает пушкинская запись песни «на предательскую смерть известного и прежде, а во время гетерии храбрейшего Бим-баши Саввы, родом болгарина, подготовившего движение болгар, коим Ипсиланти не умел воспользоваться»[174]. В своем архиве Пушкин сохранил текст одной из валашских песен о смерти Саввы — событии, отразившемся и в болгарском фольклоре[175].
Все эти контакты, известные нам неполно и во многом случайно и бывшие фактом повседневного быта, закреплялись литературным творчеством, в том числе творчеством Пушкина. Правда, в литературном репертуаре эпохи еще отсутствует и «болгарская» тема как таковая, и литературный образ страны или национального характера, а культурные связи носят односторонний характер. История их в точном смысле слова еще не началась; но о предыстории уже может идти речь.
В этой предыстории деятельность Липранди играла свою, и немаловажную, роль. Мы видели уже, что его информированность была очень полезна для Пушкина; позднее она послужит А. Ф. Вельтману, В. Г. Теплякову, Ю. И. Венелину. Она не была случайной; Липрапди был своеобразным аккумулятором сведений о Болгарии, как, впрочем, и о других славянских землях Оттоманской империи. Уже в эти годы он связан с военной контрразведкой; в его функции входит «собрание сведений о действиях турков в придунайских княжествах и Болгарии»[176], и он выполняет задание добросовестно и точно, пользуясь случаем расширить свои знания о быте, этнографии и культуре страны. В начале 1820-х годов он, по его собственным словам, «занимался… сводом повествований разных историков древних и им последовавших вообще о пространстве, занимающем Европейскую Турцию», и имел довольно обширное собрание книг, говоривших о крае «с самой глубокой древности»[177]. Когда накануне русско-турецкой войны он стал во главе «высшей тайной заграничной полиции» и получил в свое распоряжение широкую сеть агентов, он воспользовался случаем обогатить себя информацией, получаемой помимо книг. В 1828–1829 гг. он командует отрядом волонтеров и, передвигаясь по стране, накапливает редкостный запас собственных впечатлений о быте, этнографии, географических особенностях разных областей Болгарии, о фольклоре края, об участниках политических движений, с которыми ему довелось общаться лично или слышать о них от их ближайших сподвижников. Его служебные записки, составленные в конце 1820-х годов, наполнены экскурсами по болгарской истории и археологии; они напоминают отчеты ученого разыскателя[178]. Этих впечатлений ему хватило надолго, — в 1877 г. он вспоминал о них в очерке «Болгария», написанном по материалам его старых «записок» и в иных случаях имеющем значение исторического первоисточника[179]. «Болгария» начинается кратким, но насыщенным очерком истории «некогда славного, но ныне забытого народа болгарского», государства, пределы которого, «простираясь от Черного моря до Мраморного, Егейского и Адриатического, заключали в себе множество городов многолюдных и процветавших в свое время»[180]. В 1877 г. говорить о «забытом» народе уже не приходилось, — но история Болгарии составлялась Липранди почти за пятьдесят лет до этой публикации. С 1820-х годов он собирал материалы для своеобразной энциклопедии Оттоманской империи, обширного справочника, где словарные статьи располагались в алфавитном порядке. Об этом своем труде Липранди в 1835 г. писал Вельтману из Тульчина, прося его помощи в литературной обработке: «Что касается до содержания всего сочинения, пришлю вам только для любопытства одну букву, которую велю переписать (здесь и это весьма трудно)… Статьи сии… просто повествовательные, — кое-где рассуждение; и есть многие из них довольно занимательные. Не скажите, что „овсяная каша сама себя хвалит“, но я в оных только компилятор и, опровергая ложь, показываю истину». Свое сочинение Липранди предполагал напечатать, — в России или за ее пределами, что, по его словам, ему предлагали еще в 1830 г., когда «оно не было приведено в порядок и не дополнено, как находится ныне»[181].
С этой работой Липранди, вчерне оконченной в 1830 г., был связан обширный цикл разысканий, касавшихся славянских земель, которые входили в состав Оттоманской империи, — и здесь особое место принадлежало Болгарии. Среди материалов его архива сохранились тетради, заключающие систематическое изложение древней и средневековой истории Болгарии. По-видимому, эта рукопись, перебеленная самим автором, но с обширными более поздними вставками, относится к началу 1830-х годов. В тексте есть ссылки на личные впечатления автора, относящиеся к 1828 г., и упоминания книги Раича, появившейся у Липранди в 1831 г. Это, конечно, не первая редакция; что же касается материалов для нее, то они собирались, как мы знаем, еще в период бессарабского общения с Пушкиным и Вельтманом. Таким образом, уже в конце 1820-х годов Липранди располагал, по-видимому, весьма значительным багажом исторических сведений и предпринимал для их проверки посильные разыскания, делясь результатами с пионерами русской славистики.
История Болгарии, написанная Липранди, конечно, не могла не быть компилятивным трудом, и методы критики источников, которыми он пользовался, несли на себе печать дилетантизма, свойственную вообще ранним, доромантическим этапам русской и западной историографии. В объективном изложении событий Липранди стремился следовать Карамзину и даже упрекал его за некоторую идеализацию Святослава (которой, впрочем, и сам отдал дань); в еще большей мере он адресовал этот упрек летописи Нестора, подвергая ее рационалистической критике за преуменьшение численности русских войск, создававшее ореол сказочного героизма вокруг русской дружины, и т. д. и т. п. Совершенно естественно, однако, что источниковедческие проблемы не возникали для него в сколько-нибудь целостном виде; он писал «прагматическую» историю, опираясь на самые разнородные материалы и лишь иногда позволяя себе корректировать частности. Круг этих материалов притом был довольно обширен. Уже цитированное нами письмо его к Вельтману от 20 октября 1835 г. содержит весьма колоритный рассказ-воспоминание о предпринятых им поисках книг по славяноведению; рассказ этот доносит до нас пафос его ра-зыскательской деятельности.
«Прежде чем, по желанию вашему, известить вас о себе, — пишет Липранди, — я поговорю с вами о предмете ваших занятий. Во-первых, я рылся, и давно роюсь, в библиотеке Потоцкого, но не встретил в ней ничего вами желаемого; рукописей никаких нет; Иоана Потоцкого, кроме „Fragm<ents> sur la Scythie“, других нет (у меня же есть его „Hist<oire> du gouvernement de Podolie“, „Hist<oire> du gouvernement de Chèrson“ — и „Chronologie de Manethon“. Если ето вам нужно, черкните, и они явятся к вам); вся моя библиотека, или, лучше сказать, знатная часть оной, имеет то, что мне теперь нужно, в Кишиневе. Посылаю вам „Историю славянских народов“ Раича, 4 книги на славяно-сербском языке, я достал их с большим усилием в 1831-м году в Букаресте — заплатил 7 червонцев; когда они вам нужны, располагайте; у меня есть еще несколько альманахов сербских, изданных в Буде, и „Песнопевка“ Качича, также на сербском языке, которые я с трудом же добыл; если у вас в Москве нет оных, то напишите, и я принесу вам дар оных, ибо у вас они будут полезнее, как у меня; в первых есть любопытные статейки; а в „Песнопевке“ многие песни или большая часть оных воспевают геройские подвиги древних славянских царей тех стран и богатырей их. У меня есть еще „Сербиянка“, поема на нынешнем сербском языке, — четыре книги, сочинения Степана Милутиновича, в 1826 году, — но не думаю, чтоб она была вам полезна, ибо описывается только борьба сербов с оттоманами, от самого восстания сих первых в 1805 году до 1818 года. Книга ета запрещена у нас: и ето, если вам нужно, то пришлю, с тем, однако же, чтоб возвратить мне. Из двух писем ваших, кажется, что я догадываюсь о предмете ваших занятий; конечно, вы имеете Сестренцевича о славянах, склавах и сарматах 4 книги; они у меня есть, но, вероятно, и у вас в Москве много: издание петербургское. Может быть, вы не знаете о сочинении на немецком языке, которое вам необходимо; ето „Geschichte des ungrischen Reiches und seiner Nebenländer“ — Энгеля, в Гале, 1805 года, в пяти частях, in 4°. Но не пугайтесь названием Венгрии: тут вы найдете историю довольно подробную: обеих Далмаций, Кроации, Сербии, Булгарии, Герцеговины, Боснии, Молдавии, Валахии и Баната, — но опять не пугайтесь, не одна история, — а что вам, кажется, будет полезно, — ето описание литературы каждой из сих областей слишком даже подробно: успехи, причины и пр., и пр. Словом, немец не жалел время и имел большой гедульт, — а еще полезнее, что все ето писано не на честное слово — а с основанием на источниках. При каждой области приложен список всем повествованиям об оной, даже нашим русским, о которых я никогда и не слыхивал; указываются рукописи латинские и славянские, которых, как вы знаете, большое множество в Вене, Буде и прочих местах Австрии, особенно же и Венеции, Рагузе и пр. Если вы не найдете книг сих в какой-либо частной библиотеке в Москве, то я готов вам оные прислать месяцев на шесть и даже на год, ибо уступить их не могу: я сам насилу достал из Вены, где всего был один экземпляр»[182].
Это письмо Липранди интересно во многих отношениях, и прежде всего потому, что оно характеризует его работу как историка. В своей истории Болгарии он воспользовался теми трудами, которые назвал Вельтману, — четырехтомным исследованием Сестренцевича-Богуша «Recherches histo— riques sur l’origine des Sarmates, des Esclavones et des Slaves etc.» (St-Pé-tersbourg, 1812), работами Раича и Энгеля. Конечно, он ими не ограничился; ему известны византийские хроники Льва Диакона, Кедрина-Скилицы, — по-видимому, не в подлинниках, а в латинских переводах, приведенных в фундаментальном труде Дюфрена, ссылки на которого мы неоднократно встречаем в рукописи его истории. Все эти источники, однако, стоят для него в одном ряду; он пользуется безразлично подлинным свидетельством и изложением Раича или Мавро Орбини. При всем своем энтузиазме и обилии знаний он остается скорее дилетантом-собирателем, нежели исследователем; как ученый он отстает от требований времени. Историческая методология, выработанная романтической историографией, проходит мимо него; в 1835 г. он рекомендует Вельтману труды, к этому времени устаревшие, и не знает даже, что подробно описанная им книга Энгеля уже давно и хорошо известна: в 1829 г. Венелин подробно разбирает ее концепцию в своих «Древних и нынешних болгарах…». Когда в 1852 г. С. Н. Палаузов заново обратится к изучению «века Симеона», он отвергнет все его источники, за исключением только книги Стриттера. Вельтман, правда, не сделает этого, — он даже, как увидим далее, повторит прямую методологическую ошибку своего корреспондента, сославшись на песенный сборник М. Качича-Миошича как на историческое свидетельство.
Вместе с тем работа Липранди имела уже то достоинство, что она была первой систематической историей Болгарии, написанной на русском языке. Липранди начал свои изучения раньше Венелина и раньше и дольше, нежели Венелин, общался с живыми носителями культуры и языка. Даже Шафарик в 1826–1830 гг. мог лишь мечтать о поездке по болгарским землям; Тепляков, занятый римско-греческой древностью, не имел собственно славяноведческих интересов; кратковременное путешествие Венелина в 1830 г. было едва достаточно для беглого и внешнего ознакомления со страной. Липранди был в лучшем положении, и во многом благодаря собственной инициативе. События болгарской истории новейшего времени происходили у него на глазах; он впитывал эти сведения и стремился их зафиксировать. Не отсюда ли шел его углубленный интерес к историческим трудам Яна Потоцкого, также ездившего на места, чтобы увидеть славянские древности собственными глазами; не потому ли он рекомендует Вельтману поэму «Сербиянка» Симы Милутиновича, что автор ее сам общался с описанными им историческими лицами?[183] Об этом Липранди, несомненно, знал; Милутинович жил в Бессарабии; его «Сербиянка» была издана в Лейпциге знакомым Липранди И. С. Ризничем, мужем известной в биографии Пушкина Амалии Ризнич; возможно, что книга была известна и Пушкину[184]. В свою историю, как и в свои официальные записки, Липранди включал собственные свидетельства о состоянии археологических памятников, о быте и топографии Болгарии. Наконец, письменные источники, собранные им, добывались во время путешествий и были чрезвычайно редки; достаточно сослаться на его живой интерес к полузабытому к 1830-м годам Я. Потоцкому, замечательному по своим историческим и литературным трудам и еще ожидавшему своего воскрешения; его рукописи в начале 1830-х годов пытается разыскать и Пушкин[185].
Материалы, сообщенные Вельтману Липранди, касались славянских земель в целом и лишь в части своей затрагивали болгарскую историю. Будущий автор «Райны» еще не сосредоточил своих интересов на «болгарской» теме; это произойдет несколько позднее. Сейчас его интересует скорее сербский материал; сборником Вука Караджича он пользовался в «Кощее Бессмертном» (1833). Однако уже к началу 1840-х годов болгарская «старина» начинает приковывать его внимание. Он пишет об этом Липранди; по ответам Липранди мы можем представить себе характер вопросов Вельтмана. Он хочет получить детальное описание болгарских народных обрядов, уже известных ему в общих чертах, — может быть, по другим их славянским аналогиям. Ему важны национальные варианты, и это симптоматично; мы постараемся показать далее, что в собственной повести на болгарскую тему Вельтману не удалось решить как раз проблему национального колорита. Здесь нам следует отметить, что самая проблема, по-видимому, все же находится в поле его зрения. Интересы Вельтмана лежат прежде всего в области народной мифологии и обрядовой поэзии. Этот интерес не есть индивидуальная особенность: он является общим для всей романтической фольклористики с ее постоянной тягой к выделению древнейших исторических звеньев народной жизни. В письме В. Априлову от 17 сентября 1837 г. Венелин формулировал именно эту программу собирания памятников народного быта: разные верования и суеверия — в вампиров, колдунов, таинственную силу растений и камней, талисманов и пр.; семейные и календарные обряды[186].
28 марта 1841 г. Липранди пишет Вельтману из Петербурга: «В прошлом году, 10 декабря, писал я к вам и послал коледу и пр., но не знаю, получили ли вы, потому что не имею от вас ни слова»[187]. Речь, по-видимому, шла о нескольких листах с записями народных песен, сохранившихся и ныне в архиве Вельтмана[188]. Это был уже подлинный болгарский фольклор, и запись была сделана болгарином. Параллельно с Венелиным Вельтман начинал профессионально-фольклористическую работу по составлению сборника болгарских народных песен. Венелин получал тексты песен от В. Априлова; последний — от Неофита Рылского и А. С. Кипиловского, начавших фольклористическую деятельность. Вельтман трудился вместе с Н. Катрановым (1829–1853), рано умершим студентом Московского университета, известным в русской литературе как прототип тургеневского Инсарова[189]. Собранные Вельтманом и Катрановым песни попали в сборник П. Безсонова (1855), наиболее полный для своего времени свод болгарского песенного фольклора. К моменту знакомства с Катрановым, приехавшим в Москву в 1848 г., Вельтман уже располагал какими-то материалами, в том числе и присланными Липранди. Дата «1840 г.», указанная в письме последнего, дает возможность установить хронологию работы Вельтмана-фольклориста. Повесть о Райне, королевне болгарской, появляется в 1843 г.; ей предшествуют занятия Вельтмана болгарским народным творчеством.
По-видимому, около этого времени Липранди присылает Вельтману и сделанные им записи болгарских обрядов и поверий. Они, конечно, предшествуют коляде: в них Липранди передает общее содержание песни и цитирует ее очень осторожно, с оговорками, — во всем этом не было бы необходимости, если бы Вельтман уже имел ее текст.
Записи Липранди посвящены нескольким сюжетам. Одна из них — описание календарного праздника Георгиев день; вторая — упомянутое уже изложение колядки; третья посвящена народным представлениям о вампирах, «полтениках». Они дают нам право включить Липранди в немногочисленный список ранних русских славяноведов-фольклористов, понимая, конечно, всю условность этого обозначения в применении к полудилетанту. Нам приходилось уже упоминать о постоянном стремлении Липранди соотнести исторические и литературные данные с собственными наблюдениями на местах. Если в исторических штудиях эти наблюдения, сделанные без специальной археологической подготовки, могли быть только более или менее вероятными гипотезами, то при изучении этнографии и народного быта они становились свидетельствами очевидца. Записи Липранди принадлежат к числу самых ранних памятников болгарской фольклористики, — если учесть, что в их основе лежат впечатления конца 1820-х годов, по-видимому тогда же и зафиксированные в том или ином виде. В отличие от многих других фольклористов своего времени он стремится документировать свои сообщения и даже локализовать обряды географически. В одном случае он упоминает об источнике первостепенного интереса, по-видимому утраченном безвозвратно, — о рукописи, оставленной ему профессиональным истребителем вампиров и, видимо, содержавшей наставление по отправлению всей церемонии.
Самые факты, сообщенные Липранди, в настоящее время известны в фольклористике[190]. Колядка, пересказанная им, по свидетельству современных исследователей, одна из наиболее распространенных, существующих во множестве вариантов: «Замъчи се божа майка От Игната до Коледа»; речь в ней идет о том, что богородица почувствовала родовые муки на Игнатов день, 20 декабря, и родила «млада бога» в день Коляды, 24 декабря. Далее, как и пишет Липранди, упоминаются христианские святые, «персидские цари» (волхвы) и т. д. Липранди совершенно точно почувствовал здесь «древнее предание»; но ему, рационалисту даже в вопросах религии, конечно, не ясен генезис песни: поздние христианские наслоения на языческом субстрате[191]. Второй описанный им обряд — на Георгиев день (23 апреля) — также принадлежит к числу распространенных и устойчивых. Липранди, как можно думать, не видел всех ритуальных празднеств и церемоний, продолжающихся несколько дней, и дал только описание заключительного жертвоприношения. Оно почти совпадает со свидетельством Н. Герова: в самый день 23 апреля каждый хозяин дома закалывает в жертву св. Георгию ягненка мужского пола; кровь жертвенного животного собирают в сосуд и рисуют ею кресты на воротах дома и на лбу и щеках детей; кости же не выбрасывают, а зарывают в муравейник, «чтобы овцы плодились, как муравьи»[192]. Позднейшие описания показывают, что Липранди не ошибся и в тех деталях, которых мы не находим у Герова: свечи на рогах жертвенного ягненка ставят и до сего времени и тщательно следят, чтобы во время жертвоприношения ни одна капля крови не упала на землю: человек, случайно наступивший на кровь, можеть ослепнуть или заболеть неизлечимой болезнью. Поэтому сосуд с жертвенной кровью зарывают в землю. Последнее объяснение, впрочем, не единственное и, возможно, вторичное: зарывание сосуда преследовало цель получения урожая или приплода скота, как об этом писал и Геров; жертвенная кровь использовалась как лекарство.
Третий рассказ Липранди — об уничтожении «полтеников», — вероятно, наиболее интересен. То, что тема «вампиризма» привлекла внимание Вельтмана, вовсе не удивительно для середины 1830-х годов. С конца предшествующего десятилетия она незаметно, н о прочно входит в русскую литературу. История этого проникновения заслуживает особого исследования и не может занимать нас здесь; важно отметить, однако, что «рассказы о вампирах» постоянно опирались на славянские фольклорные источники — подлинные или фиктивные. «Гузла» П. Мериме (1827) была прямо под них стилизована; и «Константин Якубович», и «Вампир», и «Кара-Али-вампир» подавались как народные иллирийские баллады[193]. П. Киреевский, переводя «Вампира» Полидори в 1828 г., счел нужным приложить к книге подробный фольклористический комментарий, где ссылался на венгерские, польские, австрийские поверья[194], в 1833 г. О. Сомов печатает свою повесть «Киевские ведьмы», основанную на мотивах украинского фольклора, — с темой ведьмы-упыря, высасывающей кровь возлюбленного[195]. Это романтическое поветрие держалось еще в 1840-е годы; вспомним широко известных «Упыря» и «Семью вурдалаков» А. К. Толстого. Вельтман не остался в стороне от общего увлечения: в его романе «Светославич, вражий питомец» (1835) в одном из эпизодов является Хульда, колдунья, которая «по ночам ходила кровь пить людскую»; «люди взяли да и положили ее ничком и вбили кол в спину»[196]. В этом пассаже ощущаются следы знакомства с народной обрядностью; обычай переворачивать «заложного» покойника, в том числе упыря, вампира, со спины на живот был широко известен; еще в конце XIX в. он существовал в ряде областей России[197]. По-видимому, Липранди не без основания предполагал, что его корреспондент знает и сербские обряды, касающиеся вампиров.
То, что сообщал Липранди Вельтману, было результатом собственных впечатлений, собранных рассказов и, возможно, чтения рукописи, о которой он упоминал. Есть основания думать, что его описание совершенно не испытало влияния романтической литературной традиции и даже сложилось до того, как эта традиция стала фактом русской литературы. Прежде всего, в нем нет типа вампира, высасывающего человеческую кровь; «пол-теники» встают из гробов, чтобы беспокоить живых: пугать их, наносить ущерб хозяйству и в редких случаях приносить смерть. Именно этот круг представлений мы находим и в словаре Н. Герова: вампиры (как и «полте-ники») сосут кровь животных (последние — только детенышей), душат маленьких детей и больных. «Полтеники» покидают могилы и днем, и ночью; вампиры — только ночью, за исключением суббот, когда они остаются в гробах. Их можно убить колом из черного глога (боярышник — Сrataegus monogyna), причем эту операцию совершает особое лицо — глог, «глогынковець»; для этого он раскапывает могилу и забивает кол в живот «полте-ника», так, чтобы он прошел насквозь и засел в земле; при этом тело поливается горячим вином или маслом, после чего «полтеник» уже не может выйти на свет[198]. Рассказ Липранди содержит лишь незначительные отклонения от описаний Н. Герова: могила не раскапывалась; «вино» и «масло» заменялись водой, «смешанной с каким-то прахом»; кол забивался не в живот, а в голову, и т. д.
Таковы в общ и х чертах фольклористические работы Липранди, посланные Вельтману. Как памятник ранней русско-болгарской фольклористики они несомненно имеют право на наше внимание. Но к сказанному мы должны добавить еще одно соображение, как нам кажется, подчеркивающее примечательную особенность его записей.
Липранди был, помимо всех своих прочих дел и обязанностей, политическим наблюдателем — и оставался им даже тогда, когда был занят историческими и фольклористическими изысканиями. С другой стороны, он некогда стоял в непосредственной близости к тайным обществам юга, — и его наблюдения далеко не всегда носили официозный характер. Закваска просветительства в его мировоззрении была достаточно сильна, — и в его этнографических «отчетах» она выразилась в постоянном стремлении уловить социальное функционирование обряда. В этом было отличие Липранди от абсолютного большинства современных ему фольклористов романтической ориентации. Он увидел и зафиксировал то, что фиксировалось исключительно редко: отношение к обряду властей и официальной церкви. Его просветительский антиклерикализм позволил ему заметить, что служители церкви поддерживают и даже освящают «суеверие», потому что извлекают из него выгоду, — и он точно описал размер этой выгоды. Рассказ об освящении жертвенного животного окрашен у него почти саркастическими нотками; в тех же тонах рисуется общественное положение «шамана» — глога, который за восьмидневное свое пребывание в деревне «переест множество живности» и выпьет «до 50 ок» вина, — подсчет, необыкновенно выразительно характеризующий и аппетиты глога, и пунктуальность наблюдателя. Эта социальная окрашенность, делающая записи Липранди поистине драгоценными для современного историка и социолога, не была, однако, свойственна Вельтману, с его стремлением к идеализации старины. Его интересовал самый обряд, быт, история, которые в скором времени получат у него романтическую и славянофильскую интерпретацию. Липранди предоставлял ему материал, — как историк и собиратель; художественные же идеи и ассоциации, которыми облекались болгарские реалии, исходили из других источников. Этот ассоциативный круг, с трудом улавливаемый и определяемый, однако, существовал реально, — и не только для Вельтмана, но и для целого ряда современных ему историков и художников, которые одновременно с ним начинают открывать для русской литературы совершенно новую область.
Болгарские обряды и предания в записи И. П. Липранди
1-е. В Булгарии имеют обычай в день св. Георгия, св. Параскевы и св. архангела приносить в жертву сим святым агнца. Для сего они зажигают две восковые церковные свечи и прилепливают оные ко рогам агнца; поп кадилом с ладаном обкуривает его кругом, как бы какого-либо святого или образ; потом снимают свечи и режут его так, чтоб ни капли крови не пало на землю, и для сего обыкновенно приготовляется особенный сосуд. Кровию сей намазывают детей своих, чертя кресты на лбу, щеках и бороде. Когда же зажарят барашка сего, то собираются все домашние и холостая родня, призывают опять попа, который над сим зажаренным барашком читает тропарь и другие молитвы и наконец благословляет оного. Кожа и жареная передняя лопатка принадлежит священнику, которую он тотчас и берет к себе, что в большой деревне, где в каждом почти доме празднуется сей святой, составляет немаловажный доход для него. Иногда священник по каким-либо причинам прибыть в дом не может или не успеет быть в каждом, то в таком случае посылает одного из своих сыновей, который, прочитав «Отче наш», берет шкурку и лопатку и возвращается домой.
Когда съедят всего барашка сего, тогда с большим тщанием собирают все кости, самые даже мелкие, и закапывают в землю. Несомненно, что обычай сей, основанный на невежестве, поддерживаясь священниками, имеющими от сего прибыль, долго еще будет существовать.
В Сербии, Боснии, Герцеговине и в других местах Оттоманской империи, равно и между турками, в день св. Георгия и в пасху жарится барашек, но без подобной церемонии, исключая, что в день пасхи христиане иногда вносят оного в церковь.
2-е. Булгары истребляют ватмиров[199] также глоговым деревом, они называют их полтениками, иногда краконополами и варколаками; верят, что мертвые тела сии посредством диавольского наваждения встают из гробов своих и беспокоят живых, а преимущественно родственников.
Булгары убеждены, что полтеники могут входить в дома, разбивать все, что заблагорассудят, пугать, а иногда получать таковую силу, что убивают людей и скот.
Если где в Булгарии, в городе или деревне, появится таковый полтеник, тогда все идут (даже с разрешения турецкого местного правительства) к тому, который предназначен убивать такового полтеника и которого называют глог, оттого, что он употребляет для сего дрекол (кол) глогового дерева; тогда, обыкновенно в субботу (в день, когда, по мнению глога, полте-ник не оставляет могилы, в прочие же дни он ходит), глог сей приходит на гроб того или той, которого подозревают быть полтеником, т. е. обыкновенно умершие скоропостижно или <от> весьма кратковременной болезни, по мнению их, делаются таковыми.
По прибытии на место глог делает изостренным глоговым своим дреколом (батиной) на могиле над самым гробом три ямы, беспрестанно поливая их водою. Самую большую делает над головою умершего до самого трупа, потом вливает воду, смешанную с каким-то прахом; потом берет дрекол и бьет его в большую сию над главою яму, до того, что он весь войдет в землю[200]; при сем часто поливает водою, смешанною, как выше сказано, с каким-то составом; тогда уверяют булгары, что конец кола, видимый из земли, обагряется кровью, и присовокупляют, что это сам дьявол то тело уязвляет. После всего сего полтеник уже не оставляет более никогда своей могилы.
Глог уверяет, что таковой полтеник, если не будет вышеупомянутым образом убит, в продолжение целого года может беспокоить жителей. За все сие глог берет что хочет, от 50 до 200 левов, сверх сего, в продолжение восьмидневного его пребывания в городе или селе он выпивает до 50 ок вина и переест множество живности и пр.
Вот что булгары рассказывают о сем глоге, что будто праотец его был ловцом зверей и, расставляя для сего сети, он часто поутру находил их с места сдвинутыми — и должен был опять снова раскладывать; но на другой случалось всегда то же самое. Желая узнать, кто препятствует и мешает ему в сем, скрылся однажды ночью в тайное место, из коего вдруг услышал среди ночи большой шум, который приближался к тому месту, где разложена была его сеть, и увидел толпу народа, у которого все лица были черные; иные с рогами, другие с опашами, т. е. с хвостами, некоторые были пешком, но многие на разных четвероногих животных; все они следовали одним путем, но один из дьявольского сего собрания отделился, подошел к сети и отнял ее. Другой же сказал ему: «Зачем ты делаешь человеку пакости каждый день; если б человек сей знал, да положил бы под свою сеть глоговое дерево, тогда бы ты уцеломудрился и рассказал бы ему все тайны, которые знаешь». «Да, — отвечал тот, — я уверен, что эта мысль ему не придет в голову».
Когда же все дьяволы разошлись, то праотец глогов, слышав весь разговор сей, нашел тотчас глоговое дерево и подложил под сеть свою. На следующую ночь он услышал опять шум дьявольского еего собрания и опять увидел одного из них отделившегося немирного диявола к сети, дабы ее отнять, но попался сам в оную и не мог следовать за другими своими товарищами. Праотец же глогов, дождавшись дня, подошел к своей сети и увидел в оной черта, но преображенного в самого настоящего турка в полном одеянии, который угрожал старому глогу и говорил: «Как ты дерзнул поставить сеть свою здесь на царской дороге?» «Я сейчас тебе скажу», — отвечал ему старый глог и, взяв из-под сети глоговое дерево, начал сего видимого турка бить беспощадно, который не могши вылезть из сети, начал просить и говорить: «Оставь меня, я тебе покажу одно ремесло, которым ты и чада твои в изобилии везде жить могут». «Какое ремесло?» — спросил старый. «Ступай, — сказал дьявол, — в такое-то место, там ты найдешь такое-то былие, с которым ты и с глоговым деревом будешь иметь силу всех дьяволов изгнать из мертвых тел, т. е. полтеников истреблять». Старый, услышав сие, отпустил турка, который вдруг исчез. Глог передал сие дьявольское научение сынам и внукам своим.
Еще уверяет булгарский глог, что умершие некрещеные дети христиан, когда делаются полтениками, то бывают сильнее обыкновенных. Турки бывают также полтениками; и с ними глог поступает одинаково. Но жиды, по мнению булгар, полтениками не бывают и быть не могут. Рассказывают, даже и сам глог уверяет, что он один чрез лес или поле ходить не смеет, ибо волк его приметит или почует, тогда вмиг растерзает.
Обычай сербов истреблять вампиров другим образом здесь не упоминаю, потому что, полагаю, у вас есть, — они их называют не полтеника-ми. Я сохранил рукопись, сделанную мне попом Эски-Емина Магмет Хаджи-башею и глогом, который ночевал у меня тут.
3. В северной или нагорной Булгарии празднества сохранили некоторую тень древних их преданий.
Например, в праздник рождества Христова, называемый простолюдинами Коледа, есть древний обычай (но не в городах), по деревням только, где молодые неженатые люди собираются прежде праздника за день или за два, по десяти и более вместе, и ходят по селению от дома до дома, поют древнюю песнь, и жители дают им разные припасы, как-то: мясо разного рода, хлеб и тому подобное, но вместе с сим неотменно, хотя малую часть, льну и волны.
Песня сия заключается в сих словах:
Прочие слова мне неизвестны; однако знаю, что они в оной поминают рождество Христово, царей персидских, ангелов, пастырей и пр.
Все собранные запасы и прочие в день рождества Христова приносят среди деревни на какое-либо пространное место, ставят стол, и, продавши волну и лен, покупают вино, и целый день пьют, едят, угощают всех, и поют сию же самую песню, как равно и пляшут. Песнь сия поется только до дня св. богоявления.
В Сербии и других местах некоторые есть изменения.
4. Булгары называют кутью сию кольва (сербы «колива»). Она состоит, как и везде почти, из отваренной пшеницы с изюмом, медом или сахаром и корицею. Набожные булгары каждую субботу поминают покойников. В сии дни церкви заставлены блюдами с оною. По совершении молитв над ними и по выходе из церкви ее раздают всем, даже встречающимся, и при сем подают водку. Родственникам и знакомым кольву рассылают с воткнутыми в нее зажженными свечами на большом подносе, в коем иногда ставят еще два или три других блюд<а> с кушаньями.
Мнение булгар о ведьмах, чародеях, святых и пр., и пр. почти одинаково с сербами, которые вы найдете у Караджича. Если б что потребовалось вам более — уведомьте.
ГБЛ, Вельт. III. 16. 8.
У истоков исторической повести
Русско-турецкая война 1828–1829 гг. открыла русским ученым и литераторам пути в Болгарию.
20 марта 1829 г. от берегов Одессы отправляется венецианский бриг «Lа Рerseveranza», уносящий к «берегам Мизии» двадцатипятилетнего путешественника и поэта В. Г. Теплякова, этого «русского Мельмота» или Чайльд-Гарольда, по политическому доносу проведшего полгода в Петропавловской крепости и высланного на юг без права жительства в столицах. Он едет, облеченный полномочиями проводить археологические разыскания на освобожденных от турецких войск территориях; едет с грузом исторических и литературных ассоциаций на места античного Причерноморья, чтобы искать следы древней Фракии, греческие мраморы и монеты и могилу Овидия. Результатом его поездки были антики для одесского музея, археологические отчеты, превосходная эпистолярная проза его «Писем из Болгарии» и цикл «Фракийских элегий», привлекший внимание Пушкина[202]. Однако нас интересует сейчас не его деятельность в целом, а лишь некоторые ее эпизоды.
В апреле 1829 г. Тепляков сделал остановку в окрестностях Девно. По-видимому, здесь произошла его встреча с И. П. Липранди, и тот рекомендовал ему обратить внимание на равнину близ Афлотара, где, по его соображениям, было место знаменитой битвы Святослава с Цимисхием в 971 г.; сам Липранди, опросив местных жителей, добыл найденное в земле оружие «вроде бердышей чрезвычайной тяжести», которое потом, в 1830 г., передал в Бухаресте для обследования Венелину[203]. Был ли разговор с Липранди толчком, направившим ход исторических размышлений Теплякова, или самого его заняли проблемы средневековой истории Болгарии — сказать трудно; но в апреле 1829 г. он как будто отвлекся от остро интересовавших его античных тем. Стоя на том месте, где, как он считал, находилась древняя болгарская столица, русский поэт созерцал «зеленый луг» с «тысячей речных меандров, голубых лент, с перспективою гор, синеющихся издали подобно колоссальным головам сахару», и сказочная красота открывшейся картины объяснила ему намерение Святослава «перенести своих скандинавских богов в стены Траянова Маркианополя»[204]. Мысль его обращается ко временам Крума и войн Болгарии с Византией; он приводит исторические справки, долженствующие подкрепить «ученое мнение г. Бларамберга» о тождестве Девно с древним Маркианополем, якобы ставшим столицей Болгарии и с тех пор называвшимся в византийских летописях «Великим Переяславом или Перфлавом, η μεγαλη Πεςϑλαβα». Он вспоминает страницы «Истории» Карамзина, где шла речь о воцарении князя Святослава в 967 г. в Маркианополе, «Болгарском Переяславце», и радуется мысли, «что и русская сталь отпечаталась в сих самых местах на груди Византии», что «и киевские варвары делили сокровища кесарей на пиру народов, за упокой древней вселенской монархии»[205]. И далее в его письме появляются размышления о неисповедимом ходе истории, сменяющей старые царства новыми, без видимой цели переходя от развалин к развалинам. «Опустошительный ураган варваров» преобразил мир — «но что же в том?..» В прозаический текст вторгается стихотворный фрагмент — из третьей «фракийской элегии» Теплякова «Берега Мизии». Исторические разыскания ближайшим путем преобразуются в обобщенный художественный мотив, где болгарские впечатления растворены и внешне, казалось бы, неощутимы, но составляют вместе с тем некий субстрат, фундамент возводимого поэтического здания.
Так было в третьей элегии. Четвертая же элегия — «Гебеджинские развалины» — возникает непосредственно на конкретном и локальном материале. 22 апреля Тепляков, по-видимому, первым из европейских путешественников становится зрителем грандиозной картины: в 15-ти верстах от Варны, «по направлению к Праводам» (совр. район сел Солнчево, Баново, Страшимирово, Марково и Белослав Варненского округа), взору его открываются «огромные колонны», рассыпанные «по пространству более 3-х верст», без всякой «архитектурной последовательности». «Целые тысячи сих чудесных колонн поражают вас самыми странными формами. В иных местах они возвышаются совершенно правильными цилиндрами; в других — представляют вид башни, обрушенной пирамиды, усеченного конуса; иные делаются книзу толще и кажутся опоясанными широкими карнизами». Это были так называемые «Побитые камни» («Побити камъни»), которые еще спустя несколько десятилетий занимали болгарских и западноевропейских геологов, установивших позднее их сталактитное происхождение. Тепляков сам пытался ответить на этот вопрос и, насколько мог, обследовал столбы, пытаясь обнаружить следы человеческой руки, но поиски были бесплодны, и он оставил последующим естествоиспытателям и «антиквариям» решать, есть ли это «массы простых базальтических обломков» или произведения древнего зодчества, «остатки огромного древнего поселения»[206].
Как ученый Тепляков не скрыл от читателя своих сомнений; как поэт он явно предпочел последнюю версию. В «Гебеджинских развалинах» он продолжил тему исторического круговорота цивилизаций, отправляясь от сделанного им открытия. Пейзажный фон, на котором развертывается его описание руин, есть живописное отображение ландшафтов, виденных им на месте «древнего Маркианополя»; упоминание о «битвенной равнине», «покрытой мертвою и раненой дружиной», быть может, ассоциативно связано с разговорами о русско-византийских битвах времен Святослава и Иоанна Цимисхия. Созерцание «гебеджинских развалин» вызывает в его сознании картины «допотопных», доантичных времен, — и культурный комплекс, изображаемый им в элегии, ничего общего не имеет с античностью:
Это не античность и не славянский мир; сам Тепляков в примечании к элегии указывал, что он опирался на «некоторые обозначения Крития, Эвсевия, Лукиана и Плутарха»[207], но едва ли только на них. В его описании ощущаются следы ориентальной лирики В. Гюго, посвященной древнему Востоку — Вавилону или Содому и Гоморре; «гранитных слонов», подпирающих гигантские здания, «висячие сады, полные цветов и аркад», яшмовых идолов мы находим в знаменитом «Небесном огне» («Le Feu du Ciel»), открывающем сборник «Les Orientales» (1829) и трактующем ту же эсхатологическую тему. Реальные впечатления вновь облеклись у Теплякова многообразными ассоциациями — историческими, литературными; болгарская история опять ушла в субстрат, в «литературное подсознание»; проблема национального колорита не возникла. Этому поэту вообще не был свойствен преимущественный интерес к славянству и славянским древностям — ни в конце 1820-х годов, ни позже; идеи формирующегося славянофильства шли мимо него. Однако он коснулся, быть может неожиданно для себя самого, целого узла проблем, которые на какое-то время выдвинулись на передний план для русских и болгарских культурных деятелей.
Липранди принадлежал к числу первых заинтересованных читателей Теплякова. Он отметил письма о «гебеджинских развалинах» и вступил в полемику с поэтом, решительно утверждая их естественное происхождение. Поэтические образы «допотопной» древности мало занимали этого скептика и позитивиста; зато исторической топографией Преслава он интересовался специально и в своих разысканиях пришел в резкое противоречие с мнениями Карамзина, Теплякова и Бларамберга. «На месте древнего Переяславца, или Большой Преславы, — писал он в составленной им истории, — ныне стоит г. Ески-Стамбул, около 18 верст от Шумлы к Балканам. Епископ, имеющий пребывание свое в Шумле, сохранил наименование епископа Преславского и так именуется в фирманах, выдаваемых Портою на сей предмет. Что же касается до жителей булгар, то они совершенно никакого предания о сем не имеют. В бытность мою в 1828 году в Ески-Стамбуле я нашел следы обширнейшего города, коего настоящий занимает едва десятую только часть. Остатки сии видны преимущественно в правую сторону, и на оконечности тут одной скалы видно что-то подобное на основание замка, довольно пространного[208]. Старая мечетъ, именуемая Ески-джаме, нет никакого сомнения, была первобытно построена для христианского храма, весьма пространного. Занятия и время препятствовало сделать более на месте разысканий, которые несомненно могли бы пояснить многое и определить епоху хотя построения оной — как равно и некоторым другим древностям, заключающимся в сем городе, названном Марцинополем, от имени Марцианы, сестры Трояновой»[209].
Именно эта проблема, вскользь затронутая Тепляковым, — проблема, связанная с узловыми моментами болгарской истории, привлекает к себе внимание болгарских культурных деятелей и тесно связанного с ними Ю. И. Венелина. В 1827 г. А. С. Кипиловский готовит к изданию составленную им болгарскую историю. «Для болгар нужна их история; они не знают своих предков»[210]. Эта мысль становится лейтмотивом переписки В. Априлова и Н. Палаузова с Венелиным. Венелин требует археологических разысканий; он также хочет знать, где находилась древняя болгарская столица. Априлов не может ответить ничего определенного: «Касательно же Преславы и проч. скажем, что хотя бы архимандрит Неофит или кто-либо из тамошних и посетил ее развалины, то мало принес бы пользы; ибо они не умеют снимать планы с развалин, как должно. Но со всем тем мы надеемся, что они что-нибудь да сделают. Не знаем, за что г. Тепляков в своих письмах из Болгарии (1829), следуя г. Бларамбергу, ставит ее в нынешнем Девно, где находятся его гигантские развалины»[211]. Эту часть письма Венелин опубликовал; в подлиннике сохранилась опущенная им фраза, почти совпадающая с тем, что писал Липранди и затем Вельтман: «Преслава существует и по церковному учреждению, там есть епископ и ныне»[212]. Примечание самого Венелина гласит: «Преслава, в русских летописях Переяславец Дунайский, лежит на дороге от Шумна в Цариград. Возле гигантских ее развалин теперь не более 400 домов. Преслава была древнейшею столицею болгарских царей; некогда огромный город. Вот почему греки всегда ее называли Πεςϑλαβα Μεγαλη; т. е. Великая Преслава. Турки и доселе называют Эски-Стамбул, т. е. Старый Цареград. Преслава имеет своего епископа, местопребывание коего есть Шумна».[213]
Симптоматична эта общность интересов, проблематики, даже самих доводов. Она не может быть случайной. Вопрос о месте древней болгарской столицы приобретал широкий смысл — это был вопрос об исторической топографии военных, политических и культурных контактов Болгарии и России. В середине 1830-х годов эта тема является как будто по историческому вызову. «Письма из Болгарии» выходят в свет отдельным изданием в 1833 г.; через два года Н. А. Полевой оканчивает свои «Византийские легенды», в предисловии к которым намечает возможное их продолжение: «Изобразить ли грозного соперника Цимисхиева, нашего Святослава, борьбу их на берегах Дуная, гибель обоих, одного в чертогах царяградских, другого в таборах печенегов?..»[214]. Мысль об исторической роли славянства пронизывает книгу Полевого; устами одного из персонажей, отшельника-мистика, он утверждает идею соединения «Севера с Седмихолмием»; он ссылается на «скифское», славянское происхождение императоров Юстина и Юстиниана, «переименованного так из славянского Управд»; приводит свидетельства Кедрина и Зонары о намерении императора Александра основать в Константинополе славянскую династию и в крещении Ольги усматривает предвестие «близкого пришествия славян на трон Цареградский»[215]. Именно с этой идеей оказалась связанной в «Легендах» фигура Калокира — «природного славянина», «скифа», посла Никифора к Святославу и предполагаемого соперника Цимисхия в борьбе за византийский престол; обрисовка Калокира у Полевого далеко отклонилась от исторических источников и даже от собственной его «Истории русского народа», и есть все основания думать, что ему предназначалась в дальнейшем важная роль.
Если бы Полевой осуществил свой замысел продолжения, он неизбежно бы пришел к необходимости ввести в повесть по крайней мере болгарский исторический фон. Намерения его остались нереализованными, но тема не исчезла из литературы. В том же 1835 г., на протяжении которого пишется первая часть его «Легенд», А. Ф. Вельтман, его давний знакомый, подает в цензуру свое новое произведение — роман в двух частях «Светославич, вражий питомец, диво времен красного солнца Владимира». Уже на первых страницах, как это нередко бывает у Вельтмана, мы находим в концентрированном виде целую сюжетную схему, которая потенциально может быть развернута в особую повесть, — здесь это история последнего драматического похода Святослава. Князь прощается с нелюбимой женой; в тревожном и пророческом его сне проходят картины «высоких берегов, сливающихся с небом», где «болонье покрыто шелковым ковром, солнце горячо, а волны и рощи дышут прохладой»; «в глубине лесистого Имо великий Преслав, стольный град краля болгарского, светит златыми кровлями, покоится в недрах гор». Он видит и царя Бориса: Борис «горд, сидит на златокованном престоле, держит державу да клюку властную, не хочет знать Святослава»[216].
Соблазнительно сопоставить этот отрывок с письмами Теплякова, уже несомненно известными Вельтману, и установить структурную общность описания: роскошный южный ландшафт рассматривается сверху, как будто с высоты птичьего полета; затем мысль (или взгляд) наблюдателя задерживается на «стольном граде» — Преславе. Но сходство здесь не есть результат подражания; природа Болгарии, поражающая воображение путешественника, становится элементом литературного образа страны, органической частью специфически болгарского колорита.
Роман Вельтмана не был романом о Святославе. Тема болгарских походов «последнего героя язычества» в «Светославиче» — лишь едва намеченная побочная тема. Однако в фокус внимания писателя уже попало то место «Повести временных лет», где сообщается о намерении Святослава основаться в завоеванной Болгарии, оставив Киев. Уже намечается зерно любовной интриги — мотив равнодушия к жене. Пройдет восемь лет — и побочная тема разовьется в сюжет «Райны, королевны болгарской»; тогда возникнут новые ситуации и конфликты, в новом свете предстанут взаимоотношения Святослава и Бориса, и «Великий Преслав» станет основным местом действия. Сейчас все еще в стадии отдаленного замысла, столь же неясного, как и у Полевого, но с одним существенным отличием. Славянская древность не была для Полевого магистральной линией творчества. Для Вельтмана она органична. Выше мы пытались показать, каким образом его славяноведческие интересы локализовались в начале 1840-х годов в области болгарской истории и фольклористики. Совершенно естественно поэтому, что именно Вельтман, а не кто иной, обращается в 1843 г. к сюжету повести из болгарской истории, точнее, болгаро-русской истории, так как в концепции «Райны» Святославу принадлежит важная роль. И столь же естественно, что по своей проблематике, сюжету и даже отдельным мотивам повесть Вельтмана оказалась тесно связанной с теми вопросами, которые занимали современную ему историческую и художественную мысль. Его повесть начинается с элегической ламентации о древнем величии столицы царя Симеона «Великого Преслава», где «знаменовались подвиги… добросанного князя Святослава»: «Где ж этот белый град великого царства? Какие холмы венчались его твердынями? Никто не знает, кроме султана, который в фирмане своем именует владыку шумлинского преславским»[217].
Нам уже знаком этот вопрос — не в его риторическом, а в археологическом варианте. Его задавали читателям и друг другу Тепляков, Венелин, Априлов. На него пытался ответить Липранди, и ответ этот почти дословно совпадает с цитированным местом повести Вельтмана. Липранди упоминал и о том, что болгарские старожилы «совершенно никакого предания о сем не имеют», — и едва ли не это сообщение подхватывает Вельтман, превращая его в художественный мотив исторического забвения, как будто прямо вырастающий из белого пятна археологических карт. В допечатном тексте мы находим его в осложненном виде; беловая рукопись заканчивается словами:
«Было великое царство Болгарское, и не стало его; теперь Болгария тело без души; одичавший и запустевший сад, в котором там-сям видны еще следы прошедшей жизни: развалины древних городов, замков и храмов, где рядилось, молилось, гуляло и славилось славянство.
И теперь еще есть в Болгарии и небо, и земля, и все украшения их: и злак сельный, и былие травное, и источник, исходящий из земли и напояющий земное, и всякое древо красное в видение и доброе во снедь, и рыбы морские, и птицы небесные, и звери — да нет человека-делателя…»[218]
Именно эту идею — всеобщего круговорота, исчезновения древних цивилизаций — вынес из изучения болгарских древностей Тепляков. Мы видели ее и в «Письмах из Болгарии», и в «Берегах Мизии», и в «Гебеджинских развалинах». Но там она выступала в обобщенно-философском виде. У Вельтмана она наполняется новым содержанием. В его повести явственно обрисовывается тема контраста между историческим величием Болгарии и ее унижением под чужеземным владычеством — излюбленная тема Венелина и Липранди. «Райна» начинается с исторических воспоминаний об эпохе Симеона, с именем которого был связан политический и культурный расцвет Болгарин. Царствование Симеона привлекало русских славистов еще в начале XIX в.; с началом болгарского Возрождения интерес к нему, естественно, усилился. Первые болгарские историки начинают с изучения «века Симеона»; так называлась магистерская диссертация С. Н. Палаузова, знакомца Вельтмана и ученика И. И. Срезневского; самый выбор темы носил характер национально-политической акции[219]. Но Вельтмана в 1843 г. интересует не расцвет, а падение Болгарского царства, и упоминание о Симеоне играет роль своеобразного контрастного фона. Вместе с тем самый образ его, оставаясь за пределами повести, приобретает в ней важную сюжетную роль, а эпизоды и легенды, связанные с его именем, составляют значительную часть ее исторической канвы.
Все эти мотивы и темы были далеко не случайны для Вельтмана. Литератор и историк с ясно выраженными славянофильскими симпатиями, он пишет повесть о символическом историческом прецеденте — совершившейся тысячу лет назад встрече двух родственных народов, — и он напоминает о ней в тот момент, когда оба эти народа готовы вступить в новую фазу взаимоотношений. Детальное рассмотрение повести покажет нам, что идея славянского родства последовательно выдерживается на всем протяжении рассказа и даже подчиняет себе реальный исторический материал.
Повесть Вельтмана о художнике
1. «Райна, королевна болгарская»
Содержание «Райны, королевны болгарской», появившейся впервые в 1843 г. в июльской книжке «Библиотеки для чтения», в общих чертах сводится к следующему.
После внезапной смерти царя Симеона, случившейся при таинственных обстоятельствах, престол занял сын его Петр. При нем начались феодальные смуты. Ближайший советник Петра, Георгий Сурсувул, армянин по национальности, облеченный высоким титулом комиса, является душой тайных политических интриг; он ищет царской власти для своего сына, комитопула Самуила, и намеренно провоцирует столкновение с Византией, рассчитывая с помощью императора получить престол. С династическими целями он стремится породниться с царем, женив Самуила на дочери Петра Райне, в которую комитопул страстно влюблен. Получив отказ, он вынашивает замыслы мести.
Тем временем византийский император призывает на помощь против болгар русского князя Святослава, и тот, явясь с дружиной, начинает опустошение страны. В самом начале похода Петр умирает; волей обманутого народа Георгию Сурсувулу вручается царская власть. Райне передают посмертную волю отца: выйти за Самуила. День свадьбы назначен; Райна, казалось, покоряется судьбе, но с амвона обвиняет комиса и его сына в убийстве своего отца. Среди всеобщего замешательства предстает видение: Петр на троне и рядом с ним Райна. Самуила поражает суеверный ужас; Райну замертво выносят из толпы.
Спасителем Райны оказывается дядя ее Воян, сын Симеона от первой жены, отвергнутый отцом и много лет скрывавшийся под видом отшельника. Он изучал искусство магии и пользовался славой волшебника, однако волшебство его заключалось в необыкновенном даре ваяния. Во время начавшихся смут он пытался предупредить Петра о предательской игре Сурсувула и являлся на площади безвестным старцем, предсказывавшим народу беды от узурпаторов. Ему принадлежала изваянная из воска группа, изображающая Райну и Петра, которая внушила страх Самуилу, — и он же с небольшой группой сторонников похищает Райну и укрывает ее в окрестных пещерах.
В это время войско Святослава вступает в болгарскую столицу; Святослав видит изваяние и восхищен красотой Райны; он требует возвращения королевны, грозя в противном случае разорить царство ее отца. Здесь к нему является Воян в виде чернеца и произносит пламенную речь о бедах Болгарии. Святослав тронут; он обещает утвердить на престоле законную династию и положить конец смутам и неустройству. Разговор убедил Вояна, что русский князь не «насильник и женолюбец» и что судьбы Болгарии зависят теперь от него и от Райны. Он решает сблизить их, поселив в обоих любовь. Вдохновленный этой мыслью, он создает восковой лик «добросанного князя», полный красоты и величия. Замысел удался: образ прекрасного витязя поражает воображение девушки. Брат Райны, Борис, бывший в заложниках в Царьграде, возвращен на болгарский престол; во время праздника происходит встреча Райны и Святослава.
События, казалось, движутся к благополучному концу, однако в Киеве умирает мать Святослава, великая княгиня Ольга, и Святослав вынужден на время покинуть Болгарию, в которой решил было обосноваться навсегда. Придя как враг, он стал «поборником» родственной страны; здесь он «мирен духом», и любовь к Райне сулит ему счастье. Вступление на византийский престол Иоанна Цимисхия разрушает эту идиллию; новый император, сам армянин по происхождению, вступает в сношения с комито-пулом Самуилом, и в Болгарии вспыхивает мятеж. Борис свергнут, Райну захватывают в плен. Возвратившийся Святослав вынужден теперь бросить свою дружину против огромного греческого войска, — он требует не золота и добычи, а прекращения смут и восстановления Бориса на болгарском престоле. Сеча следует за сечей; сам же Святослав вместе с Вояном в дерзком ночном набеге освобождает Райну из укрепленных теремов лесной ку-лы. Греки предлагают мир, и Святослав теперь должен вернуться на родину; с ним вместе уезжают Воян и Райна. В Белобережье русскую дружину настигают печенеги, нанятые комитопулом Самуилом; они требуют Райну. Борьба с несметным войском безнадежна, но выдать Райну Святослав отказывается. Она решается принести себя в жертву, спасая Святослава, а тем самым своих братьев и родину. В полночь она выходит на кровлю теремной башни под стрелы печенежских лучников; пораженная стрелой, она остается неподвижной; ветер колеблет ее белое покрывало. В замке хватились Райны; Святослав, боясь, что она сама отдалась в руки печенегов, предпринимает отчаянную вылазку; в разгар битвы он замечает неподвижную белую фигуру на башне и, забыв о врагах, погибает под их ударами. Умирает и Воян, положив голову на колени племянницы. Печенеги занимают Белобережье, названное ими «Кизикерменом» — «Крепостью Девы».
Со смертью Святослава оканчивается «самобытное существование Болгарии», подпадающей под власть Цимисхия; Борис развенчан; несколько лет правит Самуил, отложившийся от Греции; но это последняя вспышка самостоятельности; «с 1019 года Болгарией правили уже наместники василевсов греческих».
Такова эта повесть. Она отнюдь не принадлежит к лучшим писательским достижениям Вельтмана; над ней тяготеют сюжетные схемы исторического романа из времен средневековья, принятые, видимо, с оглядкой на традицию В. Скотта и его подражателей: мы находим здесь реликтовые мотивы «таинственного» и «сверхъестественного», тут же объясняемые; сюжетные перипетии «похищений», характерную топографию — крепости в лесу, подземелья, служащие убежищем воину-отшельнику. Психология действующих лиц чрезвычайно обеднена: действуют «злодеи» и «герои», и их функция в повести полностью определяет их характер и поведение. Центральная сюжетная линия — любовь Святослава и Райны — по своей обрисовке восходит даже к доромантическим образцам. Тем не менее именно «Райне» предстояло сыграть значительную роль в болгарской литературе 1860-х годов; в 1852 г. появляются одновременно два ее перевода (Е. Мутевой и Й. Груева); в 1866 г. Д. Войников пишет на ее основе драму и ставит на сцене; увлечение ею испытывает в 1860-е годы Л. Каравелов[220]. В бумагах Вельтмана сохранилось письмо Н. Х. Павловича из Одессы от 8 мая 1861 г., где корреспондент благодарит писателя за добрые чувства к болгарскому народу, выраженные в его романе, и сообщает о написанных им исторических картинах на темы «Райны»[221]. Пробуждение интереса к Болгарии, несомненно, было одной из главных задач Вельтмана; эта открыто идеологическая установка, сказавшаяся в цитированной нами выше концовке повести, наложила свою печать и на ее художественную структуру. Отсюда идет и откровенная идеализация походов Святослава. «Молва о его великодушии пронеслась по всей Болгарии. Никто не смел противиться грозе меча его; но и никто не жаловался на насилия и грабежи» (85). Между тем Вельтману, конечно, были хорошо известны результаты войны Святослава в Северной Болгарии — разрушения и жестокости, наводившие страх на население; по словам Льва Диакона, в 970 г. киевский князь приказал посадить на кол 20 тысяч человек[222]. Вельтман идет дальше Карамзина, которого, как мы помним, еще Липранди упрекал в идеализации Святослава. Но Вельтману нужен не исторический киевский князь, а символ объединения родственных народов, — и акцент ложится как раз на тот мотив, который занимал воображение писателя в годы работы над «Светославичем», — мотив растущей привязанности к завоеванной стране. Это летописное известие вместе с известием о холодности Святослава к жене-киевлянке является историко-психологической мотивировкой для появления фигуры Райны — полностью вымышленной.
Концепция Святослава имела у Вельтмана, однако, и более глубокие корни. «Рыцарский» этический кодекс, которым он наделяет своего героя, согласно историческим воззрениям Вельтмана, сложился веками. Историческая генеалогия Святослава уходит в полумифические представления «Эдды» — к «владетельному роду Форн-Иотаров, то есть древних великанов (Reus)», — как объяснял Вельтман ранее происхождение другого своего рыцаря-славянина — Ратибора Холмоградского[223], — и даже далее, вплоть до древнеиндийского мифа. В допечатной редакции повести читаем: «Святослав был последний представитель быта древней славянской Руси, или раджии, как индейцы, родичи славянского племени, называют рыцарство, или благорожденное сословие посвятивших себя божеству войны Сканде, или Светавасу, Индре белоконному. Святослав был скандинав, но юмальского или гималайского племени, которое у норманнов называлось Рызар или Форнйотар, то есть древнейшее вельможное племя, порода царственная»[224]. От «раджанов», значится в основном тексте, шел и свято соблюдаемый Святославом воинский закон рыцарской чести: не носить «бесчестного» оружия — палки с клинком, «зубчатых стрел, стрел, напитанных ядом, и стрел огнеметных». «Раджаны не нападали ни на спящего, ни на безоружного, ни на удрученного скорбию, ни на раненого, ни на труса, ни на беглеца» (30).
Итак, отношения Святослава к наследникам Симеона возникают на почве исконного родства, уходящего в доисторическое и мифологическое прошлое индийских предков славянства, — родства «царственных пород». «Породнение» с болгарской царевной в этом смысле есть своего рода акт воссоединения. Именно это родство обеспечивает Святославу и Вояну взаимное понимание, когда речь между ними заходит о прошлом могуществе болгарской земли; «голос крови» связывает собеседников. В одном из планов повести Вельтман специально отмечает: «Баян — сын Симеона от первой жены, славянки». Все это типично славянофильский комплекс идей, отразившийся, между прочим, и в болгарской этнографии, — напомним «индоевропейские» увлечения Г. С. Раковского[225].
Если Петр, Воян, Святослав, Райна составляют круг «положительных» героев повести, то противостоит им иной, столь же монолитный. Он включает Георгия Сурсувула, греков и Самуила. Заметим, что все это не славяне. Исторический Самуил был по происхождению армянин; соответственно армянином является и Георгий Сурсувул, согласно Вельтману, отец Самуила. В тексте повести мы не раз находим указания на союз их с единомышленниками — византийскими армянами; стало быть, и здесь действует «голос крови», объединяющий людей по этническому родству. Этот мотив вообще характерен для славянофильского национализма; однако абсолютизировать его было бы ошибочно: оснований к тому не дает ни творчество Вельтмана в целом, ни рассматриваемая повесть, хотя в ней он, как тенденция, сказался сильнее, нежели в других произведениях писателя. В «Райне» сыном армянки, второй жены Симеона, оказывается Петр; тем самым армянская кровь течет и в жилах героини повести Райны, которая к тому же наполовину гречанка: Вельтман делает ее дочерью Петра от брака с греческой царевной.
Национальный мотив является, таким образом, вторичным при характеристике лагеря «врагов»; они объединены не по национальному, а по социальному признаку. Это феодалы, сеятели смут, узурпаторы. Воплощение феодального честолюбия и феодальных распрей — Георгий Сурсувул, готовый навлечь беды на родину ради собственных выгод. Это романтический злодей.
Позднейшие историки совершенно иначе расценивали роль Сурсувула — твердого и энергичного регента при мягком и слабовольном Петре[226].
Современники Вельтмана — Липранди, Палаузов — также отнюдь не подозревали его в раскольнических замыслах[227]. Исключением был Венелин; именно он выдвинул гипотезу об «интригах Юрья Сурсувула», который якобы имел намерение сохранить в руках власть «дяди короля» и вступил для этого в тайные сношения с Византией и в дворцовые распри[228]. Была ли эта близость версий результатом общения Вельтмана с Венелиным (книга Венелина вышла посмертно лишь в 1849 г.) или возникла независимо, по аналогии с многочисленными подобными же фактами западной и русской истории, — сказать сейчас трудно.
Эта гипотеза, вполне произвольная, цементировала, однако, художественное целое. Георгий Сурсувул, брат жены Симеона, по праву королевского зятя занимает место у подножия престола и добивается удаления законного наследника — Вояна. По его плану убит и сам Симеон, а затем царь Петр; обманутый народ избирает его на царство, но он отказывается: он готовит трон для своего сына Самуила.
Во всех этих эпизодах история составляет лишь внешнюю канву, и отклонения от нее намеренны. Нужно сказать, однако, что в тексте повести Вельтман избегает прямо противоречить известным в его время историческим фактам; он заполняет художественной фантазией исторические лакуны. Конечно, Георгий Сурсувул ни прямо, ни косвенно не был причиной смерти Симеона и Петра, но та и другая произошла скоропостижно и неожиданно для современников и давала возможность вышить художественные узоры на исторической канве. Вопрос о происхождении Самуила, занимавшего болгарский престол в 997–1014 гг., не окончательно разрешен и в наши дни; в 1840-е годы он был вовсе не ясен. Известно, однако, что Самуил возглавлял восстание четырех комитопулов (сыновей комиса), начавшееся в 969 г., уже после смерти Петра, и носившее антивизантийский характер[229]. Вельтман смещает хронологию и устанавливает произвольные связи. Название «комис» обозначало разные высшие военные должности; Вельтман применяет его к Сурсувулу, чтобы связать его с восстанием комитопулов. Теперь короля Самуила легко превратить в сына Георгия Сурсувула — и он делает это, давая таким образом художественную и психологическую мотивировку политическим интригам последнего; он вводит в этот круг вымышленную Райну и заставляет Самуила искать ее руки. Все эти погрешности против истины нужны писателю для того, чтобы центральная идея повести, связанная с именами Святослава, Райны и Вояна, получила видимость исторического обоснования.
И столь же произвольно, хотя и целенаправленно, Вельтман создает художественный и национальный колорит своей повести.
Рассматривая художественное воплощение болгарских впечатлений, например, у Теплякова, мы уже имели случай заметить, что в них нет никаких попыток найти специфический couleur locale вновь открываемой страны. Причиной этого были и индивидуальные особенности Теплякова — поэта и историка, и слишком незначительный багаж сведений по истории и этнографии Болгарии, которым располагала русская литература в конце 1820-х годов. Иное дело Вельтман, писавший в 1843 г., с уже определившимся славяноведческим направлением интересов. Стилизация была особенностью его художественной манеры. Его исторические романы каждый раз получают свой стилистический ключ, — иногда даже несколько; в прихотливом сказе контрастируют или накладываются друг на друга то иронический «Ich-Erz ä hlung» современного автора-повествователя, то народная сказка или легенда, то эпическая песня. В «Райне» нет этих контрастов, но на «нейтральном», «вальтер-скоттовском» повествовательном фоне время от времени возникают стилизованные фрагменты. Обычно это речевые характеристики персонажей. Они отсылают читателя к определенным литературным образцам, которые в совокупности и позволяют нам почувствовать, каким образом Вельтман создавал национальный болгарский колорит X в.
Прежде всего, конечно, это летопись. Прямые цитаты, со ссылкой на летопись, есть в описании Святослава в третьей главе; мы находим и парафразы летописных формул, равно как и общих мест былинных и сказочных текстов: «Идет князь — большой за меньшего не прячется; на суде — умный дураком не ограждается, виноватый на правого вины не складывает» (34), Вельтман обратился также к «Слову о полку Игореве»: «Днепр лелеет насады Святослава… на каждом насаде по сорока пеших воинов; красные щиты стеной у борта… Там, где Днепр пробил каменные горы Половецкие, начинались кочевья ордынские» (52–53). Все это было совершенно естественно при изображении древней Руси; несколько иначе создается стилистический колорит болгарских эпизодов. Здесь Вельтман избегает имитации «древней» речи, лишь изредка вставляя в текст болгарские и сербские слова. Зато он обращается к тексту Библии. «Лобзай его лобзанием сердца, как меня, брата твоего», — говорит Борис Райне, указывая на Святослава (89). Это формулы «Песни песней». Но, вероятно, наиболее показательным примером является речь Вояна перед Святославом; на развалинах Болгарского царства в виду грозного завоевателя Воян произносит речь — парафразу плача Иеремии. Вельтман сам назвал свой источник, которому следовал почти буквально:
«Райна, королевна болгарская»За что возложил ты на нее руку гнева своего, напряг лук свой и поставил ее знамением на стреляние? За что насытил горестию и напоил желчью? (72)
Оскудели очи ее в слезах, смутилось сердце, изливается душа, да не на лоно матери! (72)
Потемнело наше золото, изменилось серебро наше доброе, рассыпались камни святыни, достояние наше обратилось к чуждым, домы к иноплеменникам; отпала красота с ланит дев; как овны без пажити, идем мы пред лицом гонящих нас! (73)
«Плач Иеремии»Напряже лук свой и постави мя яко знамение на стреляние (III, 12); насыти мя горести, напои мя желчи (III, 15)
Оскудеша очи мои в слезах, смутися сердце мое, излияся на землю слава моя (II, 11); егда изливахуся душы их в лоно матерей их (II, 12)
Како потемне злато, изменися серебро доброе; рассыпашася камыцы святыни (IV, 1); достояние наше обратися к чуждим и домы наша к иноплеменником (V, 2–3); и отъяся от дщере Сиони вся лепота ея; быша князи ея яко овни не имущии пажити, и хождаху не с крепостью пред лицем гонящего (I, 6)
Нет никаких сомнений в том, что в выборе источника для своих стилизации Вельтман опирался и на соображения филологического порядка. Он ориентировался на язык Кирилла и Мефодия и славянских законоучителей времени Симеона. Однако было бы странно, если бы он не попытался расширить круг литературных и языковых ассоциаций, пользуясь тем фольклорным материалом, который уже имелся в его распоряжении. Действительно, уже в первые главы повести он вводит имитацию плача по царю Петру, со строками-лейтмотивами: «Ой, горе, горе, великая тужба!», «Ой, враны-гавраны поднялися с гнезд…» Эти двуязычные тавтологические сочетания (скорее русско-сербские, нежели русско-болгарские), метафорические обозначения («орел», «ворон»), постоянные эпитеты («белое тело») были для него стилизацией условно-фольклорной стихии в целом. Самый же плач он не стилизует, а почти без изменений переносит из Краледворской рукописи:
Это почти точный перевод «Оленя», по-видимому, первый стихотворный перевод песни на русский язык[230].
По-видимому, не случайно Вельтман останавливает свой выбор на таком типе эпического описания, который в наибольшей мере напоминает гомеровский эпос. Параллели между сербскими юнацкими песнями и «Илиадой» стали в это время общим местом в фольклористике, и не без оснований; современные исследователи также неоднократно обращали внимание на сходство — как раз в изображении гибели героев[231]. Об этом писал и Венелин; расширяя эту параллель, он находил «гомеризм» и в болгарских песнях[232]. Для Вельтмана здесь лежит один из признаков фольклорного стиля, в том числе и общеславянского, — и ему нужен пример такого стиля в наиболее «чистом» его виде. Он не мог в 1843 г. сомневаться в подлинности Краледворской рукописи, но он знал, конечно, что имеет дело не с болгарским и не с близким сербским, а с чешским фольклором. Но национальные грани стирались в его художественном сознании. Он создавал некую общую модель «славянского героического эпоса».
Вельтман поступал со своими литературными источниками так же, как с историческими: свободно контаминируя материал во имя общей социальной и художественной идеи. Материал этот был разнороден, и ему не удавалось добиться художественного единства. Быть может, ярче всего это сказалось на том образе «Райны», который явился наиболее существенным достижением писателя и который первоначально должен был стать в повести центральным. К этому образу — Вояна — мы и переходим. Он должен быть рассмотрен вместе с творческой эволюцией замысла.
2. Воян
В бумагах Вельтмана сохранились два плана будущей повести.
Один из них, без заглавия, подробно излагает содержание первых сцен, имеющих некоторые важные отличия от печатного текста. Второй план охватывает содержание повести целиком и также отклоняется от известной нам печатной редакции. Датировать эти планы точно мы не можем; существенно, однако, что они принадлежат к ранней стадии (или стадиям) формирования замысла. Второй план, озаглавленный «Содержание повести „Баян“», содержит историческую экспозицию, Vorgeschichte повествования, набросанную на отдельном листе:
Содержание повести «Баян»У Симеона, болгар<ского> короля, были от первой жены дети: Михаил и Боян. Михаил пострижен; а Боян был волшебник, мог человека в волка и в другого зверя превращ<ать>. От второго брака, от сестры Георгия Сурсувула, были Петр, Иоанн и Михаил.
Покуда Симеон был в живых, все окрест<ные> народы боялись его как сильного борца и грозного короля; но когда умер — на Болгар<ию> восстали турки (венгры), сербы, хорваты (раазы) и греки.
Петр начал войну с греками, но кончил миром и союзом с дочерью Христофора Кесаря (Роксана)[233] Марией (в крещ<ении> Ирина).
Братья Петра из зависти начали ковы строить. Они брата Иоанна посад<или> в темницу, а сообщников убили; греческ<ий> (см. Раича, кн. II, с. 490) царь Лакапен способ<ствовал> убежать ему из темницы и увез в Конс<тантинополь>, где женил на армянке.
Михаил также восстал на брата, но с своими единомышленниками принужд<ен> был бежать в Грецию, коей и передался (но вскоре умер).
По смерти Ирины, жены Петра, мир с грек<ами> продолжался: два сына Петра Борис и Роман были в залоге у имп<ератора> Ники-фора.
NB. После Лакапена возвед<ен> на визант<ийский> прест<ол> Никифор Фока в 963 году. В 4-е лето царств<ования> в июне он требовал от Петра, чтоб он войско турков (венг<ров>) не пропускал чрез Дунай, но он не обратил на это внимания; почему Фока послал Калокира, сына херс<онского> князя, назнач<енного> патрикием, к Святославу, вызывать на войну с Булг<арией>.
Когда Русь пришла в Болг<арию>, Петр умер, правили два сына Петра, Борис и Роман; они взяты были в плен.
В это время Фока умер, восш<ел> на прес<тол> греч<еский> Иоанн Цимисхий; Калокир обещал Святославу утверд<ить> за ним Болгарию, если он согласится способст<вовать> ему занять престол гречес<кий>.
Певец Баян оплакивает падение родины:
- Тяжко тебе, голове, кроме плечю,
- Зло тебе телу, кроме головы!
Действу<ют?>.
Баян — сын Симеона от первой жены, славянки.
Мать Баяна.
Эта экспозиция почти целиком соответствует историческим данным[234], за одним существенным исключением, которое вместе с тем является и неким зерном замысла. Исключение касается сыновей Симеона. О них сообщали византийские хронисты, затем Дюканж и Раич, трудами которых пользовались и Вельтман, и Липранди. От первого брака Симеон имел только одного сына — Михаила; от второго — с сестрой вельможи Георгия Сурсувула — троих: Петра, Ивана и Вениамина, известного также под народным именем Бояна. Дюканж, а за ним Раич и Липранди говорили о двух Михаилах — от первого и второго брака; младшего Михаила, по их мнению, хронисты называли Вениамином[235]. Эта версия отразилась в плане, где также названы два Михаила. В печатном тексте Вельтман от нее отказался, а впоследствии в примечании к переводу «Слова о полку Игореве» изложил ее, отметив вопросительным знаком как сомнительную[236]. Дело, однако, было здесь не только — и даже не в первую очередь — в историческом критицизме. Уже из названия плана совершенно очевидно, что Боян мыслился в качестве героя повести. Его первородство — важный элемент замысла: он законный наследник престола. Пункт плана: «Баян — сын Симеона от первой жены, славянки» намечает второй существеннейший мотив, о котором нам пришлось уже говорить выше.
Теперь нам необходимо обратиться к другому плану, где есть содержание первой главы. Оно намечено уже и в нашем плане: «Певец Баян оплакивает падение родины» и «Мать Баяна»:
СодержаниеГлава 1
Король Петр, сын Симеона Болгарск<ого>, умирает; его сыновья Борис и Роман в залоге в Констант<инополе>. Народ собирается в граде Великой Преславе на площади близ храма Св. Димитрия рядить, кого избирать на царство. Партии: войско за Георгия Сурсувула, извес<тного> под именем комиса булгарс<кого> или комитопула, брата жены Петра, который, занимая должность конюшего при короле <1 нрзб.> и дядьки детей Симеона, имел право в случае неимения наследников на престол. Другая партия малочислен<ных> любимцев Петра — за детей Петра, находящ<ихся> в залоге[237]. Начинается раздор. Боян, певец народный, уговаривает народ звать наследников Петра; но народ, обольщенный Георгием, не соглашается по нелюбви к Петру и не хотя зависеть от греков. Является на площадь старая женщина, монахиня, она требует слова[238] и, обращаясь к Бояну: «Боян, Боян, полно петь! ты сын Симеона». Она[239] рассказывает народу причину ненависти к ней Симеона и открывает, что Боян его сын законный. Народ готов провозгласить Бояна; но он отрекается. «Отец отрекся от меня, — говорит он, — не возьму наследия, вот наследие мое (показ<ывает> гусли), певцу ли быть царем?»
Народ избирает Георгия-комиса.
«Сын Симеона от первой жены, славянки», Боян первоначального замысла является как носитель национально-патриотической идеи. «Боян — Сурсувул» — это целая система контрастных противопоставлений. Боян — славянин, Сурсувул — чужой. Боян — законный наследник престола, отрекшийся от него; Сурсувул — честолюбец, мечтающий о власти. Боян хочет национальной независимости Болгарии, Сурсувул — ее подчинения Византии. Боян действует силой поэтического убеждения, Сурсувул — путями интриги и обмана.
Роль Бояна в сюжете отчасти проясняется второй половиной рассматриваемого нами плана, которую приводим целиком:
Глава 2
Между тем гречес<кий> император призывает Святослава на помощь против булгар. Святослав сбирается в поход, покоряет Булгарию. Торжество. Является Боян. Поет и смиряет нрав Святослава; поет ему про деву святую. Святослав спрашивает: где она? Он говорит, что[240] только христианин может ее видеть.
Святослав получает известие о нашествии печенегов на Киев. Он забыв<ает> все и торопится из Булгарии, предоставляя правление Борису, но под воен<ным> началь<ством> <1 нрзб.>, к чему уговорил его Боян. В Киеве тоскует о неизвестной деве и вскоре возвращается в Булгарию.
Глава 3
Военные действия против греков. Святослав призывает Бояна.
Вторая и третья главы «Содержания» довершают абрис первоначальной фигуры Бояна. Перед нами певец, гусляр царственного рода, с судьбой, полной внутреннего драматизма: сын первой, нелюбимой жены царя, согласно Вельтману сосланной или добровольно ушедшей в монастырь (историкам судьба ее неизвестна) он знает свои права на престол, но добровольно отказывается от них. Истинное призвание и наследие певца — его искусство. Его Боян ставит на службу вере. Когда Святослав покоряет Болгарию, он обращает его, силою песнопений, к образу святой девы. По-видимому, Райна (если она присутствовала в этом замысле) должна была стать в глазах Святослава чем-то вроде земного воплощения богоматери, орудием христианизации языческого героя.
Так, определяется славянофильская концепция вельтмановской повести. «Чистая кровь родства» близких народов, «чувства любви к божеству, к родной земле и к своему ближнему» — все то, что Вельтман считал непременной принадлежностью первобытного славянского патриархализ-ма, получает художественную реализацию в образах Бояна, Святослава и в их взаимоотношениях.
Боян первоначального плана, конечно, нес на себе черты певца из «Слова о полку Игореве». Такая параллель напрашивалась сама собой: 30 апреля 1830 г., накануне отъезда в Болгарию, Венелин писал Шевыреву: «…еду… в страну классическую для Руси… в Болгарию, отечество Баяна, славянского Оссиана»[241]. У Вельтмана первые импульсы к отождествлению двух Баянов возникли еще в 1833 г., когда он издавал «Слово» и остановился перед «темным местом»: «Рекъ Боянъ и ходы на Святославля п h снотворца старого времени Ярославля Ольгова коганя хоти: тяжко ти головы, кром h плечю; зло ти т h лу, кроме головы: Русской земли без Игоря». Затруднившись в толковании «ходы на» и не определив двойственного числа[242], Вельтман пытался выйти из положения путем рискованных конъектур. «Расстановка слов, — писал он, — кажется, должна быть следующая: Боянъ песнь творцю стараго времени (так же, как и выше: соловiю стараго времени) Ярославля Ольгова, Коганя, рекъ хоти и ходы на Святославля; т. е. рек желания свои и обращения к Святославу». Далее он сделал примечание, для нас особенно интересное: «Слова Бояна совершенно изображают горестную мысль о удалении Святослава в Болгарию; а слова певца Игоря прекрасное сравнение обстоятельств»[243].
Когда Боян, сын Симеона, выдвинулся в качестве героя повествования, Вельтман воспользовался своей старой гипотезой — не прямо, а ассоциативно: в уста своему гусляру, певцу Бояну, он вложил слова: «Тяжко тебе, голове, кроме плечю, Зло тебе, телу, кроме головы!» — слова, как он считал, обозначавшие тему «болгарских походов Святослава». Далее по пути сближения двух Боянов он не пошел. Это сделал Венелин, который прямо попытался доказать их тождество и даже характеризовал болгарского Бояна по тексту русского памятника[244]. Гипотеза держалась и позднее — с разными вариациями — как в русской, так и в болгарской историографии[245].
Между тем за год до выхода «Райны» Вельтман пришел к особой точке зрения на Бояна, делавшей невозможной такую ассоциацию. Имя «Бо-ян» в соответствии с этим новым пониманием явилось в «Слове» вследствие порчи текста; певец «Слова» — «бо Ян», Ян Вышатич, упоминаемый в летописях[246]. Во втором издании своего перевода «Слова» Вельтман сохранил это предположение и сделал любопытное примечание, бросающее отчасти свет и на источники «Райны»: «Некоторые ссылаются на Бояна, сына Симеона, краля Болгарского. По Качичу, у Симеона было три сына: Стефан, Вукош (Вук) и Сава. Ковачич (так!) в „Песнословке“ называет Вукоша Волканом. Раич в своей Ист<ории> славян называет, по Дюфрену, сыновей Симеона Петром, Иоанном и Михаилом (?) и прибавляет, что у него был четвертый сын Воян, который чародействовал и претворял человека в волка. Но этот Боян и есть тот же вук (волк), ибо это имя изменяется в Вуjо, Вуян, Вукач, Вукаш и Волкан»[247].
В данном случае Вельтман ошибся; по-видимому, у него не было под руками сборника Качича. Из сыновей Симеона Болгарского Качич говорит об одном Петре; Степана, Вукшу и Сабу (Саву) он называет как сыновей словинского короля Симеона[248]. Слова Раича изложены точнее, хотя несколько изменено написание имени (у Раича — Ваян)[249].
Нам важна, однако, не эта ошибка, а изменение художественного смысла образа. Боян и Воян разошлись. Теперь нам следует обратить внимание на одну деталь, которая в свете сказанного представляется существенной. «Содержание», в котором идет речь о певце-христианине, называет его Боя-ном. В первом листе другого плана, где записано «Содержание повести „Баян“» и изложена историческая экспозиция, где «певец Баян», сын Симеона от жены-славянки, «оплакивает падение родины» цитатой из «Слова о полку Игореве», употреблено две формы: Боян и Баян. Вторая глава этого плана, как и все последующие, записана на особом листе, и речь здесь идет только о Вояне. Этот Воян не певец, и роль его в повести совершенно иная. Мы должны говорить о двух стадиях замысла; к первой относится «Содержание» и первый лист «Содержания повести „Баян“»; ко второй — все остальное. К рассмотрению второй стадии мы и переходим.
Отказавшись от певца Баяна, Вельтман сделал исходной точкой развития образа легенду, рассказанную Лиутпрандом.
Лиутпранд, кремонский епископ, талантливый историк, посетивший Византию в 949 г. с дипломатической миссией, рассказал, что Боян (Вениамин), сын Симеона от первой жены, занимался колдовством и мог превращать человека в волка или любого зверя по выбору. Дюканж удержал этот рассказ; Раич повторил его; Липранди пересказал Раича и даже сохранил его комментарий: «суеверие, достойное тех времян»[250]. Это-то «суеверие» оказывается важным для Вельтмана, — оно составляет зерно концепции. Воян не певец, а чародей, воздействующий не на дух, а на тело; он превращает человека в волка и заключает («по Качичу») понятие «волк» в своем собственном имени. Он обладатель атрибутов оборотничества, закрепленных в былине о Волхе и фигуре князя Всеслава в «Слове о полку Игореве». Не лишним будет напомнить, что сказку о Волхе-оборотне Вельтман включил в «Кощея бессмертного»[251], а позднее цитировал во втором издании «Слова» «древнюю песню о Волхе Всеславьевиче» — правда, вне связи со Всеславом. Фигура же последнего интересовала его особо; об этом князе, рожденном, по словам летописи, от волхвованья, он приводил в соответствующем месте свод летописных свидетельств[252].
В новом облике Бояна — Вояна стали проступать черты древнего языческого мифа[253].
Соответственно меняются акценты и семантическая нагрузка. Воян — художник, ваятель (не исключена возможность, что Вельтман этимологизировал имя). Искусство его не божественное, а языческое, дьявольское. Его цель не утвердить, а уничтожить христианство, и он намерен сделать своим орудием Святослава. В этом плане впервые появляется фигура Райны — героической защитницы христианства, обращающей Святослава силою небесной и земной любви, и в первый раз возникает мотив изваянного портрета.
Приведем этот план:
Глава 2. Сбор народа в Переяславле и раздоры за выбор короля. Партия за Бориса и Романа, сыновей Петра, наход<ящихся> в Кон-с<тантинополе>, и партия комитопуловых детей. За комитопулов войско. Воян-гусляр смущает народ предск<азанием> бед.
Глава 3. Комитопул вступает на престол, требует от Райны ее руку, она не соглашается; хочет употр<ебить> насилие; является Воян и уводит ее в пещеру к себе.
Глава 4. Посольство греч<еского> импе<ратора> к Святославу. Он идет в Булгарию — война — Свят<ослав> в Переяславце.
Глава 5. Пещера Вояна. Жизнь Райны в ней. История Вояна. Воян лепит из воску образ Райны и наряжает в ее одежду, язычники в его распоряжении, посредством их он ведет интриги. Во дворе переяславском живет один из его приверженцев, Ракош; чрез него вносят во дворец образ Райны; он уверяет Ракоша, что это лик богини и что Святослав влюбится в нее и примет сторону булгар и уничтож<ит> хрис<тианскую> религию.
Глава 6. Святослав побеждает комитопулов — берет их в плен. Борис и Роман прибыли в Переяславль, готовится торжество коронования. Святославу является Воян. Соблазняет его ликом Райны; условия, на которых он ее получит. В это время известие от Ольги о нашествии печенегов. Святослав, забывая любовь, оставляет часть войска в Перея<славле>, едет в Русь, остановив торжество коронования Бориса до возвращения своего.
NB. Воян ведет Святос<лава> в пещеру и показывает лик Райны, а Райне Святослава. Райна влюбляется. Воян говорит ей, что она получит руку его, что будет царицей Греции, если отречется от Христа. Она отрекается.
Глава 7. Святослав возвращается, война с греками. Боян ведет Святослава в пещеру; там показывает он ему Райну; Райна видит Святослава.
Глава 8. Воян уговаривает Райну, чтоб она отреклась от Христа, тогда корона Греции и Святос<лав> будут принадл<ежать> ей; она отрекается.
Святослав тайно ходит около пещеры и встречает Райну, бежавшую от Вояна. Разговор с ней. Она спрашивает его, христианин ли он, и узнав, что нет, отталкивает его от себя. Святослав дает слово быть христианином. Она умоляет его не вести войны против ее братьев. Он посылает посла к Цимисхию и уезжает с ней в Русь.
Глава 9. Воян восстанавливает печенегов на него <?>. Смерть Свят<ослава> и Райны.
В этом плане присутствуют почти все основные сюжетные мотивы повести, но как бы с обратным знаком. Зловещий, дьявольский образ соблазнителя Вояна определяет их функцию. Отравление Райны от посягательств комитопула мнимо; оно лишь пролог к целой цепи несчастий. Великое произведение искусства служит преступной цели, и любовь, им вызванная, несет с собой гибель. Этот резкий поворот сюжета предопределил и расстановку действующих лиц. Райна выдвигается на передний план повествования; собственно говоря, только она и Воян действуют в повести как равные друг другу противники. Святославу отводится роль совершенно пассивная; он ведет себя как идеальный любовник сентиментальной повести. Художественная концепция вновь оказывалась чревата непреодолимыми противоречиями.
Вместе с тем на этом этапе движения замысла осложнился и углубился характер Вояна, который интересовал Вельтмана едва ли не более остальных. Рассказ Лиутпранда о чернокнижнике, владеющем искусством превращения людей в животных, вызвал к жизни целую цепь ассоциаций, уже присутствовавших в творческом сознании Вельтмана.
Дело в том, что еще в 1837 г. он напечатал в «Московском наблюдателе» повесть «Иоланда» из эпохи французского средневековья; в ней шла речь о тулузском церопластике (ваятель из воска) Гюи Бертране, сделавшем по заказу неизвестного восковую фигуру по портрету женщины. Художник не знал, что изобразил «с разительным сходством» молодую девушку знатного рода Санцию, невесту рыцаря Раймонда; не знал он и того, что сделала заказ его сбежавшая дочь Иоланда, соблазненная и оставленная Раймондом; ему было неизвестно, наконец, что восковой портрет послужит предметом «демонских волхвований» Иоланды, которая велит его отпеть как умирающую, а затем проколет кинжалом. По законам симильной магии, известной с первобытных времен, все это должно было вызвать смерть Санции. На деле последовала цепь трагических случайностей: Иоланду обвиняют в убийстве с помощью колдовства и сжигают; невольный виновник трагедии Гюи Бертран умирает от разрыва сердца, узнав в портрете казненной свою дочь. Весь сюжет мотивирован одним обстоятельством: великий мастер добился иллюзии такой силы, что восковую фигуру принимают за труп. К этой небольшой и изящной повести Вельтман сделал обширное примечание о древних и средневековых суевериях, касающихся имитативной магии и связанных с искусством церопластики[254].
Эти-то сюжетные мотивы и прикрепляются к фигуре Вояна в рассматриваемом плане повести, показывая нам, каким образом рассказ Лиутпранда превратился в повесть о художнике. Первоначальная кристаллизация образа произошла, и теперь к основному сюжетному ядру начинают стягиваться другие мотивы, также связанные с симильной магией и церопластикой.
Прежде всего Вельтман обращается к известной в болгарской истории легенде о смерти Симеона. Эта легенда, рассказанная несколькими византийскими хронистами (Псевдо-Симеоном Магистром, продолжателем Феофана, Кедрином и Зонарой), была известна и Липранди, и Вельтману. Липранди знал ее, по-видимому, по изложению Раича и Мавро Орбини. «В то же время (927 г., — В. В.), — читаем у последнего, — пришел един человек донести царю, что болван, поставленный на воротах Ксерофила, превратился во образ Симеона Болгарянина, которому ежели бы де отрублена была голова, то почует скоро реченного Симеона смерть, еже и бысть учинено. И не много по том нападоша на Болгара болезни безмерные от стомаха, от которых положен бысть во гроб»[255]. Раич усомнился в этой «повести», похожей «на баснь… и суеверие», и даже предупредил своих читателей, что прислушиваться к ней «не христианско есть дело»; Липранди перевел его комментарий на язык современных понятий: «Повесть, достойная во многих отношениях Мавро-Урбина, который, впрочем, и не показывает источников оной».
Круг сведений Вельтмана ко времени создания «Райны», по-видимому, был больше, и, обрабатывая легенду, он пользовался целым рядом источников, как исторических, так и литературных. В византийских хрониках он мог почерпнуть и другие рассказы, касающиеся симильной магии. Псевдо-Симеон Магистр и продолжатель Феофана сохранили очень близкую легенду из времен императора Феофила (829–842). Желая оградить Византию от нашествия иноплеменных завоевателей, руководимых тремя вождями, император обратился к помощи патриарха Иоанна, владевшего искусством магии. Тот отправился ночью на ипподром, где стояла бронзовая статуя о трех головах; их он путем заклятий мистически отождествил с головами неприятельских военачальников. После этого он велел бить палицами по головам статуи; две были снесены прочь, третья погнулась. Через несколько дней во вражеском стане началась распря, в которой были обезглавлены двое из вождей; третий, раненый, остался жив. Войска их возвратились на родину[256].
Некоторые реалии вельтмановской обработки заставляют думать, что он свободно контаминировал несколько подобных рассказов. «Статуя, поставленная у ворот Ксерофила», у него получила точное определение — это статуя Беллерофонта, поражающего химеру. Голова Беллерофонта приобретает черты Симеона; уродливый человечек, изваянный в той же скульптурной группе, оживает, чтобы исполнить древнее пророчество: спасти город от могущественного врага. Здесь слышатся отзвуки иных преданий о магических статуях, оберегающих Византию. Одно из них мы можем указать точно: это рассказ Никиты Акомината (Хониата) об издавна стоявшем на Тавре изваянии всадника, о котором говорили, что это Беллерофонт на Пегасе. Когда крестоносцы захватили Константинополь, они отбили молотком левое переднее копыто коня и нашли «статую человека, похожего более на какого-нибудь болгарина, чем на латинянина»; статуя эта, уничтоженная крестоносцами, была талисманом, ограждающим город от нападения[257]. История Никиты Акомината уже была известна русской историографии: ею пользовался и Полевой для своих «Византийских легенд»[258].
Образ церопластика Вояна связывал воедино все эти рассказы — от рассказа Лиутпранда до легенд о смерти Симеона. Подобно Бертрану, Воян лепит из воска голову своего кровного родича, чтобы на свое несчастье обречь его в жертву мнимому колдовству. Сам он оказывается игрушкой в руках низких и коварных убийц, которые ночью спиливают мраморную голову Беллерофонта и заменяют ее восковой головой болгарского царя. Волшебство, изумляющее суеверный народ, — отсечение головы Симеона от статуи и ее исчезновение в огне костра — есть результат заранее подготовленного спектакля; безобразный человечек, якобы отделившийся от скульптурной группы, — переодетый заговорщик; гибель Симеона не действие чар, а заранее подготовленное предательское убийство. Сказочник и фантаст, Вельтман решительно избегает мистики; он мог бы повторить вслед за Раичем и Липранди формулу недоверия к «баснословию» византийских и латинских хронистов.
Сюжетная схема повести на этот раз сложилась окончательно, и это было связано с третьим и последним этапом эволюции центрального героя. Пустынник-мудрец, адепт христианской веры — демонический соблазнитель — художник, воин и патриот, искупающий свой тяжкий грех, — путь Вояна из «Райны, королевны болгарской».
Все мотивы, намеченные первоначально, остались — но в новой, преобразованной функции. Наследник престола, отвергнутый отцом, питает в душе месть, поддерживаемую матерью; он погрязает в грехе чернокнижия и в пучинах византийского разврата. Здесь-то он и профанирует свое искусство, становясь невольной причиной смерти отца; фатальное преступление, сделавшееся для него трагической виной, открывает ему глаза. Отныне он кающийся грешник. Собственно говоря, здесь почти тот же рисунок образа, что и в художнике гоголевского «Портрета»: необыкновенный дар, которым он обладает, может в зависимости от применения стать орудием дьявола или божества. Первое вызвало к жизни портрет Петромихали; второе — божественный образ. Голова Симеона — память о первом, греховном этапе пути художника, отмеченном корыстолюбием и жаждой мести; это искусство несет смерть. Изваяния Святослава и Райны внушены чистыми патриотическими помыслами и бескорыстным желанием блага двум родственным по крови и духу существам; это искусство несет любовь. Тень трагической жертвенности все время лежит на этом новом Вояне, в котором как бы совместились черты, полученные от первого и второго своего предшественника: от отрешенного от земных помыслов христианского певца и демона, погруженного в языческую, земную стихию. Отшельник, он покидает свое уединение, чтобы вырвать «сродницу» из рук злодеев; отвергая мирскую суету, он, подобно «второму Вояну», «плетет интриги», но уже не во имя язычества; он устраивает всенародный спектакль, обманывающий суеверов изваянными фигурами Райны и короля Петра на престоле; чуждаясь властителей, он печется о престолонаследии; отвращаясь от плотской любви, он вдохновляет и готовит союз Святослава и Райны. Дряхлой рукой он берет меч и участвует в воинском набеге, освобождая Райну из вторичного плена силой хитрости и оружия. Воплощением патриотической идеи становится художник, аскет и воин.
Этот образ и стал высшим художественным достижением вельтмановской повести, и, как мы пытались показать, совершенно закономерно. Он прошел длительный путь художественной зволюции, в то время как остальные персонажи оставались лишь бледной иллюстрацией исторической и социальной идеи. В то же время он имеет для нашей темы и более общее значение.
Знакомство русской культуры с Болгарией накануне болгарского Возрождения неизбежно должно было пройти несколько этапов развития. Один из них — первоначальное собирание материалов о стране, которая предстала русским изыскателям и литераторам как почти вовсе новая, — с прервавшейся исторической традицией, с не пробужденными еще силами, дремлющими в талантливом, но подавленном вековым угнетением народе. Таково было первое впечатление и Венелина, и Теплякова. Деятельность Липранди и заключалась, собственно, в накапливании и первоначальной систематизации исторических, этнографических, экономических фактов; «прагматическая» история Болгарии также принадлежала этим фазам первичного ознакомления. «О болгарской литературе нечего и говорить, ибо она еще не возродилось», — писал Венелин в 1829 г.[259]; болгарский фольклор открывал, однако, возможность проникновения в духовную сокровищницу народа, — и фольклористические интересы мы обнаруживаем и у Венелина, и у Вельтмана, и у Липранди. В «Райне, королевне болгарской» мы видим уже первую, пусть несовершенную, попытку художественного познания, — активного освоения и преломления накопленных знаний, — попытку, исторически тем более существенную, что она вызвала «обратную связь» в виде переводов и подражаний и способствовала развитию художественного самосознания в болгарской литературной среде. Образ Бояна — Вояна, ставший затем столь популярным в болгарской историографии, как бы концентрировал в себе предшествующие попытки научного и художественного освоения болгарской истории: художественные мотивы возникают здесь на фундаменте исторического изучения и не теряют своей эстетической природы, синтезируясь в едином и достаточно многообразном и сложном психологическом рисунке. Но повесть Вельтмана не открывала новых путей в русской литературе; она полностью принадлежала позднему, уже угасающему романтизму, — вместе с научными изысканиями ее автора. Историческое и художественное сознание развивались быстро, и уже вторая треть века меняла характер культурных связей: она вызывала к жизни новые интеллектуальные силы, порождаемые не только русской, но и болгарской средой.
Из неизданных откликов на смерть Пушкина[260]
Публикуемые ниже стихотворные отклики на смерть Пушкина извлечены нами из нескольких рукописных источников, хранящихся в фондах Рукописного отдела Пушкинского Дома. Разнородные по своему характеру и породившей их литературно-общественной среде, они единичны и в исследовательском отношении «случайны» и, конечно, не в состоянии дать сколько-нибудь целостную картину борьбы различных социальных групп вокруг имени поэта. Тем не менее известные штрихи к такого рода картине они могут добавить и при всех своих индивидуальных различиях имеют нечто общее, что позволяет объединять их не только по тематическому признаку. Эта общность заключается прежде всего в том, что все стихи, о которых пойдет далее речь, написаны под свежим впечатлением гибели поэта людьми, либо хорошо его знавшими, либо живо заинтересованными его судьбой, и, таким образом, отражают настроения близкой Пушкину литературной или окололитературной среды. Далее: все эти стихи не увидели света при жизни их авторов. Почему это произошло — судить трудно; по-видимому, некоторые из них и не предназначались для печати, другие, может быть, не были пропущены. Известно, что по личному распоряжению С. С. Уварова все отклики на смерть Пушкина должны были проходить особую цензуру председателя цензурного комитета и самого министра[261]; при этом все отзывы о Пушкине, переходившие границы «строжайшей умеренности», запрещались. Так было запрещено к печати стихотворение А. С. Норова «Погас луч неба, светлый гений…»[262]. Как бы то ни было, по субъективным или объективным причинам, публикуемые стихи бесцензурны, и это также накладывает на них известный отпечаток: они не только откровенны в выражении своих симпатий к погибшему поэту, но и свободно включают в себя факты и интерпретации, не всегда уместные в печати и представляющие, как мы увидим далее, самостоятельный исторический интерес.
Первое из публикуемых нами стихотворений принадлежит перу поэта, драматурга, романиста и критика Бориса Михайловича Федорова (1798–1875), старинного неприятеля Дельвига и Баратынского, присяжного памфлетиста журнала «Благонамеренный», в 1820-е годы — автора известных пародий на «союз поэтов». Эта принадлежность Федорова к враждебному литературному кружку предопределила во многом и то ироническое пренебрежение, с каким относился к Федорову Пушкин. Здесь не место прослеживать детали их личных и литературных взаимоотношений, небезынтересные сами по себе и не во всем еще ясные; укажем только, что Федоров, сохранивший литературную неприязнь к поэтам ближайшего пушкинского окружения, неизменно демонстрировал свою благожелательность по отношению к самому Пушкину[263]. В данном случае нам важны самые поздние эпизоды их общения, о которых рассказал книгопродавец И. Т. Лисенков: они встретились в его лавке за несколько дней до последней дуэли Пушкина и разговорились. «Два или три часа не могли расстаться, — вспоминал Лисенков, — и пробыли в моем магазине чуть не до полуночи, так что предложенный им мною чай не пожелали принять и с жаром друг с другом вели непрерывный интересный разговор обо всем литературном мире; при расставании же оба один другого приглашали на всегдашнее знакомство, а через три дня оказалось, что приглашению этому осуществиться должно за гробом <…> На другой же день публика была поражена известием о смертельной дуэли, и Борис Михайлович в тот же день явился ко мне со слезами на глазах для воспоминания о его знакомстве у меня, глубоко сожалея о потере знаменитого колоссального поэта, который через несколько дней вскоре и угас»[264]. Под этим впечатлением Федоров написал стихи, о которых нам известно по упоминанию в письме А. М. Языкова к С. Д. Комовскому от 2 марта 1837 г.: «Мы имеем на смерть Пушкина только стихи Лермонтова и Бориса Федорова»[265]. Текст этих стихов неизвестен; публикуемое нами стихотворение также не подходит под описание Языкова. Оно, конечно, написано несколько позже и является откликом не столько на самую гибель Пушкина, сколько на связанные с нею разговоры в петербургском обществе.
Федоров посвятил свои стихи княгине Зинаиде Ивановне Юсуповой, урожд. Нарышкиной (1809–1893), жене кн. Бориса Николаевича Юсупова (1794–1842). О связях Пушкина с этим семейством мы знаем очень мало; тем ценнее для нас свидетельство Федорова, что Юсупова с жаром вступилась за «славу» Пушкина в петербургских салонах, заявив себя, таким образом, приверженцем «пушкинской партии». Семью Юсуповых Федоров знал близко; вдова старого князя Н. Б. Юсупова Татьяна Васильевна покровительствовала ему и поддерживала его материально; смерть ее в 1841 г. была для него тяжелым ударом[266]. В 1849 г. он посвящает специальную брошюру памяти кн. Б. Н. Юсупова[267]; знакомство же с его вдовой, З. И. Юсуповой, продолжает сохранять до самой смерти. В ее альбоме мы находим несколько стихотворений Федорова, самое позднее из которых датировано 1873 г. Федоров адресует стихи и самой хозяйке альбома, и ее второму мужу, графу Карлу де Шово, маркизу де Серр (Chauveau de Serre); он сочиняет даже целую балладу, прославляющую доблести рода де Шово[268]. В тот же альбом он вписывает и стихи, удостоверяющие привязанность автора и адресата памяти Пушкина. Поэтические их достоинства невысоки: это обычный галантный мадригал, построенный на парафразе основного мотива пушкинских стихов, адресованных А. П. Керн. В лирическом восторге Федоров потерял чувство меры, отведя Пушкину роль потенциального трубадура светской красавицы. Однако не эстетические промахи или достижения Федорова занимают нас сейчас. Его стихотворение есть своего рода исторический документ, который заставляет нас присмотреться внимательнее к другим материалам юсуповского альбома.
Муж З. И. Юсуповой, кн. Б. Н. Юсупов, был сыном того самого Н. Б. Юсупова, которому Пушкин посвятил свое послание «К вельможе». Как реагировали на это послание младшие члены семейства, мы не знаем, но, конечно, оно не прошло незамеченным. Лето 1830 г. Б. Н. Юсупов, гофмейстер двора, проводит в Царском Селе и близко общается, в частности, с Жуковским. В альбоме Юсуповой под датой «1 Août 1830. Soirée au cottage» мы находим автограф шуточных стихов Жуковского «Какое сходство и какая разница между Быком и Розою?»[269], с тою же подписью «Бык», какую Жуковский употреблял, например, в домашней переписке с А. О. Смирновой-Россет; отношения его с З. И. Юсуповой, известной красавицей петербургского света, уже в это время отличались, как видно, дружеской короткостью. В более поздние годы записи в альбом Юсуповой делают Вяземский, Крылов, Мятлев, И. И. Козлов, Соллогуб — весь круг пушкинских литературных друзей и знакомых. Юсупова коллекционировала автографы, и предметом ее желаний был автограф Пушкина. Она получила его уже после смерти поэта. Об этом мы знаем: из сохранившейся в альбоме весьма интересной неопубликованной записки Жуковского, которую мы приведем полностью.
«J’ai l’honneur de vous envoyer, madame la princesse, un fragment écrit de la main de Pouchkine: c’est une sorte de biographie de son ami Delvig, qu’il n’a pas eu le tems de finir. J’ai voulu d’abord vous envoyer un conte en vers, mais il s’est trouvé que ce manuscript est inséré dans le régistre général et numéroté. Je ne puis pas en disposer. Le fragment ci-joint m’appartient en propre, je 1’ai trouvé dans mes pa-piers et je vous le cède avec plaisir. Je suis sûr à present que me con-serverai dans votre souvenir, car j’y serai fixé par le nom de Pouchkine.
Joukovsky»[270].
Перевод:
«Имею честь послать вам, княгиня, отрывок, писанный рукою Пушкина: это своего рода биография его друга Дельвига, которую он не имел времени закончить. Я хотел сначала послать вам сказку в стихах, но оказалось, что эта рукопись внесена в общий регистр и пронумерована. Я не могу ею раcпоряжаться. Прилагаемый отрывок — моя собственность; я нашел его в своих бумагах и с удовольствием уступаю его вам. Теперь я уверен, что останусь в вашей памяти, ибо буду закреплен в ней именем Пушкина.
Жуковский».
Точно датировать эту записку затруднительно. Осенью 1839 — весной 1840 г. Жуковский занимался рукописями Пушкина, готовя к печати IX–XI тома посмертного собрания сочинений[271]. В XI томе этого собрания была напечатана неоконченная пушкинская статья «Дельвиг» (XI, 273–274), автограф которой, по-видимому, и был подарен Жуковским Юсуповой. Это был, конечно, беловой автограф на пяти листках, поступивший позднее из юсуповского собрания в Пушкинский Дом[272]. Другие заметки Пушкина о Дельвиге, также известные Жуковскому, — фрагмент из «Отрывков из писем, мыслей и замечаний», отрывок из воспоминаний («Я ехал с Вяземским…»), — во-первых, не подходят под понятие «биография», а во-вторых, имеют жандармские пометы; дальнейшая их судьба также не позволяет думать, что они побывали когда-либо в руках у Юсуповой. Мы можем предполагать, что Жуковский сделал свой подарок не ранее 1840 г., когда вышел из печати XI том «Сочинений Александра Пушкина» и автограф перестал быть необходимым для издания.
Он подарил его как реликвию, заменив им первоначально выбранную «сказку в стихах», которой не мог распоряжаться. Может быть, это была «Сказка о мертвой царевне…». Она действительно имела жандармские пометы (№ 16–21), но оставалась у Жуковского; этот автограф он, между прочим, также подарил — но позднее — Карлу Радовицу[273].
Таковы дополнительные сведения, дающие своего рода контекст первому из публикуемых нами стихотворений.
Второе стихотворение на смерть Пушкина, приводимое нами в приложении, менее интересно по своему бытовому и общественному контексту, но зато более значительно по содержанию. Автограф его наклеен на плотный лист бумаги; по формату и особенностям внешнего оформления это, несомненно, один из сохранившихся листов альбома Н. А. Марковича, в юные годы, да и позднее (в конце 1820-х годов) довольно близко общавшегося с Пушкиным и его кругом[274]. Автограф беловой; под ним стоят подпись «З-ий» и помета «Триест»[275]. Этих данных вместе с автобиографическими сведениями, содержащимися в стихотворении, достаточно, чтобы определить автора. Это Ефим Петрович Зайцевский (1801–1860), «поэтический спутник» Дениса Давыдова, моряк-поэт, попавший в поле зрения Пушкина в 1830 г., во время посещения Петербурга по пути на воды в Германию. Зайцевский имел заслуженную репутацию героя после штурма Варны, где он получил рану в руку разрывной пулей. 7 февраля 1830 г. О. М. Сомов писал В. Ф. Одоевскому: «Завтра вечером непременно буду у вас и приведу к вам интересного моряка Зайцевского»[276], а 10 февраля Пушкин уже печатает в «Литературной газете» поэтическое приветствие Зайцевскому Дениса Давыдова; эти стихи вызвали цензурную тяжбу, в которой Пушкин принял непосредственное участие. Через номер он печатает и ответ Зайцевского Давыдову[277]. Зайцевский уехал в мае 1830 г.; он посетил Германию, Швейцарию и Италию, в Женеве встречался с Шевыревым и Соболевским, с которым сохранял связи и позже. В Милане он свел знакомство с находившимися та м русскими семействами; судя по известиям о нем в переписке Соболевского, он вел за границей довольно свободную жизнь[278]. В марте 1834 г. он был в Петербурге и снова встречался с Пушкиным; вместе с ним, доктором С. Ф. Гаевским и В. Ф. Одоевским Зайцевский отклоняет приглашение участвовать в «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара, не желая мириться с редакторским диктатом Сенковского, о чем Пушкин сделал запись в своем дневнике под 2 апреля 1834 г. (XII, 323). Это, по-видимому, была их последняя встреча; известие о гибели Пушкина застало Зайцевского за границей.
Итальянский период жизни Зайцевского известен очень мало; высказывалось даже мнение, что он почти перестает писать. Между тем это не так. В конце 1830-х годов поэтическая деятельность его довольно интенсивна. В 1839 г., находясь в Риме и Неаполе, он пишет несколько стихотворений, навеянных итальянскими впечатлениями, и поддерживает связи с русскими литераторами: с Д. И. Долгоруким, В. Ф. Одоевским и, по-видимому, с И. П. Мятлевым. Среди бумаг Д. И. Долгорукого сохранились хранящие след этих дружеских связей стихотворения Зайцевского; одно из них («Законы осуждают предмет моей любви», Неаполь, 1839) посвящено «И. П. Мятлеву и князю Д. И. Долгорукову»; другое («К перышку», Неаполь, 1839) имеет подзаголовок «Своевольное подражание поэту Мятлеву». Вероятно, с Мятлевым Зайцевский познакомился, когда тот путешествовал по Европе. Попытки его «в мятлевском роде», впрочем, были мало удачны. Больший интерес представляет третий текст, подаренный Зайцевским Долгорукову: это перевод терцинами стихов 1–36 популярной в русской литературе третьей песни «Ада» Данте («L’Inferno. С. III. Терцет по Данту»)[279], третий по времени перевод большого фрагмента знаменитой поэмы (после П. А. Катенина и А. С. Норова). Мы приведем этот отрывок, о котором, насколько нам известно, никаких упоминаний в литературе не было.
Этот отрывок наглядно показывает нам и уровень мастерства, и поэтическую ориентацию Зайцевского в конце 1830-х годов. Эпигон-романтик, он овладел поэтической фразеологией пушкинской эпохи и, конечно, не ошибался, когда в стихах памяти Пушкина объявлял его своим поэтическим учителем. Но он был учеником Пушкина в общем смысле: не столько последователь, сколько подражатель, он воспроизводил уже готовые формулы, пересказывая с их помощью оригинал; в отличие хотя бы от того же Катенина он не стремился отыскать общий стилистический ключ дантовской поэмы и дать ему русский эквивалент. У него нет индивидуального стиля: его поэтическая система эклектична, в ней слышатся отзвуки то сентиментальной и элегической, то «высокой», псалмодической поэзии. Наконец, самая интерпретация исходного текста типична для эпигонского романтизма: дантовские отверженные души для него «толпа», «чернь» — традиционное понятие массовой романтической лирики, варьирующей антитезу «поэт — толпа». В русском литературном сознании 1830-х годов этот общеромантический мотив также постоянно связывался с именем Пушкина.
Все эти стилистические тенденции нашли место и в поэтическом отклике Зайцевского на смерть Пушкина, где живые черточки реального облика поэта, памятные автору по личным впечатлениям, наложились на образ вдохновленного свыше романтического «певца». Судя по тону и содержанию стихотворения, оно было непосредственным откликом на известие о гибели Пушкина. На эту мысль наводит, в частности, концовка стихотворения с несколько наивной угрозой «разрядить» в Дантеса пистолет. Неосуществимая мечта о «мщении» Дантесу (естественная, впрочем, для «моряка-солдата») спорадически возникала в обществе под влиянием первого потрясения: напомним о намерении Л. С. Пушкина вызвать Дантеса на дуэль и о распространившемся слухе, что то же самое собирался сделать Мицкевич[280].
Зайцевский прожил в Италии до конца жизни — почти тридцать лет, лишь изредка заезжая в Россию (например, в 1840–1841 гг.); с 1846 г. он состоял при русской дипломатической миссии в Неаполе. По-видимому, он стремился, насколько возможно, сохранить свои прежние связи. В бумагах С. А. Соболевского осталось несколько его писем за 1840-е годы[281]. В 1853 г. его видел в Венеции Вяземский, отметивший в своем дневнике: «Вечером был у Кассини и видел там Зайцевского, переселившего себя в Италию, когда, казалось бы, России почва совершенно по нем. В русской судьбе много таких странностей. Бедный Пушкин не выезжал из России, а Зайцевский не выезжает из Италии»[282]. С Кассини Зайцевского также связывало давнее знакомство: сохранилось письмо Зайцевского В. Ф. Одоевскому 1839 г. с просьбой взять под свое покровительство Кассини, русского консула в Триесте, отправляющегося в Петербург[283].
Эти связи, может быть, объясняют отчасти помету «Триест» под стихотворением Зайцевского. Когда Н. А. Маркович, некогда однокашник Соболевского, посетил во время своего заграничного путешествия Триест (это произошло в ноябре 1857 г.)[284], он, по-видимому, встретил там Зайцевского, и «бывший поэт» записал для его альбома свои старые стихи, которым придавал особое значение. Имя Пушкина в них было символичным: оно возникало как своего рода знак связи их автора с Россией, ее культурной традицией и даже как знак принадлежности его к поэтическому цеху. Впрочем, это лишь гипотеза, хотя, на наш взгляд, и наиболее вероятная; если же «Триест» обозначает не место записи, а место создания стихотворения, тогда нужно предполагать какие-то встречи Зайцевского с Марковичем в России, о которых до нас не дошло никаких сведений.
Если два первых стихотворения нашей публикации принадлежат перу профессиональных поэтов, то автор остальных стихов, по— видимому, дилетант. Личность его нам неизвестна. От него сохранилась тетрадь стихов 1837–1839 гг., как правило, в беловых автографах, подвергшихся затем небольшой правке. Поэтические достоинства большинства из них невысоки, хотя встречаются и стихи вполне профессиональные, на уровне массовой журнальной поэзии 1830-х годов («К черным глазам», 1837; «К картине „Петр Великий на Ладожском озере“», 1839). В печати они неизвестны, — во всяком случае ни одного из них нам не удалось обнаружить ни в периодических изданиях, ни в регистрах рукописей цензурного комитета за ближайшие годы. Из помет в рукописи и скудных автобиографических признаний в самих стихах явствует, что автор их был военным и в летние месяцы 1837–1838 гг. нес службу в Красном Селе, куда выезжали на лето в лагеря гвардейские части; что в 1839 г. он был в Бородине, где праздновался юбилей знаменитого сражения. Последняя дата стоит под стихотворением «К памятнику Бородинской битвы». Сам он, по-видимому, был выходцем из Новгородской губернии, о чем нам придется говорить несколько ниже. Никаких других биографических указаний в стихах нет.
Несколько больше мы узнаем о литературной и идеологической ориентации автора. Гвардейский офицер был настроен официозно-монархически. В 1837–1839 гг. он создает обширную поэму о пожаре Зимнего дворца, преисполненную верноподданнических чувств; официальным пафосом насыщены и его стихи «К колонне Александра I» (1839). Во всем этом ощущается осознанная позиция. Автор внимательно следит за современной ему литературой и журналистикой: в его сборнике мы находим целый ряд откликов на культурные события времени. В этом-то сборнике он и помещает несколько стихотворений, посвященных памяти Пушкина.
Пушкин занимает исключительное место в сознании нашего поэта. На первой же странице он записывает четверостишие «К гению» (с пометой «1837 года Генваря 30-е. С. П.<етербург>»):
Четверостишие очень характерно. Оно пишется как эпитафия — на следующий день после смерти Пушкина — и резюмирует его творческий путь в духе широко распространенной в 1830-е годы концепции затухания его творчества. При всем том Пушкин остается для него «гением», и начинает он эпитафию с парафразы пушкинских стихов, впрочем, также становящейся уже общим местом: и А. И. Полежаев («Венок на гроб Пушкина», 1837), и С. И. Стромилов («Пушкин», 1837) включают ее в свои надгробные стихи[286]. Через неделю — 7 февраля — из-под пера неизвестного автора выливается уже целый цикл стихов о Пушкине. И содержание их, и хронология представляют немалый интерес.
К этому времени в поле зрения нашего автора было уже некоторое количество изустных сведений о дуэли и смерти Пушкина, печатные извещения (в том числе знаменитый некролог в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» от 30 января: «Солнце нашей поэзии закатилось…») и иные источники, о которых сказано ниже. Слухами о подробностях дуэли был полон Петербург; не исключено, что неизвестный нам поэт побывал и на квартире Пушкина или на отпевании 1 февраля, куда собрался весь мыслящий Петербург. Во всяком случае и в «Думе на смерть П<уш-кин>а», и в дополняющем ее «Отдельном отрывке» мы находим следы петербургских толков. Иной раз источники прямо цитируются: «Так, наше солнце закатилось! Так, луч поэзии погас!». В других случаях сообщаются детали, восходящие к рассказам ближайших друзей Пушкина: о жестоких предсмертных страданиях поэта, заставлявших его желать скорейшей кончины, — об этом много позднее писали А. И. Тургенев и В. И. Даль[287]. Неожиданной выглядит лишь осведомленность нашего автора в том, что касается места погребения Пушкина: оно совершилось 6 февраля, а уже на следующий день он подробно описывает местонахождение могилы — «в Святогорском монастыре, неподалеку от его (Пушкина — В. В.) деревни, там же погребена и родительница его, — и это место было им самим избрано». Он упоминает и «Святой Горы песок отрадный», и в этом замечании, сделанном вскользь, ощущается след непосредственных зрительных впечатлений. Нет сомнений, что могилу Н. О. Пушкиной он видел сам, посетив Святогорский монастырь в промежуток между апрелем 1836 и январем 1837 г., и, видимо, тогда же узнал, что Пушкин купил соседнее место для себя; может быть, он слышал и о том, что Пушкин хвалил сухую и песчаную землю[288]. 1 марта 1838 г. датирована в рассматриваемой тетради «Элегия», где прямо описывается Святогорский монастырь:
Такая осведомленность перестанет быть удивительной, если мы вспомним, что автор происходил из Новгородской губернии. Берега Волхова он называет своими родными местами («Мысли на берегах Волхова»); под одним из его стихотворений («Прости») стоит помета: «Званка 1837. Сент. 11».
Таковы реалии стихотворения, небезынтересные уже сами по себе. Но ими не исчерпывается историко-литературное значение стихотворения. «Дума на смерть П<ушкин>а» является одним из самых ранних (если не самым ранним) поэтических откликов на лермонтовскую «Смерть поэта». Сравним отдельные строки обоих произведений:
Строки из «Смерти поэта» входят, таким образом, в число опорных заимствованных формул, на которых строится стихотворение неизвестного поэта. Принципиальный смысл их, однако, изменился, и самый образ Пушкина в восприятии этого автора не только не тождествен лермонтовскому, но противоположен ему. В «Думе на смерть П<ушкин>а» социальный смысл конфликта снят; он перенесен в плоскость национальную. И здесь нам приходится обратить внимание на другой ряд поэтических ассоциаций — уже со стихами Пушкина:
«Отдельный отрывок» и «Врагам всего, что русским мило…», проясняющие окончательно концепцию «Думы на смерть П<ушкин>а», являются прямой парафразой стихов «Клеветникам России» и «Бородинской годовщины». Итак, в поэтическом сознании автора прежде всего «антифранцузские» стихи Пушкина, понятые прямолинейно и примитивно, в духе «официальной народности» и официального патриотизма. Пушкин рассматривается как жертва «клеветников, врагов России», «гнездо» которых есть средоточие мятежей против законной легитимной власти. Здесь монархические чувства неизвестного автора разыгрываются до такой степени, что он прямо начинает угрожать Франции разорением, которое должно совершиться под эгидой имени Пушкина. Чудовищность этой идеи, впрочем, кажется, заставляет его остановиться и дописать к своим стихам примирительный «постскриптум», где непосредственный виновник гибели Пушкина Дантес отделен от нации в целом.
Перед нами, таким образом, случай ярко официозного освещения социальной трагедии, и он весьма интересен, так как обращает наше внимание на некоторые особенности создавшейся в 1837 г. общественной ситуации. Известны донесения Либермана, сообщавшего прусскому двору об антифранцузских настроениях, проявившихся, в частности, во время похорон Пушкина, и анонимные письма этого же времени, обвинявшие в гибели поэта иностранцев[289]. Эти настроения встречали негласную поддержку при русском дворе, резко отрицательно настроенном к французской парламентской системе и к правительству Луи-Филиппа. Стихи гвардейского поэта были их подчеркнутым выражением; они не могли бы быть допущены к печати из дипломатических соображений, но ни в коей мере не могли стать предметом политического преследования. И здесь достойно внимания, что официозно настроенный поэт неожиданно берет себе в союзники Лермонтова. «Смерть поэта» — разумеется, без последних 16 строк, еще не существовавших к 7 февраля 1837 г., — он рассматривает как отражение той же, близкой ему, «антифранцузской» точки зрения. Это, конечно, аберрация, но легко объяснимая, и она проливает свет на парадоксальные на первый взгляд особенности цензурной истории стихотворения Лермонтова. А. Н. Муравьев вспоминал, что «бурю» против Лермонтова вызвала последняя строфа; в остальной же части стихотворения ни он, ни А. Н. Мордвинов, ни Бенкендорф не нашли «ничего предосудительного»[290]. Заключительные 16 строк проясняли адрес лермонтовской инвективы; без них стихотворение можно было при желании трактовать в почти официозном духе, как это сделал неизвестный нам поэт. Любопытно, что С. А. Раевский в своем «Объяснении» по поводу этих стихов прямо пытался навести власти на такое толкование, подчеркивая, что они направлены против «иностранцев», не подлежащих русскому суду; он обращал внимание на патриотические настроения Лермонтова и в доказательство приводил его стихи «Опять народные витии…» — подражание стихотворению Пушкина «Клеветникам России»[291].
Следы подобной трактовки мы улавливаем и позже; при этом важно отметить, что сам Лермонтов ее учитывает и недвусмысленно противодействует ее распространению. В декабре 1839 г. секретарь французского посольства барон д’Андрэ от имени посла де Баранта осведомляется у А. И. Тургенева: «…правда ли, что Лермонтов в известной строфе своей бранит французов вообще или только одного убийцу Пушкина?». Лермонтов спешит сообщить Тургеневу точный текст, из которого оказывается, что «он и не думал поносить французскую нацию». Этот эпизод разыгрывается в напряженный момент франко-русских отношений и накладывает отпечаток на всю историю дуэли Лермонтова с сыном Баранта. «Заключительной репликой» этого спора, по удачному выражению Э. Г. Герштейн[292], было «Последнее новоселье» Лермонтова — по общему мнению, стихи «антифранцузские», в которых, однако, автор, как будто предупреждая подобное толкование, ставит один очень важный и симптоматичный «пушкинский» акцент:
Резкая характеристика относится к буржуазной «толпе», «растоптавшей в пыли» национальную славу, и она требует объяснений и обоснований («Ты жалок потому…» и т. д.). «Великий народ» — историческая характеристика, атрибутивно присущая нации в целом. Здесь совершенно тот же ход мысли, что и в пушкинской статье «Последний из свойственников Иоанны д’Арк»: «Жалкий век! Жалкий народ!»[293].
Таковы проблемы, которые ставит перед нами новонайденный текст[294].
Приложение
P. S.
Денис Давыдов — поэт[300]
«Давыдов, как поэт, решительно принадлежит к самым ярким светилам второй величины на небосклоне русской поэзии», — писал в 1840 году Белинский, заключая свой обширный очерк литературной деятельности «поэта-партизана», — лучший памятник, который поставила ему русская критическая и эстетическая мысль XIX века. «…Давыдов примечателен и как поэт, и как военный писатель, и как вообще литератор, и как воин — не только по примерной храбрости и какому-то рыцарскому одушевлению, но и по таланту военачальничества, — и, наконец, он примечателен как человек, как характер. Он во всем этом знаменит, ибо во всем этом возвышается над уровнем посредственности и обыкновенности. Говоря о Давыдове, мы преимущественно имеем в виду поэта; но чтоб понять Давыдова как поэта, надо сперва понять его как Давыдова, т. е. как оригинальную личность, как чудный характер, словом, как всего человека…»
Слова Белинского были не просто данью уважения и художнического удовлетворения, — они заключали в себе концепцию творчества, причем ту самую, какую хотел бы услышать сам Давыдов из уст своих современников. «Он был поэт в душе; для него жизнь была поэзиею, а поэзия жизнью»[301], — этой именно характеристики ждал и добивался Давыдов, когда писал свою автобиографию, когда убеждал Н. М. Языкова, что имеет право на внимание как «один из самых поэтических лиц русской армии»[302]. Заметим: не как храбрый воин, не как выдающийся военачальник и даже не как талантливый поэт, — но как то, и другое, и третье, взятое в нераздельной целостности и органичности.
Денис Васильевич Давыдов родился 16 июля 1784 года в Москве, в старинной дворянской семье, связанной узами родства с Раевскими, Каховскими, Ермоловыми, Самойловыми и др[303]. Военная профессия была для Давыдовых традиционна, и семи лет мальчик был уже знаком с бытом военного лагеря, а девяти — видел «великого Суворова» в доме отца; об этой встрече, как о самом своем сильном детском впечатлении, он рассказал в особом очерке[304]. В свою автобиографию он включил, однако, и другое воспоминание: тринадцати лет или около того от роду, умея только «лепетать по-французски, танцевать, рисовать» и зная начатки музыки, он познакомился в Москве с питомцами Университетского благородного пансиона, — они доставили ему случай прочитать «Аониды», альманах Н. М. Карамзина. Пример новых знакомых, печатавшихся в «Аонидах», воспламенил «честолюбие» будущего поэта, — но из-под пера его вышли лишь довольно нелепые сентиментальные стихи о пастушке и «изменившей» ей овечке. Этот эпизод в своем существе важнее и серьезнее, чем он предстает в пародийном рассказе Давыдова: он указывает на пробуждение литературных интересов будущего поэта и на его первоначальную литературную среду — кружок литераторов, собиравшихся вокруг Карамзина; с «университетским питомцем» Жуковским у него потом установятся прочные литературные связи, а стихи самого Карамзина в «Аонидах» отразятся в его собственном творчестве.
Формирование личности Давыдова падает на годы павловского террора, затронувшего и его семью, и родных: А. М. Каховский, А. П. Ермолов были сосланы как участники так называемого «смоленского заговора»; в 1798 году отец Давыдова попал под суд по делу о беспорядках в полку. Имение Давыдовых было конфисковано, и семья бедствовала многие годы; Давыдов вспоминал, что, живя в Петербурге, он по неделям вынужден был питаться одним картофелем. Переворот 11 марта 1801 года открыл перед «дворянским недорослем» возможность службы в столице: в том же году Давыдова отвозят в Петербург и с большими трудностями определяют эс-тандарт-юнкером в Кавалергардский полк. Социальное воспитание юноши завершается в атмосфере первых лет александровского царствования, с их либеральными веяниями, оживлением политической жизни, свободным обсуждением общественных проблем во вновь возникающих журналах. Он сближается с кружком офицеров Преображенского полка, куда входили в числе других С. Н. Марин и А. В. Аргамаков, непосредственные участники заговора 11 марта; это была среда светская, военная и литературно-театральная. К кружку примыкали Д. В. Арсеньев, Ф. И. Толстой («Американец»), Г. В. Гераков, А. А. Шаховской; родственные и дружеские узы связывали их с домом знаменитого мецената А. Л. Нарышкина, директора императорских театров, и, с другой стороны, — с приютинским литературным гнездом А. Н. Оленина, откуда в ближайшие же годы выйдут деятели двух противостоящих литературных партий. Марин и Шаховской станут членами «Беседы любителей русского слова», Давыдов, Батюшков — «Арзамаса», но это произойдет позже: в 1801–1803 годах эстетическое размежевание еще не осуществилось до конца.
В кругу преображенцев Давыдов воспринимает стихию сатиры и пародии — характерную принадлежность домашних литературных кружков и домашней поэзии. Здесь она сочеталась с оппозиционным духом; так, Марину принадлежали две очень известные в свое время сатиры на «гатчинцев»: «1796-го году, ноября 7-го» и «Пародия на Оду 9-ю Ломоносова, выбранную из Иова» (1801). В царствование Павла оживилась рукописная сатира, — репрессии не могли остановить ее потока. С ослаблением цензурного пресса социальные и политические проблемы, вызванные к жизни только что минувшим царствованием, начинают обсуждаться уже печатно.
В этих условиях появляются ставшие знаменитыми басни молодого Давыдова — «Голова н Ноги» и «Быль или басня, как кто хочет назови», известная также под названием «Река и зеркало». Он воспользовался сюжетами, распространенными и актуальными как раз в начале века: они ставили проблему гражданской ответственности монарха — одну из центральных для просветительской социологической мысли. В «Были или басне…» Давыдов конкретизировал сюжет: упоминание о «Сибири», куда «деспот» ссылает правдолюбивого вельможу, проясняло социальный адрес — речь шла о русском царе (царствующем или историческом). Вторая же басня — «Голова и Ноги» — оказывалась бесцензурной уже по самой своей проблематике. Согласно доктрине, широко распространенной в XVIII веке, социальная гармония обеспечивается незыблемой иерархией состояний; нарушение ее ведет к анархии и гибели социального организма. У Давыдова изменена сама исходная точка рассуждения: реально существующей является не гармония, а дисгармония в общественных отношениях, и вина за нее лежит на «голове», которая превысила предоставленную ей обществом власть. «Монархия» переросла в «деспотию». Теперь общество может применить к «деспоту» санкции в силу естественного права. Такой вариант решения проблемы выбирало радикальное крыло Просвещения (в частности, Радищев в «Вольности»); нет сомнения, что Давыдов осмыслял здесь и социальный опыт цареубийства 11 марта.
Эти басни сразу же получили распространение. В. Д. Давыдов, конечно со слов отца, рассказывал, что его ранние сатиры стали известны «по милости услужливых друзей»[305]. По-видимому, все же отношение к ним «друзей» было двойственным: не чуждаясь свободоязычия, они в новых условиях вряд ли сочувствовали политической фронде; во всяком случае, в стихах самого Марина мы неоднократно находим восторженные упоминания Александра I.
Переписывая басни Давыдова, они досадовали на его юношескую дерзость; в печатной отповеди Аргамакова «мальчишке пустомеле» была упомянута и басня «Голова и Ноги»: «И Ноги заставляешь болтать нам вздор и ложь». Впрочем, это была не война идей, а скорее предостережение.
Сатирические стихи Давыдова не остались без последствий: автор их получил «головомойку» от петербургского генерал-губернатора, а 13 сентября 1804 года был выписан из поручиков Кавалергардского полка в армию, в Белорусский гусарский полк, стоявший в окрестностях Звенигородки в Киевской губернии. Обстоятельства этой фактической высылки нам неизвестны, хотя современники их знали: Давыдов не раз рассказывал о них (в частности, фельдмаршалу Каменскому) и описал в не дошедшей до нас части своих записок[306].
Репутация сочинителя антиправительственных стихов, якобы наказанного за них ссылкой в Сибирь, еще более укрепилась за Давыдовым, когда в начале 1805 года стала распространяться басня «Орлица, Турухтан и Тетерев», которую устойчивая традиция приписала его перу. Эта басня — один из наиболее резких памфлетов на Александра I и его ближайшее окружение: новый царь, пришедший на смену убитому «тирану», — «скупяга из скупых», берегущий «крохи» и отдавший царство «любимцам», которые разоряют его, насаждая коварство и бесчестность. Именно об этом — о строгой экономии, установленной Александром в личных расходах и пожалованиях, и неоправданной расточительности средств в бюрократических учреждениях — будет писать Карамзин в записке 1811 года «О древней и новой России…»[307]. Критика, справедливая и проницательная, шла, однако, со стороны консервативной оппозиции либеральным реформам Александра. «Орлица, Турухтан и Тетерев» пишется в 1804 году, когда в Сенате и только что учрежденных министерствах шла борьба между сторонниками «старой» и «новой» партий; первая, консервативная, обвиняла Александра в отказе от государственных форм екатерининского времени. Давыдов говорит буквально то же самое, и осведомленные современники вряд ли случайно связывали басню с выступлениями таких «недовольных», как А. С. Шишков или А. С. Хвостов — столпы консервативной оппозиции, — а в «любимцах» «Тетерева» видели либеральное окружение Александра I. Резчайший антиправительственный памфлет оказывался порождением не революционной, а фрондерской идеологии, причем с чертами консерватизма.
Служба в Белорусском гусарском полку не была для Давыдова обременительной. Его начальник, Б. А. Четвертинский, брат известной красавицы, фаворитки императора М. А. Нарышкиной, вскоре стал ближайшим приятелем Давыдова. Бывший кавалергард, ныне гусар, входит в атмосферу гусарского быта. Плодом новых впечатлений явились знаменитые послания Бурцову (1804), получившие широчайшую популярность и во многом определившие литературную репутацию их автора.
Успех их был симптомом времени. «Молодечество», «удальство» становилось характерной чертой эпохи. «Попировать, подраться на саблях, побушевать где бы не следовало, это входило в состав нашей военной жизни в мирное время. <…>…Военно-кавалерийская молодежь не хотела покоряться власти, кроме своей полковой, и беспрерывно противодействовала земской и городской полиции, фланкируя противу их чиновников. Буянство хотя и подвергалось наказанию, но не почиталось пороком и не помрачало чести офицера, если не выходило из известных, условных границ»[308]. Ф. Булгарин, которому принадлежат приведенные строки, цитировал при этом «Песню» Давыдова («Я люблю кровавый бой…»), удостоверяя, что «так, в самом деле, думали девять десятых офицеров легкой кавалерии» в начале столетия. Это время создает легенды об удальцах — силаче Лукине, героических авантюристах Н. А. Хвостове и Г. И. Давыдове; его порождением был и Федор Толстой — «Американец», близкий приятель Д. Давыдова, яркая, талантливая и «преступная» личность, реальные похождения которого обрастали устными анекдотами, формировавшими легенду. Люди начала века, ровесники и младшие современники Давыдова, составили и тот «гусарский» круг, в котором вращался юный Пушкин; к нему принадлежали П. П. Каверин, члены «Зеленой лампы» и театральных собраний Н. В. Всеволожского. К нему, наконец, принадлежал и сам Денис Давыдов. Стихи, обращенные к Бурцову, «гусару гусаров», уходили своими корнями в реальный социальный быт и социальную психологию[309]. В них отражалась новая система этических ценностей, где «буянство» перестало почитаться пороком.
Однако чтобы стихи к Бурцову стали фактом литературы, смены этических ценностных ориентаций было недостаточно; нужны были сдвиги в шкале эстетических ценностей. Екатерининское время также изобиловало примерами «удальства», но мы не знаем случаев его эстетизации или героизации. В XVIII веке Бурцов мог быть в лучшем случае героем травестированной ироикомической поэмы, бурлеска, сущность которого заключалась в контрасте между «высоким» способом и «низким» предметом изображения. «Литературный Бурцов» — это Буянов из «Опасного соседа» В. Л. Пушкина (1811) или гусар в отставке Угаров в «Липецких водах» А. А. Шаховского (1815) — комическая фигура «хвата», с его невоспитанностью, бесцеремонностью и интеллектуальным кругозором любителя лошадей, собак и кутежей с цыганками. В системе эстетических оппозиций «высокое — низкое», определявшей литературные представления XVIII — первой четверти XIX века, гусарским стихам Давыдова места, конечно, не было; они могли стать эстетическим фактом только тогда, когда утвердилась новая система оппозиций: «поэтическое — прозаическое». Бурцов у Давыдова — герой поэтический, а под поэтическим понимается то, что выходит за пределы жизненной ординарности, размеренности, регулярности.
Такой герой требовал резко экспрессивных форм словесного изображения. И современников, и потомков поражала и нередко шокировала «грубость» давыдовских «гусарских» стихов. Но «грубость» эта не самоценна, она мотивирована самым обликом носителя речи или адресата. И его положение в социальном мире, и его речевое поведение противопоставлены бытовой повседневности (а в нее более всего и прежде всего включался этикетный, организованный светский быт), как сфера «поэтического» сфере «прозы»[310]. В этом отношении «гусары» Давыдова предвосхищают, например, героев Бестужева-Марлинского, противопоставленных «ледяному свету» как носители естественного, эмоционального, не подчиненного условностям начала, — и, быть может, отчасти поэтому глава русской романтической прозы уже в 1820-е годы будет открыто демонстрировать свою приверженность поэзии Давыдова и даже посвятит ему свой «Замок Нейгаузен». И так же, как у Бестужева, и даже еще в большей степени, бытовое правдоподобие у Давыдова — иллюзия. «Ясной сабли полоса», заменяющая зеркало, «куль овса» вместо диванов, «ташка с царским вензелем» в роли картины — все это быт не реальный, повседневный, а полемически соотнесенный с ним, быт функциональный, стилизованный, почти символический, своеобразная форма будущей романтической экзотики.
Но и в этих подчеркнуто стилизованных формах быт играл свою роль: он расширял и видоизменял область эстетически допустимого в традиционной батальной лирике. Он становился атрибутом «рядового» героя, заменившего теперь героя «возвышенного», и непременной принадлежностью «гусарской песни», вытеснявшей военную оду. «Гусарщина» Давыдова, несомненно, была симптомом демократизации поэзии.
Современники — вне зависимости от того, принимали ли они или отвергали ее эстетическую основу, — ощущали ее как открытие и как своего рода индивидуальную монополию Давыдова-поэта. Давыдову пытались подражать; Батюшков в «Разлуке» (1812–1813) сделал попытку перевести Давыдовские «гусарские» стихи на язык своей поэзии — и потерпел неудачу. Пушкин иронически отозвался об этом творческом «споре». В лицейские и первые послелицейские годы он сам создавал стихи в духе Давыдова — и также без большого успеха. «Гусарская песня» не была ни долговечной, ни продуктивной; она не создала в русской поэзии сколько-нибудь устойчивого жанрового образования, и, как мы увидим далее, сам Давыдов более ее не разрабатывает. Значение ее было в другом: она расшатывала сложившуюся батальную традицию и отыскивала новые, деканонизирующие формы лирической экспрессии, оказавшие воздействие на соседние жанры — элегию и романс.
Стихи к Бурцову писались юношей, еще ни разу не видевшим сражения. В 1805 году Кавалергардский полк был при Аустерлице, Белорусский гусарский оставался в тылу. Влиятельные друзья — и более всех Б. А. Четвертинский — хлопотали о возвращении Давыдова в гвардию, и небезуспешно: 4 июля 1806 года его переводят поручиком в лейб-гвардии гусарский полк. В начале сентября он прибывает в Петербург. Он стремится в действующую армию и даже предпринимает отчаянный ночной визит к фельдмаршалу графу М. Ф. Каменскому, о чем рассказывал позднее в одном из очерков. Ему помогло ходатайство М. А. Нарышкиной-Четвертинской, взявшей молодого лейб-гусара под свое покровительство: ее стараниями Давыдов получил должность адъютанта П. И. Багратиона и 5 января 1807 года выехал на театр военных действий. 24 января он получает первое боевое крещение в деле у Вольфсдорфа, а 26–27 января участвует в «гомерическом побоище» при Прейсиш-Эйлау, которое навсегда осталось для него самым сильным впечатлением войны: в течение полутора суток он выдерживает артиллерийские атаки — «…широкий ураган смерти, все вдребезги ломавший и стиравший с лица земли все, что ни попадало под его сокрушительное дыхание…» («Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау 1807 года января 26-го и 27-го»)[311]. Вместе с армией он проходит путь до Фридланда и становится очевидцем встречи Александра и Наполеона в Тильзите. Летом 1807 года вместе с Багратионом он отбывает в Россию.
Несколько месяцев Давыдов проводит в Москве. Двадцатитрехлетний штаб-ротмистр, боевой офицер, прошедший наполеоновскую кампанию и увенчанный за храбрость Прейсиш-Эйлауским крестом и прусским орденом «Pour le merite», «утопает» в «московских веселостях» и, «как в эти лета водится, влюблен <…> до безумия»[312]. Здесь происходит его сближение с кружком московских литераторов, в частности с Жуковским; его стихи — «Договор», «Мудрость», — написанные по возвращении из похода, появляются в свет в изданиях Жуковского — «Вестнике Европы», «Собрании русских стихотворений», наряду со стихами Батюшкова и молодого Вяземского. В феврале 1808 года он покидает Москву: началась русско-шведская война, и Давыдов спешит догнать армию в Шведской Финляндии. С разрешения Багратиона, он поступает в авангард Я. П. Кульнева, одного из примечательнейших военачальников суворовской школы, известного своей легендарной храбростью и оригинальностью характера. Под началом Кульнева он служит всю кампанию 1808–1809 годов, участвует в нескольких смелых вылазках и в труднейшем переходе по льду Ботнического залива. Багратион представляет его к награде, но безуспешно: в глазах правительства Давыдов продолжал оставаться неблагонадежным.
Летом 1809 года Багратион был назначен главнокомандующим Задунайской армией, действовавшей на театре русско-турецкой войны; 23 июля он прибывает в Галац и 11 августа принимает командование. Давыдов находится при нем «во всех сражениях того года». В его формулярном списке отмечены участие во взятии Мачина (18 августа), Гирсова (22 августа), сражения при Рассевате (4 сентября), под Татарицей (10 октября)… Когда Багратион был отставлен от командования, Давыдов поступает снова в авангард Кульнева; 22 мая 1810 года он сражается под стенами Силистрии, 11–12 июня — под Шумлой. На этот раз правительство вынуждено наградить его: он получает алмазные знаки ордена святой Анны 2-й степени и — с марта 1810 года — чин ротмистра. Но он сам отказывается от дальнейшего служебного продвижения, когда новый главнокомандующий, граф Н. М. Каменский, входит в резкий конфликт с военачальниками, с которыми Давыдов был связан родственными и дружескими узами, — когда из действующей армии один за другим уходят граф П. А. Строганов, обвиненный фельдмаршалом в рассеивании порочащих его слухов, и Н. Н. Раевский. «Человек, покровительствованный генералом Раевским, — писал он последнему 14 июля 1810 года, — не может уже остаться на поприще брани, где господин Каменский прячется»[313]. Неудачный штурм Рущука 22 июля укрепил его в намерении «дать тягу». В следующем же месяце мы находим его у Раевского в Яссах, затем в Каменке, имении В. Л. Давыдова, а в 1811 году — в Москве и Петербурге. 25 августа 1811 года он пишет из Петербурга письмо Вяземскому — первое дошедшее до нас из их многолетней переписки. В письме — следы не остывших еще московских литературных впечатлений. С Вяземским Давыдов уже на «ты»; с В. Л. Пушкиным он близок настолько, что тот, по приезде в Петербург в 1811 году, является к нему читать «Опасного соседа». И это, конечно, лишь ничтожная часть его литературных связей. В том же письме он передавал поклоны Ю. А. Нелединскому-Мелецкому. Это существенно, если вспомнить рассказы Вяземского о «великолепных праздниках» у Нелединского, в его доме около Мясницкой, куда были приглашаемы молодые литераторы — в их числе Давыдов и Жуковский[314]. В стихах Давыдова есть след знакомства с поэзией Нелединского-Мелецкого (см. примечание к стих. «Что пользы мне в твоем совете…»). И наконец, еще один результат московских встреч: появление в «Вестнике Европы» 1811 года нескольких стихотворений Давыдова.
Письмо Вяземскому пишется накануне отъезда Давыдова в Житомир, где с осени 1811 года находилась главная квартира 2-й Западной армии под командованием Багратиона. Давыдов вернулся не к Каменскому, а к «генералу своему», как говорит он в автобиографии. Это время для него было временем бездействия, заполняемого курьерскими поездками и «беседами» с «соименным его» Дионисием-Вакхом; сын добавляет к этому, что поэт был влюблен, как всегда, и отпрашивался у начальника во внеочередные отпуски, пропадая по нескольку недель и возвращаясь лишь тогда, когда рассерженный Багратион грозился отправить его в полк[315].
О своих сердечных увлечениях в 1811–1812 годах и более ранних сам Давыдов упоминал постоянно. Почти все его стихи 1810-х годов — это стихи о несчастной любви и измене. Мы можем назвать адресатов некоторых из них, например, Аглаю Давыдову; о других мы ничего не знаем и располагаем лишь неясными намеками в поэтических текстах. Так, в двух его элегиях — пятой и седьмой — упоминается о возлюбленной, с именем которой герой бросался в сечу, четвертая же элегия содержит признание: «в ужасах войны кровавой» (т. е. в 1812–1814 годах) герой еще «не знал» адресата. Элегии посвящены разным лицам, и это предопределило несведенность лирических мотивов внутри цикла, выстроенного задним числом.
Вместе с тем стихи Давыдова 1810-х годов — факт прежде всего литературный, а не биографический, и литературная их генеалогия представляет значительный интерес. Они отражают воздействие «легкой» и уґже — анакреонтической поэзии XVIII столетия, представленной, в частности, в «Аонидах». Выход «Анакреонтических песен» Державина (1804) оживил традицию, вызвав поток подражаний, в том числе в творчестве близких Давыдову Марина и Аргамакова. В «Мудрости», «Чиже и Розе» мы имеем дело с языком анакреонтической лирики, унаследовавшим от галантной, прециозной поэзии аллегоричность и перифрастичность, равно как и эмблематику образов типа «зефиров», «мотыльков» и самой «розы». Однако даже эти стихи написаны уже рукой, создавшей «бурцовские» послания. В изысканные и манерные аллегории то и дело вторгается дух шуточной и сатирической домашней поэзии. Так, в «Мудрости» аллегорические персонажи предстают в каком-то обытовленном, почти басенном виде. Стихия комического окрашивает галантные стихи, придавая им полупародийный характер. Это особенно ясно сказывается в «Договоре». Давыдов писал элегию — так это стихотворение рассматривала затем критика и так считал сам Давыдов, одно время включавший его в элегический цикл. Через двадцать пять лет он объявил его сатирой и усилил резкость сатирических характеристик. Но «Договор» был и тем и другим — опытом синкретического жанра, объединявшего противоположные начала. Жанр этот не удержался в русской поэзии: в эпоху становления «унылой элегии» он был просто непонятен, — и колебания автора были показательны. Элегические мотивы и ситуации вплелись здесь в контекст сатирической панорамы. Самый сюжет, оформленный словесно в дипломатических профессионализмах: «первая статья», «статья вторая» и т. д., — соотносился с многочисленными стихотворными «объяснениями в любви» от имени моряка, врача, портного и пр.; эта традиция сказалась, между прочим, в «Послании г<ра-фу> В<елеурско>му» (1809) Батюшкова («И новый регламент, и новые законы в глазах прелестницы читать») и в «Песне» («Как залп ужасный средь сраженья…») С. Н. Марина:
Имя Марина, наиболее заметного представителя домашней, кружковой поэзии начала века, возникает здесь не случайно: напомним, что и сам Марин обращался к источнику «Договоров» — «Mes conventions» Э. Виже. Пародийное описание трагедии в давыдовской сатире-элегии (у Виже его нет), где герой как попало ударяет деревянным кинжалом «княжну», с которой потом едет домой ужинать, — находит соответствие в «Превращенной Дидоне» Марина, где подобным же образом вскрывается условность театрального действа: в нем «никто не умирает», и вестник объявляет зрителям о том, что делается за кулисами, соблазняя их скорым окончанием и грядущим ужином. Существенно, однако, что пародийное начало у Давыдова не снимает и не снижает лирического, оно сочетается и сосуществует с ним, расширяя диапазон авторской интонации и по своей функции сближаясь с романтической иронией. В «Гусаре» Давыдов будет иронически обыгрывать тривиальную образность галантной поэзии: «голубка», «свивающая гнездышко» в кивере гусара, «Амур», гуляющий с гусарской саблей, — но эта устаревшая эмблематика будет скрывать серьезное лирическое содержание. Постоянная смена авторского отношения к изображаемому (переменная модальность текста) — уже достояние новой поэзии: классицизм требовал единства и определенности эмоционального колорита.
1812 год стал переломным в биографии Давыдова. Собственно, Отечественная война и создала привычный нам облик «поэта-партизана», закрепленный традицией. С началом военных действий Давыдов просит Багратиона о переводе в Ахтырский гусарский полк, чтобы «служить во фронте». Командуя первым батальоном, он в течение июня — августа принял участие по меньшей мере в восьми сражениях, а 21 августа предложил Багратиону свой план систематической партизанской войны. План этот, одобренный Багратионом, был встречен с недоверием другими военачальниками, однако Кутузов поддержал его, и Давыдов получил отряд, хотя и весьма скромный: 50 ахтырских гусар и 80 казаков. Так начался его знаменитый партизанский рейд, многократно описанный в исторической литературе, в том числе и самим Давыдовым («Дневник партизанских действий в 1812 году»), — рейд, нанесший ощутимый ущерб тылам наполеоновской армии и ставший началом развернутого и организованного партизанского движения, занявшего большое место в военных планах Кутузова. Уже в двадцатых числах сентября Кутузов считает нужным особо отметить «поиски» Давыдова, в том числе на Смоленской дороге. 28 октября соединенные отряды Давыдова, Фигнера, Сеславина и Орлова-Давыдова одерживают при Ляхове решительную победу над корпусом генерала Ожеро и берут в плен самого командующего.
9 декабря партия Давыдова, двигавшаяся в направлении Виленской губернии, вступила в Гродно. Армия Наполеона уже отступила за Неман. 24 декабря был отдан приказ о перераспределении частей армии, и отряд Давыдова вошел в состав главного авангарда под командованием генерала Ф. Ф. Винценгероде. Самостоятельные действия Давыдова оканчивались; заслуги его наконец были признаны. По представлению Кутузова он получил чин полковника, ордена святого Георгия 4-го класса и святого Владимира 3-го класса. Еще важнее была репутация «отца партизанской войны», приобретенная Давыдовым. Давыдов настаивал на своем приоритете, который современники и позднейшие исследователи иногда оспаривали, и, может быть, не без оснований; дело было, однако, не в хронологическом первенстве, а в убедительной разработке и обосновании самого принципа и роли партизанского движения в современной войне, — принципа, блестяще подтвержденного военной практикой Давыдова и закрепленного затем в его исторических сочинениях. Партизанское движение опиралось на убеждение в народном характере Отечественной войны 1812 года, — и Давыдов вспоминал потом, как пришло к нему осознание необходимости «в народной войне» «<…> не только говорить языком черни, но приноравливаться к ней и в обычаях и в одежде»[316]. Характерно при этом, что официальный патриотизм афишек Ростопчина Давыдова резко отталкивал; его «приноравливание» предполагало не искусственную стилизацию псевдонародного слога, а органическое сближение с солдатом и крестьянином. Оно происходило естественно; о нем Давыдов рассказал в своих поздних мемуарах.
4 января 1813 года, на третий день после перехода границы, «партизан Ахтырского полка Давыдов», «сходно с приказанием», присоединился к корпусам Винценгероде[317]. Пройдя Вислу и Одер, авангард направился к Дрездену. Подойдя первым к столице Саксонии, Давыдов решился овладеть ею и, после переговоров с защищавшим город генералом Дюрютом, заключил трехдневное перемирие и 10 марта 1813 года вступил в Дрезден. Подошедший 13 марта Винценгероде не санкционировал этих действий; Давыдов был отрешен от командования; ему грозил военный суд. Заступничество Кутузова спасло его; по личному распоряжению Александра I он был возвращен в армию, но уже не получил прежней команды. То с Ахтырским полком, то во главе «партии наездников» он совершает весь заграничный поход 1813–1814 годов до самого Парижа. 23 мая 1814 года, получив шестимесячный отпуск, он выезжает в Москву. Здесь застает его и весна 1815 года.
Давыдов писал в автобиографии, что по возвращении «он предается исключительно поэзии и сочиняет несколько элегий».
Война не отразилась в его поэтическом творчестве, — ее осмысление наступает позднее и ретроспективно. Почти полное отсутствие стихов за 1812–1813 годы как нельзя лучше опровергает легенду, создававшуюся самим Давыдовым, — что его сочинения писались «при бивачных огнях», в минуты отдыха между сражениями. Для поэзии ему нужен был досуг, увлечения, мирная жизнь, полная сменяющихся культурных впечатлений и интеллектуального общения. О Давыдове — «говоруне», «словоохотливом весельчаке», рассказчике, острослове вспоминают многие мемуаристы. И. И. Лажечников много лет помнил, как он однажды встретил Давыдова в 1813 году в кружке Н. Н. Раевского, в садике одного из силезских городков: «С азиатским обликом, с маленькими глазами, бросающими искры, с черною как смоль бородой, из-под которой виден победоносец Георгий, с брюшком, легко затянутым ремнем», он что-то рассказывал под хохот окруживших его офицеров. Речь его была остроумна и саркастична, — это качество, памятное всем, его слышавшим, сам он высоко ценил и закрепил его в автохарактеристике в стихотворении «Полусолдат»:
Лажечников, конечно, вспоминал эти стихи, когда писал о Давыдове: «Хлестнет иногда в кого арканом своей насмешки, и тот летит кувырком с коня своего»[318]. Эта индивидуальная особенность находила выход в эпиграммах, которые Давыдов писал легко и охотно, до самого конца жизни; в этом же качестве он предстал перед кругом своих московских друзей. Еще не оправившаяся от страшных разрушений, Москва праздновала победу «в шумных кликах торжества», «запивая» «свой пожар и блеск похода», как потом вспоминал об этом Вяземский, воскрешавший в стихах «К старому гусару» (1832) «весь тот мир, всю эту шайку беззаботных молодцов», к которой в первую очередь принадлежал и Давыдов. Давыдов очень любил эти стихи и варьировал из них строки: «Будут дружеской артели Все ребята налицо». Уже через десятилетие с лишком эта эпоха рисовалась ему как дни юности и «заблуждений разгульных, любовных и поэтических», когда собирались «за шампанским с Толстым, с Жуковским, с Батюшковым» (письмо Вяземскому от 20 июля 1828 года)[319]. От нее остается целая серия анекдотических рассказов о гомерических кутежах. Эта «поэзия разгула» в значительной мере условна. Тот же Вяземский вспоминал впоследствии, что Давыдов «поэтизировал», говоря о своих попойках, что он был всегда очень возбужден и «умен <…> был, а пьяным не бывал»[320]. В свое время Ермолову придется объяснить Николаю I разницу между реальным Давыдовым и поэтическим образом Давыдова-гусара, а князю А. Г. Татищеву успокаивать будущую тещу поэта: «Давыдов, когда его хорошо узнаешь, только хвастун своих пороков»[321].
«Хвастовство» имело, однако, социальный смысл и функцию, которую очень хорошо чувствовали современники эпохи, например Ф. Н. Глинка. Оно было эмоциональным бунтом против казенной регулярности, «монотонии и глухой обыденности», бунтом, скрывавшим за собою субъективное неприятие существующих социально-бытовых, нравственных и даже политических норм[322]. Еще в 1820-е годы «вакхическая» поэзия будет в ортодоксальном сознании связываться с понятием «либерализма». Такая связь зарождается в первые послевоенные годы, — и не случайно именно из «дружеской артели» выходят гедонистические стихи с прямыми политическими аллюзиями, подобные стихам Вяземского «К партизану-поэту» (1815). Денис Давыдов становится героем целой серии подобных посланий, — это как раз та фигура, которая дает благодарный материал для поэтического обобщения: «счастливый певец Вина, любви и славы» (В. А. Жуковский, «Певец во стане русских воинов», 1812), «Анакреон под дуломаном, Поэт, рубака, весельчак» (Вяземский, «К партизану-поэту», 1815). Обращенные к нему стихи составляют своего рода антологию, которую сам Давыдов тщательно собирал и переписывал, и в этой антологии за ним закрепляется привычная для нас формула «поэт и партизан», — характеристика не профессиональная, а образно-поэтическая, обе части которой соединены и взаимно обусловлены по законам художественной связи. К этому поэтическому портрету прочно прикрепляется также поэтическая тема дружеского пира; при этом послания к Давыдову опираются на его собственные, ходившие в списках «гусарские» стихи и воскрешают фигуру Бурцова — своего рода символ гусарской вольницы.
Стихи Давыдова 1814–1815 годов включаются в этот общий контекст. Но как раз его послание Ф. И. Толстому — «Болтун красноречивый…» (1815) — показывает, какой сдвиг произошел в его творчестве. «Болтун красноречивый…» — уже не «бурцовское» послание. В нем звучит тема «интеллектуального пира». «Круг желанный Отличных сорванцов», «владельцы острых слов» — все это решительно противостоит вызывающей примитивности пиров 1804 года. Мотив «остряков» здесь едва ли не доминирующий. Это очень ясно в упомянутых уже стихах Вяземского «К партизану-поэту», перекликающихся с Давыдовским посланием, — на этом пиру
Через несколько лет тема получает прямо социальное звучание в послании Пушкина к «Зеленой лампе» («Горишь ли ты, лампада наша», 1822):
и заново возникает в «декабристских строфах» «Онегина».
Бурцов посланий 1804 года встречал монологи поэта-гусара красноречивым молчанием: «Нос твой рдеет, лоб твой жмется, Отвечать тебе невмочь…» («Бурцову», первая редакция). Здесь противоположный принцип изображения; он будет продолжен в «Песне старого гусара»:
Эта ретроспектива уже тронута легкой иронией: не забудем, что «старые гусары» представлены как «председатели бесед». Между новомодными интеллектуалами, говорящими о Жомини, и «коренными» воинами, чье ремесло — «кровавый бой», появляется новое, ценностно значимое звено: вольнодумцы и поэты, связанные узами дружества и единомыслия. После 1815 года всерьез героизировать Бурцова уже невозможно. И может быть, поэтому в послании Толстому 1815 года нет ни «куля овса», ни «стаканов пуншевых», но есть венки из плюща, Вакх и страсбургский пирог. Быт эстетизирован, интеллектуальный пир проецирован на греческий симпосий. Здесь ощущаются явные и давно замеченные исследователями следы воздействия поэтики Батюшкова.
Литературные отношения Давыдова и Батюшкова мало исследованы, — между тем они составляют особую проблему, весьма существенную при изучении творчества Давыдова. Взаимные оценки поэтов благожелательны, и даже более: Давыдов прямо признается в своем «восхищении» «гением» Батюшкова[323]. «Бурцовские» послания Давыдова эстетически подготавливали «Мои пенаты»: бытовая сфера батюшковского послания — «стол ветхий и треногий С изорванным сукном» — функционально близка давыдовской, при всех внешних различиях; это тоже быт не повседневный, а символический. С другой стороны, батюшковский «ленивый мудрец» появляется уже в стихотворении Давыдова 1813 или 1814 года («К Е. Ф. Сну…»). Когда в 1814 году выходят из печати «Мои пенаты», они меняют поэтическую систему давыдовских посланий. Самый стих послания «Болтун красноречивый…» — астрофический трехстопный ямб «Моих пенатов», а античный колорит — не колорит в собственном смысле, но поэтические эвфемизмы, своего рода эквиваленты «высокого», «поэтического», «украшающего» слога. Этот язык не был исключительной и индивидуальной особенностью «Моих пенатов»: за ними последовали два других послания Батюшкова — «К Ж<уковско>му» (1812) и «Ответ Т<ургене>ву» (1812); в первом из них есть описание эпикурейского обеда, близкое к тому, какое мы находим в послании Давыдова:
В разное время и вне хронологической последовательности в печати появляется целый ряд посланий, порожденных «Моими пенатами»: «К Батюшкову» Жуковского, «К Д. В. Дашкову» В. Л. Пушкина, «К подруге» и «К Батюшкову» Вяземского. Стихи Давыдова к Ф. Толстому включаются в этот поток (частью, несомненно, известный Давыдову до печати) и усваивают его поэтические темы, — не только тему дружеского пира, но и другую: тему «двора» и «света» как благ иллюзорных, мнимых, которым противопоставлены подлинные жизненные и духовные ценности. Тема эта порождает словесные формулы с устойчивыми значениями. «Молодые счастливцы», «баловни природы» — эти поэтические фразеологизмы из «Моих пенатов» войдут затем как ключевые в декларации Пушкина и «союза поэтов». Но определение «счастливцы» появляется у Батюшкова, и с негативным смыслом:
Именно в этом значении формула появится у Давыдова — много позже, в элегии «Бородинское поле»:
Здесь была уже не только поэтическая, но и общественная ориентация.
Еще в 1814 году за сражение под Бриеном Давыдов был произведен в генерал-майоры. В конце года в приказах было объявлено об ошибочном производстве. Это недоразумение, выяснившееся только в 1815 году, было для Давыдова еще одним доказательством настороженно-недоброжелательного отношения к нему двора и более всего великого князя Константина Павловича. Но Давыдов столкнулся, скорее всего, не столько с личной «ненавистью», сколько с военно-бюрократической машиной, безличными общими распоряжениями, силой которых его удерживали без дела в Варшаве всю вторую половину 1815 года, гасили его воинскую инициативу, заставляли заниматься штабной работой, «парадами и формировкой». В январе 1816 года он в Киеве; он получает наконец следующий чин и назначения; сначала при начальнике 1-й драгунской дивизии, затем, по неотступным просьбам, во 2-ю гусарскую дивизию. В 1818–1819 г oдах он начальник штаба 7-го, затем 3-го пехотного корпуса, дислоцированного в Кременчуге. Оставленный в глубокой провинции, он стремится не сидеть на одном месте и проводит время в инспекторских смотрах и беспрестанных поездках то в Киев, то в Москву и Петербург. Ему нужен дом и семья; в 1816 году он собирается жениться на Е. А. Злотницкой, но брак расстраивается. Все эти перипетии отражаются в его стихах.
1815–1819 годы — годы наибольшей близости Давыдова к деятелям тайных обществ юга — близости и чисто географической, и идейной. Он дружен с М. Ф. Орловым; он свой человек в Тульчине и Каменке. Его ближайшие покровители, сослуживцы и друзья поддерживают тесные связи с активнейшими деятелями будущего декабризма: Пестель, И. Г. Бурцов — доверенные лица П. Д. Киселева, М. А. Фонвизин — Ермолова, С. Г. Волконский станет зятем Н. Н. Раевского. Да и сами Киселев и Ермолов занимают в военной администрации особое положение: они тронуты духом оппозиции настолько, что будущие декабристы рассчитывают на них как на прямых союзников.
О политике правительства Давыдов в эти годы высказывается резко и недвусмысленно. Он преисполнен отвращения к Аракчееву и аракчеевщине, военной бюрократии, «парадным генералам», наследникам гатчинских экзерцицмейстеров, «пресмыкающимся» перед властью, чтобы снискать «кусок эмали или несколько тысяч белых негров»[324]. Подобно Киселеву и Орлову, он требует уважения к солдату и с энтузиазмом принимается за организацию ланкастерских школ по орловской методе. Он посылает в петербургский «Военный журнал» статьи о 1812 годе, — что в 1817–1818 годах было общественным жестом: тема «народной войны» была в эти годы если не запретной, то нежелательной. Наконец, он знает что-то о проектах «Ордена русских рыцарей» М. Ф. Орлова и М. А. Дмитриева-Мамонова. Но перед декабристскими проектами социального переустройства он останавливается.
«Мне жалок Орлов с его заблуждением, вредным ему и бесполезным обществу, — пишет он П. Д. Киселеву в известном письме 1819 года. — …Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть самовластие в России. Этот домовой долго еще будет давить ее, тем свободнее, что, расслабев ночною грезою, она сама не хочет шевелиться, не только привстать разом. Но мне он не внемлет!» Его план — постепенная «осада», «пока, наконец, войдем в крепость и раздробим монумент Аракчеева»[325]. В отличие от П. Д. Киселева, он не склонен возлагать надежды на реформы сверху; в отличие от Орлова, не верит в эффективность революционного взрыва. В 1823 году он с сочувствием следит за ходом испанской революции и жалеет о падении Мадрида; в интереснейшем письме к А. Я. Булгакову он набрасывает общий очерк политической жизни последних десятилетий: после победы над Наполеоном наступила всеобщая реакция; на сцену вышли «магнетизм» и «Крюднерша» — обскурантизм мистических и политических сект, Священного союза, клерикальных кругов. «Я начинаю верить, — заключает он свое письмо, — что инквизиция и самодержавие есть притягательное дыхание диавола, от коего человеческий род спастись не может»[326]. Это апогей политического критицизма, — но вместе с тем и политического скептицизма. Скептицизм Давыдова не есть стройная, продуманная система взглядов, присущая политическому мыслителю; у него нет и сколько-нибудь оформленной позитивной программы. Он был несомненно искренен, когда говорил о своих монархических убеждениях, — но таких, которые не нравились реальным монархам; подобно многим из умеренных просветителей XVIII–XIX веков, он был противником «деспотии», «самовластия», — и не более того. Он знал, однако, что в реальных условиях России середины 1820-х годов политическая реальность — именно «деспотия», а не «просвещенный абсолютизм», — и не только это убеждение, но и пессимизм, вызванный в нем поражением европейских революций, сближает его с многими деятелями декабризма и с Пушкиным: это охвативший почти всю мыслящую часть общества «кризис 1823 года». Теперь Давыдов готов принять самодержавие как неизбежное зло. В. Д. Давыдов помнил, что отец его возражал даже против конституционного ограничения монархии, предпочитая «одного большого тирана» «массам маленьких, подкрашенных красноречием». К сожалению, мы не знаем, к какому времени относится это высказывание; может быть, оно принадлежит уже 1830-м годам: оно близко той позиции, которая отразилась в «Современной песне». Как бы то ни было, Давыдов продолжал сохранять неприязнь к современной ему официальной России, но в нем крепло и недоверие к «духу революционных преобразований». По-видимому, эти настроения улавливали и члены тайных обществ. По семейному преданию, сохраненному сыновьями Давыдова, заговорщики намеренно избегали его, чтобы не замешать[327]; сам он вспоминал, что, «находясь всегда в весьма коротких сношениях с участниками заговора», он «не был, однако, никогда посвящен в тайны этих господ». Когда на смену Союзу Благоденствия пришли подлинно конспиративные общества, декабристам нужны были уже не сочувствующие и сомневающиеся, но единомышленники. Когда же, незадолго до восстания, двоюродный брат Давыдова, Василий Львович, все же пригласил его запиской «вступить в Tugendbund», он ответил: «Что ты мне толкуешь о немецком бунте? Укажи мне на русский бунт, и я пойду его усмирять»[328]. Эта полушутка как нельзя лучше показывает двойственное положение Давыдова в реальной обстановке современной ему России: критикуя правительство, он ощущал себя «солдатом», обязанным служить верой и правдой, но все время оказывающимся в оппозиции силою вещей. Двойственным было и отношение к нему: его награждали за «службу», но не считали «своим»; не верили в начале его пути, не верили и под конец жизни[329].
Социальное сознание Давыдова получит в его стихах непосредственное отражение позднее, в 1828–1830 годах. Во второй половине 1810-х годов он выступает исключительно как лирический поэт. Это время — период его интенсивного творчества и продолжающихся литературных контактов. Его среда, как и прежде, — московский круг молодых последователей Карамзина, формирующий в 1815–1817 годах литературно-полемическое общество «Арзамас».
Сохранилось очень немного свидетельств об организационном участии Давыдова в «Арзамасе». Он был принят в члены 14 октября 1815 года и получил шуточное прозвище «Армянин» (из баллады Жуковского «Алина и Альсим»). На заседаниях он, по-видимому, ни разу не присутствовал.
Ф. Ф. Вигель вспоминал, что петербургские «арзамасцы» Давыдова «никогда меж себя не видали. Он находился в Москве: там вместе с Вяземским и <В. Л.> Пушкиным составили они отделение „Арзамаса“, и заседания их посещали Карамзин и Дмитриев»[330]. Все это вряд ли достоверно и рассказано по слухам. Александр Тургенев, блюститель традиций «Арзамаса», даже не мог вспомнить арзамасского прозвища Давыдова. То, что прежними издателями Давыдова считалось его вступительной «арзамасской» речью и было в 1893 году напечатано в собрании его сочинений, является, как ныне установлено, слегка отредактированной речью Андрея Тургенева в «Дружеском литературном обществе», относящейся еще к 1801 году[331]. Однако нужно говорить не об участии Давыдова в кружке в собственном смысле слова, а о принадлежности его к неформализованной группе литераторов, которая в современной исследовательской литературе обозначается как «арзамасское братство» и которую объединял не устав и совместные заседания, а дружеские и профессиональные связи, ощущаемые как общность[332]. Эти связи и эта общность установились у Давыдова с Батюшковым, Жуковским, Вяземским еще в начале века; подобно им, он был «арзамасцем до Арзамаса». В «Арзамас» он пришел естественно и разделил с ним профессиональные интересы и даже профессиональные привычки. Он писал Жуковскому в декабре 1829 года, посылая свои стихи: «…все тебе отдаю на суд; ты архипастырь наш, président de la chambre du conseil (председатель суда. — Сост.); что определишь, то и будет…» Его письма Вяземскому пестрят настоятельными просьбами: «Прошу поправить, да непременно поправить, иначе я точно рассержусь»[333]. Позднее он изберет себе и других поэтических арбитров — Баратынского, Языкова. За всем этим стоит литературный быт и психология кружка, причем именно «арзамасского» кружка. И признание безусловного приоритета Жуковского в области поэтического «слога» — несмотря на любые расхождения как социального, так и общеэстетического свойства, и взаимная стилистическая критика, — все это входило в систему литературных взаимоотношений «арзамасского братства». «Критика слога» органически включалась в эстетическую программу «школы гармонической точности» с ее критериями «вкуса», «соразмерности и сообразности». И здесь возникало явление почти парадоксальное. Постоянно подчеркивая непрофессиональность, импульсивность, небрежность своего творчества и стиля, Давыдов настойчиво требует от друзей его «полировки» и в то же время сам с почти педантическим упорством работает над отдельными строками и словами. Не много найдется современников Давыдова, которые бы вносили лексические изменения почти в каждую новую публикацию и даже почти в каждую автокопию своих стихов. Давыдов делал это.
Варианты его стихов, расположенные в хронологической последовательности, дают нам очень выразительную картину типично «арзамасской» творческой лаборатории. За редким исключением, он не создает новых редакций: он отшлифовывает раз написанное на уровне строк и слов, ища логической и гармонической точности и адекватности смысловых и стилистических оттенков. Это именно критика «вкуса»; недаром же он постоянно упоминает в письмах о «нескольких пятнах грязи», которые просит вычистить, и жалуется на неточности, с которыми не может справиться сам.
Ему нужен общий поэтический фон, на котором стилистический оттенок дает семантический сдвиг, не контрастирующий, а гармонирующий с целым, и тем не менее ясно ощущаемый. Это был общий закон поэтики Батюшкова — Жуковского[334].
Давыдов оживляет, казалось бы, стертые поэтизмы, наполняя их конкретно-чувственным содержанием; он играет оттенками, обертонами, соотношениями тропа и общего контекста, — он владеет всеми теми специфическими средствами поэтического языка пушкинской поры, которые были материализацией основного эстетического требования — «вкуса» и «гармонии».
Но этого мало. Он сам принимает участие в коллективных стилистических разборах «арзамасских» стихов с позиций «гармонической точности» — и на это время сбрасывает с себя маску ученика и дилетанта, с профессиональной определенностью заявляя иной раз свое особое мнение. Блестящим примером такого разбора является письмо его Вяземскому о стихах Пушкина «Жуковскому» (июнь 1818 года), приведших в восторг Вяземского и Жуковского. Давыдов решительно противопоставляет их отзывам свое суждение. «Стихи Пушкина хороши, — пишет он, — но не так, как тебе кажутся, и не лучшие из его стихов. Первые четыре для меня непонятны. Но И быстрый холод вдохновенья Власы подъемлет на челе прекрасно! И меня подрал мороз по коже. От стиха сего до рифмы ясным не узнаю молодого Пушкина. В дыму столетий чудесно! но великаны сумрака Карамзина… что скажешь? А мысль одинакая. Замечание твое насчет злодейства и с сынами справедливо. Теперь от рифмы окружен до рифмы земной я слышу Василия Львовича, напев его. Но стих И в нем трепещет вдохновенье — прелестен! Вот мое мнение насчет этих стихов» 2. Это критика не только «слога» — неточностей поэтического словоупотребления. Давыдов идет дальше Вяземского; он касается вопросов лирической композиции, отмечая длинноты, ослабляющие поэтическую энергию. В «арзамасской» фразеологии имя В. Л. Пушкина, «напев» его означали вялость, «водяность» стиха. Во второй редакции Пушкин сократил послание почти наполовину, убрав и первые четыре строки, и всю вторую часть, где находились стихи, напомнившие Давыдову «Василия Львовича»; эта новая редакция создавалась уже тогда, когда Пушкину могли быть известны давыдовские замечания.
У нас есть все основания считать, что именно в «арзамасской» среде, в Москве, в конце 1817 — начале 1818 года созрела мысль об издании первого сборника стихов Давыдова. Он должен был открываться элегиями. Новый период творчества «поэта-партизана» проходил под знаком элегий, написанных им в 1814–1818 годах, посвященных разным адресатам, но ныне выстроенных в единый лирический цикл, — своего рода книга элегий, подобная IV книге «Po é sies é rotiques» Парни и, вероятно, прямо на нее ориентированная. Единство цикла обеспечивалось единством лирического героя и лирической эмоции; каждая ситуация составляла как бы главу лирического романа, обозначенную заглавием. Это собрание читал Жуковский, сделавший замечания по жанровому составу и вовсе не коснувшийся стиля.
Здесь возникает еще один ложный парадокс. Давыдов упорно требовал от Жуковского поправок, — Жуковский с таким же упорством отказывался их делать. «Ты шутишь, требуя, чтобы я поправил стихи твои. Все равно, когда бы ты сказал мне: поправь (по правилам малярного искусства) улыбку младенца, луч дня на волнах ручья, свет заходящего солнца на высоте утеса и пр. и пр. Нет, голубчик, не проведешь»[335]. «Прелесть» «музы Давыдова» для Жуковского — именно в ее «небрежности», непосредственности, способности быть мгновенным отпечатком душевных движений, сохраняя ту эмоциональную энергию, которая исчезает при прикосновении «искусства». Именно ее, как мы видели, искал Давыдов в стихах «молодого Пушкина».
Это качество поэтической энергии, экспрессии сам Давыдов более всего ценил в своих стихах, употребляя для ее обозначения метафору-термин «огонь». «Огонь» в его элегиях принадлежал самому лирическому герою, решительно отличавшемуся от героя «унылой элегии», родоначальником которой был сам Жуковский и которая под пером его последователей уже начинала превращаться в канон. Элегический герой Давыдова страстен, а не уныл и не мечтателен, и роль его — действие, а не медитация. Поэтому на него не распространяются и те этические и эстетические запреты, которыми ограничена сфера чувств и поведение «унылого» элегического героя. Ему доступна ревность и желание мести; он не спиритуалистичен, а скорее чувствен. Когда Пушкин в стихотворении «Мечтателю» (1818) объявит войну концепции «унылого» элегического героя, он прежде всего поставит под сомнение подлинность его чувства и противопоставит ему давыдовского героя. Истинная любовь — не «тихое уныние», а «страшное безумие», «бешенство бесплодного желанья». Строка из VIII элегии Давыдова осмысляется здесь как формула романтической концепции любви.
Пушкин признавался, что уже в молодости под влиянием Давыдова стал писать «круче» и «приноравливаться» к его «оборотам»[336]. «Кручение стиха» — тоже своеобразная формула, которой Пушкин определял поэтику давыдовских элегий. При этом он имел в виду вовсе не гусарскую «грубость», которая в элегиях полностью отсутствует, а их экспрессивный рисунок. Упомянутая нами превосходная VIII элегия очень показательна в этом отношении. Поэтический синтаксис этой элегии не «элегичен» — в том смысле, в каком это слово употребляла формирующаяся теория жанра, — он принадлежит скорее ораторскому периоду. Для элегий Давыдова характерен зачин-обращение, личное или внеличное:
Здесь не просто поэтический прием — здесь стилевой ключ. Элегия строится на вопросительной или восклицательной интонации. Это заметил Пушкин, — когда в «Андрее Шенье» он заставит заговорить элегического поэта:
он словно станет варьировать интонационно-синтаксический рисунок IX элегии Давыдова:
Но вернемся к «Элегии VIII». Ораторская интонация нарастает; лирическая тема «возлюбленной» строится на анафорических повторах. Портрет ее возникает отраженно, в восхищенном созерцании. В нем нет никаких описаний, ни одной конкретно узнаваемой черты — как развевающиеся по ветру волосы героини батюшковской «Тавриды», — в нем говорит чистая эмоция.
Повтор, еще подчеркнутый паузой переноса, кольцеобразно замыкает тему «возлюбленной». Возникает вторая тема — «любовника»; она вступает в свои права в следующих строках, где, совершенно так же, как в первом четверостишии, лирическая эмоция нарастает, нагнетается уже средствами лексики — беспорядочно, на первый взгляд, нагромождаемыми однородными сказуемыми, словно поэт мучительно ищет единственного точного и всеохватывающего слова. Но это иллюзия: хаос здесь мнимый. Он точно выверен и рассчитан. Глаголы, призванные передать состояние героя, не тождественны по значению — они играют тончайшими смысловыми оттенками:
Создается экспрессивное поле, в следующих строках еще повышающее свое напряжение:
Этот эмоциональный гиперболизм станет затем особенностью любовной лирики 1830-х годов. Стихи Давыдова предвосхищали и поэтический «хмель» Языкова, и метафорическую экстатичность «байронистов» лермонтовского поколения, и эротику Бенедиктова. Но у Давыдова ценностные и эмоциональные ореолы слова не поглощают его логического значения, как это нередко будет случаться в поэзии 30-х годов: экспрессивность стиха умеряется требованием «гармонической точности»[337].
Элегии Давыдова ждала своеобразная судьба. Их поэтические открытия сказались не ко времени в эпоху господства «унылой элегии». Последняя в 1810-е годы была продуктивным жанром, из которого предстояло вырасти аналитической элегии Баратынского. В 30-е же годы Давыдов отказывается от этого жанра и смотрит на свои элегии как на стихи «старинной выделки». Он не сумел сам оценить своего новаторства, но очень ясно ощущал генеалогию своих стихов.
Дело в том, что корни давыдовской элегии уходили еще в доромантический период. Она создавалась не после «унылой элегии», а параллельно с ней, и ее «строительным материалом» была «легкая поэзия», анакреонтика, послание, промежуточные жанровые формы типа стансов и «песен». Поэтому-то жанровые каноны новой, преромантической элегии и не оказали воздействия на Давыдова: он прошел мимо них. В эпоху, когда русская поэзия культивировала героя шиллеровских «Идеалов» или «Падения листьев» Мильвуа, его героем продолжал оставаться элегический либертин, обрисованный в стихах Парни. Он сохранил в своей элегии и то, против чего боролись элегики новой формации: сложное переплетение стилистических и модальных планов — от гнева до лирической жалобы и иронии, от патетики до просторечия. Поэтому источники и аналоги его элегиям обнаруживаются иногда за пределами элегического жанра.
Как и ранее, он более всего близок к Батюшкову, многие стихи которого знает, вероятно, до печати. В элегии VII есть след воздействия батюшковского «отрывка» «Воспоминания»:
Эти стихи еще не были напечатаны, когда Давыдов писал:
Он переводит девятую элегию Парни, как будто следуя по пятам за Батюшковым, и оказывается ближе к нему, чем к оригиналу:
У Батюшкова, в том же 1816 году:
Или в «Элегии VII» Давыдова:
Это парафраза батюшковского «Веселого часа»:
Еще более интересно, что в его элегиях оживают структурные принципы любовных стихов Карамзина, некогда прочитанных им в «Аонидах», — «К неверной», «К верной», «Послание к женщинам», «Отставка», — эти стихи, объединенные темой любви и измены, он хорошо помнил и иной раз сознательно перефразировал (см. примечание к стих. «Ответ на вызов написать стихи…»). Они уже вовсе не были «элегиями» в понимании первого десятилетия XIX века: они допускали рассуждение, сентенцию, прозаизм, иронию — все то, что исключила новая элегия и что сохранил Давыдов. В «Отставке» Карамзина мы находим уже знакомый нам случай метафорического использования профессиональной военной лексики, — такой же, как в давыдовском «Неужто думаете вы…» (кстати, в первой публикации названном «Отставка», а во второй — «Неверной»). В «Послании к женщинам» мы без труда обнаружим почти «давыдовские» патетические монологи, с вопросительными и восклицательными интонациями, с широким эмоциональным диапазоном:
Это все очень близко II элегии. А вот — в том же послании — темы и интонационный строй элегии VII:
Эту связь, видимо, и ощущал Давыдов, когда причислял свои элегии к галантной поэзии предшествующего столетия. Но он переоценивал значение их родословной, ибо сами стихи принадлежали уже новой эпохе.
Военная карьера Давыдова практически оканчивается в начале 1820-х годов. В 1819 году он женится на С. Н. Чирковой («выходит замуж», как острит Федор Толстой) и живет в Москве и под Москвой, числясь в длительных отпусках. Его неприязнь к военной бюрократии отлично известна в столице; к тому же с юных лет он пользуется репутацией неблагонадежного. В 1822–1824 годах Ермолов несколько раз просит о переводе его на Кавказскую пограничную линию, о чем хлопочут Закревский и Волконский, но на все ходатайства следует отказ. «Нет нам удачи с Денисом, — пишет Закревскому обиженный Ермолов, — и больно видеть, что неосторожность и некоторые шалости в молодости могут навсегда заграждать путь человеку способному»[338]. В 1823 году Давыдов окончательно выходит в отставку.
В эти годы расширяются его литературные связи. Имя его окружено ореолом легенды; реальный облик проецируется на его стихи. Молодой М. П. Погодин, встретивший его у А. В. Всеволожского, записывает в дневник: «Огонь! — с каким жаром говорил он о поэзии, о Пушкине, Жуковском.
В молодости только можно писать стихи, надобно гроза, буря, надобно, чтоб било нашу лодку отовсюду <…> Теперь я в пристани, на якоре. Теперь не до стихов! Как восхищался Байроном, рассказывал места из него <…> Негодует на Жуковского, зачем он только переводит. — Нет воображения. <…> Говорил о своем дневнике, биографии и пр. Огонь, огонь»[339]. Этот стилизованный портрет романтического поэта отчасти сознательно создавался самим Давыдовым.
Он легко и свободно сходится с литературной молодежью; А. А. Бестужев и Грибоедов попадают под его обаяние. В 1824 году он буквально засыпает Закревского просьбами об облегчении участи Баратынского и вместе с Жуковским и А. Тургеневым добивается наконец почти недостижимой цели; освободить опального поэта от солдатской лямки, выхлопотав ему офицерский чин и вожделенную отставку. С этого времени начинается постоянное литературное общение Давыдова и Баратынского.
Стихов в эти годы он, по-видимому, вообще не пишет и работает только над военными сочинениями: выпускает «Опыт теории партизанских действий» (1821, 1822) и публикует в «Московском телеграфе» «Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона» (1825). Однако он пишет свою автобиографию — ту самую, о которой упоминал Погодин и которая была в ранней редакции готова уже в 1821 году.
Здесь, в Москве или в подмосковной, застает Давыдова известие о восстании 14 декабря. Как он принял это известие, мы не знаем. С отъездом в Москву прервались его личные контакты с членами южных обществ, и еще в 1822 году, получив стереотипное требование подписки о неучастии в масонских ложах, он с возмущением написал Закревскому, что эта «форма» для него «неприлична», так как он не был и не будет ни в масонах, ни в каких других тайных обществах[340]. Следствие над декабристами обнаружило непричастность Давыдова к заговору, но, несмотря на это, у нового правительства он пользовался симпатиями, быть может, еще меньшими, нежели у прежнего. Неприязнь была взаимной. В «Анекдотах о разных лицах…», писанных Давыдовым для себя, рассеяно множество рассказов, рисующих Николая I в крайне невыгодном свете, — рассказов о давнем недоброжелательстве императора к кумиру Давыдова — Ермолову, о бессмысленной педантической жестокости к участникам восстания, о страхе, испытанном им 14 декабря… Хотя следствие не коснулось самого Давыдова, оно затронуло его ближайший дружеский и родственный круг — М. Ф. Орлова, В. Л. Давыдова, семью Раевских, Грибоедова, а Вяземский и Баратынский, с которыми он был тесно связан в Москве, находились в глухой оппозиции к новому режиму.
Тем не менее Давыдов рассчитывает на перемены и начинает хлопотать о возвращении на службу. Успех означал бы для него гражданскую реабилитацию. В первых числах августа 1826 года, в дни коронационных торжеств, он был принят императором и обласкан. Николай поступил с Давыдовым почти так же, как месяцем позже — с Пушкиным: он стремился нейтрализовать и привлечь на службу лучшие силы прежней оппозиции. Вместе с тем здесь был и более близкий, прагматический расчет: представление Давыдова роковым образом совпало с началом русско-персидской войны.
Николай I отправил Давыдова на Кавказскую линию, к Ермолову, сделав то, чего Ермолов и Давыдов тщетно добивались от Александра I в течение двух лет. Но устранение Ермолова было уже предрешено императором: несколькими днями ранее на линию был отправлен генерал И. Ф. Паскевич, формально в качестве помощника, подчиненного Ермолову, фактически — как его преемник, с особыми полномочиями.
15 августа Давыдов выехал на Кавказ, «со стесненным сердцем» и обливаясь слезами, как признавался он потом в «Воспоминаниях о 1826 годе»[341]. Несмотря на его бодрые заявления в письмах к Закревскому, что он готов «грянуть» и что «надо по крайней мере еще лет пять и две или три войны, тогда только уломают бурку крутые горки»[342], осуществление его мечты о «войнишке» оказалось для него полной неожиданностью. Он был не слишком молод, не вполне здоров, он отправлялся в места, охваченные эпидемией, оставляя детей и беременную жену. Его письма жене с дороги выдают его душевную депрессию[343]. Часть пути он совершает вместе с Грибоедовым, только что освобожденным из-под ареста; их разговоры, несомненно, касаются событий 14 декабря и судьбы, ожидающей Ермолова с приездом Паскевича.
Все эти обстоятельства подготовили тот надлом, который пережил Давыдов в 1826–1827 годах и который прямо отразился в его поэтическом творчестве. Современные свидетельства очень выразительно рисуют нам начавшееся сразу после приезда Паскевича резкое обострение отношений между генералами и атмосферу доносов, наушничества и тайных интриг, которая окружила Давыдова в сентябре 1826 года. Ноты разочарования звучат в дневнике Н. Н. Муравьева: легендарный партизан не оправдывает своей славы — он слаб, нерешителен, не очень храбр, изнежен и капризен[344]. В этих характеристиках сказывалась, конечно, и личность мемуариста — педантического службиста с гипертрофированным семейным самолюбием. Но они — свидетельство из «ермоловского лагеря», и Давыдов в них узнаваем. Он растерян, как растерян и сам Ермолов, подозревавший всех, временами даже Муравьева и Давыдова. От всесильного некогда проконсула Кавказа постепенно отворачиваются друзья и преданные подчиненные — и его охватывает страх: страх перед возможными неудачами, гневом императора, кознями Паскевича. Когда он говорит о неизвестности, его ожидающей, голос его дрожит, он плачет. Это не просто индивидуальные черты поведения Ермолова или Давыдова — это социально-психологическая атмосфера 1826 года с ее подавленностью и всеобщим страхом. Она прямо отражается в стихах Давыдова 1826–1827 годов: в «Полусолдате», в «Партизане», где ясно слышатся нотки психологического диссонанса. Здесь биографические мотивы вырастают до социального обобщения.
Сам Давыдов был одним из немногих, кто сохранил верность опальному генералу и кто провожал его, когда тот, подав прошение об отставке и получив ее, отправился «инвалидом» в свое имение, в апреле 1827 года. Сопровождавший их А. С. Гангеблов, поручик Измайловского полка, член Северного общества, служивший под надзором после десятимесячного заключения в Петропавловской крепости, сохранил в своих воспоминаниях выразительный эпизод: Давыдов обратил на него ласковое внимание лишь после того, как узнал его историю[345].
Давыдов покинул Кавказ почти сразу же вслед за Ермоловым, отнюдь не улучшив, а, напротив, ухудшив свою репутацию в глазах властей. Паскевич поступил с ним по испытанному способу: он медленно, но неуклонно устранял его от дел, пока Давыдов не подал в отставку. «Я увидел, что меня хотят спровадить, — писал он Закревскому 10 августа 1827 года, — и просился прочь, это приняли с восхищением от неимения ко мне доверенности. <…> Я уехал, но несправедливость сия так потрясла всю нравственную систему мою, что я занемог, и серьезно…»[346]
С этого времени в его стихи входит тема «гонителей» и «гонимых».
Он пишет «Бородинское поле» (1829) — одну из лучших русских исторических элегий 20-х годов, полную ностальгии по «гомерическому», героическому прошлому, эмблемой которого становятся имена Багратиона, Раевского и Ермолова, что звучало уже как прямой вызов. Вслед за тем он упоминает о себе, их соратнике, чью судьбу «попрали сильные…». Идея выражена в тексте прямо и недвусмысленно и не нуждается в специальном объяснении, — она почти та же, что в лермонтовском «Бородине». Менее очевидно для современного читателя художественное новаторство «Бородинского поля».
Чтобы оценить его по достоинству, следует иметь в виду, что «рустическая элегия», живописующая патриархальное сельское уединение, была в 1820-е годы живым жанром и что его поэтические темы и ценностные характеристики были предопределены в ней еще знаменитым вторым эподом Горация «Beatus ille…» — о счастливой судьбе земледельца, возделывающего наследственное поле. В 1807 году в бою при Прейсиш-Эйлау Давыдов вспоминал «Тибуллову элегию „О блаженстве домоседа“». Здесь определялись поэтические темы и образы с устойчивой системой коннотаций (сопутствующих значений): «покой» — мир, благоденствие, природа, семейные радости; «война» — убийство, смерть, жестокость. В IX элегии (1818) сам Давыдов находится в пределах этого круга понятий:
Но уже в 1824–1825 годах, в период первой отставки, в его письмах кристаллизуется остро контрастная словесная тема «солдата-хлебопашца» (письмо А. А. Бестужеву, 18 февраля 1824 года). Она достигает своего апогея в двух письмах к А. И. Якубовичу: «тяжело было снести то равнодушие, с каким оттолкнули меня в толпу хлебопашцев» (14 марта 1825). В следующем письме он с восхищением пишет о «богатырских и великодушных» деяниях Якубовича, «несущих на себе отпечаток чего-то гомерического, веющих запахом времен поэтических, ныне столь плоских и прозаических»[347]. Итак, определяется новая система коннотаций: «война» — подвиги, поэзия, деятельность; «покой» — бездействие, угасание, будничная проза. Именно эта система поэтических представлений объясняет, почему Давыдов в 1829 году нарушает свое поэтическое безмолвие посланием к Е. Зайцевскому, — не к Пушкину, не к Вяземскому, не к Баратынскому, но к поэту очень ограниченного таланта, к тому же лично ему вовсе неизвестному. Герой-воин и одновременно стихотворец для Давыдова — символическое воплощение поэзии в «плоские и прозаические» времена. «Земледелец-гусар» стихов 1829 года — жертва века, оксюморонное сочетание, аномалия. Эта поэтическая концепция, решительно противостоящая традиционной, и развита в «Бородинском поле»:
Крошечная эпитафия «На смерть N.N.», относящаяся к тому же 1829 году, довершает картину. Она считалась всегда посвященной Ермолову, но реалии ее, кажется, указывают на другое лицо. В 1829 году умер Н. Н. Раевский. С его смертью для Давыдова уходила в прошлое целая эпоха.
Смерть Раевского стала событием общественным — и почти символическим. М. Ф. Орлов, «государственный преступник», пощаженный Николаем по ходатайству брата и безвыездно заключенный в своем имении, откликнулся на нее «Некрологией», изданной анонимно (1829); Пушкин немедленно отрецензировал ее в «Литературной газете» (1830). «Желательно, — замечал он, — чтобы то же перо описало пространнее подвиги и приватную жизнь героя и добродетельного человека»[348]. Именно эта концепция, очень характерная для декабристских социально-этических представлений (подлинным героем может быть только добродетельный человек), легла в основу «Замечаний на некрологию Н. Н. Раевского», написанных Давыдовым в 1830-м и изданных отдельной брошюрой в 1832 году. Здесь содержалась апология гражданских добродетелей Раевского, приобретавшего под пером Давыдова черты «Агриколы, или Эпаминонда, или Сципиона», воина-философа, равнодушного к славе и почестям и со стоическим мужеством переносившего удары судьбы. О трагедии Раевского он говорит подробно и прозрачно; читатель 1830-х годов, воспитанный на аллюзионной литературе, мог безошибочно подставить конкретные факты: арест двух зятьев — М. Орлова и С. Волконского, отъезд в Сибирь любимой дочери, смерть маленького внука; подозрения и наговоры, окружившие его самого и сыновей. Этот-то человек вырастал под пером Давыдова в символическую фигуру древнего римлянина, противопоставленного «смрадной» современности, «коснеющей в тесной, себялюбивой расчетливости»[349]. Когда Давыдов неосторожно показал рукопись Я. И. де Санглену, некогда главе тайной полиции, тот «откровенно заметил ему, что много либеральных, неуместных идей, печатание которых опасно». Так рассказывал де Санглен Николаю I и получил заверение императора, что и сам он не верит Давыдову, «которого выгнал Паскевич из армии»[350]. Это происходило в 1830 году; Давыдов дал всей истории широкую огласку; он жаловался Закревскому, начальнику московской полиции А. А. Волкову, своему старинному знакомому, на добровольный шпионаж де Санглена; возникла официальная переписка, которая лишь вредила Давыдову в глазах высшей власти[351]. Тем не менее он в 1832 году печатает свои «Замечания» и одновременно включает в свой сборник эпитафию «N. N.», прямо направленную против гонителей героя.
В 1831 году он делает еще одну — и последнюю — попытку напомнить о себе как боевом генерале: добивается командования отдельным отрядом в кампании 1830–1831 годов и участвует в нескольких упорных сражениях. На этот раз правительство считает нужным наградить его: он получает чин генерал-лейтенанта и орден святого Владимира 2-й степени. Из войны он выносит еще укрепившуюся неприязнь к российской военной бюрократии, к старому своему знакомцу И. И. Дибичу и старому врагу — великому князю Константину Павловичу, о чем он прямо написал в своих записках, дав почти гротескный портрет того и другого.
Начинался последний период его литературного творчества. В конце 1820-х годов Давыдов живет в своем именин Маза Симбирской губернии Сызранского уезда, по временам наезжая в Пензу, в Саратов. Деля свое время между хозяйственными делами, травлей волков по пороше и визитами к соседям-помещикам — Сабуровым, Бекетовым, Столыпиным, он обращается к поэзии как к жизненной необходимости. «Мне необходима поэзия, — пишет он Вяземскому, — хотя без рифм и без стоп, она величественна, роскошна на поле сражения, — изгнали меня оттуда, так пригнали к красоте женской, к воспоминаниям эпических наших войн, опасностей, славы, к злобе на гонителей или на сгонителей с поля битв на пашню. От всего этого сердце бьется сильнее, кровь быстрее течет, воображение воспаляется — и я опять поэт!»[352]
В 1828 году он печатает свою биографию, над которой работал уже несколько лет. Биография была манифестом романтического жизнестроения. Взятая вне своего эстетического качества, просто как очерк жизни и деятельности, она производила впечатление безудержного хвастовства, и так ее и восприняли многие современники. Давыдов должен был прибегнуть к наивной мистификации, распустив слух, что она написана другим лицом. Конечно, биография была актом самоутверждения, — но утверждал себя Давыдов прежде всего в качестве «поэтического лица». Отсюда характерная особенность его жизнеописания; вехами жизненного поприща выступают на равных правах смертельно опасные сражения, мирные договоры, «мазурка до упаду», любовные увлечения, кутежи и сочинение мадригала. «При селении Химанго, в виду неприятельских аванпостов», он перевел Делилеву басню «La Rose et l’Etourneau»… Все эти эпизоды почти равновелики, ибо они интегрированы единой личностью — «романтической натурой». Именно эту автоконцепцию Давыдова принимает из его рук Белинский и делает инструментом очень точного и тонкого анализа его поэтического творчества.
В тех же эстетических категориях Давыдов оценивает социальный быт и исторических личностей. Суворов и Наполеон для него — «поэты и витии действия», подобно тому как Пиндар и Мирабо — «полководцы слова». Еще в «Опыте теории партизанских действий» он говорил о «поэзии» партизанской войны; теперь он противопоставлял «расчетливому уму» и методическому маневрированию — «порыв непонятный, неизъяснимый, мгновенный, как электрическая искра»[353]. Это не просто эстетика, это романтическая эстетика, и она глубоко укореняется даже в историческом мышлении Давыдова. Свои военно-исторические труды он также готов представить как плод вдохновения, противопоставив их трудам «мозаических кропателей».
Вместе с тем Давыдов нашел способ манифестировать и свою социальную позицию. Она сказалась в эпиграмматической субъективности оценок; так, рискованным и острым каламбуром он свел старые счеты с генералом Винценгероде. Когда он вторично напечатал свой очерк в качестве предисловия к сборнику своих стихотворений, В. Д. Комовский проницательно писал Языкову: «Видели ли вы стихотворения Давыдова? Жизнеописание особенно примечательно; говорят, оно написано Ермоловым. Если так, то это доказывает, что оппозиция, т. е. такая, к которой непозволительно придираться, и которая, если бы она была у вас, ограничивалась словом, — уже переходит в литературу; перестает брезгать ею или, что то же, становится грамотною»[354].
Теперь — в конце 1820-х годов — Давыдов отказывается от своей прежней позиции поэта, «презревшего печать». Обнародование своих сочинений становится для него единственно реальной формой социального бытия. Естественно, он выбирает для этого издание литературного круга, к которому он уже принадлежал, — «Литературную газету» Пушкина, Дельвига, Вяземского; когда позднее пушкинский круг собирается во вновь организованной «Библиотеке для чтения», Давыдов тоже посылает сюда стихи и статьи. Он порывает с «Библиотекой», когда из нее уходят его литературные соратники, и по тем же причинам: его не удовлетворяет ни «торговая словесность», ни редакторское самоуправство Сенковского. С возникновением пушкинского «Современника» (1836) в числе участников журнала оказывается и Давыдов.
В эти годы как никогда укрепляется его контакт с Пушкиным, за которым он признает безусловно роль главы русской литературы. Гибель Пушкина потрясла его и исторгла у него гневно-пренебрежительные строчки о литературных врагах поэта: «Как Пушкин-то и гением, и чувствами, и жизнию, и смертью парит над ними?»[355] Отзыв характерен: за ним стоит все та же, знакомая нам, всеохватывающая эстетическая концепция «Поэта», воплощением которой становится Пушкин — и как личность, и как творец.
И едва ли не то же мироощущение становится психологической основой сближения Давыдова с Языковым, чему способствовало, впрочем, и довольно близкое соседство их по имениям. Со стихами Языкова он был знаком еще в 1824 году — их пересылал ему через Вяземского Бестужев. В 1826–1827 годах он возит с собою подаренный ему список «Песни короля Регнера» — и в те же годы цитирует Ф. И. Виницкому стихи из обращенного к Языкову пушкинского послания, где содержалась характеристика его поэзии:
Его, несомненно, привлекала экспрессия языковского стиха, в которой он видел родство с духом своей собственной поэзии, и он прямо называет стихи, близкие ему по поэтическому содержанию, — «Песню короля Регнера», «Кубок», «Поэту»: «В Москве этой зимою я впервые прочел пиесу вашу „Поэту“, ту, которая поставлена первою в стихотворениях ваших, — я ахнул. Что за язык! что за поэзия! что за возвышенность чувств — это очарование! а „Кубок“? Что мои хмельные стихи против этих? Сивуха пред шампанским»[356].
В «Поэте» была развернута романтическая концепция поэтической личности, подобная той, на которой настаивал сам Давыдов. Родство обнаруживалось и за пределами собственно стихотворного языка. Когда Языков и Давыдов впервые встретились — это произошло на «мальчишнике» у Пушкина, в Москве, 17 февраля 1831 года, — тяготение оказалось обоюдным. В двух посланиях к Давыдову — «Давным-давно люблю я страстно Созданья вольные твои…» (1832) и особенно «Жизни баловень счастливый…» (1835) — Языков, словно угадав невысказанное желание адресата, создал его стилизованный романтический портрет. Послание Языкова осталось одним из лучших стихотворений, посвященных Давыдову. Пушкин, читая его, прослезился. Портретная формула: «…боец черно-кудрявый С белым локоном на лбу» — стала компонентом легенды, и Давыдов заботился о том, чтобы ей соответствовать. Когда-то определяющим элементом его внешнего облика были усы (он не шутя отказывался от назначений, исключавших ношение усов); сейчас он называет серебристый хохолок своим «flamme de génie» (пламенем гения)[357], — происходит своего рода эстетическая перекодировка самой внешности.
К этому времени он успел уже выпустить в свет свой первый сборник — «Стихотворения Дениса Давыдова» (1832) — и готовил второе, уже более полное собрание.
Сборник 1832 года находился как бы на переломе Давыдовского творчества. Подобно сборнику, замышлявшемуся в конце 1810-х годов и так и оставшемуся в виде рукописной тетради, он открывался книгой элегий. Но среди элегий Давыдов производит строгий, даже слишком строгий отбор: теперь они его не удовлетворяют «старинной выделкой» — и, вероятнее всего, самой жанровой принадлежностью. Когда в 1829 году его постигают новые увлечения, давшие пищу серии любовных стихов, он избирает иные жанровые формы. «Душеньку» — одно из лучших своих любовных стихотворений этого времени — он определяет подчеркнуто перифрастически: «полуода, полуэлегия, полу-черт знает что», «полуэлегические, полуанакреонтические куплеты». Здесь против всех правил и традиций смешаны воедино «ода» (высокий жанр), «элегия» (средний), «куплеты» (едва ли не низкий). Индивидуальное творчество Давыдова идет в русле жанровых исканий 1830-х годов, в которые он сам вложил свою лепту: ему близки теперь романс, песня, поэтический фрагмент. Он, конечно, не отказывается полностью от традиционных форм, даже от элегических, но деформирует их почти до неузнаваемости. Интересно следить, как он движется от замкнутых поэтических структур к более свободным: так, уже «Элегия IX» содержит эллипсис — намеренный пропуск текста, обозначенный точками; это не неоконченность, как нередко считали, а сознательный поэтический прием, такой же, как в «Осени» Пушкина, — и его затем Давыдов будет практиковать, обрывая текст на нерифмующемся стихе и оканчивая двумя строчками точек. Его последний любовный «цикл», адресованный Е. Д. Золотаревой, за небольшим исключением, представляет собою редчайший в русской поэзии жанровый и стилистический эксперимент.
Роман Давыдова с Е. Д. Золотаревой начинается в 1833 году, и тогда же Давыдов пишет Вяземскому, что в нем вновь забил заглохший источник поэзии. Он сообщает о новых и новых стихах, им написанных, — но, за небольшим исключением, все эти стихи — крошечные лирические миниатюры, иногда из четырех строк. Здесь поэтический принцип, который мы вправе связывать с общей эстетической ориентацией Давыдова в тридцатые годы. Отрывок, фрагмент, мгновенная поэтическая вспышка, несущая на себе печать импровизации, непосредственное самоизлияние души — все это ближе всего соотвеетствует концепции «поэтической натуры». Ранняя декларация: «…где есть любовь прямая, Там стихи не говорят!..» — реализуется в поэтическом творчестве. Излишне напоминать, что все эти импровизации правились затем совершенно так же, как ранние элегии, и что на них равным образом распространялось требование коллективной критики. С необыкновенным искусством Давыдов имитировал поэтический дилетантизм, безыскусственность[358] — и отдавал эти стихи в печать, делая исключение лишь для самых интимных, которые могли бы вызвать нежелательную реакцию в семье. Поэтический язык этих миниатюр значительно отличается от прежнего языка давыдовских элегий: в них уменьшается удельный вес поэтической перифразы и увеличивается роль заключительной афористической формулы. Нередко говорят об оживлении в них просторечной стихии «гусарских» стихов Давыдова, — и это верно; но просторечие в них не стилистическая доминанта, а лишь один из элементов стилевого сплава, в котором находят себе место и элегический язык, и язык анакреонтической поэзии, и, наконец, язык стилизации. Они ориентированы то на романс (для пения), то на фольклорный текст («На голос известной русской песни»). Наконец, Давыдов культивирует и точное, внеметафорическое, назывное слово, втягивая его в еле уловимую стилевую атмосферу, создаваемую как вербальными — словесными, смысловыми, — так и вневербальными средствами: ритмическим рисунком, поэтическим синтаксисом. Все эти тенденции, как в фокусе, сосредоточиваются в его маленьком шедевре — восьмистишии «Я помню — глубоко…».
«Я помню — глубоко…» — элегия, принявшая романсно-песенную форму. Элегическому жанру принадлежит лирическая ситуация — воспоминание о прошедшей любви, монологический характер повествования, временная соотнесенность экспозиции и концовки: первая — радостное прошлое, вторая — печальное настоящее. Но элегии нужны символические, традиционные и потому легко узнаваемые формы лирического опосредования, — например, элегический пейзаж. Иначе она лишится единства тона — непременного условия ее поэтики. Именно это и происходит у Давыдова. Зоркость глаза лирического героя, описанная в первом четверостишии, — для элегии непозволительная конкретизация и профанация духовного содержания. Здесь такое описание занимает половину стихотворения; тема «зоркости» реализуется в пространственной перспективе средствами эпического гиперболизма: «и степь обнимал широко, широко». Возникающий как бы ненароком пейзаж слегка окрашен народно-поэтическими ассоциациями. Это входит в замысел. Стихи пишутся амфибрахием, — этот размер употреблялся при стилизации народной песни. Удвоение наречий, обозначающее высокую степень качества, также принадлежит песенному языку. В самом построении стихотворения обнаруживаются черты песенной поэтики: «скачок» от «зорких глаз» к духовной драме, от внешнего к внутреннему, от физического к психическому сродни тому, что в народной песне Пушкин называл «лестницей чувств», а современные фольклористы — «ступенчатым сужением образа». Но Давыдов не стилизует песню: он создает ее стилевую атмосферу. Песня окрашивает легкими рефлексами лирический монолог, который от этого теряет черты элегической жалобы, и образ героя, который перестает быть «унылым». Напротив, это «удалец», только недавно переживавший расцвет физических сил.
Накопленная в первом четверостишии лирическая энергия разрешается в концовке резким контрастом:
Элегическая тема «утраты молодости», переданная языком песни, где «зоркие» — постоянный эпитет, «очи» — не поэтизм, а народнопоэтическая лексика, прямое обращение — традиционный фольклорный прием. «Потухшие очи» — признак старости. Однако в контексте стихотворения этот мотив — ложный, потому что первые строки связаны с последующими причинно-следственной связью. Молодость, сила утрачены потому, что утрачена любовь:
Эта поразительная по своей силе концовка лишена всяких поэтических тропов, кроме, быть может, одного, заключенного во внутренней форме слова: «выглядел» — исчерпал в созерцании до слепоты — смелый неологизм, основанный на безукоризненном чувстве языка. Концовка сводит воедино все лирические мотивы предшествующих строк; построенная как точный параллелизм, на однородных синтаксических конструкциях, она выделяет и подчеркивает два центральных слова — «выглядел» и «выплакал», в которых как бы сконцентрировалось содержание я эмоциональная энергия стихотворения. После каждого из них — резкая пауза, придающая особый драматизм интонации. Давыдов соединил в длинной строке две строчки двустопного амфибрахия с мужской и женской рифмой; произошло стяжение — пропуск слога. В 1830-е годы это был почти уникальный по смелости стиховой эксперимент.
В позднем творчестве Давыдова мы не раз встречаемся с поэтическими экспериментами, различными по характеру и литературной установке. Конечно, они возникают на фоне традиции. Но и в жанровом, и в стилистическом отношениях его лирика 1830-х годов представляет собою гораздо более пеструю и многообразную картину, чем во все предшествующие периоды. В его последнем сборнике, вышедшем уже посмертно, мы встречаемся и с опытом циклизации разновременных стихов — явлением, чрезвычайно характерным именно для тридцатых годов, когда на смену группировке стихотворений по жанровому признаку приходит идея их объединения, по внутренним связям; так было и у Пушкина в последний период его творчества[359].
Посмертный сборник Давыдова (1840) явился как бы итогом этой литературной работы.
Сборник 1832 года — «Стихотворения Дениса Давыдова» — не получил сколько-нибудь широкого общественного резонанса. Давыдов относил равнодушие публики и критики за счет «кружкового» характера своих стихов. Однако когда А. Ф. Смирдин в 1836 году предложил ему издать собрание сочинений, он принял это предложение, и к началу 1837 года у него уже была готова рукопись «Сочинений в стихах и прозе», первую часть которых составляют «Стихотворения». В этой первой части Давыдов и произвел маленькую литературную революцию, настолько необычную и непривычную, что последующим исследователям его творчества она иногда представлялась композиционным хаосом. Между тем она была закономерным следствием его изменившихся эстетических установок.
Давыдов решительно отказался от традиционного жанрового разделения: «элегии», «мелкие стихотворения», на котором был основан сборник 1832 года. Он понял, что структура книги может быть лирической биографией[360]. Он составлял поэму своей жизни, в центре которой стояло «одно из самых поэтических лиц русской армии». Автобиография в начале книги была ее ключом.
«Договоры» начинали этот огромный новый «цикл». Мы говорили уже о двойственной жанровой природе «Договоров», совместивших черты элегии и сатиры. Давыдов редактирует стихотворение так, чтобы элегическое начало было приглушено, а ироническое, сатирическое, «гусарское» вышло на передний план, — и даже разъясняет замысел в специальном примечании. Но примечание содержало долю лукавства и мистификации. Элегия не исчезла вовсе, она лишь была завуалирована и скрыта за защитной маской иронии. Лирический герой постарел на тридцать лет («Увы! не сединой сердца обворожаешь!») — и едва ли не приобрел тем самым новые биографические черты. Во всяком случае, «Договоры» явились исходным пунктом лирической автобиографии — апологией «ветерана», «землепашца» на лоне природы. Далее начинала развертываться его предыстория.
Два послания к Бурцову. «Решительный вечер гусара». «Партизан». «Песня» («Я люблю кровавый бой…»), «Песня старого гусара». «Гусарская исповедь»… Это вехи жизненного и духовного пути — тщательно продуманная и выношенная концепция, где кульминацией является 1812 год, а далее — спад, новое и чуждое время, в котором один «старый гусар» сохраняет память о прошлом и верность прошлому.
На грани этого тематического цикла стоят «Полусолдат» и «Челобитная» — вынужденный конец воинской биографии. Но далее открывается новая ипостась личности поэта — любовь.
Введение в эту «главу» — «Гусар», старые и в целом не слишком удачные стихи, получающие здесь значение декларации. Вторая декларация — уже не в ироническом, а в серьезном регистре — «Возьмите меч…», бывшая «Элегия I». Некогда Давыдов создавал единую «книгу элегий» из стихов, обращенных по меньшей мере к трем адресатам; сейчас книга элегий распалась; из нее включено в сборник только пять; зато в «главу» вошли стихи, адресованные и Золотаревой, и Кушкиной. Все они образуют единый лирический сюжет, начинающийся темой любовных надежд, мучений и счастья: «Жестокий друг», «Вальс», «О пощади!..», «Душенька». «Речка» обозначает конец мажорной темы. Появляется нарастающая диссонансная нота: сначала ветрености возлюбленной (стихи к Аглае Давыдовой: «Если б боги милосердия…»), затем измены; она достигает своей кульминации в трагическом «Я помню — глубоко…». Но уже в пределах ее начинает слабо звучать другая тема: «выздоровления», преодоления кризиса; она выходит на поверхность в ироническом «Неужто думаете вы…» и разрешается в оптимистических анакреонтических стихах: в «Мудрости», в «Болтуне красноречивом…». Эта «глава» завершается эпиграммами, надписями и «Поэтической женщиной». Из этой тональности выпадает эпитафия «На смерть N. N.». Она начинает новую тему, полную социального пессимизма.
«Бородинское поле». «Зайцевскому». «Листок». Гонения, забвение, странствия, «прозаический век».
Последним стихотворением книжки становится «Современная песня».
Денис Давыдов создавал социальную концепцию собственной личности.
Есть своя закономерность в том, что и литературный путь Давыдова закончился «Современной песней» — памфлетом на Чаадаева и «западников», имевшим успех скандала. Резкость этого выступления вызвала реакцию в московских литературных кругах; «Современная песня» появилась в печати уже после смерти Давыдова, когда правительственные репрессии настигли Чаадаева и «Телескоп», где было напечатано «Философическое письмо». Чаадаевская католическая историософия, с ее пессимистическим взглядом на национальное историческое прошлое и будущее, почти не имела сторонников, но все ее потенциальные оппоненты — Пушкин, Вяземский, Баратынский, А. Тургенев — считали неуместным полемизировать с человеком, навлекшим на себя кары официальной николаевской России. Исключением были Ф. Ф. Вигель, давний ненавистник Чаадаева, публично обвинивший его в антипатриотизме, да М. Н. Загоскин, сторонник идеи «официальной народности», выступивший с памфлетом «Недовольные». Все это в создавшихся условиях звучало как прямой донос и так и расценивалось.
Своим стихотворением Давыдов примкнул именно к этому охранительному лагерю, и Вигель в своих позднейших мемуарах рассматривал «Современную песню» как выступление единомышленника. А. И. Тургенев, прочитав ее, высказывал Вяземскому свое возмущение. Нужно признать, что для этого были основания. Нотки официального патриотизма явственно звучат в давыдовском памфлете; «демагоги» западнических кружков, обрисованные в нарочито карикатурных тонах, представлены как жалкие сколки с измельчавших западных либералов, решительно чуждые здоровым началам российского социального организма.
«Современная песня» — критика либерализма «справа», и она, несомненно, показывала рост консервативных и даже охранительных начал в мировоззрении Давыдова. Сквозь призму этих стихов и воспоминаний людей, общавшихся с Давыдовым в его последние годы, прежний «поэт-партизан» рисуется в малопривлекательном виде: степной помещик, опустившийся, отставший от интеллектуальных интересов времени, пристрастившийся к вину — уже не в поэтическом, а в совершенно бытовом смысле, погрязший в семье, хозяйстве, псовой охоте… Эта картина не совсем верна и уж во всяком случае одностороння.
У нас есть основания предполагать, что с чаадаевской исторической концепцией Давыдов познакомился еще в начале 1830-х годов, когда в пушкинском кругу стало известно недавно написанное первое «философическое письмо». События 1830–1831 годов ускорили размежевание общественно-литературных сил; в эти годы обозначаются первоначальные абрисы будущей «западнической» и «славянофильской» концепций. В «Записках о 1831 годе…» Давыдов включился в спор и занял в нем своеобразную позицию. Его представления об историческом пути России отнюдь не совпадали с официозными, выраженными в известной формуле Уварова; они отличались тем самым социальным скептицизмом, который он исповедовал десятью годами ранее и который со временем приобрел ярко выраженный пессимистический колорит. Как и прежде, политическая свобода остается для него «небесной манной», но теперь он убежден, что для нее не пришло историческое время: современное общество погрязло в себялюбии и эгоизме, в пустых аналитических прениях (об этом менее чем через десять лет будет писать Лермонтов в «Думе») и им в жертву принесло «пользу, благосостояние и свободу народов». И ранее народное благо было жертвой честолюбия либо гражданского, либо военного; разница в том, что ныне Наполеон — «этот умственный феномен веков и мира, этот ослепительный метеор, облеченный в очарование высочайшей поэзии», — заменен «девяностолетним дитятей» Лафайетом, а «гомерического, баснословного, грандиозного размера битвы, с отпечатком гениальных соображений» — «площадною свалкою черни в лохмотьях»[361]. Мы без труда узнаем здесь не только идею, но и самую фразеологию «Современной песни», в начале которой появляется неназванный Наполеон — «огромный человек, Расточитель славы»; ему противопоставлены «мошки да букашки» деградировавшего века. Панорама «героев времени», включающая и издавна вызывавшего у Давыдова неприязнь Чаадаева — «маленького аббатика» в салонах «старых барынь», есть лишь конкретизация этой общей идеи, — и Давыдов не забывает отметить, что либералы нового времени отнюдь не следуют своим принципам в собственном жизненном поведении:
Здесь говорит человек, когда-то с негодованием писавший о владельцах «белых негров» и еще в 1834 году рассказывавший Вяземскому, как гусарский майор Копиш, кормивший своих крестьян в голодный год, удостоился от соседей прозвания «бунтовщика» и «посягателя на спокойствие государства»[362].
Все это объясняет, почему «Современная песня» была с одобрением встречена «Отечественными записками», вовсе не склонными сочувствовать памфлетам на западнические кружки, и почему в числе давыдовских карикатур появился сам Ф. Ф. Вигель, конечно никак о том не подозревавший.
Консерватизм «Современной песни» был либерализмом 1820-х годов, пережившим себя. Наступала новая эпоха; она выдвигала новые общественные силы, которые Давыдов уже не смог понять и принять.
В 1837 году, в двадцатипятилетие Бородинского сражения, он начинает хлопотать о перенесении на Бородинское поле праха Багратиона, чтобы похоронить его у сооружавшегося Бородинского памятника. Дело тянулось полтора года; 6 апреля 1839 года Давыдов получил наконец уведомление, что он назначен конвоировать останки своего командира с Киевским гусарским полком. Он приготовил надгробную надпись.
Ему не суждено было совершить этот «поход», с таким нетерпением им ожидаемый. 22 апреля 1839 года он скончался от апоплексического удара. Его погребли в Ново-Девичьем монастыре, в тот самый день, когда в Москву въехал кортеж с гробницей Багратиона.
Антон Дельвиг — литератор[363]
Антон Антонович Дельвиг был одной из самых примечательных фигур в русской литературе пушкинской эпохи. Не обладая ни гениальностью Пушкина, ни выдающимися дарованиями Батюшкова или Баратынского, он тем не менее оставил свой след и в истории русской поэзии, в истории критики и издательского дела, а личность его была неотъемлема от литературной жизни 1820–1830-х гг. Осознание его подлинной (роли в литературе, богатой блестящими именами, приходило с течением времени: так, ближайшему поколению она была не вполне понятна, и даже первый биограф его, В. П. Гаевский, с любовью и тщанием собиравший материалы для его жизнеописания, рассматривал их скорее как подсобные для будущей полной биографии Пушкина[364]. Только в наше время Дельвиг стал изучаться как самостоятельный и оригинальный поэт[365].
Творчество Дельвига нелегко для понимания. Оно нуждается в исторической перспективе, в которой только и могут быть оценены его литературные открытия. Но понять его, осмыслить его внутреннюю логику и закономерности, почувствовать особенности его поэтического языка — значит во многом приблизиться к пониманию эпохи, давшей человечеству Пушкина. Тот, кто решится на эту работу, будет сторицей вознагражден: перед ним раскроются художественные и — шире — духовные ценности, которые были сменены другими, но не умерли и не исчезли и постоянно напоминают о себе нашему эстетическому сознанию — хотя бы тогда, когда мы слушаем романсы Глинки, Даргомыжского, Алябьева, или М. Яковлева на слова Дельвига — «Соловей», «Когда, душа, просилась ты…» и др.
По отцу Дельвиг принадлежал к старинному эстляндскому баронскому роду, совершенно оскудевшему задолго до его рождения; семья жила на жалованье отца, плац-майора в Москве, а потом окружного генерала внутренней стражи в Витебске; за матерью его было крошечное имение в Тульской губернии. Будущий поэт родился в Москве 6 августа 1798 г.; начальное образование получил в частном пансионе. Родители добивались определения его в только что организованный Царскосельский лицей и пригласили учителя. Учитель этот, литератор А. Д. Боровков, отвез мальчика в Петербург. 19 октября 1811 г. начался лицейский период жизни Дельвига, под знаком которого протекли едва ли не все его юношеские и даже зрелые годы.
Мы располагаем сейчас довольно большим числом свидетельств о «лицейском» Дельвиге. В табели за 1812 г., составленной из рапортов преподавателей, имя его стоит на двадцать шестом месте — и на четвертом от конца. Учителя почти единодушно отказывают ему в способностях, а многие — и в прилежании и, может быть, не без оснований: Пушкин, ближайший и любимый его друг, вспоминал, что способности Дельвига развивались медленно, и что до четырнадцати лет «он не знал ни одного иностранного языка и не оказывал склонности ни к какой науке»[366]. «Мешкотность», флегматичность Дельвига обращала на себя всеобщее внимание; она оставляла его лишь тогда, когда он шалил или резвился; в нем открывалась тогда насмешливость и даже дерзость: «…человек <…> веселого, шутливого нрава», «один из лучших остряков», — писал о нем однокашник его Илличевский[367]. Большинство товарищей вспоминало, однако, о нем как о записном ленивце, более всего любящем поспать; эта репутация, отнюдь не лишенная оснований, отразилась и в лицейских куплетах и в пушкинских «Пирующих студентах». Нужно иметь в виду при этом, что в стихах Дельвига «лень» и «сон» — более поэтические, чем бытовые понятия: темы эти были широко распространены в анакреонтической и горацианской лирике и постоянно встречаются, например, у Батюшкова и в лицейских стихах Пушкина.
«Любовь к поэзии пробудилась в нем рано, — вспоминал Пушкин. — Он знал почти наизусть „Собрание русских стихотворений“, изданное Жуковским. С Державиным он не расставался». Он читает — жадно и бессистемно, большей частью во время занятий, преимущественно русские книги, — и за четыре года приобретает репутацию едва ли не лучшего знатока русской литературы среди лицеистов. В 1816 г. директор Лицея Энгельгардт замечает, что Дельвигу свойственно «какое-то воинствующее отстаивание красот русской литературы»[368]. Первые известные нам его стихи — патриотическая стилизация народной песни по случаю занятия Москвы Наполеоном (1812) и оды. Эти ранние стихи очень слабы даже технически, — много слабее, чем у его товарищей.
Война 1812 г. пробудила национальное самосознание и дала новый импульс русской литературе. В нее хлынул поток общественных и эстетических идей, опиравшихся на широкую европейскую просветительскую традицию. Поэзия Жуковского, Батюшкова, Вяземского, Д. Давыдова была преддверием романтического движения, и она решительно захватила литературную авансцену и заставила померкнуть старые кумиры — даже Державина. Литературная жизнь Лицея развивалась под знаком новых веяний.
Юный Дельвиг был непосредственным и ближайшим ее участником. Он постоянный сотрудник рукописных лицейских журналов, а с 1814 г. его стихи начинают появляться в печати. Его формирование как поэта идет стремительно. То, что написано им в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет, стоит на уровне профессиональной поэзии. И Пушкин, и Илличевский в упомянутом уже отзыве называли стихи «К Диону», «К Лилете», где, по словам Пушкина, «заметно необыкновенное чувство гармонии и <…> классической стройности».
«Гармония», «классическая стройность» — категории эстетики Батюшкова и Жуковского. Но поэтическая традиция здесь иная.
Пушкин вспоминал, что первыми опытами Дельвига в стихотворстве были подражания Горацию, которого он изучал в классе под руководством профессора Н. Ф. Кошанского.
Кошанский научил Дельвига понимать латинские тексты, но не мог научить понимать поэзию. Кошанский был «классик», к поэтическим опытам лицеистов относился с предубеждением, и Дельвиг написал пародию на его стихи — «На смерть кучера Агафона». Когда Дельвиг говорил, что «языку богов» он учился «у Кошанского» — это также была пародия. М. Л. Яковлев, однокашник Дельвига, свидетельствовал: «Дельвиг вовсе не Кошанскому обязан привязанностью к классической словесности, а товарищу своему Кюхельбекеру»[369]. С Кюхельбекером же Дельвиг читает немецких поэтов: Бюргера, Клопштока, Шиллера и Гельти. В его лицейских стихах есть следы интереса и к Э. фон Клейсту, и к М. Клаудиусу.
То, что приверженец национальных начал в литературе подражает Горацию и заинтересован более всего немецкой поэзией, — неожиданно лишь на первый взгляд.
Поэты, которых читали Дельвиг и Кюхельбекер — Клопшток и его ученики и последователи, принадлежавшие, как Гельти и Клаудиус, к «геттингенскому поэтическому союзу» или родственные ему, как Бюргер, — были как раз борцами за национальное искусство и бунтарями против классических норм. Они открывали дорогу романтическому движению. Одной из особенностей их творчества было обращение к античности, в частности к античной метрике, как к средству избежать нивелирующей, вненациональной классической традиции, которую связывали прежде всего с влиянием французской поэзии.
Шиллер, как и Гете, воплотил в своем творчестве дух этой переходной эпохи.
Дельвиг и Кюхельбекер обращаются к Клопштоку и «геттингенцам» как раз в тот период, когда в русской литературе начинается «спор о гекзаметре» и о путях перевода «Илиады», — спор, проведший размежевание между «классиками» — сторонниками александрийского стиха — и новым поколением поэтов, требовавшим приближения к формам подлинной античной поэзии. Через несколько лет Кюхельбекер с молодым задором заявит публично, что обновление русской литературы придет через освобождение от «правил» литературы французской, и вспомнят Востокова, переведшего Горация мерой подлинника, Гнедича и Жуковского. «Примявши образцами своими великих гениев, в недавнее времена прославивших Германию», Жуковский «дал <…> германический дух русскому языку, ближайший к нашему национальному духу, как тот, свободному и независимому»[370].
Это пишется в 1817 г.; через несколько лет Кюхельбекер будет требовать освобождения русской поэзии от пут «германского владычества», — но то уже будет в иную поэтическую эпоху. Сейчас и Кюхельбекер, и Дельвиг рассматривают «германский» и национальный русский элемент как внутренне родственные.
Дельвиг, по совету Жуковского, упорно занимается немецким языкам. Кюхельбекер пишет по-немецки не дошедшую до нас книгу о древней русской поэзии, стремясь познакомить Европу со «Словом о полку Игореве», сборником Кирши Данилова и народными песнями.
Дельвиг пишет рецензию на эту книгу (так и не вышедшую) и печатает ее в журнале «Российский музеум» (1815).
В 1817 г. Дельвиг и Плетнев с восхищением читают слабые стихи Востокова. В том же году Кюхельбекер пропагандирует в Благородном пансионе востоковский «Опыт о русском стихосложении».
И отсюда же удивительное сходство стихов Дельвига и Кюхельбекера в первые послелицейские годы, — сходство жанровое, образное, метрическое. Оба пишут «горацианские оды», элегии античным элегическим дистихом, гекзаметрические послания, дифирамбы; оба насыщают свои стихи античными мифологическими и историческими ассоциациями. И даже избирают сходные темы. Так, Дельвиг пишет «Видение», где имитирует античную метрику, и посвящает его Кюхельбекеру, у которого тоже есть «Видение» и «Призрак»; Последнее стихотворение варьирует те же мотивы, что и «Видение» Дельвига. Многое приходит к обоим поэтам от их образцов: так тема исчезающего призрака возлюбленной была популярна у «геттингенцев» (ср. «Die Erscheinung», 1781, или «Die Träume», 1774, гр. Фридриха Леопольда Штольберга). Но заимствованные образы и темы порой изменяются до неузнаваемости. Так происходит с сюжетом идиллии Гельти «Костер в лесу», на основе которой выросла впоследствии одна из лучших русских идиллий Дельвига «Отставной солдат».
Новая русская поэзия осваивала опыт европейского преромантизма, включая его в культурный фонд национальной русской литературы.
Дельвиг окончил Лицей в 1817 г. и вынужден был искать средства к существованию. Он служит в Департаменте горных и соляных дел, в Министерстве финансов и наконец в 1821 г. обосновывается в Публичной библиотеке, где начальниками его были И. А. Крылов и А. Н. Оленин. Служебные занятия его не слишком привлекают; большая доля времени его проходит в литературных общениях.
Конец 1810-х гг. — период литературных кружков и обществ. Лицейские поэты также сформировали кружок, оказавший затем мощное влияние на всю литературную жизнь. В него входили Дельвиг, Кюхельбекер и Пушкин.
Дельвиг был первым, кто гласно предсказал Пушкину блестящую будущность. Его стихи «Пушкину» («Кто, как лебедь цветущей Авзонии…», 1815) и в особенности «На смерть Державина» (1816) декларативно указывали на Пушкина как на преемника Державина, — то есть на главу современной поэзии. Подобно «арзамасцам», участники кружка адресуют друг другу послания; культ дружбы, составлявший в эти годы своего рода литературную тему, здесь приобретает специфические черты: поэтизируется именно лицейская дружба, союз поэтов-единомышленников. Эти формулы — «союз поэтов», «любимцы вечных муз», «святое братство» — возникают в лицейских посланиях и становятся своеобразным знаком связи, за которым реакционерам чудилось нечто вроде масонской ложи. Адресаты посланий, носящие реальные имена, вместе с тем обобщены. Это не «поэты», а «Поэты» с прописной буквы, пророки, страдальцы, противопоставленные «безумной толпе» и презираемые ею, бросающие свой вызов року и судьбе. Самая поэзия рассматривается как жертвенное служение. Поэтому приобщение к ней есть своего рода акт посвящения. О нем постоянно упоминают в стихах: так, Дельвиг называет Кюхельбекера своим «вожатым» в поэтический мир («К Кюхельбекеру», 1817) и гордится тем, что «первый <…> услышал пенье» Пушкина («К Языкову», 1822), — но это отнюдь не только литературный мотив. Когда в Петербург приезжает Баратынский, за мальчишескую шалость исключенный из Пажеского корпуса с запрещением служить иначе как солдатом, Дельвиг берет его под свое покровительство. Они поселяются вместе (это происходит в 1819 г.), ведут веселую, полунищенскую богемную жизнь, и Дельвиг оказывается первым, кто приобщил будущего поэта к творчеству; без ведома Баратынского он посылает в печать его ранние стихи. «Союз поэтов» приобретает нового члена.
«Союз поэтов» был очень характерным явлением в кружковом литературном быту 1810-х гг. Он не был оформленным объединением и включал очень разных поэтов, тем не менее ощущавших свой кружок как некую общность — личностную, психологическую, литературную, социальную. В последнем отношении этот кружок составлял как бы периферию будущего декабризма. И Дельвиг, и Баратынский (не говоря уже о Кюхельбекере) находятся почти в открытой оппозиции к режиму последних лет александровского царствования — к аракчеевщине, официальному мистицизму, цензурной политике. Дух религиозного и политического вольномыслия пронизывает стихи Дельвига начала 1820-х гг. — от «Подражания Беранже» до послания «Петербургским цензорам». О «глупых» и «очень опасных <…> разговорах» Дельвига с беспокойством упоминал Энгельгардт; по некоторым косвенным признакам можно предположить, что Дельвиг склонялся иной раз к весьма радикальным взглядам[371]. Имя его мы находим в числе участников целого ряда преддекабристских и связанных с будущим декабризмом обществ: еще в Лицее он посещает вместе с В. Д. Вольховским и Кюхельбекером «Священную артель»; он участвует в «Зеленой лампе», известной в биографии Пушкина; наконец, он заседает в масонской ложе «Избранного Михаила», через которую прошли многие из будущих декабристских деятелей[372].
Все это определило его позицию в двух больших петербургских литературных обществах: «Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств» («Михайловское» или «Измайловское») и «Вольном обществе любителей российской словесности», называемом иногда «ученой республикой».
В первое из них Дельвиг был принят в 1818 г. Это было общество под председательством известного баснописца А. Е. Измайлова, где задавали тон литераторы старшего поколения, традиционалисты и рационалисты.
Первым стихотворением Дельвига, прочитанным для избрания, было «На смерть Державина». Через месяц он уже сам читает «К Пушкину»; еще через два месяца Кюхельбекер выступает со своим «Посланием к Пушкину». Вся эта кампания, утверждавшая литературный авторитет главы лицейского кружка, почти неизвестного широкой публике, предшествовала приему в общество самого Пушкина. В день же его избрания (18 августа 1818 г.) Кюхельбекер читает «Послание к Дельвигу и Пушкину» — апологию «тройственного союза» «питомцев, баловней и Феба, и природы». Это был почти вызов, литературная «агрессия» группы новых поэтов, только что покинувших лицейские стены.
Не довольствуясь публичными выступлениями, они несли свою эстетику и психологию за кулисы общества, в домашний кружок Софьи Дмитриевны Пономаревой, где безраздельно царили А. Е. Измайлов, платонически влюбленный в хозяйку, идиллик В. И. Панаев, Орест Сомов, впоследствии автор трактата «О романтической поэзии» и ближайший сотрудник Дельвига, а в те годы — защитник просветительского нормативизма. Назревавшее литературное столкновение осложнялось личным.
Салон Пономаревой был одним из самых значительных и самых демократических дружеских литературных объединений 1820-х гг. Здесь бывали почти все знаменитости петербургского литературного мира, привлекаемые более всего любезностью, образованностью и неотразимым обаянием хозяйки. Появление молодежи — Дельвига, Баратынского и других было встречено старшим поколением весьма неодобрительно, тем более что бесцеремонные пришельцы явно завладевали вниманием капризной и непостоянной Софьи Дмитриевны. Дельвиг, несомненно, пережил сильное увлечение и, по некоторым сведениям, пользовался какое-то время взаимностью. След этого чувства остался в ряде его стихов, в том числе в нескольких сонетах, посвященных Пономаревой. Выбор этой формы характерен: в начале 1820-х гг. сонет (не вполне законно) воспринимался как жанр романтической поэзии.
Все это — и личное, и литературное поведение «Союза поэтов» — подготовило «журнальную войну», начавшуюся в 1820 г. на страницах Измайловского журнала «Благонамеренный».
Нам нет необходимости прослеживать подробно эту полемику, которая была неоднократно исследована[373], но важно уловить ее принципиальный смысл. Она началась выступлением О. Сомова против Жуковского. Сомов возражал против «германского» метафорического языка с позиций рационалистических нормативных поэтик. С этой точки зрения, поэтический язык не может отличаться принципиально от языка прозы. Ревизии подвергается аллегоризм, «туманность» символической образности, ассоциативные ряды, возникающие поверх логических значений.
Все это было свойственно и поэзии Дельвига, развивавшейся под воздействием Жуковского и питавшейся теми же истоками. Поэтому «Видение» Дельвига сразу же становится мишенью критических нападок; его обвиняли в «мистицизме». Мистицизму Дельвиг был решительно чужд, и речь шла не о мировоззрении, а о поэтике. Подобным же образом Воейков критиковал «Руслана и Людмилу» Пушкина.
Второй не менее важный упрек касался горацианского и батюшковского гедонизма. «Союз поэтов» обвиняли в посягательстве на нравственность, воспевании оргий и сладострастия. Этот упрек, как известно, адресовали и Пушкину. Возникла даже полемическая кличка «вакхические поэты».
Культ земных радостей, эротические мотивы действительно были свойственны и раннему Баратынскому, и Дельвигу. Это было литературным выражением преромантического, — а затем и романтического мироощущения, где жизненная полнота, почти языческое переживание жизни было едва ли не непременным свойством поэта. Отсюда и обращение Дельвига к таким напряженно лирическим формам, как дифирамб. Все это воспринималось антагонистами как бунт — литературный, моральный и даже социальный.
Полемика, породившая множество пародий, литературных памфлетов, эпиграмм, сыграла значительную роль в становлении русской романтической поэзии. В литературе определялись линии размежевания. В быту эта борьба не всегда разводила полемистов окончательно: так, благодушный Измайлов сохранял и к Дельвигу, и к Кюхельбекеру некоторое доброжелательство.
Тем не менее «союз поэтов» мало-помалу покидает «Михайловское» общество и охотнее посещает второе, «ученую республику», где председателем был Ф. Н. Глинка и где концентрировались более значительные литературные силы. Уже в 1820 г. Дельвиг — активный член этого Общества, в котором примыкает к левому крылу. Он был одним из тех, кто выступил за низложение главы «правой» партии В. Н. Каразина. Ему, конечно, не было известно о тайных доносах Каразина правительству на Пушкина и лицеистов; не мог он знать и того, что Каразин в одном из них цитировал стихотворение Кюхельбекера «Поэты», обращенное к нему, Дельвигу, и находил в нем тайный политический смысл:
Но, и не зная о тайной деятельности Каразина, Дельвиг ясно ощущает свою враждебность его социальным и эстетическим позициям и понимает, что выступление против него — общественный акт. И стихи Кюхельбекера были обращены к Дельвигу не случайно: они были связаны с его одой «Поэт», где утверждалась независимость творчества от властей земных и небесных. Эта ода цензурой пропущена не была.
«Каразинская история» происходит накануне высылки Пушкина из Петербурга — первой политической репрессии, постигшей «союз поэтов». Левая группа «ученой республики» выступает в защиту Пушкина. Дельвиг, Ф. Глинка, А. Бестужев, Рылеев, Кюхельбекер оказываются в одном лагере.
Из этого лагеря выходят потом самые крупные литераторы декабризма. Дельвиг связан с ними и лично, и литературно. Рылеева он сам же и предложил в члены Общества. В 1823–1824 гг. он участвует в «Полярной звезде».
Связи не означали, однако, единомыслия. Дельвигу были чужды и революционные программы общественного переустройства, и открыто публицистическая гражданская литература. Когда из «левого крыла» Общества выделилась радикальная декабристская группа, Дельвиг к ней не примкнул.
В 1823 г. Бестужев жаловался, что в Обществе образовались группировки. Группа Дельвига, Плетнева, Гнедича и Глинки обособилась.
Это размежевание объяснялось не столько политическими причинами, сколько тем, что в 1824 г. Дельвиг начинает собирать свой собственный альманах «Северные цветы», силою вещей вступивший в конкуренцию с «Полярной звездой».
Мы мало знаем о деятельности Дельвига в преддекабристские годы.
Его литературные связи расширились — и тому способствовала работа «альманашника». Он посещает Карамзиных, кружок Воейкова, слепого Козлова; близок с Жуковским и Гнедичем, хорош с Крыловым, налаживает контакты и с Вяземским, и с московскими литераторами. Альманах его становится своего рода организующим центром для петербургской и московской литературы.
«Союз поэтов» существует духовно, но физически разобщен: Пушкин в ссылке, Баратынский служит унтер-офицером в Финляндии, Кюхельбекер странствует и наконец обосновывается в Москве. Пересмотрев свою литературную программу, Кюхельбекер в поисках национальных начал в поэзии отверг прежний «германизм» и элегическую школу, обратившись к традициям архаистической «Беседы».
Процесс переоценки ценностей коснулся и Дельвига. Можно думать, что уже в 1822–1823 гг. в его сознании возникают контуры каких-то больших драматических и лиро-эпических замыслов. Захваченный общим интересом к театру, он переводит акт «Медеи» Лонжпьера и небольшой отрывок из «Маккавеев» А. Гиро. Он выбирает классические трагедии, но такие, в которых брезжат темы и мотивы, подхваченные затем романтиками. В «Маккавеях» его, по-видимому, привлекает и тираноборческая идея. Он лелеет мысль о романтической поэме. Тем не менее ему так и не удается отойти от малых лирических форм: основными жанрами его творчества оказываются идиллия, литературная песня и «антология».
В двадцатые годы XIX в. понятие «антология» применялось главным образом к небольшим лирическим стихам, любовным или описательным, ориентированным на античную эпиграмму периода эллинизма. Интерес к этой жанровой форме, создавшей свою, особую поэтику, близкую к элегической, был характерен для европейского преромантизма. К ней обращались Гете и Шиллер, ее убежденным поклонником и пропагандистом был И. Г. Гердер. В русской литературе обращение к антологической лирике было шагом весьма значительным, который сделал Батюшков и почти одновременно Пушкин. Это был отход от представления об античной культуре как о вневременном эталоне к пониманию ее исторической и художественной определенности. Открытие того непреложного для нас факта, что человек иной культурной эпохи мыслил и чувствовал в иных, отличных от современности, формах и что эти формы обладают своей эстетической самоценностью, и было в существе своем тем, что мы называем историзмом. Но признать этот факт теоретически было легче, чем дать ему художественное воплощение.
Пушкин восхищался идиллиями Дельвига за необыкновенное «чутье изящного», с которым он угадал дух греческой поэзии — «эту роскошь, эту негу, эту прелесть более отрицательную, чем положительную, которая не допускает ничего напряженного в чувствах; тонкого, запутанного в мыслях; лишнего, неестественного в описаниях!» (XI, 98). Это определение очень точно выражает сущность именно «антологической поэзии». Гармоническая уравновешенность, скульптурная пластичность образов — все это характерно для дельвиговских «подражаний древним». «Скульптурность» — не совсем метафора: существовал особый тип греческой антологической эпиграммы, представлявшей собою надписи к произведениям пластического и живописного искусства.
Нет сомнения, что связи Дельвига с русскими художниками и художественными критиками (Пушкин называл его «художников друг и советник») не прошли даром для его поэтического творчества. Так, идиллия «Изобретение ваяния» (а может быть, и «Друзья») писалась для «Журнала изящных искусств» В. И. Григоровича, где помещались только стихи, связанные так или иначе с областью скульптуры или живописи. Антологическая и идиллическая лирика Дельвига оказываются близки друг к другу, однако не только по происхождению: они исходят из единого понимания человеческого характера эпохи античности. Это отнюдь не только исторический интерес. Дельвиг решает проблему, которой была занята русская литература с XVIII в. вплоть до Льва Толстого: проблему «естественного человека». Его условный аркадский мир — это мир, как бы заново открываемый естественным сознанием, наивным и гармоничным. В нем есть все: и всегубящее время, и неразделенная любовь, и смерть, — но есть и любовь счастливая, и дружба, и наслаждение, и они-то движут людьми в этом идиллическом обществе. Это мир чувственный, а не интеллектуальный и более языческий, чем христианский. В этом, между прочим, отличие Дельвига от популярного в 1820-е гг. сентиментального идиллика В. И. Панаева, у которого идиллический мир абстрактен и соотнесен с некими внеисторическими, идеальными нормами морали.
И из тех же общих эстетических принципов исходил Дельвиг в своих «русских песнях». Его не раз упрекали в «литературности», отсутствии подлинной народности. Но Дельвиг не имитировал народную песню. Он подходил к русской народной культуре как к своеобразному аналогу античной культуры и пытался проникнуть в ее духовный и художественный мир. Этого не делал никто из русских поэтов до Дельвига, и мало кто делал после него. Еще при жизни Дельвига ему пытались противопоставить А. Ф. Мерзлякова — автора широко популярных «русских песен», как поэта, ближе связанного со стихией народной жизни. Может быть, это было и так, — но песни Мерзлякова отстоят от подлинной народной поэзии дальше, чем песни Дельвига. Дельвиг сумел уловить те черты фольклорной поэтики, мимо которых прошла письменная литература его времени: атмосферу, созданную не прямо, а опосредствованно («суггестивность»), сдержанность и силу чувства, характерный символизм скупой образности. В народных песнях он искал национального характера и понимал его притом как характер «наивный» и патриархальный. Это была своеобразная «антология», — но на русском национальном материале.
Даже литературные противники Дельвига не могли не признать достоинств его «русских песен», — а сторонники, в частности декабристские литераторы, склонны были считать их лучшей частью его наследия.
Разгром восстания декабристов, резко изменивший соотношение сил в русском обществе и литературе, не затронул Дельвига формально. Он не был членом тайных обществ, вряд ли знал об их существовании и не разделял декабристских программ. В первых последекабрьских письмах его звучит резкое осуждение заговора. Однако как раз эти декларации более всего и подозрительны. Дельвиг был крайне обеспокоен судьбой своих друзей и знакомых и знал, что письма перлюстрируются. У него были все основания бояться и за себя, и за адресатов писем — Баратынского и Пушкина, — и, наконец, за свою только что появившуюся семью. Он женился за две недели до 14 декабря на Софье Михайловне Салтыковой, пережив короткий, но бурный роман, и наслаждался наступившими месяцами семейного счастья. Подтверждая свою лояльность, а заодно и лояльность своих друзей, он рассчитывал, конечно, не на них, а на сторонний глаз в III отделении. В разговорах своих он очень осторожен и избегает политических тем.
Разрозненные и косвенные данные позволяют судить, однако, о тяжелой внутренней драме, пережитой им в 1825–1826 гг. Он был одним из немногих, кто пришел в день казни, 13 июля, к кронверку Петропавловской крепости, чтобы молча проститься с осужденными. Быть может, его рассказы отразились потом в пушкинских рисунках, изображающих казненных. И он не прервал связи с заключенными: он переписывался с Кюхельбекером — тайно, через третьих лиц, и получал от него рукописи; он писал ссыльному Ф. Н. Глинке. В «Северных цветах», а потом в «Литературной газете» он печатал анонимно Кюхельбекера, Н. и А. Бестужевых, Рылеева, А. Одоевского. Его стихи на 19 октября 1826 г. («Снова, други, в братский круг») прямо перекликаются с пушкинским посланием в Сибирь — так же как и некогда написанная им лицейская песня, — «Шесть лет промчалось, как мечтанье». Из нее Пушкин взял слова «Храните гордое терпенье» — один из девизов лицейского братства.
В собственном же его творчестве нарастает драматическая нота. В идиллии «Конец золотого века» Дельвиг показал разрушение аркадского мира. Городская цивилизация принесла с собою «железный век» с его нравами и понятиями, и наивно-патриархальный моральный уклад рухнул под его напором. Это были те же идеи и те же проблемы, к которым с разных сторон и на разной глубине подходили Пушкин в «Скупом рыцаре» и в «Пиковой даме» и Баратынский в «Последнем поэте».
В художественном отношении Дельвиг решился на эксперимент большой смелости: он внес в идиллию трагический конфликт, прямо ориентируясь на сцену самоубийства Офелии в «Гамлете». Вообще проблемы трагедии все более занимают Дельвига в последние годы. Еще в 1819 г. он побуждал Пушкина обратиться к этому роду поэзии. Когда появилась пушкинская «Полтава», он говорил прямо, что сюжет тяготеет к драматической форме. Он с особым вниманием рецензирует исторические драмы, даже слабые («Василия Шуйского» юного Н. Станкевича), анализируя исторические характеры. Его рецензия на «Бориса Годунова», оставшаяся неоконченной, обещала разрастись в целое исследование. И сам он замышляет историческую и социальную трагедию, ориентированную на шекспировскую поэтику.
Это драматическое (и соответственно драматургическое) начало ощущается и в его поздних песнях, и в идиллии «Отставной солдат» (1829), где он пытается создать народный исторический характер, раскрывая его в кульминационный момент Отечественной войны 1812 г.
Все эти творческие замыслы идут рядом с издательской деятельностью.
«Северные цветы» после 1825 г. становятся единственным русским альманахом, объединяющим литературные силы, а дом Дельвига — своего рода центром столичной литературы. Ближайшие помощники его — П. А. Плетнев, а затем и О. М. Сомов, превратившийся из противника в сотрудника, а из сотрудника — в друга и «домашнего человека» Дельвига. Помимо Жуковского, Вяземского, И. И. Козлова, Баратынского, Пушкина, Гнедича, Ф. Глинки, Языкова — прежнего ядра участников альманаха, здесь печатаются теперь и молодые московские литераторы из кружка «любомудров» — Веневитинов, Погодин, Шевырев и следующее поколение лицеистов и пансионеров, которых привлекает к себе Дельвиг: А. Подолинский, М. Деларю. В 1831 г. в альманах приходит и молодой Гоголь. Кружок Дельвига функционирует как литературное общество. О его внутреннем быте вспоминают А. И. Дельвиг, А. П. Керн, Е. Ф. Розен. Литература входит в него естественно и органично; ее не культивируют специально, как это нередко бывало в великосветских аристократических салонах типа салона З. Волконской. Молодое поколение, отнюдь не смотревшее на Дельвига как на мэтра, тем не менее признавало за ним права поэтического арбитра, и Дельвиг естественно взял на себя роль «патриарха» и наставника литературной молодежи.
В 1828 г. в Петербург возвращается Пушкин и сразу же входит в дель-виговский круг на правах одного из идеологических руководителей.
К этому времени «Северные цветы» уже настолько обеспечены литературным материалом, что возникают предпосылки для издания газеты.
1 января 1830 г. выходит первый номер «Литературной газеты» под формальным редакторством Дельвига. Фактически политику ее на первых ворах определяли Пушкин, Дельвиг и Вяземский. Уже с первого номера «Литературная газета» приобрела вынужденно полемический характер. Еще в «Северных цветах» была начата полемика, с одной стороны, против Булгарина, с другой — против литературно-эстетических концепций «Московского вестника». «Литературная газета» не могла остаться в стороне от уже начавшейся борьбы. Когда в первом номере в анонимной заметке, принадлежавшей Пушкину, газета декларировала свой кружковый характер, объявив, что она издается «не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могущих по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов»[374], возражения посыпались как из рога изобилия. Собственно, эта статья своим вызывающим максимализмом дала мощный толчок обвинениям в «литературном аристократизме», элитарности, пренебрежении читателем. Такого рода упреки исходили от «Северной пчелы» Булгарина и Греча и от «Московского телеграфа» Н. Полевого.
Почти все статьи Дельвига в «Литературной газете» так или иначе связаны с начавшейся вслед за тем полемикой, имевшей как общественный, так и эстетический смысл. Сущность этой полемики, проясненная, в частности, в исследованиях о Пушкине[375], для современного читателя во многом уже ускользает: в ней важно улавливать не только акценты и детали, ушедшие вместе с эпохой, но и исторические оттенки понятий, которыми пользовались полемисты, и социальные и эстетические концепции, стоявшие за этими понятиями.
И Булгарин, и Полевой — каждый по своим особым причинам — нападали на «аристократизм» пушкинского круга и апеллировали к «публике», то есть к широкому демократическому читателю. Это была буржуазно-демократическая литературная программа, которой принадлежало, казалось бы, историческое будущее. Сложность ситуации заключалась в том, что Полевой в отличие от Булгарина тяготел к буржуазному радикализму и искал в России «третьего сословия», на которое он мог бы опереться в борьбе с дворянством, утратившим, как ему казалось, свою ведущую роль в социальной и культурной сфере.
Буржуазный радикал Полевой и буржуазный конформист Булгарин вступили в тактический союз против общего врага — «литературной аристократии»: Пушкина, Жуковского, Вяземского, Дельвига, Баратынского и их идейных предшественников, к которым Полевой причислял, в частности, Карамзина.
Отсюда — нападки на развращенность и социальное бесплодие «высшего света», которому противопоставлялись энергичные, нравственно устойчивые и талантливые люди «среднего класса»; отсюда и полемический пафос «Истории русского народа» Полевого, создававшейся в противовес «Истории Государства Российского».
В этой критике дворянства были несомненные позитивные черты. Но в целом в конкретных условиях Российской империи 1830-х гг. эта, на первый взгляд, столь прогрессивная литературно-общественная позиция приобретала — не только у Булгарина, но и у Полевого — ярко выраженный консервативный смысл.
В тридцатые годы в России продолжался период дворянской революционности. Дворяне вышли на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г. Дворяне создали важнейшие идеологические документы декабристского движения. Они оказались наследниками буржуазно-демократических идей 1789 г., ибо «третье сословие» в России еще не успело развиться.
Пушкин улавливал особенности социальной жизни России, когда утверждал (с нашей точки зрения, не вполне справедливо), что именно дворяне, лишенные своих поместий, и «составляют у нас род третьего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного»[376]. Он думал при этом о себе, о князе Вяземском с его номинальным княжеством, и о нищем бароне Дельвиге.
Реальное же «третье сословие» в 1820–1830-е гг. в России было как раз хранителем косных, патриархальных, консервативных устоев и в политической, и в моральной, и в интеллектуальной сфере. На него опиралось и правительство в своей борьбе с политическим вольнодумством и религиозным скептицизмом. «Самодержавие, православие, народность» — эта официальная правительственная формула была понятна и близка не культурной элите, а именно среднему грамотному читателю, который составлял основную массу подписчиков «Северной пчелы» и «Московского телеграфа» и к литературным исканиям Пушкина и Баратынского был невосприимчив.
Чтобы воспитать читателя с необходимым для этого философским, социальным, эстетическим кругозором, нужна была журнальная трибуна и литературная критика. Но к 1830 г. — к моменту появления «Литературной газеты» — «Северная пчела» и «Московский телеграф» были полновластными хозяевами читательских вкусов: они предлагали каждый свою, а иногда и общую шкалу социальных и эстетических ценностей и по этой шкале оценивали современную литературу.
Газета Дельвига начинает борьбу за читателя с разрушения «коммерческой эстетики».
Если читать подряд критические статьи Дельвига, вероятно, может показаться странным экзотический выбор книг для рецензирования. «Берлинские привидения» псевдо-Радклиф, «Послание Выпивалина к водке и бутылке…» Ф. Улегова, «Новейшее собрание романсов и песен» и подобный же песенник под названием «Северный певец…». Но этот выбор целенаправлен. Все это — «массовая культура» (пользуясь современным термином), «мелкотравчатая» литература для малообразованного читателя, нижний пласт «коммерческой словесности». Его популярность — показатель, с одной стороны, культурного уровня общества и, с другой — уровня самой «литературной промышленности». Это первые и уродливые проявления буржуазного предпринимательства в литературе. Издатель «Северных цветов» Дельвиг не мог возражать против того, чтобы книга становилась товаром, но он был против экспансии коммерции в область духовной культуры.
С этой точки зрения он оценивает и творчество Булгарина. И «нравственно-сатирический», и исторический роман Булгарина был обращен как раз к «средним классам» и ориентирован на их социальные и моральные представления и на их литературные вкусы. Булгарин модернизировал ту область литературы, на которой они были воспитаны: авантюрный роман и «роман тайн», где центр тяжести лежит на фабуле, а не на характере; где бытовая сфера понимается не как форма исторического бытия народа, а как иллюстрация общей моралистической идеи; где воспитательная роль произведения достигается не логикой характеров и событий, а прямым публицистическим комментарием автора — и где поэтому происходит четкое разделение на персонажей положительных и отрицательных.
В эпоху формирования романтической прозы и зарождения реалистической эстетики Булгарин воскрешал просветительский и преромантический роман XVIII в. в его наиболее эпигонских образцах. Но именно этот роман был понятен и популярен, ибо был эстетически привычен и не содержал никаких открытий, отпугивающих обывателя.
Анализ этого типа литературы, где социальный и эстетический консерватизм шли рука об руку, Дельвиг дал в статьях о «Димитрии Самозванце» Булгарина, комедии «Классик и романтик» К. Масальского и в полемических заметках об «Иване Выжигине». Вероятно, более всего его занимает то, что мы назвали бы сейчас идеей историзма. Он требует от литературы исторических характеров, изображения исторического быта и вскрытия движущих пружин исторического процесса. Этим пафосом литературно-исторического исследования проникнуты и статьи о трагедии «Василий Шуйский» Николая Станкевича и о переводе «Карла Смелого» В. Скотта — писателя, которого Дельвиг противопоставляет Булгарину. И в самом подходе к теме, и в частных суждениях Дельвиг иной раз оказывается удивительно близок к Пушкину; когда он начинает говорить о Борисе Годунове и в особенности о характере Шуйского, его рассуждения почти буквально совпадают с пушкинскими черновыми набросками. Это общность точки зрения, по-видимому возникавшей в устном общении; многие суждения и даже фразеологические обороты дельвиговских статей были повторены в статьях Пушкина.
Другим направлением критической деятельности Дельвига стала борьба с эпигонством внутри собственного литературного лагеря.
Дельвиг был сторонником конструктивной, «научающей» критики. Когда дело касалось молодых поэтов и их первых произведений, его суд был обычно мягок, но всегда нелицеприятен, как вспоминал Н. М. Коншин. Эта определенность критического приговора заставила сначала А. И. Подолинского, а потом и Е. Ф. Розена прервать связи с кружком; первый считал даже, что Дельвиг увидел в нем своего рода конкурента Пушкина и попытался уничтожить его литературно. Но дело было в ином.
Романтическая поэзия, и в особенности поэма 1830-х гг., испытывала воздействие «неистовой словесности». Она все более порывала с теми принципами стихотворного лиро-эпического рассказа, которые установились в поэме Пушкина и Баратынского, где сюжет и характер развивались по закону необходимости и имели ясно прочерченную логику движения. В 1830-е гг. поэтов меньше интересует развитие характера: он лишь раскрывается в кульминационные моменты страсти и страдания. Внешняя событийная сторона произведения теряет автономность; она предопределяет не характер, а именно эти кульминационные сцены. При такой концепции поэмы основная роль в фабуле принадлежит случаю. Случайное убийство брата, любимой жены; случайный повод к ревности — все эти элементы «неистовой поэтики» были решительно отвергнуты Дельвигом в рецензиях на «Нищего» Подолинского, на «Рождение Иоанна Грозного» Е. Розена, на «Разбойника» М. Покровского. И здесь Дельвиг тоже выступал единомышленником Пушкина.
Он предостерегал молодых поэтов против «поспешности» и требовал уважения к литературному цеху. Пренебрежение к традиции, установка на читательскую популярность, на немедленный, хотя бы и скоропреходящий успех, а в области художественного творчества — мелодраматизм и стилистическая «языковая небрежность» — все это было для него прямым следствием «коммерческого века», когда «публика» навязывает писателю свои этические и эстетические нормы. Во всех этих грехах он упрекал и Полевого, хотя тот, не в пример Булгарину, ориентировался не ва устаревшие, а, напротив, на новейшие литературные образцы, порожденные, в частности, новой романтической волной во французской литературе.
Критические схватки продолжались, однако недолго: в ноябре 1830 г. «Литературная газета» была закрыта.
Власти уже давно присматривались к ее выступлениям. В августе 1830 г., в разгар полемики с Полевым и Булгариным, Дельвиг поместил эаметку «Новые выходки противу так называемой литературной нашей аристократии…», написанную им совместно с Пушкиным. В заметке содержалась аналогия между социальной борьбой 1830-х гг. в России и общественным брожением кануна 1789 г. «Литературная газета» прибегла к политической дискредитации противников, которые пользовались поддержкой правительства.
Это был этически не безукоризненный, а тактически — самоубийственный полемический ход.
Бенкендорф вызвал к себе Дельвига. Издатель «Литературной газеты» держался невозмутимо и ссылался на законодательство, запрещающее преследовать редактора за пропущенные цензурой статьи. Формально он был прав, но шеф III отделения прямо заявил ему, что законы существуют не для начальства, а для подчиненных.
В конце октября за помещение четверостишия, посвященного жертвам Июльской революции (1830), Дельвиг снова был вызван в кабинет шефа жандармов. Бенкендорф был разъярен. Он был убежден, что кружок Дельвига собирает людей, настроенных против правительства, и что руководят им сам Дельвиг, Пушкин и Вяземский, которых он пообещал «упрятать в Сибирь».
Бенкендорф прямо ссылался на Булгарина как на источник своей информации. Но дело было не только в тайных доносах. Конечно, ни Дельвиг, ни Пушкин не были главами противоправительственных кружков, — но их газета решительно не хотела, а точнее, не могла идти в фарватере николаевской идеологической политики. Весь дух дельвиговского кружка, сформировавшегося в период общественного и литературного оживления 1810-х гг., противостоял требованиям «усердия и служения», всеобщему конформизму и официальной эстетике. Пережив эпоху декабризма, он сохранил воспоминания о ней, он остался оазисом «вольнодумства» в обществе, искоренявшем вольнодумство, и поэтому каждую минуту оказывался чреват крамолой.
Независимое поведение Дельвига лишь еще сильнее укрепило Бенкендорфа в его мнении.
Репрессии против «Литературной газеты» вызвали, однако, в обществе нежелательную для правительства реакцию. Дельвигу сочувствовали и влиятельные лица, — например управлявший Министерством юстиции Д. Н. Блудов. Бенкендорф вынужден был принести извинения за резкость и разрешить газету, но уже с другим формальным редактором. Им стал О. М. Сомов.
Нервное потрясение, испытанное Дельвигом, было велико, и долгое время держался слух, что выговоры Бенкендорфа приблизили его раннюю кончину. Слух, вероятно, был не лишен основания. Дельвиг был болен давно; каждый год легкая простуда надолго укладывала его в постель, и выздоравливал он все труднее. Душевные травмы были непосильным испытанием для ослабленного и изнуренного организма.
И семейная жизнь, так счастливо начатая, через несколько лет повернулась к Дельвигу своей теневой стороной. Софья Михайловна не могла и не хотела противостоять новым увлечениям.
Случайная простуда, которой Дельвиг не придавал значения, после нескольких дней болезни свела его в могилу 14 (26) января 1831 г.
Со смертью Дельвига распался его кружок и ушел в прошлое «союз поэтов». Наступала новая эпоха — «гоголевский период русской литературы», где ведущей стала проза, а не поэзия, и альманахи сменились журналами.
И творчество, и литературная жизнь Дельвига остались памятником эстетических идей и литературного быта предшествующей, пушкинской эпохи — золотого века русской поэзии. В этом их историческая ограниченность, но в этом же и их непреходящая культурная ценность.
Мицкевич и русская литературная среда 1820-х гг
(Разыскания)[377]
«Русский Мицкевич» — одна из центральных тем русско-польских литературных взаимоотношений, и совершенно естественно стремление исследователей сосредоточиться прежде всего на ее вершинных точках. Проблеме «Пушкин и Мицкевич», в меньшей степени — «Лермонтов и Мицкевич» посвящена уже обширная литература. Значительно меньше изучена среда, создававшая предпосылки для почти беспрецедентной популярности, которой пользовалось имя польского поэта в русской литературе и русском обществе 1820-х гг., — популярности, совпавшей со временем пребывания Мицкевича в Одессе, Москве и Петербурге.
Эта среда, включавшая большие и малые имена, порождала поток переводов и вариаций на темы из Мицкевича, она создавала мемуарно-биог-рафические версии, которые приходится учитывать в научной биографии поэта; из нее выходили друзья и случайные знакомые Мицкевича, оставлявшие в его жизни тот или иной след. Вместе с тем она не была пассивно воспринимающим субстратом; не только стихи 1824–1829 гг., но и более поздние произведения, созданные вне России (наиболее очевидный пример — Отрывки из III части «Дзядов»), во многом основаны на впечатлениях русской общественной, литературной жизни и повседневного быта.
Предлагаемые читателю заметки — попытка литературно-исторического комментария к некоторым текстам Мицкевича и эпизодам их восприятия и интерпретации. Две из них представляют собой биографии двух совершенно забытых и едва известных по имени переводчиков и популяризаторов Мицкевича. Как нам представляется, восстановление таких биографий имеет не только исторический интерес. Они дают нам материал для суждений как о воспринимающей среде, так и об эволюции принципов перевода, о причинах и характере усвоения оригинала, — т. е. в конечном счете помогают уяснить тенденции историко-литературного процесса в целом. В иных случаях они расширяют и уточняют наши сведения о круге общения самого Мицкевича и намечают пути к открытию еще не выявленных его знакомств.
Следующая заметка — о происхождении строфы знаменитого перевода Пушкина из Мицкевича — также имеет непосредственное отношение к теме, обозначенной в заглавии. Даже когда речь идет о переводе одного великого писателя другим, иной раз приходится учитывать опосредующие звенья, неожиданные периферийные воздействия, осложняющие процесс двусторонних отношений и объясняющие некоторые особенности художественного результата. И наконец, последние этюды — попытка уловить в «русских эпизодах» III части «Дзядов» следы конкретных впечатлений и литературных контактов Мицкевича. Это делалось неоднократно и очень авторитетными исследователями, но внимание их было направлено главным образом на центральные, определяющие линии его русских связей. Мы же пытались, опираясь на уже найденное, несколько прокорректировать сложившиеся точки зрения или расширить сопоставительный материал за счет параллелей, сколько нам известно, не попадавших в поле зрения исследователей.
I. Ранние переводчики «Фариса»
Среди первых переводчиков «Фариса» — стихотворения, по своему значению для русской литературы уступающего разве только циклу «Крымских сонетов», — библиографические справочники называют П. Г. Сиянова и П. П. Манассеина.
Об этих поэтах мы тщетно стали бы искать сколько-нибудь подробных биографических сведений, хотя их имена изредка мелькают на дальней периферии декабристской литературы. Их переводы также не стали заметным литературным явлением и были заслонены появившимися почти одновременно превосходным переводом «Фариса», принадлежавшим В. Н. Щастному, — однако, как нам представляется, они не лишены интереса как факт художественного восприятия и даже художественной интерпретации подлинника и в истории эволюции переводческих принципов заняли свое, пусть и очень скромное, место.
Из двух интересующих нас сейчас переводов перевод Сиянова появился вторым. Мы начнем, однако, с него, ибо генетически он принадлежит более ранней стадии освоения подлинника, как и сам Сиянов представляет более раннюю литературную генерацию. Первые стихи Павла Гавриловича Сиянова появляются в печати в 1810 г.: в это время он печатает в «Русском вестнике» С. Н. Глинки «Хор при открытии Ярославского Демидовского училища»[378]. Двумя годами позднее, с началом Отечественной войны, он вступает в организованный гр. М. А. Дмитриевым-Мамоновым полк «бессмертных гусар», о чем впоследствии любил вспоминать[379]. О литературной его деятельности в годы войны с Наполеоном никаких сведений нет, да и позднее, до конца 1820-х гг., имя его не встречается в основных литературных журналах. По-видимому, военная служба занимала его полностью. В 1826 г. мы находим упоминание о нем в числе прибывших на Кавказские минеральные воды: здесь значится ротмистр П. Г. Сиянов, старший адъютант 2-й Уланской поселенной дивизии Борисоглебского уланского полка, из Чугуева[380]. По некоторым признакам можно, однако, заключить, что он следит за литературной жизнью и, вероятно, ищет знакомства с литераторами: на водах он встречается с известной поэтессой А. П. Буниной и вписывает ей в альбом стихи, датированные 30 июня 1826 г[381].
В следующем году имя его попадает в официальную переписку, — и притом в весьма симптоматичном контексте. 9 января 1827 г. ректор Харьковского университета И. Я. Кронеберг упоминает Сиянова в письменном объяснении по поводу обнаруженных у студентов противоправительственных стихов: «Место, из которого студенты наши получили какие-либо подобного рода сочинения, есть Военное Чугуевское поселение, ибо я, истребляя подобные сочинения, не оставлял узнавать, откуда они были получены, и всегда слышал, что или от офицера Сиянова (написавшего, как было слышно, и пасквиль под названием „Булевар“), или от разжалованного в солдаты Дорохова (имеющего переписку с Александром Пушкиным и покровительствуемого самим Вансовичем (бригадным командиром, начавшим дело о „зловредных сочинениях“. — В. В.), который позволяет ему жить очень часто в Харькове), или из домов, в коих вышеупомянутые Сиянов и Дорохов бывают»[382]. И репутация Сиянова, и его дружеские связи предстают в этом документе достаточно выразительно. Гусар мамоновского полка, офицер Чугуевского военного поселения, бунтовавшего в аракчеевские времена, он явно принадлежит к достаточно вольнодумной, хотя вряд ли осознанно оппозиционной армейской среде. Сатира «Булевар», приписанная ему, — конечно, факт литературной репутации. Еще в 1810-е гг., как вспоминал Вяземский, «Москва промышляла подобными сатирическими проделками, например под заглавием „Тверской бульвар“, „Пресненские пруды“ и так далее. Обыкновенно и стихи и шутки, хотя и с притязаниями на злостность, были довольно пресны»[383]. Это была низовая литература, о которой писал пушкинский Белкин: «К стихам приобрел я некоторый навык, переписывая тетрадки, ходившие по рукам между нашими офицерами, имен но: Опасного соседа, Критику на Московский Бульвар, на Пр<есненские> пруды и т. под.»[384]; впрочем, традиция такого рода «городских сатир» дала темы и профессиональной литературе, например юношескому стихотворению Лермонтова «Булевар»[385]. Такие сатирические панорамы легко наполнялись и политическим содержанием; так, в 1811 г. предметом внимания властей стали стихи «на булевар», автором которых называли чиновника П. Мяснова[386]. А. Н. Креницын, товарищ Баратынского по Пажескому корпусу, стяжал себе известность рукописной сатирой «Панский бульвар», в которой «едко высмеивал высокопоставленных особ»; по преданию, ему грозили «большие неприятности»[387]. По сведениям Кронеберга (возможно, и не слишком достоверным), Сиянов принадлежал к этому кругу армейских поэтов-сатириков.
Знакомство его с Руфином Дороховым как будто подтверждает это впечатление. Знаменитый бреттер, приятель Пушкина и позднее Лермонтова, многократно разжалованный за неукротимый нрав и буйные выходки, демонстрировавший свое равнодушие к литературе, был тем не менее поэтом и в 1830-е гг. печатался в «Молве» и «Сыне отечества»; ему принадлежит, между прочим, один из переводов стихотворения Гюго «А une fem-me», ставшего несколькими годами позднее предметом шумной цензурной истории. О ней упоминал в своем дневнике Пушкин, и он же сохранил в своих бумагах перевод Дорохова[388]. Взаимная приязнь его (как затем и Лермонтова) с Дороховым, конечно, поддерживалась и литературными интересами последнего.
История с «возмутительными стихами» не имела серьезных последствий ни для Дорохова, ни для Сиянова. По расследовании оказалось, что в данном случае они к распространению стихов не причастны; 14 августа генерал С. С. Стрекалов доносил из Харькова, что «ротмистр Сиянов находится ныне в С.-П<етeр>бурге старшим адъютантом Главного штаба его величества по военному поселению, а рядовой Дорохов отправлен на службу в Грузию и объяснений от них не отобрано»[389].
По-видимому, Сиянов недолго оставался в Петербурге. Существует его автобиографическое послание «Е…фу И…чу М…ну», в котором он жалуется на превратности судьбы, сообщая о себе адресату совершенно бытовые сведения: «шестнадцать лет» проносив «уланскую шапку», он «в тридцать лет» на беду свою подал в отставку и заперся в деревне, где жил чуть что не впроголодь, испытывая к тому же притеснения от соседей-помещиков и судейских чиновников; ныне же, заявляет он, он полон решимости вернуться к прежнему «ремеслу» воина[390]. Известно, что он принял участие в персидской кампании 1826–1828 гг., где сблизился с Л. С. Пушкиным; их приятельские отношения продолжались и позднее. Л. Н. Павлищев передает забавный анекдот об их совместных — впрочем, умеренных — кутежах, во время которых, по словам Сиянова, он сам переставал пить шампанское, когда начинал «рассказывать собутыльникам о французской кампании», а Лев Сергеевич прекращал поглощать ром, говоря о персидской, — в этом Сиянов усматривал единственную разницу между собой и своим приятелем[391].
С окончанием персидской кампании, в 1829 г., имя Сиянова всплывает в печати. С начала года он находится в Вологде — и оттуда посылает стихи в московские журналы[392]. По-видимому, в 1830 г. он появляется в Петербурге. Он занимает место на периферии литературной жизни и очень редко печатается в авторитетных изданиях, находя приют в периодике второго и третьего ряда, испытывавшей недостаток в сотрудниках; он участвует в «Дамском журнале», в «Бабочке» В. С. Филимонова, в «Северном Меркурии» М. А. Бестужева-Рюмина, но более всего в изданиях Воейкова, который становится его основным литературным покровителем[393]. Когда Воейков и Рюмин, начавшие взаимными комплиментами, вступили в литературную ссору, Сиянов не остался в стороне: он попытался опубликовать в «Колокольчике» В. Н. Олина памфлетную (а скорее, пасквильную) басню «Спорь до слез, а об заклад не бейся» с не слишком удачным армейским каламбуром: «Бес ту же в день и ночь, как зюзя, тянет водку»; петербургская цензура запретила этот стих как «личность», однако Сиянов умудрился напечатать свою басню без купюр в московской «Молве»[394].
По периодике 1830-х гг. мы можем установить и круг его литературных и дружеских связей. По-видимому, у него были достаточно теплые отношения с Е. Ф. Розеном; в феврале 1831 г. Розен писал Воейкову, что получил от Сиянова письмо и собирается отвечать ему с графом Толстым. Этот «граф Толстой» — вероятно, Д. Н. Толстой-Знаменский, автор предназначавшейся для «Северных цветов» и запрещенной цензурой статьи «О поэзии Ломоносова, Державина и Пушкина»; видимо, ему же принадлежало и стихотворение «Листок из альбома П. Г. Сиянова», напечатанное Воейковым в 1832 г. с подписью в оглавлении: «Соч. Гр. Д. Т-ова»[395]. В другом письме Розен просил Воейкова отправить Сиянову посылку[396]. Это не единственный и даже не самый важный след их связей: Сиянов участвовал в изданной Розеном «Альционе на 1831 год», а в следующем выпуске альманаха Розен поместил свое прощальное стихотворение, также написанное в альбом Сиянову[397]. Эти «листки из альбома Сиянова» Воейков систематически печатал в 1831 г., когда владелец альбома уезжал из столицы в действующую армию в Польшу. В числе авторов стихотворных посвящений: П. Г. Волков, приятель Толстого-Знаменского, и неудачливый издатель и заурядный поэт, участвовавший, впрочем, и в «Северных цветах», А. Н. Глебов, В. И. Карлгоф, Б. М. Федоров, В. Н. Щастный, В. Е. Вердеревский, П. П. Манассеин — обычный круг участников воейковских «Прибавлений»[398]. Очерчиваемый ими портрет адресата посланий — портрет «гусара» давыдовского покроя, воина-поэта, преданного дружбе, любви и вину.
Среди авторов посвящений мы находим людей, непосредственно связанных с польской литературой. Это В. Н. Щастный — знакомый Мицкевича, переводчик «Фариса» с авторской рукописи — и П. П. Манассеин, о котором далее у нас пойдет речь. Было бы соблазнительно усмотреть в этих литературных общениях причину обращения Сиянова к поэзии Мицкевича, однако такому предположению противоречит хронология: как мы помним, перевод «Фариса» был напечатан им еще в 1829 г. и прислан из Вологды. Дело, по-видимому, обстояло прямо противоположным образом: перевод «Фариса», наряду с другими стихами, сблизил Сиянова с петербургскими ценителями польской поэзии.
Совершенно понятно, почему этот перевод был напечатан в «Московском телеграфе» и именно в 1829 г., по свежим следам появления оригинала и через полгода после отъезда Мицкевича из России. Н. А. Полевой считал «Фариса» шедевром европейского значения и спешил познакомить с ним читателей журнала; любопытно, однако, что он публикует перевод Сиянова после появления двух других, несомненно лучшего качества. Может быть — и скорее всего — он просто не располагал другим; поэтический отдел его журнала находился в это время на невысоком уровне. Труднее решить, что именно привлекло в «Фарисе» самого Сиянова; ни в одновременно появившихся, ни в более поздних его стихах нет следов специального интереса к Мицкевичу, и «Фарис» — единственный известный нам его перевод из этого поэта. Может быть, здесь сыграл свою роль чисто внешний интерес к теме: поэта-гусара, потом улана, будущего автора «Досугов кавалериста» привлекло единственное в своем роде описание бешеной скачки наездника, бросающего вызов судьбе. Не исключено, что сказались и восточные впечатления Сиянова, только что прошедшего персидскую кампанию. Наконец, он мог слышать о Мицкевиче и от Л. С. Пушкина и получать импульсы от чтения журналов: «Сын отечества и Северный архив» к октябрю 1829 г. уже дважды печатал переводы «Фариса» — один прозаический, подстрочный, второй поэтический (П. П. Манассеина), а в апреле 1829 г. в петербургском альманахе «Подснежник» появился и перевод Щастного.
Сиянов знал оба стихотворных перевода — и в двух местах не уберегся от подражания (действительно, удачным фрагментам). Он следовал Щастному в описании безмолвия пустыни:
У Щастного:
Все это не могло быть прямо подсказано подлинником. В другом случае он перефразирует Манассеина:
У Манассеина:
От предшественников Сиянова отличает умеренность стилистической позиции. Конечно, он ощущает поэтическое — и в первую очередь метрическое — богатство оригинала и пытается передать его сменой разнометрических фрагментов: мы находим у него четырех-, пяти— и шестистопный ямб, четырехстопный хорей, трехстопный амфибрахий, четырехстопный дактиль. Он применяет стяжения в дактилях, создавая подобие паузника:
При всем том он стремится выдержать метрическую однородность фрагментов. В лексическом отношении он следует за подлинником, «перелагая», а не ища стилистического эквивалента, как это позволял себе Щастный. Стихи Сиянова перестают звучать как «перевод» лишь там, где он попадает на готовые формулы русской элегической и романсной традиции, как это мы видели в приведенных отрывках. Поэтическое слово его неточно, но это не сознательная неточность лермонтовской «импровизационной» поэзии — это недостаточное владение языком элегической школы, вялость эпигонского слова, неспособного передать энергию и динамику подлинного текста. При этом перевод Сиянова — не «бездарные стихи»: они вполне на уровне массовой послепушкинской поэзии, отличавшейся довольно высоким уровнем поэтической техники. Но этого-то и было недостаточно, чтобы переводить «Фариса», требовавшего особых поэтических средств. Перевод Сиянова, рядовой и быстро забытый, оказывается для нас весьма поучительным в историко-литературном смысле! Литературная деятельность Сиянова достигает наибольшей интенсивности в варшавский период его биографии[402]. С мая 1831 г. здесь же, в Варшаве, находится и Л. С. Пушкин, штабс-капитан финляндского драгунского полка, в декабре 1832 г. вышедший в отставку и до осени 1833 г. остававшийся в польской столице. Некоторое время оба приятеля живут вместе, на одной квартире с Н. И. Павлищевым, мужем сестры Пушкина. К сожалению, у нас слишком мало сведений о быте этой варшавской русской колонии, давшей целый ряд литературных и научных трудов, связанных с историей и культурой Польши; мы знаем, однако, что к ней в разное время примыкали А. Я. Корсак, поэт, приятель Глинки, осевший в Варшаве; В. Ф. Ширков, другой знакомец композитора; уже упоминавшийся П. П. Манассеин и др. Н. И. Павлищев, обосновавшись в Варшаве, принялся за серьезное изучение польской истории и культуры и впоследствии стал автором обширных исторических сочинений; уже в интересующий нас период в его доме была специальная библиотека полонистического уклона. От сына Павлищева и О. С. Павлищевой (Пушкиной) и идут сведения о варшавских годах Сиянова; в своей «семейной хронике» он приводил отрывок из письма Ольги Сергеевны к мужу от 10 сентября 1831 г. с ироническим отзывом Пушкина о сияновских стихах. «Показала я брату, — пишет она, — присланные тобою патриотические солдатские песни Ширкова и Сиянова на знаменитый штурм; стихи, не в обиду будь этим храбрым двум воинам сказано, незавидны. Брат прочел, рассмеялся и сказал: „изящного тут мало, но все же стихи остроумны, а главное, „в них русский дух и Русью пахнет“, кто во что горазд“. Посылает он этим пиитам сердечный поклон и очень рад, что Лев остановился вместе с Сияновым у тебя. Не вдохновился ли и он музой своего приятеля?»[403].
На сведения Л. Н. Павлищева полагаться нужно с большой осторожностью; он родился только в 1834 г. и рассказывал по преданиям и документам семейного архива, с которыми обращался более чем свободно. Письмо, которое он приводит, если и существовало, то никак не могло относиться к 1831 г.: нам известно подлинное письмо О. С. Павлищевой мужу от 10 сентября этого года — с совершенно иным содержанием. Никаких упоминаний о Сиянове в известных нам ее письмах вообще нет; о стихах Ширкова она действительно пишет мужу 6 октября 1831 г.: «…незавидные, нечего сказать, особенно при Ж<уковского> и брата стихах»[404]. Не исключена, впрочем, возможность, что письмо относится к 1832 г.: в сентябре этого года Ольга Сергеевна готовилась к отъезду в Варшаву, куда прибыла в начале октября и встретилась с Л. С. Пушкиным и А. Н. Вульфом[405]. Л. Н. Павлищев рассказывал, что Пушкин, Сиянов и Вульф оставались в Варшаве до глубокой осени[406]; по пометам под стихами Сиянова мы знаем, что он был в польской столице еще и в сентябре 1833 г. Он состоял при графе И. О. Витте для особых поручений в чине майора, и к нему обращался Денис Давыдов в поисках материалов по истории восстания 1831 г. Сиянов выполнил его просьбу, хотя и не без труда[407].
Здесь же, в Варшаве, Сиянов издал в 1832 г. сборник под названием «Досуги кавалериста»; в него вошел и перевод «Фариса».
Его имя мелькнуло еще один раз — в воспоминаниях В. П. Бурнашева, встречавшего его в обществе Воейкова, по-видимому, в 1830-м или 1831 г.; Бу рн ашев называл его «жандармским капитаном» и сообщал, что Сиянов «ухаживал» за хозяином, так как тот был в хороших отношениях с его начальником Дубельтом[408]. Трудно сказать, насколько это верно: в воспоминаниях Бурнашева встречаются и прямые выдумки.
В 1839 г. С. П. Победоносцев, писавший под псевдонимом «Сергей Неутральный», в «письме к редактору» «Литературных прибавлений» — тогда уже А. А. Краевскому — замечал: «П. Г. Сианов <так!>, которого стишки иногда попадались в книжках „Сына отечества“ за старые годы, кажется, вовсе оставил занятия литературные»[409]. По-видимому, он был прав; в конце 1830-х — начале 1840-х гг. имя Сиянова почти не встречается в печати; впрочем, в 1843 г. в «Маяке» появляется его басня[410]. По адрес-календарям мы знаем, что в это время он служит директором Люблинской губернской гимназии Варшавского учебного округа в чине коллежского советника; в 1847 г. следы его теряются окончательно[411].
Это все, что мы можем добавить к замечанию Победоносцева, который, оставя Сиянова, перешел к воспоминаниям о другом переводчике «Фариса» — П. П. Манассеине. Его биография займет теперь наше внимание.
Если имя Сиянова почти вовсе исчезло из поля зрения историков литературы, то Манассеину повезло больше — главным образом, из-за его знакомства с Кюхельбекером. Но и здесь даже наиболее внимательные и точные комментаторы не могут сообщить о нем почти ничего в дополнение к тому, что содержится в дневниках и письмах Кюхльбекера.
Петр Петрович Манассеин принадлежал к старинному роду костромских дворян, переселившихся в Казанскую губернию. Отец его, капитан Казанского гарнизона, затем лаишевский уездный предводитель дворянства, имел дочь и десятерых сыновей, одним из которых был интересующий нас сейчас Петр Петрович, учившийся в Главном инженерном училище в Петербурге и в 1824 г. выпущенный из нижнего офицерского класса прапорщиком во 2-й пионерный батальон[412]. Среди однокашников его по училищу были люди, причастные как к литературе, так и к декабристскому движению, — таким был, например, В. Г. Политковский, вступивший затем в тайное содружество, объединившееся вокруг заключенного в Тирасполе В. Ф. Раевского, и беседовавший с ним на разные темы, в том числе и литературные[413].
2-й пионерный батальон стоял в Динабурге[414]. Эта окраинная крепость, где шли фортификационные работы, после 14 декабря 1825 г. была также и местом ссылки. 7 октября 1827 г. здесь появился Александр Ардалионович Шишков, приятель Пушкина и племянник адмирала Шишкова. Он был арестован за сочинение «в дерзком, злобном и даже возмутительном духе» эпиграммы «Когда мятежные народы…»; его допрашивали, признали виновным и отослали под надзор в Принца Вильгельма прусского полк, входивший в состав 1-й сводной пионерной (с 1829 г. — 1-й саперной) бригады, куда входил и 2-й пионерный батальон. Шишков и Манассеин стали сослуживцами.
Почти одновременно, в октябре 1827 г., в Динабургскую крепость был переведен «государственный преступник» В. К. Кюхельбекер.
Шишков и Кюхельбекер были знакомы еще в 1816–1817 гг., когда Кюхельбекер был лицеистом, а Шишков служил в Гренадерском имп. австрийского полку, расквартированном в Царском Селе. Вторично они встретились в 1821 г. в Тифлисе; через Шишкова Кюхельбекер отправлял письмо Пушкину, которое, однако, тот не сумел передать: письмо это было отобрано у него в 1827 г. при аресте и до нас не дошло[415].
С этим кружком поэтов, близко знакомых Пушкину, Манассеин устанавливает довольно тесную связь. В письмах и дневнике Кюхельбекер упоминает его имя. Через Манассеина он осуществляет — или рассчитывает осуществить переписку с Петербургом. Он пишет Дельвигу 18 ноября 1830 г.: «Если можешь, напиши мне на имя Манассеина <…> податель мне письмо доставит не скоро, зато верно»[416]. Беря на себя такие поручения, Манассеин, связанный к тому же воинской дисциплиной, рисковал очень многим, — как, впрочем, и Кюхельбекер, который мог передать письмо лишь через очень близкого и надежного человека. Через два с половиной года, 29 июня 1833 г., он вспоминает в дневнике «любезных именинников» и в их числе «П. П. М.» — конечно, своего динабургского приятеля[417]. О Манассеине он упоминает в письме Пушкину от 20 октября 1830 г.: «У меня здесь нет судей: Манассеин уехал, да и судить-то ему не под стать»[418]. Важно здесь, что и Дельвигу, и Пушкину Кюхельбекер называет имя без всяких пояснений, как хорошо им знакомое. Можно предполагать, что знакомство это было личным, а не заочным; во всяком случае, стихи Манассеина появляются в альманахах Е. Ф. Розена и Н. М. Коншина, в том числе в «Царском Селе», изданном при непосредственном участии Дельвига. Манассеин печатает здесь «Ад и рай магометов» — с той же самой формулой «восточной клятвы» («Клянуся ночи темнотой…» и т. д.), которая была введена в русский литературный обиход пушкинскими «Подражаниями корану» и затем повторена в цикле «Подражаний корану» А. Г. Ротчева, приятеля Шишкова и адресата его послания, одновременно с ним подвергшегося политическому надзору. Стихи были, несомненно, отражением ориентальных интересов всего динабургского кружка — прежде всего Кюхельбекера и Шишкова[419].
Ориентализм сочетался здесь с повышенным вниманием к новейшей польской поэзии. А. Рыпинский, будущий поэт и фольклорист, учившийся в те годы в Динабургской школе прапорщиков, вспоминал позднее, как он и его товарищи бегали из школы, чтобы навестить Кюхельбекера и помочь ему в работе над трагедией «Шуйские». Одним из этих товарищей был Тадеуш Скржидлевский; известно его любопытнейшее письмо к Кюхельбекеру, где он сообщал узнику о литературных новостях Петербурга — о Пушкине, Дельвиге, о Мицкевиче.
Понятно, что и Рыпинский, и Скржидлевский с упоением разыскивают и читают все, что выходит из-под пера Мицкевича или Ходзьки, — это их родная литература, переживающая свое национальное возрождение. Но дело было в том, что и Кюхельбекер, и Шишков читали польских поэтов с не меньшим энтузиазмом. Первый принимается здесь, в Динабурге, изучать польский язык; в письмах его мелькают польские имена: Немце-вич, Одынец, Мицкевич. «Одынца я прочел одну балладу: „Лунатик“, которая мне очень полюбилась; я ее, быть может, переведу»[420]. И почти то же самое пишет из Динабурга А. А. Шишков. «…Зная хорошо польский язык, читаю все, что писали и пишут наши одноплеменцы», — сообщает он Аксакову 28 октября 1829 г. и обещает доставить для журнала «Галатея» обозрение польской литературы и несколько сцен из трагедии «Лжедимитрий»[421]. В Динабурге Шишков переводит «Песнь вайделоты. (Из „Конрада Валленрода“ Мицкевича)», которую анонимно публикует в московском альманахе[422].
Дружеский кружок работает словно по единому плану: Кюхельбекер тоже пишет трагедию и вставляет в нее перевод из исторических песен Немцевича, — в этом-то и помогают ему молодые поляки из Динабургской школы прапорщиков.
Неудивительно, что в письме Скржидлевского упомянуто несколько имен, объединенных этой общностью интересов: Кюхельбекер, Шишков — и Манассеин. И здесь же названа литературная новинка — «Фарис», занимавшая всех членов кружка: «П. П. Манасеина перевод „Фариса“ ближе всех. Щастного теперь читаю в „Подснежнике“ — где вот 3 сцены „Ижорского“, — только мне кажется, что-то пропущено…»[423].
Скржидлевский спешит поделиться впечатлениями; он цитирует начало перевода Щастного как пример удачных стихов, — но к стихам Манассеина у него явно более личное отношение, хотя, по совести, он не может поставить их выше других как произведение искусства. Его перевод — прямое порождение кружка. Он делается по свежим следам появления подлинника, хотя, быть может, Манассеин и учитывает только что напечатанный в «Сыне отечества и Северном архиве» прозаический подстрочник. Под публикацией помета: «Мая 30 дня. К<репость> Динабург»[424]. Название перевода указывает, что он делался даже не с вновь вышедшего собрания стихотворений Мицкевича, а с текста альманаха «Мелителе», по-видимому добытого польскими энтузиастами. Дело в том, что подзаголовок «Арабская повесть», сохраненный Манассеиным, существовал только в альманашной публикации «Фариса» и уже в петербургском издании был заменен на «Касыда в честь эмира Таджуль Фехра»[425].
Вероятно, члены кружка знали перевод Манассеина еще до печати и ревниво относились к его достоинствам. В 1834 г. Кюхельбекер записывал в дневнике: «В „Фарисе“ переведенном Манасеиным, несколько очевидных опечаток: такое небрежение к труду молодого поэта, сверх того, поэта с дарованием, со стороны гг. издателей „Сына отечества“ истинно непростительно»[426].
Заинтересованное и в то же время сдержанно поощрительное отношение к опытам Манассеина в этих замечаниях — то же, что и в письмах Кюхельбекера и Скржидлевского. «Поэт с дарованием», хотя, конечно, не «судья» тому же «Ижорскому» Кюхельбекера; перевод его «ближе всех» (хотя, быть может, и не выше в поэтическом смысле). Эти оценки точны. Переводя «Фариса», Манассеин подчинил себя подлиннику еще в большей мере, чем Сиянов, не говоря уже о Щастном. Он непроизвольно стремится к эквилинеарности, т. е. к практическому осуществлению принципов, которым осознанно следовал другой переводчик Мицкевича — М. П. Вронченко и которые, как справедливо заметил современный исследователь, «вели к переводческому буквализму со всеми присущими этому методу пороками»[427]. И достоинства, и недостатки его подхода к переводу довольно выразительно показывает фрагмент, о котором мы уже упоминали в связи с «Фарисом» Сиянова: монолог Коршуна. Подлинник здесь провоцирует на буквальную передачу: и лексически, и синтаксически он почти дословно может быть передан русскими стихами.
Так — почти буквально — переводит Манассеин:
Щастный, для которого польский был почти вторым родным языком, именно здесь прошел мимо соблазнов буквальной передачи, пожертвовав выразительным параллелизмом второй строки:
Щастный передает смысловой оттенок первой строки. Мицкевич сделал к ней примечание: «На Востоке есть поверье, что хищные птицы предчувствуют смерть человека».
«Czuję < ...> zapach trupi» — не означает «предчувствую добычу (трупы)», что получается при буквальном переводе Манассеина (и что было повторено у Сиянова), — но именно «предчувствую их смерть», «чую мертвеца». Щастный сумел избежать и двусмысленности архаизма «паства», подсказанного оригиналом Манассеину. Зато в следующих строках —
Манассеин явно выигрывает по сравнению со своим предшественником:
У Щастного здесь смысловой пересказ с бедной рифмой, хотя также с попыткой сохранить разговорное просторечие:
Далее поэтическое перевыражение вновь начинает торжествовать над «точным переводом». У Мицкевича следующие стихи, при всей их прозрачности, включают в себе известную переводческую трудность — они требуют владения емкой поэтической фразеологией:
Манассеин выходит из испытания с честью. Фразеология его затрудняет, но он, по крайней мере, ощущает энергию лаконизма и игры контрастами и параллелизмами в оригинальном тексте и вводит народнопоэтические формулы:
Только вихорь там по воле Мчится и свой след метет; Не коням пастись в том поле, Гадов, змей оно пасет.
Щастный опирается на уже сложившуюся поэтическую культуру 1820-х гг.:
Это, конечно, лучше как русские стихи; в тексте Манассеина ощущается «перевод».
Последняя формула обоими переводчиками передана буквально:
За Манассеиным не стояла та поэтическая школа, которую прошли поэты более близкого пушкинского окружения, и он обладал хотя и несомненным, но очень небольшим индивидуальным дарованием. Отсюда, между прочим, и его невнимание к семантическим оттенкам и культурным ассоциациям, облекающим традиционные формулы, к которым он прибегает; так, явно неуместна была формула из Жуковского, которой он пытался передать поэтический мотив разлуки в «Сне» Мицкевича:
В оригинальном тексте здесь просто: «I rozstając się nie mów o rozstaniu!». Иной раз ему недоставало и поэтической техники, что очень сказывалось, когда он пытался передать сложный метроритмический рисунок «Фариса». Поэтому его «Фарис» и не стал явлением переводческого искусства и тем более — русской поэзии, как это произошло с «Фарисом» Щастного, — и первые же читатели дали ему достаточно объективную оценку. Исторический интерес его, однако, выше, чем абсолютная эстетическая ценность, — и выше, чем историческое значение «Фариса» Сиянова.
Перевод Манассеина отвечал на эстетические запросы «динабургского кружка». Молодой поэт обратился к произведению, в котором произошел «западно-восточный синтез» или даже «польско-восточный синтез»: польский поэт, привлекший особое внимание русских романтиков, предстал — еще раз после «Крымских сонетов» — в одеждах арабского Востока, дав мощный толчок развитию уже зарождавшейся русской ориентальной поэзии. И второе обстоятельство: его подход к переводу «Фариса» оказался довольно близок к тем переводческим принципам, которые исповедовал, в частности, Кюхельбекер, бывший в Динабурге его поэтическим наставником. Именно они легли в основу переводов и теоретических суждений Кюхельбекера о Шекспире, складывающихся в то самое время, когда создается перевод Манассеина. Уже в 1828 г. он декларирует в письме к Ю. К. Глинке принцип близости к подлиннику, вплоть до эквилинеарности перевода, — и придерживается его в собственной практике, вплоть до середины 1830-х гг., когда постепенно начинает подвергать его ревизии[428]. Без сомнения, не случайно, что именно Кюхельбекеру Скржидлевский хвалил точность перевода Манассеина: это было как раз то, чего ждал от переводчика его наставник.
Существуют косвенные свидетельства того, что Кюхельбекер в Динабурге читал «Фариса» с пристальным вниманием. В 1-м явлении III действия 1-й части «Ижорского» в «Хоре русалок» есть прямая парафраза из русских переводов касыды — из того места, на которое уже нам пришлось обращать внимание:
Ср. у Щастного:
У Сиянова:
Может быть, в основе парафразы лежит и подлинный текст:
Первую часть «Ижорского» Кюхельбекер послал Дельвигу 18 ноября 1830 г.; несколько ранее, 20 октября, он просил Пушкина сообщить ему свое мнение о мистерии (по-видимому, об опубликованной части) и упоминал об отъезде Манассеина и Шишкова[430].
Шишков еще в марте 1830 г. был отправлен в Тверь; Манассеин некоторое время оставался в Динабурге. 2 сентября этого года помечен его перевод «Сна» Мицкевича[431]. Как явствует из письма Кюхельбекера, в октябре его уже в крепости не было; в ноябре же началось восстание в Варшаве, и 2-й пионерный батальон переводят в Царство Польское. Манассеин продолжает писать стихи; по датам и пометам о месте написания мы можем отчасти судить о его передвижениях, а читая их в хронологической последовательности — следить за сменой его настроений. За 1831 г. стихов очень мало, что и естественно, и они отличаются сгущенной мрачностью колорита. Даже когда он выбирает для перевода «Молитву во время битвы» Т. Кернера —
он делает это, кажется, из-за последних строк, с их мужественным, но почти безнадежным трагизмом:
Эти стихи переводил в свое время Кюхельбекер; его перевод был напечатан под инициалом «К» в «Календаре муз» на 1826 г. Манассеин мог знать и почти наверное знал его; нужно думать, что Кюхельбекер не скрыл от него своего авторства. Последняя строка приведенного нами отрывка — едва ли не реминисценция; у Кюхельбекера заключительная строфа начинается стихом «Вождь мой! взываю к тебе!»[433].
Война предстает Манассеину не в героическом ореоле, но в своей жуткой обыденности и жестокости:
Все это совершенно необычно и неожиданно на фоне официальных славословий победам Паскевича и той почти одической героико-оптимистической тональности, какая свойственна почти всем стихам о польской кампании 1830–1831 гг. Безвестный поэт и армейский офицер оказывался независим от официозной трактовки военных событий, — и эти умонастроения, конечно, были воспитаны его динабургским окружением.
Из помет под стихами явствует, что в октябре 1831 г. он был в Варшаве. Н. Н. Селифонтов сообщал, что Манассеин находился там в качестве адъютанта генерала Дена и умер в 1831 г[435]. Ту же дату смерти называл и Н. Агафонов; по его сведениям, поэт умер холостым в Варшаве в чине штабс-ка-питана[436]. M. Максимович указывал только на последний — штабс-капитанский — чин[437]. В этих сообщениях неверно одно: Манассеин умер не в 1831 г., а позже — и, по-видимому, не в Варшаве.
В Варшаве он вновь попадает в литературную среду — в ту самую русскую «культурную колонию», о которой мы говорили уже в очерке о Сиянове и куда входили Павлищев и Лев Пушкин. Для знакомца Кюхельбекера, А. А. Шишкова и, вероятно, Дельвига эта среда не могла быть вполне чуждой, — но, кажется, наиболее тесные отношения у него установились именно с Сияновым; во всяком случае, он адресует Сиянову два послания. Первое из них, написанное 15 октября 1831 г., указывает и на литературное общение:
По-видимому, в Варшаве он возвращается и к переводам и вариациям на темы из славянских литератур. Сохранилась его «Славянская песня», датированная 24 ноября 1831 г., в которой сквозит то же пессимистическое мировосприятие, что и в послании Сиянову; трагизм описываемой ситуации еще подчеркнут эпической бесстрастностью тона:
В сентябре 1833 г. его уже нет в Варшаве — «Песнь саперов», написанная в это время, имеет помету: «Лагерь при кр. Модлине»[440].
Теперь, в 1832–1834 гг., он начинает публиковать свои новые и старые стихи, посылая их в воейковские «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“», где постоянно печатался и Сиянов. Среди них был и динабургский перевод «Сна» Мицкевича. В 1833 г. в «Молве» появляется перевод «Альпухарской баллады» из «Конрада Валленрода», подписанный «П. М.». Этот перевод считается тоже принадлежащим Манассеину, что вполне возможно, хотя твердых данных и нет; упоминая о нем, польский исследователь замечает, что он заслуживает внимания лишь как последний фрагмент из «Валленрода», который появился в России в период относительно свободной публикации сочинений Мицкевича[441]. Последний раз, насколько нам известно, сочинения Манассеина появляются в печати в 1834 г.: несколько стихотворений он помещает в «Литературных прибавлениях…»[442] и отдает в «Библиотеку для чтения» небольшой очерк «Поездка в Кокенгаузен» — по материалам еще динабургских впечатлений. Он был верен своему скептическому и пессимистическому взгляду на историю человеческих обществ: развалины средневекового замка на берегу Двины, в ста двадцати верстах от Динабурга, вызывают у него исторические воспоминания о бесконечной цепи войн, опустошительных набегов, варварских жестокостей, предательств и измен; как контраст под его пером возникают описания диких и величественных пейзажей. Вероятно, «Валленрод» и «Гpaжина» Мицкевича в значительной мере питали тот интерес к польскому и литовскому средневековью, который ощущается в исторических экскурсах очерка; что же касается польской литературы нового времени, то здесь интерес превратился в прочное и устойчивое тяготение. Мы знаем об этом из упомянутой уже нами мемуарной заметки «Сергея Неутрального» — С. П. Победоносцева, знавшего Манассеина лично, и его воспоминания остаются по сие время единственным и совершенно забытым свидетельством о последних годах этого примечательного литератора:
«В 1837 году холера похитила Петра Петровича Манассеина, писателя с дарованием <…> участвовавшего некогда в „Сыне отечества“ и позже в других журналах. В последний раз поместил он в „Библиотеке для чтения“ за 1834 год свою „Поездку в Кокенгаузен“ (1834 г., № 7, IV, стр. 203), и то уступая просьбам товарищей, для которых с руинами замка Кокенгаузен связано было много приятных воспоминаний о стоянке в Лифляндии. Манассеин писал более для себя и не любил печатать, отговариваясь всегда тем, что предпочитает поверять свои чувства избранным. Он был поэтом по сердцу и по чувству и любил открывать и то и другое только искренним друзьям своим. Мне удавалось навещать его во время их зимней стоянки в глуши Польши, среди лесов подлясских. Сколько раз перед пылавшим камином, за чашкою ароматического чая, в дыме сигары слушал я его произведения, из которых большая часть отличалась искусством, дышала умом и особенно чувством. После него осталось много бумаг и в числе их прекрасный перевод басен Красицкого и сочинений Мицкевича и Одыньца. Не знаю, согласятся ли родственники покойного когда-нибудь выдать их в свет. Ни сказал ли я слишком много о Манассеине?.. Если так, то виню непритворное мое чувство любви и уважения к покойному. Да будет мир его праху!»[443]
Этим кратким, но выразительным воспоминанием о Манассеине мы и закончим его по неизбежности скудную биографию, имеющую, однако, право на наше внимание, — биографию человека, прикоснувшегося к польской поэзии в русском декабристском окружении, в непосредственном контакте с польской культурной средой, пронесшего привязанность к ней сквозь испытания военных лет и затем сделавшего ее частью своей интимной духовной жизни, ревниво оберегаемой от постороннего глаза. «Поэт в душе», не выносящий на суд «толпы» свои сокровенные творения, это тип подлинного поэта, как его понимал поздний, уже становящийся эпигонским, романтизм; но мало кто из романтиков этого поколения осуществлял свои декларации на практике. Манассеин сделал это, но лишил историю русско-польских культурных связей, быть может, скромного, но заслуживающего внимания поэтического вклада, — впрочем оставив ей в качестве залога по крайней мере свое имя.
II. Строфа «Воеводы»
Исследователи темы «Пушкин и Мицкевич» уже давно обратили внимание на своего рода парадокс, поддающийся лишь гипотетическому объяснению. Он касается строфы «Воеводы».
Известно, что оригиналы двух баллад Мицкевича, переведенных Пушкиным в 1833 г., «Три Будрыса» («Trzech Budrysуw») и «Засада» («Czaty») — последняя и была озаглавлена у Пушкина «Воевода», — написаны одной и той же строфой, впервые введенной Мицкевичем в польскую поэзию[444]. Эта строфа (получившая название «мицкевичевой»), ее происхождение, семантика и метроритмическое качество хороши изучены. Мицкевич написал обе баллады анапестами; первый и третий стих каждого четверостишия представляют собою два полустишия двустопного анапеста, связанных внутренней рифмой; четыре стиха — трехстопный анапест. Генетически эта строфа восходит к балладе Жуковского «Замок Смальгольм» — и соответственно к оригиналу В. Скотта, с модификациями, зависящими от особенностей польского стихосложения. В «Будрысе» Пушкин очень точно воспроизвел эту строфу, вплоть до женских рифм, естественных именно для польского стиха, — существенным качеством строфы Жуковского была сплошная мужская рифма.
С «Воеводой» дело обстояло иначе. «Мицкевичева строфа» была впервые испробована как раз в оригинале этой баллады — «Czaty». Для Пушкина хронология появления двух его исходных текстов не имела значения; он познакомился с ними одновременно и одновременно же начал переводить обе баллады; автографы их датированы одним днем — 28 октября 1833 г. Можно было бы ожидать, что и в «Воеводе» он воспользуется строфическим нововведением Мицкевича, но как раз этого не происходит. Мы можем лишь гадать, почему Пушкин резко изменил строфику. Не исключено, что две соотносившиеся друг с другом баллады ощущались им как разнящиеся по своему национальному колориту. «Три Будрыса» в оригинале имели подзаголовок «Литовская баллада», сохраненный и в первоначальном тексте русского перевода. «Засада» была определена Мицкевичем как «украинская баллада», но Пушкин, очевидно, не ощутил в ней специфически украинского колорита и изменил при печатании «украинская» на «польская». В строфе этой «польской баллады» Пушкин сохранил последовательность рифм, но при соблюдении правила альтернанса (мужское окончание в стихах 3 и 6); анапесты оригинала он заменил четырехстопным хореем, полустишия катренов Мицкевича превратил в самостоятельные стихи и написал своего «Воеводу» шестистишиями по схеме: ААвССв. Связь со строфикой оригинала (А + А − В − С + С − В) здесь может быть уловлена, но на слух она практически неощутима.
Строфа «Воеводы» зарегистрирована в творчестве Пушкина еще однажды — в незаконченном стихотворении «Рифма» (1828)[445], однако генетической связи здесь нет. В «Воеводе» стих призван подчеркнуть фольклорную окраску баллады — задание, совершенно чуждое «Рифме». Между тем черновики стихотворения показывают, что строфа «Воеводы» сложилась сразу же, и это наводит на мысль, что в поэтическом сознании Пушкина уже была ее модель как строфы «балладной» и «фольклорной». Это предположение может быть подтверждено, если мы обратимся к более ранним периодам пушкинского творчества.
Среди стихотворений, особенно популярных в поэтическом репертуаре лицеистов, была баллада Дельвига «Поляк», написанная, по-видимому, в 1815 г., к которому относятся первые о ней упоминания. Сюжет баллады весьма еще наивный и несовершенный — отнесен к событиям 1812 г., когда польские части входили в состав наполеоновской армии; соответственно герой баллады — противник русских и является в негативном освещении; кульминацией сюжета оказывается его попытка овладеть спящей русской «девой» и гибель от руки неожиданно вернувшегося жениха — русского офицера. Общее признание, которое получила эта баллада в лицейском поэтическом кружке, впрочем, как можно думать, объяснялось не только ее патриотическим сюжетом, но и непосредственно литературным заданием; она была наиболее заметной попыткой освоения балладного жанра с ориентацией на фольклор. А. Д. Илличевский упоминал ее в письме к П. Н. Фуссу, который слышал о ней и хотел иметь текст: «Теперь, может быть, в эту минуту ты посылаешь ко мне „Дмитрия Донского“, а я к тебе желаемую тобою балладу, подивись проницательству дружбы — вопреки тебе самому я узнал, чего ты хочешь; это не Козак, а Поляк, баллада нашего барона Дельвига», «У нас есть баллада и Козак, сочинение А. Пушкина, — добавлял Илличевский в примечании. — Mais: on ne peut désirer се qu’on ne connait pas. Voltaire, Zaire» («но: нельзя желать того, чего не знаешь. Вольтер. Заира»)[446]. Заметим ассоциацию между двумя произведениями: она вскоре нам понадобится.
В послании Пушкина «К Галичу» (1815) упоминается, видимо, та же баллада Дельвига:
Связь между двумя «балладами» — «Козаком» Пушкина и «Поляком» Дельвига представляется несомненной. «Козак» датируется 1814 г.; в 1815 г. он был опубликован. Дельвиг зависел от Пушкина; оба поэта разрабатывали одну сюжетную схему, но с разным наполнением и разными героями: воин (у Пушкина «друг», у Дельвига «враг») ищет ночлега в избушке, хозяйка которой — одинокая «девица-краса» (одно и то же определение в обоих текстах); на просьбу о ночлеге девушка отвечает отказом. У Пушкина:
У Дельвига:
В обоих случаях этот отказ — ложная задержка действия; за ним следует настояние:
У Пушкина козак предлагает девушке свою любовь и счастье с ним в «дальнем краю»; девушка соглашается и уезжает с козаком; идиллическая концовка, впрочем, иронически снимается в заключительных строках:
У Дельвига ложная задержка образует завязку: девица, склонившись на просьбы, отворяет дверь; «поляк» пьет за ее здоровье и будущее счастье и засыпает, сломленный усталостью; лишь ночью, видя уснувшую девушку, он поддается соблазну и готов уже посягнуть на ее честь, но в этот момент его настигает мщение. Нужно сказать, что оно художественно мало мотивировано. Самый образ «поляка» решен отнюдь не как образ злодея, напротив: «враг» силою вещей, он испытывает своеобразное сочувствие, чтобы не сказать симпатию, к слабой и беспомощной хозяйке, и лишь необычность ситуации пробуждает в нем чувственное влечение. Мы могли бы говорить о художественной концепции, осложняющей и смягчающей образ традиционного «соблазнителя», если бы речь не шла о раннем, полудетском произведении. Однако о некоторых обозначившихся принципах изображения говорить уже можно. Они более всего сказываются в обрисовке центрального героя и у Дельвига, и у Пушкина. «Хват Денис» в «Козаке» как будто указывает на «гусаров» Дениса Давыдова, однако самый облик «козака» — это не облик «гусара» давыдовских «песен», а скорее условно-эпический тип удальца с чертами западнорусского этноса, даже с польскими элементами в одежде и речи:
В ранней редакции баллада имела подзаголовок «Подражание малороссийскому», и исследователи улавливали черты соприкосновения ее с украинским песенным фольклором, а также с литературными имитациями типа песни «Iхав козак за Дунай» в «опере-водевиле» А. А. Шаховского «Козак-стихотворец»[450]. Нечто подобное происходит и в «Поляке» Дельвига, где также введен культурно-этнический знак: «И под мокрой епанчою задремал он над ковшом»; «Сняв большую рукавицу…». Но более всего фольклорный колорит подчеркнут здесь средствами речевой характеристики, а также всем ритмико-синтаксическим строем повествования, включая и строфическую организацию.
Именно здесь начинает обнаруживаться сходство ранней баллады Дельвига и позднего пушкинского шедевра.
Строфа «Воеводы» — это строфа «Поляка», в которую добавлен первый (или второй) рифмующий стих. «Поляк» написан пятистишиями четырехстопного хорея со схемой рифмовки АвССв — строфический эксперимент по аналогии с «балладными формами немецкого происхождения», где практиковались и нерифмующиеся стихи[451]. У Дельвига эта строфа оказывается неожиданно удобной для синтаксических параллелизмов в самых разнообразных вариациях — характерный фольклорный прием, едва ли не основная художественная находка «Поляка»:
Или — параллелизм поговорочных речений, имитирующих грубоватое просторечие:
Сравним в «Воеводе»:
Здесь — довольно близкая аналогия обоим приведенным выше отрывкам из «Поляка». Со вторым пушкинский текст роднит установка на передачу иноязычной речи, причем «простонародной». Можно думать, что у Дельвига не случайно появились фразеологизмы, созданные по моделям русских поговорочных речений, но с совершенно иной, не русской (и несколько искусственной) системой образности. Пушкин в «Воеводе» решает ту же задачу с виртуозным искусством: он вводит обозначения, индикаторы польской речи — «пан мой», «целить мне не можно», «плачут очи» в пределах русской стилистической нормы[452], — путь, еще неизвестный Дельвигу в 1815 г. Но аналогия должна быть продолжена: сходство строф «Поляка» и «Воеводы» в интонационно-синтаксическом рисунке и функциональном назначении композиционных элементов. Первое четверостишие (у Дельвига — трехстишие), синтаксически свободное, составляет своего рода экспозицию; последующие стихи дают троичную параллель с градацией; третий член ее — замыкающая, последняя строка, на которую падает основная семантическая нагрузка. Любопытно, что в приведенных примерах параллель образуют и полустишия предпоследней строки; стих распадается на две синтагмы, тяготеющие к изоморфности. Синтаксические особенности лицейской баллады Дельвига на «польскую тему» словно предвосхищали балладу Мицкевича, написанную почти через полтора десятилетия. Параллельные сочетания оказались в стихах Дельвига своего рода стилистической доминантой — и то же самое мы видим в пушкинском переводе. Когда Пушкин усовершенствовал строфику, преобразовав пятистишия в шестистишия, он получил возможности еще большего разнообразия в варьировании параллелизмов — и любопытно, что в этом отношении он оказался ближе к Дельвигу, чем к оригиналу Мицкевича. В «Засаде» концентрация изоморфных конструкций меньше, чем в «Воеводе», и полустишия далеко не всегда образуют параллелизм. Сравним:
у Мицкевича:
Пушкин как бы сжимает, конспектирует сцену, освобождаясь от побочных деталей, и делает это с помощью «стремительного движения коротких, нераспространенных предложений, состоящих только из главных членов», т. е. тех форм поэтического сказа, которые В. В. Виноградов с полным основанием считал одной из важных особенностей стихотворного синтаксиса позднего Пушкина[453]. Но иллюзия стремительного движения не обязательно связана с сокращением исходного текста. Концовка пушкинской баллады показывает это совершении ясно: в ней две строки Мицкевича развернуты в более детализированную картину, занимающую целую строфу.
У Пушкина:
В пушкинской концовке — игра синтаксическими и семантическими параллелями, антитезами, контрастными сопоставлениями, на фоне которых особенно ясно выступает замыкающая роль заключительного стиха. Возможности для нее открывала найденная поэтом строфа, первый абрис которой обозначился в лицейской балладе Дельвига. «Польская баллада» 1815 г. оказалась исходным материалом для «польской» — уже не метафорически, а буквально — баллады зрелого Пушкина. Вряд ли здесь действовал сознательный выбор или целенаправленные воспоминания о Дельвиге, хотя нам известно, что в поздние годы Пушкин постоянно обращается к памяти ближайшего из своих друзей, — скорее мы имеем дело с работой поэтического подсознания, нерегулируемым ходом ассоциаций, когда литературные модели и аналоги возникают на периферии художественного сознания, питая собой литературные шедевры.
III. Заметки на полях «Дзядов»
Стихи 574–583 сцены VIII третьей части «Дзядов» заключают в себе первую из пророческих притч ксендза Петра, обращенную к Сенатору и Пеликану и рассказанную в связи со смертью доктора, пораженного божьей карой. Она повествует о путниках, устроившихся на ночлег под стеной в селенье. «Ангел божий» ночью является находящемуся среди них убийце и предупреждает его, что стена должна обвалиться. Убийца был самый свирепый среди всех, но он спасен, в то время как обрушившаяся стена убила других. Сложив руки, он благодарил бога за то, что ему сохранена жизнь, но божий ангел, встав перед ним, вещал: «Ты, преступник, не избегнешь большей кары, но погибнешь публичней и позорней, чем они» («…lecz ostatni najgіo niej, najhaniebniej zginiesz»).
Источник этой «были» был установлен проф. С. Пигонем еще в 1932 г. Им была эпиграмма Паллада (авторство иногда оспаривается), вошедшая в Палатинскую антологию (Anthologia Palatina, IX, 378)[454]; исследователь указал и на польский перевод ее, сделанный Ф. Карпинским и включенный в издание его сочинений 1806 г. Карпинский не знал греческого языка и пользовался каким-то французским или немецким посредником. С. Пигонь предполагал, что Мицкевич мог найти текст в сочинениях Карпинского и затем обратиться к греческому подлиннику, к которому в одном месте «были» он приближается больше, чем к переложению Карпинского (ср. ст. 7: «Bogu dziekowal, że mu ocalono zdrowie», у Карпинского: «Ten przed ludźmi chwali sie, że jest niebu drogi, — Jak go na coś wiekszego zachowuja bogi»). Карпинским Мицкевич интересовался и в 1827 г. поместил его некролог в «Московском телеграфе»[455]. ем не менее сам автор гипотезы, по-видимому, ощущал искусственность этих допущений и в своем комментарии к новому изданию Мицкевича осторожно сослался на средневековые притчи как на возможный источник сюжета, никак не конкретизируя, впрочем, своего утверждения[456].
Между тем старое наблюдение С. Пигоня, конечно, верно; что же касается посредника, то он был, вероятно, не польский, а русский. Это был перевод Д. В. Дашкова «Отсроченная казнь», очень близкий к подлиннику и помещенный в том же самом «Московском телеграфе», в котором накануне была напечатана статья Мицкевича о Карпинском. Приведем этот текст.
Легко заметить, что Мицкевич переработал эпиграмму в духе старинной притчи, лишив ее античного колорита; антологическая эпиграмма вряд ли была уместна в устах ксендза Петра. Что касается знакомства поэта с приведенным текстом, то в нем трудно сомневаться. Он входил в подборку «Цветы, выбранные из греческой анфологии», к которой издатель «Телеграфа» привлекал внимание читателей специальным примечанием, отсылая их к «Северным цветам на 1825 год», где была напечатана первая подборка «надписей», и выражая благодарность «просвещенному переводчику». Примечание прямо провоцировало интерес читателей к анониму, чье имя не было секретом в литературных кругах. Мицкевич, сближение которого с Полевыми и их журналом в 1827 г. достигает апогея[458], в это время уже свободно владея русским языком[459], конечно, познакомился с подборкой и получил сведения о «просвещенном переводчике». Помимо Полевого у Мицкевича в это время были и другие знакомые, которые могли информировать его о литературной деятельности Дашкова, уже почти оставленной им во имя государственной службы, — П. А. Вяземский, И. И. Дмитриев, позднее Жуковский и Дельвиг. В парижской лекции о русской литературе 25 января 1842 г. Мицкевич рассказывал о пародийной похвале Дашкова Хвостову, произнесенной на заседании Вольного общества любителей словесности, наук и художеств 14 марта 1812 г., повлекшей за собою исключение Дашкова из числа членов[460]. Речь эта была опубликована только в 1861 г., Мицкевич черпал свои сведения из устных источников. Быть может, ему была известна и цензурная история дашковского перевода из Паллада, который не был напечатан в свое время в «Северных цветах» из-за придирок цензора А. С. Бирукова[461].
«Смотр войска» («Przegląd wojską») — одна из наиболее резких инвектив Мицкевича против александровского и николаевского военно-полицейского государства — построен на реалиях, с большим трудом поддающихся идентификации. Нет сомнения, что в основе страшных сцен, составляющих изнанку блестящего парада, лежат какие-то устные рассказы, преображенные затем фантазией художника и сатирика. При этом степень аутентичности их может быть различна, как и их хронологическая приуроченность.
Мы можем указать с большой степенью вероятности на источник по крайней мере одной из таких сцен — именно той, которая очерчена в стихах 370–371: «Те замерзли, стоя как столбы, перед фронтом, указывая полкам дорогу и цель движения». Она, по-видимому, восходит к рассказу Н. И. Греча о церемонии панихиды по герцогу Виртембергскому, которую устроил Павел I в 1798 г. Греч был свидетелем этой церемонии, совершавшейся «в жестокое зимнее время» в католической церкви, на пути к которой вдоль Невского проспекта «стояла фронтом вся гвардия». «Павел разъезжал верхом, надуваясь и пыхтя по своему обычаю. Великие князья Александр и Константин <…> в семеновском и измайловском мундирах бегали на морозе перед церковью, стараясь согреться. Один полицейский офицер стоял на краю площадки, во фронте. Вдруг подали сигнал. Все поспешили к местам. Раздалась музыка, ружейные выстрелы, пушечная пальба. Потом войска прошли церемониальным маршем. Все утихло; площадь опустела. Один только этот полицейский стоял на месте. К нему подошел другой, коснулся его, и он упал на снег: несчастный замерз!»[462].
Помимо близости центрального ядра рассказа, совпадают и детали экспозиции: в «Смотре войска» так же пустеет площадь, остаются только жертвы императорского парада («Wszystscy odeszli: widze i aktory. Na placu pustym, samotnym zostało Dwadzieście trupów…»).
Какова вероятность того, что Мицкевич услышал этот рассказ из уст самого очевидца — Н. И. Греча? Сведения об общении его с Гречем единичны, если говорить о документальных свидетельствах. Однако в 1827–1828 гг. Мицкевич постоянно посещает дом Булгарина, у которого собирается вся петербургская польская колония. Греч же в это время связан с Булгариным самыми тесными узами — личными и литературными. Весной 1828 г. Кс. Полевой наносит визит Булгарину и застает в его кабинете, который в это время занимает В. А. Ушаков, Мицкевича, Грибоедова и Греча[463]. В одну из таких встреч и мог Мицкевич услышать рассказ, который затем нашел себе место в «Дзядах».
Все исследователи «Дзядов» и пушкинского «Медного всадника» упоминают «Прогулку в Академию художеств» Батюшкова как важный элемент литературного фона обоих произведений.
Н. В. Измайлов, перепечатывая текст этой статьи в приложениях к своему изданию «Медного всадника», отмечал: «Известное значение для изображения в поэме Пушкина памятника Петру и для спора о нем Пушкина с Мицкевичем имеет <…> отрывок статьи Батюшкова, посвященный сопоставлению двух античных конных статуй — консула Бальбуса и императора Марка Аврелия — с монументом Петра, двух коней римских монументов с фальконетовым конем»[464].
Нарочитая неопределенность формулировки объясняется тем, что вопрос о значении статьи Батюшкова для Мицкевича все же остается не вполне ясным.
В. Ледницкий считал, что Мицкевичу были известны особенности замысла Фальконе, непосредственно соотносившиеся с эстетической борьбой ХVIII в. Фальконе намеренно противопоставил художественную концепцию своего монумента — всадник с простертой вперед рукой, скачущий на вздыбленном коне, — спокойной уравновешенности античного образа. Это была борьба талантливого скульптора против «официальной, традиционной» эстетики, нашедшая свое выражение в сочинениях и переписке Фальконе («Lettre à un е espèce d’aveugle», «Observations sur la statue de Marc Aurèle» — в первом томе сочинений Фальконе 1781 г.) и письмах Дидро. Те и другие, как полагал исследователь, могли быть известны Мицкевичу. Статую же Марка Аврелия он видел еще в Петербурге; гипсовый слепок ее стоял в Академии художеств. В этой связи В. Ледницкий и вспомнил батюшковскую «Прогулку», где содержалось сравнение статуй. Конь на памятнике Бальбуса, согласно Батюшкову, «не весьма статен, короток, высок на ногах, шея толстая, голова с выпуклыми щеками, поворот ушей неприятный. То же самое заметил в другой зале, у славного коня Марка Аврелия. Художники новейшие с большим искусством изображают коней. У нас перед глазами фальконетово произведение, сей чудесный конь, живой, пламенный, статный и столь смело поставленный, что один иностранец, пораженный смелостию мысли, сказал мне, указывая на коня Фальконетова: „Он скачет, как Россия!“»[465]. Другие исследователи шли в русле тех же проблем, что и В. Ледницкий. Так, Ю. Кляйнер, автор фундаментальной монографии о Мицкевиче и специальной статьи о Мицкевиче и Фальконе, касался существа «спора» Мицкевича с Фальконе, т. е. причин, по которым польский поэт отверг его памятник и предпочел статую Марка Аврелия. Кляйнер проницательно заметил, что апология гуманиста, добродетельного человека на троне — это позиция просветителя XVIII в., которой отдали дань, в частности, декабристы. Можно добавить к этому, что скакун, укрощенный рукою гуманного правителя, — характернейший образ просветительской литературы. Вопрос об аналогах и источниках Ю. Кляйнера в данном случае интересовал мало; еще в старой своей статье «Мицкевич и Фальконе» (1926) он высказывал мысль, позднее развитую В. Ледницким: Мицкевичу была известна устная традиция, сохранявшая еще пыл старых эстетических полемик; знал ли он статью Фальконе — остается неизвестным[466]. Столь же непосредственно с концепцией самой скульптуры соотносил текст Мицкевича и В. Кубацкий[467].
Между тем посредничество статьи Батюшкова в ознакомлении Мицкевича с этой эстетической дискуссией не только наиболее вероятно, но и существенно важно. «Опыты» Батюшкова Мицкевич хорошо знал и очень ценил; в своих парижских лекциях он цитировал стихи Батюшкова по-русски как классические образцы поэтического стиля[468]. Нужно думать, что в 1827–1828 гг. «Прогулка в Академию художеств» попала в поле зрения Мицкевича. Во время пребывания его в Петербурге новинкой была очередная осенняя выставка в Академии художеств; он был окружен польскими и русскими художниками, в том числе и воспитанниками Академии; его среду составляли и любители искусств, вроде Дельвига, и журналисты, выступавшие в качестве обозревателей академических выставок, как Булгарин; наконец, он посещает дом президента Академии художеств А. Н. Оленина, в котором и зародилась эстетическая основа батюшковской статьи. «Прогулка в Академию художеств» была своеобразным манифестом идей оленинского кружка, и самое сопоставление памятника Фальконе с античным образцом, — конечно, опиравшееся и на сочинения самого скульптора, — было вполне в духе исторических и эстетических штудий, которыми был занят салон Оленина.
Все эти соображения подкрепляются очевидной взаимозависимостью художественных и мемуарных свидетельств. В «Памятнике Петру Великому» содержится не только сопоставление двух конных статуй — древней и новой, но и аллегорическое толкование Фальконетова коня как изображения исторических судеб России. На этом толковании построен весь отрывок Мицкевича, и оно же вызвало к жизни реплику Вяземского, сказанную Пушкину и Мицкевичу, когда они втроем проходили мимо памятника: «…этот памятник символический. Петр скорее поднял Россию на дыбы, чем погнал ее вперед»[469]. И поэтический текст Мицкевича, и, скорее всего, замечание Вяземского (отлично знавшего батюшковскую статью) имеют диалогическую природу; Вяземский парадоксально уточняет привычный образ («скачет, как Россия»). Мицкевич полемизирует, и — почти нет сомнения — совершенно сознательно. Оба мотива «Прогулки…» Батюшкова — сопоставление статуй и аллегория судеб государства — повторены, но с обратным знаком, в соответствии с общей концепцией «Памятника Петру Великому»: «чудесный конь, живой, пламенный» (восприятие Батюшкова) для Мицкевича — воплощение губительного самодержавного волюнтаризма; спокойная, лишенная эффектной стати лошадь Марка Аврелия оказывается у него скакуном, укрощенным рукой мудрого и гуманного правителя. Это даже не столько полемика, сколько переинтерпретация: место эстетического толкования занимает социально-философское и политическое, при сохранении общего тематического контура. Далее развивается реплика Вяземского — и совершенно таким же образом: «поднял на дыбы», т. е. потерял способность управлять взбесившимся скакуном на самом краю пропасти. «Уже бешеный конь вскинул вверх копыта, царь его не удерживает, конь грызет удила, вот-вот он упадет и разлетится вдребезги» (ст. 50–62). В «Медном всаднике» будут учтены «точки зрения» уже не двух, а трех собеседников: Батюшкова («скачет, как Россия»), Вяземского (не скачет вперед, а поднят на дыбы) и самого Мицкевича.
Это батюшковский конь, «живой, пламенный» и скачущий вперед.
Это развитие — с полемическими коррективами — и замечания Вяземского, и концепции Мицкевича; «точка зрения» Батюшкова выступает как корректирующее начало (конь скачет вперед; он не одолел всадника, а остановлен им «над самой бездной»). «Чужое слово» и чужие «точки зрения» присутствуют здесь в снятом виде. Но, быть может, самое показательное — то, что «Прогулка в Академию художеств» отражается прямыми реминисценциями во вступлении к «Медному всаднику» с апофеозом Петербурга, — и это, с нашей точки зрения, оказывается довольно сильным дополнительным аргументом в пользу предположения, что статья Батюшкова была одной из отправных точек для «Памятника Петру Великому», концепция которого зарождалась в каких-то своих чертах уже при личном общении Пушкина и Мицкевича в 1828 г.[470]
Символическая художественная тема снега и льда, безлюдной белой пустыни — одна из сквозных в «Отрывке из III части „Дзядов“». На ней построена «Дорога в Россию», где впервые намечается образ скованного льдом моря. Ветер беснуется в снежных полях, море снега («morze śniegów»), взметенное вихрем, поднимается со своего ложа и снова падает, как будто внезапно окаменело («jakby nagle skameniałe»), огромной белой безжизненной массой. Над этими стихами (44–47) Мицкевич работал особенно тщательно; в ранней редакции лавина снега («fala śniegów») сравнивалась с окаменевшим морем («jak gdyby morze skameniałe»)[471]. По этим пространствам летит повозка изгнанника. Это отдаленная вариация мотивов знаменитой 10-й элегии из III книги «Tristia» Овидия. «Лед» и «снег», окружающие поэта, у Овидия тоже особая, символическая пейзажная тема[472] — и так же связанная с темой чужбины, враждебной ссыльному; в этой элегии мы находим и упоминание о Борее, оледеняющем снег, так что он делается вечным («Nix iacet, et iactam ne sol pluviaeque resolvant, Indurat Boreas perpetuamque facit» — ст. 13–14), и классический образ скованного льдом моря («Vidimus irrigen-tem glacie consistere pontum…» — ст. 36 и след.). Ассоциации приходили естественно и, конечно, поддерживались общением с Пушкиным, для которого Овидий был особой биографически-художественной темой; вспомним, что как раз в период их первоначального знакомства выходят из печати «Цыганы» (1827) — поэма, которую Мицкевич считал выдающимся произведением[473], а несколько ранее (1826) — «Стихотворения Александра Пушкина», где было перепечатано послание «К Овидию». И в «Цыганах», и в послании Пушкин опирался на упомянутые нами стихи из 10-й «печальной элегии»; отрывок об Овидии, кстати, был до выхода отдельного издания «Цыган» опубликован в «Северных цветах на 1826 год».
Трудно сказать, бывал ли Овидий предметом литературных бесед двух поэтов-изгнанников, посетивших почти одни и те же места юга России, поблизости от предполагаемого места ссылки и захоронения Овидия[474]. Уже одни биографические аналогии делают такое предположение вполне вероятным. Добавим к этому, что и Пушкин, и Мицкевич специально интересовались Овидием и как поэтом, и как исторической личностью; Мицкевич, как известно, хорошо знал элегии римского поэта в подлиннике и переводил их, намереваясь вместе с Ежовским издать антологию латинских классиков на польском языке[475].
Любопытно вместе с тем, что у Пушкина и Мицкевича «зимние мотивы» Овидия получают диаметрально противоположную художественную интерпретацию. Пушкин как бы оспаривает их, становясь на иную точку зрения. Южная зима у него увидена глазами северянина; для Овидия это — суровый север, где вынужден жить он, человек юга. В послании «К Овидию» подчеркнута субъективность пейзажа «Скорбных элегий»; в «Цыганах» эта субъективность становится характерологической чертой Овидия («чужого человека»), а разница «точек зрения» художественно реализована в рассказе цыгана об Овидии[476]. Мицкевич гиперболизирует исходную картину зимы; из той же субъективности вырастает символический пейзажный образ. Как и в случае с Батюшковым, единая исходная тема продуцирует два противостоящих друг другу варианта разработки. Здесь это, конечно, не «полемика» в точном смысле слова; это разность художественных и концептуальных установок, приводящая и к различным результатам.
Между тем образ замерзшей воды, поразивший воображение Овидия резким контрастом между обычным агрегатным состоянием аморфного, подвижного, текучего вещества и новым состоянием, когда внешняя недобрая сила лишила его привычных свойств, движения и как бы самой жизни, продолжал варьироваться в художественном сознании автора «Дзядов». Он уходил своими истоками еще в метафорический язык «Крымских сонетов», где впервые обозначился «классический оксюморон» «сухой океан»; в специальном исследовании В. Кубацкий проследил движение этой метафоры в мировой поэзии начиная с античности[477]. В сонете же «Вид гор из степей Козлова» мы находим и первоначальную кристаллизацию образа «оледенелого моря» («morze lodu») — того самого, который с новым художественным смыслом появился в вариантах «Дороги в Россию».
Нет сомнения, что и в этом случае в поле зрения Мицкевича была целая традиция поэтического словоупотребления, включавшая и русские образцы. «Замерзшее море» (в модификации: море с волнами, что придает образу новый оттенок выразительности) есть в швейцарских сценах «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина; описывая ледники Гриндельвальда, Карамзин замечает: «Не знаю, кто первый уподобил сии ледники бурному морю, которого валы от внезапного мороза в один миг превратились в лед; но могу сказать, что это сравнение прекрасно и справедливо и что сей путешественник или писатель имел пиитическое воображение»[478]. «Письма русского путешественника» Мицкевич знал, но задержалось ли его внимание на этом месте — неизвестно.
Существовал, впрочем, еще одни литературный аналог этой сцены, который мог быть известен Мицкевичу, — «Ухабы. Обозы» из «Зимних карикатур» Вяземского. Стихи эти были напечатаны в «Деннице» М. А. Максимовича в 1831 г., однако написаны они зимой 1827–1828 гг., во время поездки Вяземского по Пензенской губернии. Сразу же после приезда в Москву Вяземский возобновил общение с Мицкевичем, которое продолжилось и в Петербурге; в мае — июне 1828 г. оно достигает наибольшей интенсивности. Вполне вероятно, что Вяземский рассказал ему о впечатлениях своего путешествия в мороз и метель по занесенной снегом степи; они отразились на страницах его записной книжки и в стихах, где есть точки соприкосновения с «Дорогой в Россию»:
Это довольно близко к описанию снежного моря, поднятого вихрем. В другом месте — в «Ухабах» — находим развитие карамзинского образа:
Далее возникает образ, навеянный «Крымскими сонетами» Мицкевича:
Заметим, что Вяземский дал в свое время прозаический перевод «Аккерманских степей» с этим образом: «Вплывая на простор сухого океана, колесница ныряет в зелени и, как лодка, зыблется среди шумящих нив…».
Но, как мы видели, и мотив ледяных волн также присутствовал у Мицкевича: «Не Алла ли поднял оледенелое море»[480].
У Вяземского произошло переключение в иную образную сферу: метафоры южного пейзажа стали характеристикой севера. Если наше предположение, что Мицкевич знал эти стихи, верно, то он получил обратно то, что Вяземский взял от него, — но вместе получил и художественный импульс для новой картины.
В «Отрывке из III части „Дзядов“» мы находим интересующий нас образ еще раз и в новой, наиболее экспрессивной модификации — уже не моря, но водопада, схваченного льдом. Он оказывается непосредственно связан с другим, уже известным нам образом — взнесенного над бездной коня.
(«Вечно стоит <конь>, скачет, но не падает. Подобно летящему с гранитов водопаду, Который, скованный морозом, повис над пропастью — Но скоро заблестит солнце свободы, И западный ветер согреет те государства, — и что станется тогда с водопадом тирании?»).
Ю. Кляйнер высказал предположение, что это уподобление может восходить к «картинке» в «Полярной звезде на 1824 год» — иллюстрации к «Водопаду» Державина, где изображен рыцарь на фоне водяного каскада[481]. Но ни «Водопад», ни иллюстрация не содержат самого существенного — изображения водопада, скованного льдом. В. Ледницкий склонен был усматривать источник образа в стихах Тютчева «14-ое декабря 1825», где говорится о вековых льдах, которые не смогла растопить «скудная» кровь жертв[482], но знакомство Мицкевича с этими стихами проблематично — и, кроме всего прочего, в них есть «лед», но нет «водопада».
Между тем существует стихотворение, в котором есть как раз искомый нами образ, организующий все художественное целое. Это «Надпись» Баратынского, адресатом которой долгое время без больших оснований считали Грибоедова:
Строчка Мицкевича «…kaskada, Gdy ścięta mrozem nad przepaścią zwiśnie» производит впечатление прямого перевода строк 5–6.
Знакомство Мицкевича с этим стихотворением вполне вероятно. Оно было напечатано впервые в «Северных цветах на 1826 год» (где был и упоминавшийся выше отрывок из «Цыган»), а затем вошло в раздел «Смесь» сборника «Стихотворения Евгения Баратынского», изданного Н. Полевым в Москве в 1827 г. Как раз на протяжении 1826–1827 гг. происходит личное знакомство Мицкевича и Баратынского и укрепляются их литературные контакты; они видятся в Москве — у Полевых, в салоне Зинаиды Волконской. Стихи Баратынского 1828 г. «Не подражай: своеобразен гений…», вызванные появлением «Конрада Валленрода», очень выразительное свидетельство того пиетета, с которым русский поэт относился к творчеству Мицкевича. Материалы, опубликованные в последнее время Ю. Малишевским, расширяют уже известную нам картину и дополняют ее новыми данными; из них следует, что личность и поэзия Баратынского также были предметом особого внимания в ближайшем литературном кругу Мицкевича[484].
Мы можем поэтому предполагать с большой степенью вероятности, что Мицкевич был в курсе затянувшейся истории издания «Стихотворений Евгения Баратынского» и, скорее всего, получил его в подарок сразу по выходе. Уже при беглом просмотре он мог убедиться, что художественный мотив северного, финского водопада, низвергающегося с гранитных скал, принадлежит к числу сквозных автобиографических мотивов сборника, представляя собой вариант доминирующей пейзажной картины. Ср. в элегии «Финляндия», открывающей сборник:
Любопытная вариация этой элегии — у Бестужева-Марлинского («Финляндия», 1829), с той же темой «водопада»:
Далее Бестужев вводит тему «наводнения»:
Было бы соблазнительно усмотреть отзвуки этого стихотворения в «Олешкевиче», где есть некоторые совпадающие детали (например, тема ударов молота, сопровождающих наводнение), — но оно было напечатано в «Сыне отечества» анонимно уже после отъезда Мицкевича из Петербурга[485]. Мы не знаем, попало ли оно в поле зрения Мицкевича и получил ли он сведения об авторе, о котором вспоминал уже за границей в стихотворении «Русским друзьям». Интересующий же нас образ мог быть и вариацией строк державинского «Водопада»:
Вернемся, однако, к сборнику Баратынского. Второе стихотворение в нем — «Водопад» — продолжает «финскую тему»:
Существенно, что все эти стихи имплицируют тему преследования и изгнанничества, которая наполнялась для Мицкевича, знавшего биографию Баратынского, совершенно конкретным содержанием. Ассоциация с «тиранией» возникала естественно.
В «Буре» (заканчивающей первую книгу «Элегий») Баратынский намечает тему бунта волн.
Вторая книга завершается «Отъездом», где мотив изгнанничества дан экс-плиционно и вновь наложен на пейзажную картину с упоминанием водопада:
Раздел «Смесь» вновь возвращает читателя к теме Финляндии и изгнанничества. Он открывается «Посланием к барону Дельвигу»:
Все эти стихи для внимательного читателя сборника составляли своего рода контекст с обширным кругом внутритекстовых и внетекстовых ассоциаций, в котором читалась образная система интересующей нас «Надписи», уже не наполненной прямым автобиографическим смыслом[486]. Заметим, что образ оледеневшего водопада в литературном кругу Баратынского возник задолго до его «финских» стихов. Так, в стихотворении Дельвига «К Лилете (зимой)», относящемся, видимо, еще к периоду Лицея и неизданном, неизвестном Мицкевичу, но несомненно известном Баратынскому, читаем:
В «Надписи» («Взгляни на лик холодный сей…») образ получил новое семантическое наполнение. В стихах Мицкевича он реципировал целый круг новых ассоциативных значений и превратился в символическое или, скорее, аллегорическое обозначение того комплекса образов и идей, которые организовали художественное целое «русских сцен» — III части «Дзядов»[488]. Он включился в центральную художественную тему «зимы», предстающую в разнообразных модификациях: снег, сплошь покрывший мертвые равнины («Дорога в Россию»), лед, сковавший реку («Олешкевич»), и т. д. Семантика образа корреспондирует с заключительным пророчеством в «Олешкевиче», о котором мы мельком упомянули выше: «Я слышу — там! вихри уже подняли головы Из полярных льдов, словно морские чудовища, Уже сделали себе крылья из грозовых туч, Воссели на волны, сняли их оковы; я слышу! уже морская пучина разнуздана, Брыкается и грызет ледяные удила, уже поднимает влажную шею до облаков; Уже… Еще одна, [только] одна сдерживает [ее] цепь; скоро ее раскуют, — я слышу удары молотов…» (ст. 133–141). Здесь имплицирована художественная тема освобождающегося коня; эксплицитно дана тема освобождающейся стихии. В концовке «Памятника Петра Великого» — обратные отношения: остановленный конь и остановленный поток; то и иное — искусственно, и пророчество Олешкевича, намечающее грядущую катастрофу, которая ждет скованную деспотизмом Россию, в конечном счете заложено и в «Памятнике…», только здесь освобождение должна принести не стихия, а западный ветер (также аллегория!), несущий «тепло свободы». Политическая концепция (неприемлемая ни для Пушкина, ни для Баратынского) здесь очевидна; менее очевидна, хотя также несомненна контрастная игра динамическими и статическими образами, создающими оппозицию: зима, мороз, лед — угнетение, деспотизм, омертвляющее, статическое начало; с другой стороны, волны, ветер, солнце — свобода, революция, динамика, стремление, жизнь. Скованный льдом водопад в этой системе поэтических понятий приобретает особую выразительность: здесь воедино слиты статика и динамика, потенциальное стремление и реальное омертвление, причем сиюминутная реальность чревата надеждой на освобождение. Любопытно, что на ином уровне поэтического обобщения эта система поэтических представлений будет воспринята и Пушкиным, хотя и с иной семантикой, — достаточно напомнить известную работу Р. Якобсона, где мотив «оживающей статуи», в частности в «Медном всаднике», исследован с точки зрения оппозиций динамики и статики[489].
Что же касается образа, непосредственно восходящего к стихам Баратынского, то он был замечен русскими поэтами и существовал в литературном сознании довольно долго. Его вариацию мы находим, например, в письме Лермонтова С. А. Бахметевой, написанном из Петербурга в августе 1832 г.: «И пришла буря, и прошла буря; и океан замерз, но замерз с поднятыми волнами; храня театральный вид движения и беспокойства, но на самом деле мертвее, чем когда-нибудь»[490]. В этом письме — прямая парафраза известной уже нам строки Баратынского «храня движенья вид», отнесенная к другому в генетическом и функциональном отношении образу, о котором нам также пришлось уже упоминать. В историко-стилистическом смысле эта перекличка Лермонтова и Мицкевича любопытна, в частности потому, что не стоит одиноко: исследователями уже отмечались случаи творческих соприкосновений поэтов, отправлявшихся от общих литературных источников[491].
Будем работать в стол — благо, опыта не занимать[492]
— Вадим Эразмович, сейчас возникла парадоксальная ситуация: все как будто разрешено, в том числе и в сфере интеллектуальной, а книгоиздание замирает (или вымирает?), филология шагнула назад, в допечатную эпоху. В вашей совместной с М. И. Гиллельсоном книге «Сквозь „умственные плотины“» шла речь о преградах, которые ставились на путях просвещения, но его не сокрушили. Сейчас плотины сметены, ничто не мешает, а мы, похоже, сели на мель…
— Это требует особого размышления. Даже вопрос о цензуре не столь уж прост. Пушкин, всю жизнь страдавший от цензуры, в то же время говорил о невозможности и недопустимости абсолютной свободы печати, потому что необходимо пресекать диффамацию, клевету, порнографию, распространение заведомо антисоциальных слухов, — печатный станок сильнее артиллерийского снаряда. Здесь приходится вспомнить ядовитое замечание Марка Твена: до сих пор все думают о том, чтобы оградить свободу печати, а неплохо было бы подумать о том, чтобы оградить…
— …свободу от печати?
— Безусловно. Это вопрос о допустимых пределах любой власти, будь то законодательная, исполнительная, судебная или власть четвертая — власть печати. Требуется некоторое их равновесие, в противном случае страдает свобода. Попытки подчинить печать государственному диктату не могут не вызвать протеста, но, к сожалению, и в печати дезинформация, бьющая в глаза необъективность стали едва ли не нормой.
Кстати, свобода печати сама по себе еще недостаточна ни для стимулирования культуры, ни даже для свободы мнений. Тут нужен определенный уровень цивилизованности общества. Сегодня же появляются кастовые, групповые органы печати, с сектантской нетерпимостью исключающие всякую свободу мнений. В таких условиях в периоды резкой поляризации общества обычно растет потребность в изданиях, где высказывались бы люди, не принадлежащие ни к какой группе. Чаще всего именно они являются носителями культуры.
Есть и другая сторона вопроса. Дух демократизма создает предпосылки для развития культуры, но самое культуру он создать не может: она живет по своим имманентным законам. Мы знаем периоды культурного расцвета при авторитарных и даже деспотических режимах. Пушкинская эпоха в России вовсе не была отмечена торжеством демократии. Бывают и парадоксальные явления. У нас в период сильного внешнего давления на литературу создались культурные кружки с очень большим полем интеллектуального напряжения. Под воздействием извне они обнаруживали свои скрытые силы. Как только давление упало, в разреженном воздухе они уже не смогли работать. Наша литература всегда была социально ориентированной, она брала на себя функции социологии, философии, политики и религии. Сейчас литературе понадобились свои, только ей присущие ориентиры. Эстетические критерии выходят на первый план. Литературе предстоят суровые испытания: она держит теперь экзамен на то, чтобы называться литературой. Так, между прочим, было у нас в последние десятилетия прошлого века в поэзии. А с наступлением Серебряного века публицистике, эстетической и религиозной проповеди, даже самой благородной по намерениям, уже стало невозможно притворяться поэзией: критика, наиболее просвещенная часть читателей сразу же распознавали мундир чужого ведомства. Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, Владислав Ходасевич, Ахматова, Мандельштам, да чаще всего и Блок осмысляли мир в специфически поэтических категориях. Ходасевич, скажем, мог писать стихи о русском ямбе как об отдельной, особой и самодостаточной проблеме. Литературе нужна обостренная аналитическая мысль, ей недостаточно стать на чью-либо сторону, ей необходимо выработать собственный голос и погрузиться в тот культурный пласт, из которого она может выбрать все, что ей нужно, и — создавать ценности даже в «башне из слоновой кости».
— Тут бы самое время филологам сосредоточиться на филологии. Но ситуация катастрофическая: книги по истории литературы, ее теории просто не выходят. А то, что появляется в провинции, — остатки прежней роскоши.
— Будучи недавно в Москве, я увидел, что в крупнейшем книжном магазине отдел литературоведения просто ликвидирован. Это результат отсутствия культурной политики. Любое уважающее себя общество в период катаклизмов берет культуру под защиту. У меня на полке стоит 3-й том полного собрания сочинений Жуковского, изданного в 1918 году. Заметим, что Жуковский не революционный поэт, а монархист, консерватор. На обороте титульного листа — разъяснение комиссариата народного просвещения за подписью П. И. Лебедева-Полянского: в период книжного голода, наступившего в стране, ни за какие деньги нельзя достать хорошую книгу; поэтому комиссариат, не дожидаясь окончания уже ведущейся работы по пересмотру текстов сочинений классиков (а из нее выросла почти вся наша текстология), приступает к изданию со старых матриц собрания сочинений Толстого (15 томов), Жуковского (3 тома), Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского (12 томов), Кольцова, Ключевского… Гражданская война, разруха, голод, бумаги нет. Разве у нас сейчас 18-й год? Простите, но транспорт ходит, голода пока нет, а приличная книга — редкость. Более того, в стране есть и бумага, работают типографии, которые тиражами 200–300 тысяч печатают тонны той вульгарщины, которой завалены книжные магазины и все лотки Москвы и Петербурга. Мне пришлось бывать в Америке. Такого рода книжонки не продаются в центральных магазинах, для них существуют толкучки и закоулки и еще специальные порномагазины.
— Недавно в «Независимой газете» появилась статья Андрея Немзера «Об издательских делах», где он пишет о необходимости твердой и продуманной политики в области культуры, о контроле государства над выполнением ГОСУДАРСТВЕННЫМИ издательствами своих планов. Иначе они начинают просто обслуживать рынок. А через несколько дней в «Аргументах и фактах» я читаю интервью Михаила Полторанина, который утверждает, что 4 тысячи независимых издательств России выпускают самую интересную литературу. А государственные издательства (интервьюер предлагает их чуть ли не распустить, как «слабые колхозы») в конкурентной борьбе должны определить свое будущее. Министр печати ратует за полное прекращение государственного контроля в издательском деле.
— Декларативно заявленное полное отсутствие культурной стратегии чрезвычайно опасно для судеб всего общества. Подобная точка зрения может быть завтра перенесена, скажем, на государственный Эрмитаж. Пусть конкурирует с частными фирмами, торгующими на улицах. Да Эрмитаж не может с ними конкурировать, он будет тут же скуплен за доллары теми, кому это нужно! Будущий историк возьмет «Книжное обозрение» и, посмотрев, что у нас выходило в разные годы, сделает один-единственный вывод: высшего расцвета книжное дело и литературные свободы достигли в 1991 году. С 1992 года произошел полный культурный распад, а читающая Россия в это время состояла из подростков с задержанным умственным развитием. Кто-то сведущий мог бы объяснить министру печати, что почти все выпускаемое сегодня — это книги не созданные, а перепечатанные, и очень часто на таком чудовищном уровне, на каком в эпоху застоя не позволяли себе работать районные газеты в глубинке. В Москве я собирался купить репринт Корана, но не сделал этого. Оказалось, что в тексте остались сноски на соответствующие страницы комментария, которого, однако, я не обнаружил. Чистой воды халтура.
— Видимо, необходимы значительные вливания в культуру, в книгоиздание в частности. Тут без дотаций не обойтись. Ведь культура и рынок — две вещи несовместные?
— Не о дотациях нужно говорить. Я еще не видел полного текста принятых Верховным Советом Основ законодательства о культуре. Будем надеяться на нечто более кардинальное. Давайте подумаем: разве, например, армия получает дотации? Нет, расходы на нее — в числе фундаментальных статей бюджета любого государства, иначе оно не сможет существовать. Тяжелая промышленность, транспорт, властные структуры — то, что обеспечивает жизнедеятельность государства — разве дотируются? Так вот культура — это тоже одно из необходимых условий существования общества. Конечно, на все можно закрыть глаза и даже на это. Но тогда через несколько лет у нас будет оруэлловское общество на демократической основе. Культурная сфера формирует личность с ее ценностными ориента-циями, в том числе мировоззренческими и социальными. Она приучает человека размышлять. Рыночная же культура, лежащая на лотках, приучает потреблять. Она формирует общество пассивное и невыбирающее, культурно-гомогенное, которое является мечтой любого тоталитарного государства. А как вы думаете, за кого проголосует это общество на очередных выборах? За того, кто подносит ему самые примитивные, биологически понятные лозунги. Демократия подпишет собственный смертный приговор, и очень скоро, в ближайшие 10–15 лет. Более того, возможность ее возрождения исчезнет надолго.
Сейчас многие говорят о гибели культуры. Но ведь культура-то не погибнет. Не ее жаль. Государства погибали, а культуры воскрешались, потому что это самое прочное, что есть в человеческой цивилизации. Так было с культурой уничтоженного Древнего Рима, когда на века она замерла, а потом воскресла и стала выдвигаться как основная эстетическая и интеллектуальная ценность. Так вот: жаль не культуру, а жаль те поколения, которым придется ее для себя открывать заново. Но именно эти поколения и произнесут свой суд над нашим обществом и над нашим временем. Этот суд будет куда строже того, которым мы судим недавнее 70-летнее прошлое. Он будет жестче еще и потому, что генерация новых политиков взяла на себя тяжелую историческую миссию сделать шаги вперед. Если окажется, что это шаги назад, можно догадаться, в каком пантеоне будут висеть их портреты.
Когда мы говорим о воздействии на человека огромного культурного слоя, крайне важно сказать, что он помогает выработать аналитичность мышления, способность анализировать не только прошлое, но и настоящее. Человечество аккумулирует исторический опыт и его осмысляет. Когда оно перестает его осмыслять, оно падает в бездну варварства. Об этом — мудрый фильм-притча A. Рехвиашвили «Путь домой». Рассеянный после битв и исторических испытаний народ возвращается домой. У него есть шанс вернуться до тех пор, пока жив хоть один человек, способный прочесть книгу. Книгу его вождей. Последняя сцена удивительна: книга попадает в руки к очередному вождю, и он держит ее вверх ногами. Читать он уже не умеет.
Хочется вспомнить об идее покаяния, о которой говорили Д. С. Лихачев и другие. Она имеет отнюдь не религиозный смысл. Покаяние — это умение проанализировать самого себя, умение понять свою историческую правоту и неправоту. До тех пор, пока мы этого не осознаем, пути домой у нас не будет. Но я, пожалуй, не стал бы бездумно повторять знаменитую сейчас формулу: зачем нужна дорога, если она не ведет к храму? А зачем нужна дорога, если она ведет только к храму? Нужны дороги, которые ведут и к храму, и не к храму, чтобы человек сознательно выбирал себе любую. В свое время я равнодушно проходил мимо книжных витрин, наполненных атеистической литературой. На каждой книжке было написано: «Есть ли бог?». И не было ни одного шанса, чтобы хоть в одной из них был положительный ответ. Поэтому и покупать их не хотелось.
Теперь же, проходя мимо тех же витрин с книгами «Есть ли Бог?», я знаю, что ответ будет заведомо положительным. И мне это точно так же не интересно. Интересно почувствовать напряжение мысли человека, который доказывает, а не подтверждает цитатами заранее известные ему тезисы. В этом разница между культурой и некультурой, мыслью и безмыслием и между цивилизованным обществом и варварским.
— Между демократическим и тоталитарным?
— Несомненно. Любое общество, которое хочет ввести единомыслие, — варварское. И тоталитаризм бывает демократическим, а бывает авторитарным. Но я не хочу ни того, ни другого.
— Когда вы говорили о томах Жуковского, выходивших в голодном 1918 году, я вспомнила и об устных формах общения филологов, литераторов, существовавших в те времена, когда печатный станок работал ограниченно, — о Московском, а потом Пражском лингвистическом кружке, о рукописных окнах РОСТА.
— Формы эти есть и сейчас. Недавно я вернулся из подмосковного Остафьева, где выступал на конференции, приуроченной к 200-летию со дня рождения Вяземского. Ранее там же и в Москве прошла конференция, посвященная юбилею Карамзина. По ее материалам было подготовлено несколько сборников — это редчайшие неизданные материалы, в том числе и добытые за рубежом. Так вот, они не выйдут.
— Тем не менее ученые, выступавшие там, находят себе аудиторию — узкий круг заинтересованных слушателей. А как быть студентам-филологам, которые теперь лишены возможности прийти в библиотеку и взять сборник докладов, сделанных на этих конференциях?
— Пожалуй, сегодня возможности студента все это изучать ничтожны. Слава Богу, что до 1991 года культура развивалась по восходящей и что библиотеки пока еще не освобождены от государственного надзора! Хотя, кто знает, может быть, скоро им предложат выставить на улицу лотки с книгами и конкурировать с уличными торговцами на общих основаниях.
Итак, студент не найдет в библиотеке остафьевского сборника, а среди докладчиков на конференции были блестящие молодые филологи, наши самые квалифицированные специалисты по первой половине XIX века. Многие из них — авторы еще одной не увидевшей свет книги: «Арзамас». Это подготовленный на великолепном уровне весь комплекс документов, связанных с целой эпохой, формировавшей Пушкина. Книга делалась как осуществление литературного завещания Гиллельсона; она была набрана, подписана в печать в издательстве «Художественная литература». И дело на этом кончилось.
Посмотрим, может быть, что-нибудь удастся издать, привлекая заинтересованных филологов Запада. Но ведь все это — наша культура, книги делались в России и для России. К нашему национальному стыду, сами мы уже не имеем возможности поддерживать свою культуру — то единственное, что мы можем представить на Западе в качестве самостоятельной ценности.
— Кстати, о Западе, точнее — ближнем зарубежье… Как вы оцениваете позицию Российской академии наук, отказавшейся рассматривать кандидатуру Ю. М. Лотмана для избрания его в свои члены, объясняя это тем, что он житель Эстонии? Хотя после прекращения деятельности союзной академии все академики, проживавшие в бывших республиках, автоматически стали членами Российской академии.
— 170 лет назад Александр Тургенев сказал о Российской академии: вот вся история и приговор нашей академии — Карамзин не был ее членом.
— Какую опасность для нас представляет обрыв культурных связей, существовавших в СССР?
— Когда я слышу торжествующие крики о падении империи, то всегда задаю себе один вопрос: кто это говорит — Ганди, поднимающий флаг независимой Индии, или вандал на развалинах Рима? Боюсь, что голос вандала слышнее. Что такое человек, потерявший империю? Ведь он был немножко рабом и немножко императором. Не знаю, перестал ли он быть рабом, но императором — перестал. Именно это лежит в основе ностальгии по империи. А еще — ощущение общего культурного пространства, разрезать которое решительно невозможно. Выбросьте из русской культуры Грузию и горские народы, и вы лишитесь шедевров Лермонтова и Льва Толстого. Повесть «Хаджи-Мурат» — одна из самых высоких вершин русской классики — не могла быть создана, если бы русский писатель не проник с любовью и уважением в психологию, казалось бы, чужого ему народа. А выбросьте русскую культуру из грузинской — и лишитесь Ильи Чавчавадзе и Николоза Бараташвили. Я прекрасно помню овации, которые устраивались грузинскому театру в Москве и Ленинграде, помню очереди в кинотеатрах на грузинские фильмы, поразившие нас тогда. Русская аудитория всегда была самой благодарной для восприятия других культур. Как нас тянуло в Прибалтику, как не хотелось уходить из литовского леса (именно потому, что он был не похож на наш). Вам не приходилось бывать в Самарканде? Это было одно из самых сильных эстетических потрясений, какие мне пришлось испытать. Для русских Самарканд — воплощение Востока. Причем в совершенно специфической, неповторимой форме — среднеазиатского Востока. Это неотъемлемая часть нашего культурного сознания, но ведь и Средняя Азия знает, что мы, может быть, лучшие ее ценители. Ибо на фоне Мекки Самарканд померкнет. А у нас другой Мекки нет.
Мне кажется, если создать специальную газету, которая собирала бы культурные ценности бывшего Союза, она будет с сочувствием принята в любом из этих регионов. Газета просветительского толка, восстанавливающая органически сложившееся культурное пространство; не только для узкого круга ценителей, а для всех, живущих в ближнем зарубежье, практически неотделимом от нас.
— Но которое может быть отделено волевым усилием?
— Волевым усилием можно отделить даже русскую провинцию. Но от этого связи все равно не разорвутся. Кстати, если откуда-то и придет культурное восстановление, то не в последнюю очередь из нашей провинции. Здесь еще осталось уважительное отношение к своим святыням. Это не маргинальная психология. Будучи недавно в Тарханах, я имел случай в этом убедиться. Лермонтовский музей — предмет гордости. Это — свое. И уж тут не будут ломать деревья, как в Подмосковье.
— Вадим Эразмович, когда полгода назад я позвонила вам и просила ответить на вопросы нашего «Филологического корпуса»: над чем вы работаете и что читаете? — вы сказали, что работаете исключительно над академическим собранием Пушкина. Как бы вы ответили сегодня?
— И сегодня продолжаю эту работу. Выпускаем первый пробный типовой том — лицейская лирика с заново проверенными текстами, переработанным комментарием, с приложением старой, но не утратившей своего значения работы Цявловского. Книга должна выйти в будущем году, потому что на нее получены специальные субсидии. Что будет дальше — трудно сказать. Вообще этот год «знаменательный»: не вышло ни одной книги Пушкина. Хотя нет — «Тень Баркова»! Ну, а что будет в подлинно знаменательном 1999 году — можно только гадать. Но Пушкинский Дом работает.
Лично у меня в издательствах лежит более 50 печатных листов подготовленных и написанных текстов, но никакой надежды на их выход нет.
Продолжается работа с «Российской энциклопедией» над Словарем русских писателей XIX века. Это грандиозное издание. Первый том уже вышел, второй набран, а третий ушел в типографию. Первый том, увидевший свет несколько лет, назад готовился еще во времена Брежнева, но без малейшей конъюнктуры. Поэтому у него практически не было шансов на издание — том включил статьи обо всех писателях-эмигрантах первого поколения. Тем не менее авторы (и известные уже ученые, и совсем юные тогда филологи, едва со студенческой скамьи, и подлинные подвижники — коллектив редакции литературы и языка, и редколлегия, куда вхожу и я) работали так, словно дело шло об обычном издании. Нужно сказать, что нас тогда очень поддержал назначенный главным редактором словаря П. А. Николаев. И когда цензурные барьеры пали, нам не пришлось переделывать книгу. Этим мы вправе гордиться.
А что я читаю? В основном то, что необходимо для моей работы. И только уехав на 10 дней в Тарханы, имел редкую возможность читать для собственного удовольствия. Наслаждался ранее мне не известным Гайто Газдановым. Пожалуй, такой прозы я не читал уже много лет.
— И все-таки как работать, когда книги не выходят?
— Не знаю… Книга имеет духовную ипостась и ипостась материальную. Что касается духовной, интеллектуальной, то она не пропадет. Литература сделалась рукописной, как говорил Пушкин, в период цензурного террора. Ну, может быть, мы дождемся того уровня цивилизации, при котором это будет востребовано. Сейчас же, видимо, нужно продолжать работать в меру наших способностей.
— Работа в стол?
— Конечно. Продолжать работать в стол, как это привычно было российскому обществу. Благо, тут не занимать опыта. Ну, а там видно будет.
М. Горбачев как феномен культуры[493]
«…Мне кажется, что пора снять ореол какой-то святости, мученичества и величия с фигуры Горбачева. Это заурядный партийный работник, в силу обстоятельств попавший в историю и содействовавший развалу огромного советского государства. Никакого отношения к развитию демократии и преобразованиям он не имеет. Если бы не было Горбачева — был бы другой. Общество должно было пройти через реформы. Если бы не было Горбачева, может быть, эти реформы пошли бы более удачно, более эффективно»[494].
Это — цитата из выступления председателя Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатова на пресс-конференции в Дели, которую мы приводим по газетному отчету. Ее подчеркнуто полемическая форма, может быть, рассчитанная на эпатирование собравшихся журналистов, обнажает те содержательные элементы, которые постепенно становятся общим местом в статьях о бывшем президенте Союза: представитель правящей партийной верхушки начал реформы, побуждаемый необходимостью сохранить основы «системы», мощные социальные силы, приведенные им в движение, вырвались из-под контроля и оттеснили, а затем и вытолкнули нерешительных, колеблющихся сторонников косметических полуреформ. Так начался новый этап уже демократической революции, приведшей к падению «системы», закономерному распаду коммунистической «империи» и появлению новых, подлинно демократических лидеров.
С теми или иными вариациями эта схема прослеживается и в специальных социологических (в том числе и зарубежных) статьях, и в массовой пропаганде в периодической печати. В нее очень удобно вписываются фигура Михаила Горбачева и конкретные имена политиков, занимающих сейчас верхушку социальной пирамиды.
Концептуальная основа этой схемы совершенно прозрачна: это официально утверждавшаяся в 1930–1970 годы философия общественного развития, заимствованная новыми идеологами почти без изменений. Когда-то Энгельс упрекал Гегеля в том, что его система ограничила его диалектику: завершением саморазвития абсолютного духа оказалось современное Гегелю немецкое государство и его, Гегеля, философия. Между тем именно это противоречие определило характер идеологизированных исторических концепций, о которых идет речь, в том числе, кстати, и концепцию «Краткого курса истории ВКП(б)». Эволюция общества рассматривалась как линейный прогресс, доминирующим началом которого является революционное движение, также идущее по восходящей линии. Отсюда и своеобразный исторический фатализм, очень удобный для пропагандистских целей: вся предшествующая социальная и культурная история имела значение лишь как предыстория и обоснование исторической легитимности правящих социальных групп; в прошлом искали то, что с неизбежностью подготавливало их приход к власти. Отсюда требование «классового подхода» как основного критерия оценки прошлого: в нем актуализируются лишь те идеи или события, которые соответствуют идеологии правящей группы; остальное отбрасывается или переинтерпретируется в желаемом направлении. Примеры общеизвестны; в официальной русской культурной истории долгое время обходились без Карамзина, Достоевского, религиозной и консервативной философии XIX–XX столетий, «серебряного века»… Что же касается «неканонических» исторических личностей, то их культурное и социальное поведение представало как история ошибок, то преодолеваемых, то усугубляемых, а эволюция — как постепенное отставание от прогрессивных идей времени. Такова концепция эволюции Плеханова в «Кратком курсе…»: на II съезде РСДРП он «шел вместе с Лениным»; затем «дал меньшевикам запугать себя угрозой раскола. Он решил во что бы то ни стало „помириться“ с меньшевиками. К меньшевикам Плеханова тянул груз его прежних оппортунистических ошибок. Из примиренца к оппортунистам-меньшевикам Плеханов вскоре сам стал меньшевиком»[495]. Здесь лишь нужно заменить «меньшевиков» на «партократов» и «Плеханова» на «Горбачева», чтобы получить широко пропагандируемую концепцию деятельности последнего.
Между тем здесь неверна самая модель.
Попытаемся наметить иную систему взаимоотношений, — также неизбежно грубую и ограниченную, но небесполезную в методическом отношении. Исходной точкой отсчета здесь будет не личность, а общество. В оценке деятельности личности принято почему-то исходить из презумпции правоты общественного суда как выражения «мнения народного» (в ранней русской историографии, например, у Карамзина, «народным мнением» иногда даже верифицировались исторические источники). Между тем «народное мнение» устанавливается не сразу и отнюдь не всегда тождественно мнению конкретного, исторически локального общества. В оценке крупных деятелей это последнее почти всегда ошибается, ибо не может сразу принять экстраординарное явление, порывающее с обыденным сознанием. В этом смысле степень популярности очень часто обратно пропорциональна исторической и культурной значительности; популизм же всегда апеллирует именно к массовому сознанию. В истории культуры, в том числе и русской культуры, примеры тому весьма многочисленны; достаточно вспомнить резкое падение популярности позднего Пушкина. Пушкин же дал поэтическое (и вместе социально-психологическое) осмысление разительного факта этого рода: трагической судьбы Барклая де Толли, чей спасительный военный план был осужден обществом как «измена»:
«Непроницаемый для взгляда черни дикой, В молчанье шел один ты с мыслию великой, И, в имени твоем звук чуждый не взлюбя, Своими криками преследуя тебя, Народ, таинственно спасаемый тобою, Ругался над твоей священной сединою»[496].
Для Пушкина этот факт был показателем низкого уровня культурного самосознания современного общества, о чем он писал неоднократно, — подробнее всего в письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 года. «…Наша общественная жизнь — грустная вещь»; в ней царит «равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине», «циничное презрение к человеческой мысли и достоинству»[497]. Именно этот взгляд на общество в целом приводил его к убеждению, что в России «правительство всегда… впереди на поприще образованности и просвещения» и что «народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно»[498].
Он сделал попытку описать феномен «полупросвещения», которым, по его мысли, страдает и значительная часть образованного общества. «Невежественное презрение ко всему прошедшему; слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне; частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему…»[499].
Тридцатью годами позднее, в середине шестидесятых годов, в эпоху значительно большей демократизации общества, с бесконечно возросшей ролью общественного мнения, Некрасов с беспощадностью обрушивался на массовое, уже политизированное, сознание. «У нас неуважение к уму Сильней неуважения к закону» — записывает он в черновых набросках «Медвежьей охоты», — а в тексте вкладывает в уста представителю культурной генерации «сороковых годов» целую инвективу против «русского общественного мненья», отмечая в нем прежде всего коллективную агрессивность («на нем предательства печать И непонятного злорадства»). С «преданиями рабства» связывал он практику единодушных апофеозов победителей и столь же единодушных осуждений «неудач», которые в его изображении предстают почти как проявления стадного инстинкта:
«Сперва — сторонников полки, Восторг почти России целой, Потом — усталость; наконец Все настороже, все в тревоге, И покидается боец Почти один на полдороге…»
Его изображение «постыдных оргий» преследования играет памфлетными красками: общество «сторожит неудачу» с каким-то «зловещим тактом» и находит удовольствие самоутверждения в коллективных «облавах»:
«Как мы вертим хвостом лукаво, Как мы уходим величаво В скорлупку пошлости своей! Как негодуем, как клевещем, Как ретроградам рукоплещем, Как выдаем своих друзей! Какие слышатся аккорды в постыдной оргии тогда» и т. д.[500]
Эти примеры выбраны почти наудачу, из разных эпох эволюции общественной психологии русского девятнадцатого века. Свидетельства подобного рода можно умножить во много раз, пока не создастся целостная картина русского общества глазами лучших его представителей. При этом было бы непростительной наивностью полагать, что все эти негативные стороны свойственны только русскому массовому сознанию. Знаменитая книга Ортеги-и-Гассета «Восстание масс», вышедшая в 1929 году и глубоко поразившая европейскую мысль, описывала сущностные черты европейца XX столетия почти в тех же категориях. Дон Ортега писал о «человеке-массе», вкладывая в это понятие не столько социальный, сколько культурологический смысл; он анализировал самый феномен «массового сознания» — не производящего, а воспроизводящего заимствованные мыслительные стереотипы, нетерпимого к чужому мнению, агрессивного и претендующего на абсолютную истину и на всеобщее господство. Продукт цивилизации, «человек-масса» был, согласно Ортеге, носителем современного варварства. Философа обвиняли в аристократическом высокомерии, — но здесь было или лукавство, или непонимание, ибо он имел в виду не сельского или городского труженика, а политика и идеолога, навязывающего всему обществу нормы своего мышления и поведения. В большевизме и фашизме он видел крайние полюсы активности «человека-массы», подчинившего себе весь европейский мир.
Мы можем теперь вернуться к исходному пункту наших рассуждений и произвести мыслительный эксперимент, представив себе историческое лицо в этой среде, в ее системе ценностей, с ее критериями нравственных, исторических, культурологических оценок. Чем значительнее это лицо, тем естественнее ждать его отторжения в силу своего рода социальной ксенофобии, присущей описанному сознанию. Отторжение будет проходить, по-видимому, в весьма агрессивных формах, предполагающих как вариант полное отрицание за критикуемым каких-либо заслуг. Исторические обоснования критики будут скорее всего опираться на концепции линейного прогресса, ибо основной точкой отсчета для «человека-массы» является он сам, — и потому он непоколебимо убежден в «прогрессивности» именно тех сил, которые вывели его на социальный верх.
Иными словами, он почти неизбежно продуцирует ту самую концепцию, которая сейчас является наиболее распространенным объяснением политической судьбы Горбачева.
«Массовое сознание», как его определяли Ортега-и-Гассет и русские наблюдатели от Чаадаева до Чернышевского и далее, есть, конечно, абстракция, пользоваться которой можно только в ограниченных пределах. Тем не менее без учета его нельзя понять социальных репутаций культурных и общественных деятелей; репутации же эти далеко не всегда тождественны их объективной исторической роли. Здесь возникает неизбежно и проблема культурных генераций, каждая из которых вырабатывает и свои варианты индивидуального поведения, и свои типы их общественного осмысления. Феномен взаимного непонимания поколений был с позиций просветительского сознания описан еще Грибоедовым в «Горе от ума»; в шестидесятые годы XIX века он предстал социальным наблюдателям как взаимоотношения «отцов и детей». Историческое сознание, утверждая свои принципы, все более подвергало ревизии просветительскую метафизическую оценочность и дидактизм, заставляя признать, что мировоззрение «отцов» не есть отклонение от естественных норм существования общества, как иной раз склонны считать «дети», — но некоторая внутренне целостная система, способная вызвать у потомков нечто вроде ностальгического чувства. Так, М. О. Гершензон, историк и философ, полностью принадлежавший эпохе «философского Ренессанса» начала XX века, заканчивал свой блестящий этюд о «грибоедовской Москве» сравнением «века нынешнего и века минувшего», находя неожиданно в последнем и некие утраченные потом позитивные черты.
Это рефлектирующее культурное сознание всегда таило в себе источник скрытой, а иногда и явной оппозиции тоталитарным и абсолютистским формам правления, и потому при абсолютных монархиях и диктатурах власть предпочитала опираться именно на массовое сознание, поощряя и пропагандируя официозные сочинения «для народа». Осознанной государственной культурной политикой воспитание массового сознания стало у нас в эпоху Сталина.
Апогея этот процесс достиг после войны, в конце сороковых — начале пятидесятых годов. Смысл идеологических кампаний против писателей, ученых, деятелей искусства заключался в уничтожении культурной элиты — потенциального источника инакомыслия — и замене ее «человеком-массой». Власти нужно было культурно-гомогенное общество, мыслящее заданными стереотипами. Искусство, наука должны были утратить свою герметичность и стать «понятными народу». Создалась целая генерация писателей, ученых и художников, производивших суррогаты для массового потребления. «Лысенковщина» была лишь одним, хотя, может быть, самым ярким эпизодом этого процесса, носившего тотальный характер.
Последствия его были для культуры не менее губительны, чем прямое физическое уничтожение ее деятелей. Суррогаты по цепной реакции в свою очередь порождали суррогаты же, ибо ничего иного они произвести не могли. Самая шкала интеллектуальных ценностей менялась, и менялся способ, механизм художественного и научного мышления.
Характерной чертой нового механизма было мышление полярными противоположностями, в том числе и проверенными стереотипами, слегка подновленными: «свои» — «чужие». «Кто не с нами, тот против нас». Вся культура, наука, политика разделяется на два «лагеря», «фронта»; демаркационная линия режет надвое все многообразие явлений между полюсами. Возникают формулы «сакральные» и «профанные». Сакральные — «народ», «прогресс», «демократия», «социализм», «партийность». Эти формулы не анализируются: они нерасчленимы. За ними закреплен эмоционально-ценностный ореол, почти поглощающий их реальный смысл. Профанные формулы — «буржуазный», «реакционный», «безыдейный» (формула совершенно бессмысленна, если не учитывать, что под «идеей» понимается только идея, официально признанная, — и отсутствие таковой есть основание к общественному осуждению: отсюда не только охранительный, но и «рекомендательный», побудительный характер «руководства искусством»). Сакральная формула высшего порядка — «политика». Слова «политическая ошибка» — преддверие идеологических репрессий. «Политика» доминирует в сознании и не имеет себе альтернатив. «Социология» — вредная ересь, предполагающая, что общество живет по своим законам, отличным от тех, что предписаны политикой.
Естественно, что такое сознание — изначала метафизично. Законы диалектики изучаются («диалектика» входит в число сакральных формул), но применение их в мыслительной практике явно нежелательно. «Догматика», напротив, — профанная формула, но она-то и определяет тип мышления, которое очень сродни религиозному сознанию. Так, студента пятидесятых годов могли исключить из учебного заведения, если он не изучил Маркса, но его и могли уволить с работы, если бы он вздумал в своей деятельности руководствоваться марксовой теорией стоимости.
Мы отнюдь не пишем памфлета, — мы пытаемся лишь обозначить, очень грубо и схематично, те черты мифологического сознания советского времени, которые были лишь вариантом «массовидного сознания», присущего и всему европейскому миру, о чем писал Ортега-и-Гассет.
В конкретном своем воплощении они принимали бесконечно более сложные формы, накладываясь на те черты общественного сознания, которые сложились органически на протяжении веков. Так, идея социального равенства, выразившаяся в многочисленных социалистических учениях (религиозных, утопических и т. д.), является реальностью общественного сознания; такой же реальностью являются исторически присущие определенным слоям русского общества (хотя бы в реликтовой форме) патриар-халистические и даже патерналистские черты, религиозное мироощущение — и с другой стороны, религиозный индифферентизм; традиционное уважение к армии как институту, персонификация власти, с которой иногда (например, в Отечественную войну) сложно связывалось чувство патриотизма и национального достоинства. «За Родину, за Сталина!» генетически связано со старым «За веру, царя и Отечество!» и очень часто становилось символической формулой вовсе не официозного содержания. Иными словами, официальное «воспитание масс» оказывалось в ряде случаев эффективным и устойчивым именно потому, что оно не отторгалось исторически сложившейся традицией, подобно тому как праздники языческого земледельческого календаря обеспечивали многовековую жизнь возникшим на их основе христианским праздникам.
И попытки его рационалистической критики, принимающей нередко предельно элементарные формы («хомо советикус»), потому очень напоминают бесплодные усилия «антирелигиозников» 1920-х годов уничтожить религию с позиций «здравого смысла». Общим для обоих подходов является и понятийный аппарат, и оценочно-дидактический подход к истории, в высшей степени характерный именно для массового сознания.
Это сознание стало претерпевать глубокие внутренние изменения уже в пятидесятые годы, когда началась сознательная деятельность М. С. Горбачева.
Михаил Сергеевич Горбачев принадлежит к поколению «шестидесятников». Официальная справка в словаре дает нам даты: родился в 1931 году, в 1955 окончил юридический факультет Московского университета, в 1952 году, двадцати одного года, вступил в партию. Пережившие это время помнят, какой удар нанесло оно по казалось бы устоявшимся официально утвержденным догматам: вначале истерически нагнетаемая кампания против «врагов народа», «сионистов», «убийц в белых халатах»; через несколько месяцев неожиданная смерть Сталина и падение Берии. Вчерашние убийцы оказались невинными жертвами; вчерашний незыблемый оплот государства — «врагом народа». Выступление Хрущева на XX съезде КПСС, реабилитация уцелевших узников ГУЛАГа, начало знаменитой «оттепели» бросало ретроспективный свет на целый исторический период, подводя общественное мнение к переоценке самых его идеологических, политических, правовых основ; как сказалось это на мировоззрении студента-юриста, которому предстояло стать политическим деятелем мирового масштаба, — об этом может знать только он сам, но мы вряд ли ошибемся, предполагая, что именно в начале пятидесятых годов нужно искать истоки его ментальности. «Шестидесятники» — люди потрясенного культурного сознания — открывали для себя диалектику исторических явлений и лиц, — ту диалектику, которую не вмещает массовая психология. Уже для оценки деятельности Хрущева оказывалось недостаточно оппозиции «черного» и «белого». Исторические противоречия представали наглядно как органический закон, распространявшийся на все явления без исключений; они откладывались в индивидуальном сознании как закон анализа и самоанализа. Во время беседы в редакции «Литературной газеты» в июле 1992 года М. С. Горбачев вспоминал, что его плану реформ предшествовало осмысление вместе с интеллигенцией «того мира, в котором мы оказались». «Это было общее познание и самопознание, хотя болезненное, трудное. Моя позиция была такая: попытаться в стране с многовековой историей провести реформы, не прибегая к насилию, не объявляя ни одной из сторон вражеской. Оппонирующей — да. Конкурирующей — на здоровье. Но не враждебной»[501].
Эта цитата — своего рода символ веры демократического сознания, органически управляющего поведением. Для него не существует полярных противоположностей, — и этим определяется, между прочим, его отношение к своему прошлому. «Человек-масса» (не говорим сейчас о демагогах, умело им манипулирующих) либо не поступается ничем, либо отрекается от прошлого легко и безоглядно, ссылаясь на то, что был кем-то обманут. Он оперирует противопоставлениями; «Ленин — Николай II»: левая часть плюс, правая — минус, или напротив, левая минус, правая плюс. «Сакральные» и «профанные» формулы остаются, они просто меняются местами. Аналитическое мышление отрицает сам принцип формульности. Для Горбачева понятия «партия», «социализм» — не символические обобщения негативных сторон исторической жизни, а некие ее реалии, взятые в движении и исторической перспективе, в которой могло меняться самое содержание этих категорий. Для него невозможен поэтому примитивно оценочный подход к прошлому, — подход периода 1949–1950-х годов, который движет мышлением многих его оппонентов. Это и есть психологическая и интеллектуальная основа «центризма» — идеологии современного культурного сознания — и вовсе не случайно окружение Горбачева собрало самые значительные интеллектуальные силы страны, причем преимущественно гуманитарной ориентации.
Но такое сознание, изначала предполагающее неизбежную ограниченность любого общественного акта, неизбежно должно критически оценивать и самого себя, — и именно это мы видим в деятельности Горбачева. Никто мужественнее его не «признавал свои ошибки»; по некоторым его выступлениям можно предполагать, что он скептически относится к самой возможности безусловно правильных решений в политике. В разговоре с Г. Киссинджером в 1989 году он заметил: «Знать, что неправильно, относительно легко. Знать, что правильно, как оказалось, исключительно сложно»[502]. «Правильное решение» — это оптимальный из нескольких возможных вариантов, наиболее вероятное решение задачи с несколькими неизвестными. Нет сомнения, что многое из того, что принято сейчас считать «ошибками», «непоследовательностью» Горбачева — это фантомы, попытки описать одно сознание в категориях другого, — именно в категориях традиционного «полярного» мышления. «Ошибки», конечно, у него были, — но скорее всего не там, где их обычно ищут; найти же их суждено, видимо, лишь будущему историку, если Бог пошлет нам таких.
Одна из особенностей этих мнимых ошибок — перенесение центра тяжести с политики на социологию и с непосредственного акта на его дальние последствия. Эта особенность присуща историческому мышлению, которое было рождено ревизией метафизической догматики. Так происходило в начале XIX века, когда Французская революция потрясла стройную систему просветительской философии, и «из равновесья диких сил» родилась диалектика и историзм романтического движения. Историческая концепция Карамзина учитывала закон движения и его результат, и уже ретроспективно оценивала самый акт. Современникам это казалось парадоксами: они не могли понять, почему историк не требует немедленного уничтожения крепостного права, которое сам же считает абсолютным злом, и доказывает органичность русской монархии, которую не считает абсолютным благом.
Учетом дальних последствий исторического события была продиктована позиция Горбачева в сложнейшем вопросе о единстве Союза. Но здесь важно восстановить канву событий, ибо последующие колебания политической атмосферы вызвали к жизни миф о Горбачеве как о виновнике распада Союза, — миф, созданный в расчете именно на массовое сознание и по его моделям и поддерживаемый политиками иной раз прямо противоположных ориентаций. «Я думаю, что выдающаяся роль Горбачева как раз и проявилась в развале Советского Союза» (Р. Хасбулатов)[503]. «Горбачев попадет в историю так же, как Герострат. Человек, способствовавший развалу великого государства, способствовавший дестабилизации обстановки в мире…» (В. Алкснис)[504]. Между тем как раз позиция Горбачева в ситуации, где мощные дезинтеграционные процессы почти уже не сдерживались слабыми тенденциями к интеграции, очень ярко высвечивает тот культурный тип поведения, который управлял его деятельностью и включал в себя нечто гораздо большее, чем политический прагматизм: в частности, как мы уже сказали, осознание дальних последствий политического акта.
«С самого начала перестройки, — писал М. С. Горбачев в послании участникам встречи в Алма-Ате по созданию Содружества Независимых Государств 18 декабря 1991 года, то есть уже тогда, когда „ново-огаревский процесс“ был разрушен — мы шаг за шагом шли к тому, чтобы все республики обрели полную независимость. Но я все время настаивал на том, что нельзя допустить распада страны. Таково было и есть мое понимание воли народов, выраженной на референдуме, — как их стремление к независимости при сохранении целостности исторического союза. Эта мысль и это беспокойство лежали к основе моей формулы о „Союзе Суверенных Государств“, которая первоначально встретила вашу поддержку». «Уверен, — писал он далее, — что у всех, кто не заражен национализмом и сепаратизмом, а это сотни миллионов, неизбежно возникнет чувство утраты „большой Родины“. А когда практически начнется процесс государственного, административного и прочего размежевания, определение условий гражданства, это затронет очень многих самым непосредственным образом — в быту, на производстве, в человеческих связях»[505].
По газетам и журналам ближайших последующих месяцев можно было бы проследить, как этим прогнозам «массовое сознание» пыталось противопоставить представление о коммунистической империи — средоточии абсолютного зла. «Плач по империи» рассматривался как реликт «имперского мышления» или, в лучшем случае, как инертность сознания, не желающего считаться с историческими peaлиями, и приблизительно в том же освещении представала позиция Горбачева. Эволюция его образа от «носителя имперского сознания» до «разрушителя великого государства» — одна из поразительных метаморфоз социальной репутации, ставшая возможной именно потому, что его прогнозы стали подтверждаться очень скоро. Напомним, справедливости ради, что против распада Союза как экономической и культурной общности возражали многие политики и деятели культуры (такова с самого начала была, например, позиция А. А. Собчака), — те же из них, кто видел в нем историческую или политическую неизбежность, лично переживали его как драму. Об этом писал, в частности, А. Бовин[506]. Очень показательно в этом отношении признание Г. Померанца, предрекавшего «распад империи» еще в 1970–1980-е годы: «…все же, когда империя развалилась, мне стало больно. Я спрашивал многих знакомых, что они чувствуют. Им тоже было больно, но они стеснялись об этом говорить. Как-то нелиберально. Я не стесняюсь… И не только за живых людей тревога. Больно за некоторое историческое существо, которого больше не будет, за империю как культуру»[507].
Это отнюдь не «великороссийская» и не «великодержавная» точка зрения. В превосходном интервью Гранта Матевосяна («Всегда и вечно») она выражена почти с парадоксальной бескомпромиссностью: «Самая большая потеря — это потеря гражданином Армении статуса человека Империи. Потеря имперской, в лучшем смысле этого слова, поддержки и имперского начала, носителем коего всегда была Россия. Имперского человека мы потеряли. Высокого человека, великого человека, укрепленного человека… И я берусь утверждать, что армяне, начиная с 70-х годов прошлого века и до наших дней, — это более высокие, более мужественные и, как это ни парадоксально, более свободные армяне, чем те, которых освободили ныне от „имперского ига“. Ведь это в 70-е годы прошлого века под крылом России вызрела и вновь состоялась армянская государственность. В армянской культуре появилась целая плеяда выдающихся людей. В прозе, в поэзии, в историографии, — всюду и везде, даже в политических партиях эти люди были. И так могло быть „всегда и вечно“… Поэтому повторю: самая большая потеря — это потеря нами гражданства Великой державы»[508].
Социологические опросы в Москве констатируют «усиливающуюся ностальгию по СССР». Сегодня 69 процентов москвичей сожалеют о распаде Союза[509].
Политики, вовсе не принадлежавшие к числу сторонников Горбачева, анализируя эту ситуацию, иногда ссылаются на неоднократно выраженное им мнение. «Повторю мысль непопулярного ныне руководителя, — писал Р. Абдулатипов, — но тем не менее не ставшую от этого менее актуальной: мы все настолько связаны, что любой разрыв принесет неисчислимые страдания десяткам и десяткам миллионов людей… Думаю, что с каждым днем все большее число членов общества, политиков это все осознает»[510].
«Ново-огаревский процесс» пытался найти оптимальное соотношение между двумя разнонаправленными тенденциями: к дезинтеграции, суверенизации и интеграции. В позиции, занятой Президентом, ярко сказались характерные черты рефлектирующего культурного сознания: понимание исторической закономерности той и другой, органическое неприятие насилия как средства разрешения этого противоречия; уже отмеченное предвидение побочных следствий политических акций и, наконец — что очень важно — признание первенствующей роли общества в решении своей собственной судьбы. Политик должен учитывать общественные настроения, даже если они продиктованы общественными предрассудками или неполным пониманием событий. В этом также, на наш взгляд, сказывается характерное для части «шестидесятничества» критическое отношение к сциентизму и технократическим общественным концепциям. «Нам нужно, чтобы люди поняли необходимость выбора. Иначе, если мы снова начнем загонять людей в счастливую жизнь, как загоняли в коллективизацию или в индустриализацию, ничего из этого не получится. Опять смотрим на народ, как на стадо, которым управляют пастухи, пусть сегодня они и называются демократами? Для меня это неприемлемо…»[511].
Августовский заговор 1991 года и последовавшие за тем события: провал политической авантюры ГКЧП, возвращение М. С. Горбачева в Москву, минское совещание руководителей России, Украины и Белоруссии и образование на нем СНГ с денонсацией союзного договора 1922 года резко изменили течение событий. В «Заявлении Президента СССР», опубликованном 11 декабря 1991 года, М. С. Горбачев выражал несогласие с тем, что «судьба многонационального государства „определена волей руководителей трех республик“, — без участия населения и его представительных органов, с непонятной „скоропалительностью“, и в тот самый момент, „когда в парламентах республик обсуждается проект Договора о Союзе Суверенных Государств, разработанный Государственным Советом СССР“»[512]. Верный себе, он отметил, однако, и позитивные моменты соглашения — участие Украины, не проявлявшей активности в договорном процессе, стремление создать единое экономическое пространство, наладить культурное и научное сотрудничество и т. д.
Реакция не замедлила последовать. В том же номере «Известий», где было напечатано «Заявление», помещена подборка высказываний зарубежных комментаторов. «Президент игнорирует политические реалии». «Горбачев бросает вызов „Славянскому Союзу“». «Готовя почву для предстоящего столкновения с Россией, Украиной и Беларусью, кремлевский лидер поставил под сомнение законность образования Содружества Независимых Государств»… «Горбачев… все еще считает, что Союз ни в коем случае не следовало бы распускать, как будто „тюрьму народов“ — СССР можно было бы без всякого насилия спасти от распада»[513].
Политизированное «массовое сознание» готово было перешагнуть через принципы конституционности и демократизма, чтобы утвердить то, что оно считало незыблемо правильным.
Между тем «кремлевский лидер» стремился как раз избежать «предстоящего столкновения». Когда парламенты трех республик утвердили минское соглашение (на пресс-конференции сразу же после возвращения из Беловежской Пущи С. Шушкевич сказал, что не сомневается в результатах голосования: «у нас люди разумные, хотя решать им…»[514]); когда в декабре в Алма-Ате к трем славянским государствам присоединились и другие, — Президент не только не сделал попыток помешать новому, еще хрупкому союзу, но попытался помочь ему своим политическим опытом. Он направил Алма-Атинскому совещанию письмо, которое мы уже цитировали, позднее он вспоминал о многочасовых совещаниях во время «передачи дел», о подготовке серии указов, «как все должно идти от Союза к Содружеству и России»[515].
В своей прощальной речи, обращенной к гражданам уже не существовавшего Союза ССР, он сказал о принципиальных соображениях, по которым он не видит для себя места в государственных структурах нового объединения.
Горбачев оставил пост президента так, как это делает подлинно цивилизованный политик, не согласный с возобладавшим политическим курсом, но оставляющий за обществом право выбора.
Уход его и форма, в которой он осуществился, произвели сильное впечатление на общество и вызвали довольно широкий резонанс в печати. Сочувствие экс-Президенту было почти всеобщим; самые противники признавали, что он ушел достойно и готовы были согласиться, что недооценивали его. Но это была скорее симпатия к личности, в трудный период своей биографии оказавшейся на этической высоте; мало кто заметил, что именно уход Горбачева ярко высветил особенности представленного им типа культурного сознания. Люди этого типа легче других отказываются от власти, ибо на шкале их ценностей она не занимает первого места; личность, сформированная псевдокультурой «массы», теряет вместе с властью все. Редко говоря о себе, Горбачев, однако, в свое время пытался напомнить оппонентам, что однажды уже отказался от почти неограниченной власти Генерального секретаря ЦК КПСС. Для массового сознания это феномен почти необъяснимый; оно сошлось на том, что у него не было иного выхода. Он открыл возможности для своей собственной критики (которая перешла в личные оскорбления, когда критики почувствовали, что это ничем им не грозит). Он отказался от легких средств укрепить свою популярность и словно намеренно демонстрировал свою приверженность идеям, дискредитируемым массовой пропагандой (например, идее «социалистического выбора»). За всем этим стояла необыкновенная внутренняя устойчивость — не только личности, но и культурно-психологического типа, и самая «непоследовательность» Горбачева как Президента, его постоянные поиски общественных компромиссов были органической особенностью рефлектирующего, релятивистского культурного сознания. Между тем в эпоху поляризации социальных сил, когда требуется четкий выбор между «да» и «нет», черным и белым, сакральным и профанным, не может быть популярен мыслитель; это время людей «прямого действия». Феномен популярности, как уже сказано, не может быть понят исторически правильно без анализа среды, формирующей эту популярность, с ее настроениями, предрассудками, психологическими мотивациями. Среда же все более обнаруживает и свою гетерогенность, и резкую контрастность в интеллектуальном, общественном, культурном отношениях.
В ней соседствуют политический экстремизм и общественная аппатия, уже, по наблюдениям социологов, породившая ностальгию по временам стагнации.
В ней уживаются широкая популярность мистических учений, на которых паразитируют знахарство и шарлатанство, и подчеркнутый сциентизм и технократические представления об обществе.
В ней воскрешаются элитарные культурные ценности «серебряного века» и потоком разливается массовая культура в своих самых вульгарных, бульварных формах и в масштабах, неведомых ни одному цивилизованному государству.
Будущему историку, который, надо надеяться, застанет период относительной стабилизации, предстоит решить, какие тенденции «обогнали» курс Горбачева — конструктивные, как принято сейчас считать, или деструктивные, и какому мышлению он противостоял — действительно ли «новому» или старому, сменившему политические цвета. И был ли конец эпохи его политического лидерства действительно победой демократических сил или трагическим эпизодом в эволюции общества, упустившего свой исторический шанс?
Сентябрь 1992.
Продолжение спора
(О стихотворениях Пушкина «На Александра I» и «Ты и я»)[516]
В № 2 журнала «Звезда» за 1998 год помещена статья Л. С. Салямона «Пушкин: „Эпиграмму припишут мне…“». По поводу эпиграммы «На Александра I» и послания «Ты и я».
Статья эта требует специального разбора по нескольким причинам. Прежде всего, она принадлежит автору, имя которого известно в научном мире; не будучи филологом по своей основной профессии, Л. С. Салямон с 1960-х годов занимается проблемами психологии художественного творчества и напечатал несколько специальных пушкиноведческих статей.
Вторая причина в том, что статья отражает очень характерные новейшие тенденции реидеологизации Пушкина.
Как и его предшественники на идеологическом поприще, автор убежден, что «старое пушкиноведение» (официальное, буржуазное, либеральное, советское) искажало биографию и творчество поэта и только в наше (посткоммунистическое) время настал момент истины. При этом «методологи» разных генераций и ориентаций с завидным постоянством заимствуют у своих идеологических противников не только подход к предмету, но и самые формулы, меняя лишь опорные понятия или оценочные «плюсы» на «минусы». Так, у Л. С. Салямона читаем: «…Огульное охаивание Александра I (полное и неоправданное отрицание его заслуг) вместе с обилием ошибочных характеристик императора в инвективе „Воспитанный под барабаном…“, которая не имеет автографа и источник сведений о которой недостаточно надежен, не позволяет считать ее произведением Пушки-на»[517]. «Включение эпиграммы и послания, о которых идет речь, в корпус пушкинских произведений есть симптом антимонархических настроений интеллигенции еще в конце прошлого века. Позже более строгий анализ, наверное, мог бы изменить к ним отношение. Но после 1917 г. идеологический диктат неразборчиво фиксировал и реальное, и мнимое пушкинское слово, если оно разило самодержавие или самодержцев. Видимо, по этой причине оба произведения и прижились в современных изданиях».
Эта «презумпция виновности» распространяется на одно из самых выдающихся достижений пушкиноведения XX века — 16-томное академическое собрание сочинений Пушкина. С заботливостью, достойной лучшего применения, отмечаются неточности в историографических справках, в описаниях копий и т. п. Они сопровождаются ремарками типа «неверно», «непонятно, зачем…», «почему исчезло исходное заглавие стиха… не поясняется». «Произвол замены глагола „дремал“ на „дрожал“ (речь идет о строках „Под Австерлицем он бежал, / В двенадцатом году дрожал“ в стих. „Воспитанный под барабаном…“ — В. В.) остается произволом, даже под академической маской „конъектурного чтения“, оправданного лишь для неясного или безусловно ошибочного чтения. Замену ввел в 1880 г. П. А. Ефремов, и она осталась по сей день» (с. 207).
Оговоримся сразу же: критического анализа и в необходимых случаях пересмотра требует любая научная работа, в том числе и академическое издание. «Пушкинского канона», на отсутствие которого сетует вслед за М. Л. Гофманом Л. С. Салямон, нет и быть не может. Понятие «канона» — сошлемся здесь на мнение Б. В. Томашевского — принадлежит не науке, а разве догматическому богословию. По этой-то причине от издания к изданию меняются тексты и самый корпус, с появлением новых данных и совершенствованием методики изучения пересматриваются прежние текстологические решения, датировки и т. п.
Все это — норма, а не аномалия.
Когда Л. С. Салямон предлагает фактические уточнения и дополнения, он делает полезную и необходимую работу. Когда он уличает предшественников в чуть что не преднамеренных отступлениях от принципов научного анализа, его собственная позиция становится весьма шаткой. Да, в академическом издании многое «непонятно» и «не объясняется, почему», — но причины этого должны быть известны каждому его критику. Не редакторы его, а власти, движимые вненаучными соображениями (в том числе и соображениями «правильной методологии»), виновны в том, что из томов был исключен весь научный аппарат, с обоснованиями источников текста, датировок, обширным историческим, историко-литературным, реальным комментарием. Каким он был — показывает VII том с драматическими произведениями, вышедший в 1935 г., ранее всего издания и невольно сыгравший фатальную роль в его дальнейшей судьбе. Полный текст примечаний к тому I был набран и набор рассыпан; единственный экземпляр корректуры, сохраненный М. А. и Т. Г. Цявловскими, был положен в основу комментария первого тома нового академического издания (этот том в виде «пробного» был издан в 1994 г. как «Лирика лицейских лет (1813–1817)»).
Но именно это обстоятельство требует от критика академического издания особой осмотрительности и компетентности — он обязан понять то, что «непонятно», и объяснить то, что «не объясняется». Иными словами, он должен самостоятельно восстановить ход мысли и доказательств комментатора, приведших его к конечному выводу, который и сформулирован в примечаниях. Без этого его возражения и сомнения будут простыми любительскими экзерсисами.
Пример поспешной и необдуманной критики — грозная инвектива против «вопиющего» «редакторского произвола», процитированная нами выше.
Нам придется еще не раз сталкиваться с ошибочными интерпретациями и неосновательными источниковедческими заключениями в разбираемой статье. Но в ней есть и несколько важных наблюдений, которые должны быть учтены научным пушкиноведением. И здесь мы подходим к третьей — и едва ли не самой главной — причине, по которой нужен ее критический анализ; он должен выделить ту позитивную часть, которая не закрывает, а открывает дальнейшие перспективы изучения.
Вывод Л. С. Салямона о непринадлежности Пушкину эпиграммы «Воспитанный под барабаном» и стихотворения «Ты и я» следует сразу же отвергнуть.
Объяснимся.
Принадлежность Пушкину стихов, не имеющих автографа, удостоверяется копиями. Только в копиях сохранилось большинство ранних лицейских опытов и наиболее значительные образцы его политической лирики; копии же позволяют восстановить не дошедшие до нас редакции. Разумеется, копии различаются по степени достоверности; они вовсе не обязательно непосредственно восходят к пушкинскому автографу и могут содержать привнесенные переписчиками чтения и приписывать Пушкину чужие стихи. Такая псевдопушкиниана довольно значительна по объему и далеко не всегда порождается политическими установками собирателей пушкинских стихов; она включает тексты самого разнообразного содержания.
Нам известны рукописные сборники с пушкинскими стихами, вышедшие из близкой Пушкину литературной и бытовой среды, например, из среды лицейской. Иногда они дают нам наиболее точный и достоверный текст, как так называемая тетрадь Никитенко со стихами лицейских поэтов или альбом А. М. Горчакова, просмотренный и исправленный Пушкиным. Нужно иметь в виду, однако, что ошибки встречаются даже в самых авторитетных по происхождению копиях. Так, в тетради Никитенко «Застольная песня» Дельвига приписана Пушкину. Альбом Горчакова содержит четверостишие «Всегда так будет, как бывало», в которое Пушкин внес поправку, а затем зачеркнул. Естественно было предположить, что поправка авторская, а зачеркивание означает, что Пушкин не хотел распространять стихотворение. Оно попало в академическое издание и пере-печатывалось во всех авторитетных собраниях сочинений Пушкина, пока наконец Т. Г. Цявловская не установила подлинного автора. Им оказался плодовитый, но малоталантливый поэт 1820-х годов Б. М. Федоров.
Итак, копии и сборники копий пушкинских стихов требуют каждый раз анализа и критической проверки. Работа по их изучению ведется десятилетиями, но далека от завершения, и возможны новые уточнения и изменения, как в корпусе пушкинских стихов, так и в их тексте. «Пушкинского канона», как мы сказали, не может быть.
При всем том сопоставление источников позволило выделить группу наиболее авторитетных из них, где процент ошибок в чтениях и атрибуциях меньше, чем в остальных; это так называемые тетради Н. А. Долгорукова, Н. С. Тихонравова, П. Я. Дашкова, И. В. Помяловского, В. Ф. Щербакова и некоторые другие[518]. Наличие в них одного и того же текста, приписанного Пушкину, позволяет утверждать его авторство с большой степенью вероятности — с той же или почти с той же, с какой мы приписываем Пушкину десятки лицейских стихотворений и политические стихи, такие как послание «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Сказки. No ё l» («Ура! в Россию скачет…») и пр.
Стихотворение «Ты и я» имеется в сборниках Долгорукова, Тихонравова, Дашкова, Гаевского, Лонгинова-Полторацкого, Ефремова. Л. С. Салямон оставляет в стороне вопрос об авторитетности этих копий, указывая лишь общее их число, и сосредоточивается лишь на одной из них — копии в тетради Лонгинова-Полторацкого, сообщая читателю, что Лонгинов был реакционер, жесткий цензор и автор непристойных стихов «не для дам»; что он включал в свой сборник и псевдопушкинские стихи и вполне мог придумать фривольное стихотворение «Ты и я». Правда, в этом случае становится труднообъяснимой его помета: «Непонятно, к кому относится эта циничная пьеса» (с. 211). По-видимому, Лонгинов на этот раз мистифицировал самого себя.
«Критика источника» не имеет ничего общего с дискредитацией изготовителя копии, хотя в популярной литературе одно часто подменяется другим. Мы знаем случаи, когда первоклассные источники оказывались в руках заведомого фальсификатора, и напротив — когда коллекционер с безупречной репутацией хранил у себя явно недоброкачественный материал. Важна здесь биография копии, а не биография владельца.
В том же случае, когда они корреспондируют и взаимно дополняют друг друга, мы можем говорить о степени авторитетности источника, почти не рискуя ошибиться. Именно так произошло с источником текста эпиграммы «На Александра I» («Воспитанный под барабаном»), которую М. И. Семевский нашел в одном из альбомов в Тригорском, получил от А. Н. Вульфа подтверждения, что он лично неоднократно слышал ее из уст Пушкина, и напечатал как пушкинскую в своем очерке «Поездка в Тригорское» в «Русском вестнике» в 1869 г. Этот-то текст, приведенный в академическом издании, стал предметом критики Л. С. Салямона: он усомнился в атрибуции Вульфа (на том основании, что Вульф мог в старости и ошибиться или слышать от Пушкина чужую эпиграмму), подверг критике расшифровку
«Наш Z***» (так было у Семевского) как «наш царь» и привел доказательства, что эпиграмма вообще не относится к Александру I. Уже высказав все эти соображения, он ознакомился с копией эпиграммы, рукой, скорее всего, Анны Николаевны Вульф (ПД, ф. 244, оп. 4, № 73), кстати, указанной в числе источников текста в академическом издании. Здесь эпиграмма не имела подписи и называлась «Послужной список», а строка 2-я в ней прямо читалась «Наш царь лихим был капитаном».
Ознакомление с этим важнейшим списком зачеркивало все предшествующие рассуждения, подозрения и научные и идеологические инвективы в адрес академического издания и оставляло один вопрос: почему он не был взят в качестве основного текста? Ведь совершенно очевидно, что у Семевского был в руках либо он, либо идентичный список, в котором он, может быть, по условиям публикации, опустил не существенное для него заглавие и заменил прозрачным инициалом «Z***» слово «царь», которое никакая цензура не пропустила бы в 1869 г. в общем журнале. Но совершенно неожиданным образом и уже с безнадежным упорством Л. С. Салямон пытается бороться с опровергающим его материалом. Он ставит вопрос, почему эпиграмма не подписана именем Пушкина и почему она известна только в списках и памяти Вульфов?
Отвечаем: потому, что Пушкин был выслан под полицейский, родственный и духовный надзор, а с 1826 г. — начала политических процессов об «Андрее Шенье» и о «Гавриилиаде» — должен был тщательным образом скрывать свое авторство в отношении политических стихов и эпиграмм. То же делали и его друзья. В Михайловском ближайшей дружеской, бытовой и литературной средой Пушкина было семейство Осиповых — Вульф, озабоченных судьбой Пушкина не меньше, чем он сам. В этом кругу Пушкин вел и политические разговоры; еще в 1827 г. он говорил Вульфу, что намерен написать историю Александра I «пером Курбского», ожесточенного противника Ивана Грозного. Вульф был в курсе замыслов побега Пушкина из ссылки — планов, о которых он и в поздние годы никому не рассказывал. Что же удивительного в том, что Анета Вульф не подписала имя Пушкина под скопированными ею острыми политическими стихами и приняла меры, чтобы они не распространились далее? Чьи интересы она должна была соблюдать? Последующих исследователей? Бошняка? III отделения?
Из наблюдений Л. С. Салямона о малой распространенности эпиграммы следует иной вывод, на наш взгляд, более существенный. Эпиграмма была написана тогда, когда среда ее распространения сузилась до предела, до семьи Осиповых — Вульф, — иначе говоря, никак не в 1823-м, а не ранее середины августа 1824 г., когда Пушкин прибыл в Михайловское и началось его тесное общение с Алексеем Вульфом. После 19 ноября 1825 г. — времени смерти Александра I — она уже теряла смысл.
И еще один вполне законный вопрос, к которому прямо подошел Л. С. Салямон: почему академическое издание не положило в основу текста список А. Н. Вульф с названием «Послужной список» и чтением второй строки «Наш царь лихим был капитаном», предпочтя ему печатную публикацию, вероятнее всего, отцензурованную? Ведь список этот был учтен среди источников текста и даже получил шифр: ф. 244, оп. 4, № 73.
Есть некоторые основания думать, что этого списка не было в руках у редакторов издания. Его привез из Тригорского Б. Л. Модзалевский в 1902 г. и хранил в своем собрании до момента своей смерти, в 1929 г., после чего он перешел к его сыну, также известному пушкинисту, Л. Б. Модзалевскому. По-видимому, он был не востребован, ибо самый текст эпиграммы был к этому времени хорошо известен по публикации Семевского, а разночтения не казались столь существенными, чтобы повлиять на основной текст. Л. Б. Модзалевский скончался в 1948 г., когда стихотворение уже было напечатано в первом полутоме II тома издания; когда же после его смерти его архив поступил в Пушкинский Дом, список Вульф мог быть учтен уже только во втором полутоме, с разночтениями и комментариями. Это предположение, конечно, — но гораздо более вероятное, чем предумышленное сокрытие текста; подобные пропуски и огрехи довольно обычны в изданиях такого объема и трудоемкости.
Во всяком случае, сейчас, после разысканий Л. С. Салямона, это не только можно, но и нужно исправить. Эпиграмма должна называться «Послужной список» и печататься по списку А. Вульф (с конъектурой Ефремова). Что же касается «пересмотра» комментария к ней, то о нем пойдет речь особо.
Как мы попытались показать, личность владельца копий в подавляющем большинстве случаев ничего не говорит о качестве самой копии, кроме тех случаев, когда она позволяет установить ее генеалогию, среду, из которой она вышла. Именно так произошло со списком эпиграммы на Александра I, которую мы теперь вслед за Л. С. Салямоном будем называть «Послужной список». Следующий этап анализа — попытка решить, насколько приписываемый Пушкину текст вписывается в общий контекст пушкинского творчества, противоречит или соответствует его общественным взглядам, поэтическим и стилистическим принципам. Напомним, что есть случаи, когда атрибутирование производится по совокупности только этих признаков, так как отсутствуют и автограф, и копия. Так атрибутированы Пушкину критические статьи в «Литературной газете» — отсылаем читателя к превосходной работе В. В. Виноградова, впервые напечатанной в 1941 г. и вошедшей затем в его книгу «Проблема авторства и теория стилей» (1961).
С сопоставления «Послужного списка» с другими высказываниями Пушкина об Александре I и начинает Л. С. Салямон свою работу по атетезе (отведению авторства) Пушкина. Он выписывает все, что говорил Пушкин об Александре (таких текстов, по его подсчетам, оказалось около 30), и приступает к их верификации путем сравнения с работами Ключевского, Шильдера, вел. кн. Николая Михайловича и современными свидетельствами как эталоном «исторической правды». В результате возникает заключение, что Пушкин нигде не допускает «исторической неправды», что хотя он и «не любил царя», но всегда отдавал должное его заслугам.
Если поставить своей целью выстроить полностью искаженную историческую картину, то лучшего пути к ней трудно и представить. Все эти «тридцать произведений» можно сопоставлять друг с другом только при общности времени написания, установки, близости контекста и единстве жанра. Нельзя сопоставлять «Сказки. Noёl» и официальное письмо на высочайшее имя. Нельзя ставить рядом строчку из т. н. «X главы „Онегина“» «Нечаянно пригретый славой» и строки из «Медного всадника» «Покойный царь еще Россией / Со славой правил» или «Воображаемый разговор…» с одой «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году».
Все эти произведения написаны в разное время, с разными задачами и целями, и упоминания в них Александра I имеют разные функции и никак не рассчитаны на то, чтобы быть целостной и исторически объективной характеристикой.
Это относится не только к Александру I: с той же картиной мы встретимся, пытаясь определить отношение Пушкина к Наполеону, Екатерине II, Пугачеву; к поэтам-современникам: Державину, Батюшкову.
Важно не то, был ли прав Пушкин, с точки зрения современного историка, а то, что и почему он хотел сказать. Важна его, а не наша, историческая и художественная концепция образа.
Прекрасной иллюстрацией к сказанному выше может служить анализ «Послужного списка», который предлагает Л. С. Салямон, — это «огульное охаивание», «полное и неоправданное отрицание заслуг» Александра I.
Эпиграммы пишутся именно для «огульного охаивания», а не для позитивной оценки с указанием на отдельные недостатки. Эпиграмма Пушкина на Воронцова не отдает должного его либеральным взглядам и заслугам в строительстве Одессы. Эпиграмма на Ф. Толстого умалчивает о его дружбе с Вяземским и Д. Давыдовым.
«Милостью Божией Цари и Императоры Всероссийские не имели послужных списков…» (с. 208) — иронизирует Л. С. Салямон над заглавием. Эту иронию можно было бы оставить без внимания, так как во 2-м стихе списка стоит «Наш царь…». Но она показывает, что критик не понял самого существа эпиграммы, где царь представлен именно в роли заурядного чиновника, «капитана», переведшегося в статскую службу, получив при переводе чин коллежского асессора. В формулярном списке отмечаются воинские заслуги в сражениях; вот они: «под Австерлицем он бежал, / В двенадцатом году дрожал». «„Лихости“ в нем тоже не было», — пишет Л. С. Салямон (с. 205). Конечно, не было, — но об этом и говорит эпиграмма. «Лихой» — эпитет насквозь ироничный. «Лихие капитаны» не бегут и не дрожат в сражениях, а те, которые это делают, становятся «фрунтовыми профессорами». «Фрунт» — это не армейские дела, как допускает Л. С. Салямон, а именно «парады и военные смотры», на которые с таким сарказмом нападал Денис Давыдов в стихах и в прозе (в «Старых гусарах» прежние пили водку и геройствовали в сраженьях, новые — «маршируют на паркете»).
Отсюда — резкий сарказм в эпитете «герой» («Но фрунт герою надоел»). Нет необходимости пояснять, почему Александр I назван «коллежским асессором / По части иностранных дел»: в последние годы дипломатические поездки занимали почти все его время. Этим мотивом начинается «No ё l»: «Ура! в Россию скачет / Кочующий деспот».
Если не требовать от эпиграммы того, чего она не может дать по самому своему жанровому существу, то придется признать, что ни в содержании своем, ни в поэтике она не противоречит всему остальному эпиграмматическому творчеству Пушкина. Как мы помним, М. А. Цявловский принял в 4-м стихе эпиграммы «Воспитанный под барабаном…» конъектуру Ефремова «В двенадцатом году дрожал» вместо «дремал», как стояло в исходном списке. Изучивший сотни копий пушкинских стихов, Цявловский прекрасно знал их типовые ошибки. Одна из наиболее характерных — смешение графически близких написаний. Прочесть «дремал» вместо «дрожал» очень легко, в особенности при копировании с неразборчивого текста, может быть, автографа. С другой стороны, в стихах Пушкина приблизительная рифма «бежал — дремал» очень маловероятна, если не вовсе невозможна. Учитывал Цявловский и то, что в руках Ефремова были очень авторитетные копии, на которые он не всегда точно ссылался. Приняв конъектуру Ефремова и оговорив ее в примечаниях, текстолог поступил совершенно правильно, а критик не сумел этого понять.
Итак, в «решительном пересмотре» комментария к эпиграмме «Воспитанный под барабаном…» («Послужной список») нет никакой необходимости, — хотя необходимо уточнить выбранный источник текста.
«Решительному пересмотру» — и здесь мы подходим ко второму позитивному и плодотворному наблюдению Л. С. Салямона — подлежит комментарий к стихотворению «Ты и я». Точнее было бы сказать, что оно нуждается во внимательном прочтении и объяснении, потому что развернутого комментария к нему по сие время нет.
«Ты и я» традиционно также считается сатирой на Александра I.
Из историографической справки, приведенной Л. С. Салямоном и дополняющей академическое издание, следует, что такое понимание стихотворения возникло не сразу и утверждалось постепенно и поначалу без всякой уверенности. М. Н. Лонгинов вообще отказался от поисков адресата. В публикации Н. П. Огарева в «Русской потаенной литературе XIX столетия» (Лондон, 1861) оно носило название «К Ъ…», в копиях — «Ты и я», «К…», «К…». В 1903 г. П. А. Ефремов в своем издании (Т. 1. С. 235) озаглавил его «На Ал. П.» — «На Александра Павловича». В примечаниях к однотомнику лицейских стихов под ред. В. Я. Брюсова прямо утверждалось: «…„Ты“ — это император Александр; „я“ — сам поэт» (С. 132).
Гипотеза эта была принята далеко не сразу и не всеми. В собрании сочинений Пушкина в 9-ти томах, выпущенном издательством «Academia» в 1935 г., под редакцией Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского она не учтена; в примечании к стихотворению обозначена лишь его предположительная дата — 1819 г[519]. В том же году выходит издание «Избранной лирики» Пушкина под редакцией Д. Д. Благого, где она высказана в примечании, — и сразу же встречает энергичное возражение Н. Л. Степанова: «…К стихотворению „Ты и я“ Благой делает весьма лаконичную сноску: „„Ты“ — Александр I“ (С. 48). Эта догадка никак не может быть отнесена к числу бесспорных и, нуждаясь в дальнейшей аргументации и обсуждении, совершенно не уместна на страницах массового издания»[520].
В следующем году «догадка» попала в научное издание; М. А. Цявловский ввел ее в свой комментарий к шеститомнику, выпущенному тем же издательством «Academia». Формулировка была осторожной: «Есть основания предполагать, что адресат стихотворения — Александр I»[521].
Если бы сохранились комментарии готовившегося в это время второго тома 16-томного академического издания, эти «основания», без сомнения, были бы представлены читателю. Но, как мы уже говорили, их нет, а второй том вышел в свет уже в послевоенное время, в 1947 году. Чтобы хоть как-то восполнить отсутствовавшие пояснения имен и исторических и литературных реалий, они были введены в именной указатель. Там, против имени «Александр I» была указана и страница 130, где напечатано «Ты и я» и «ты» было расшифровано как имя императора. Датировка осталась предположительной и более широкой — от июня 1817 г. (времени окончания Пушкиным Лицея) до марта 1820 г. — кануна высылки Пушкина из Петербурга.
Все это мало походит на уступку «идеологическому диктату», а говорит скорее о трудностях интерпретации.
Специального исследования об этом стихотворении не было, и даже упоминается оно в пушкиноведческих работах крайне редко. Комментарий к нему в авторитетных массовых изданиях, повторяя версию об Александре уже в утвердительной форме, создает впечатление решенной проблемы: «Направлено против Александра I»[522], «Сатира на Александра I»[523]. Неизменной остается и дата: 1817–1820 гг[524].
Единственной попыткой дать обоснование этой версии были три страницы в статье В. А. Сайтанова «Прощание с царем», где было высказано несколько важных замечаний.
В. А. Сайтанов не сомневался, что «Ты и я» — сатира на Александра, который «назван „прозаиком“ в качестве автора манифестов войн 1812–1815 гг. и указов». Он сопоставил это стихотворение со стансами Вольтера «Королю Прусскому по поводу фарфорового бюста, изображающего автора, выполненного в Берлине и присланного его величеством в январе 1775 года» (Au roi de Prussie… 1775). Он развил мысль (подсказанную Д. Д. Благим), что «ироническое послание» Вольтера, где проводилась параллель между философом Эпиктетом и философом на троне Марком Аврелием (читай: Вольтером и Фридрихом II), «видимо, явилось образцом» для аналогичной же параллели между царем и поэтом в пушкинском стихотворении. В. А. Сайтанов попытался и локализовать стихотворение во времени, отнеся его к 1819 году. Основанием служили текстовые параллели с посланием Пушкина «N. N.» (Энгельгардту) 1819 г. «Строка „Я как смерть и тощ и бледен…“ рисует тот же облик, это и начало стансов Энгельгардту. „Я ускользнул от Эскулапа / Худой, обритый, но живой“. Тут же находим сходное описание жилища поэта: ср. „чердак“, где поэт проводит дни „на соломе“, и „Мой угол тесный и простой“. Наконец, в концовке послания Энгельгардту неожиданно возникает „главная тема стихотворения „Ты и я“ — тема царя“, небесного и земного, о котором поэт готов вести со своим собеседником вольные разговоры»[525].
Оспаривая существующее понимание стихотворения, Л. С. Салямон ссылается на его общее содержание, которое он видит в «сословной зависти бедного поэта к богатому вельможе» (C. 211–212). Завидовать богатству царя уже само по себе нелепо, замечает он; кроме того, этот порок был Пушкину вовсе не свойствен и заклеймен в «Моцарте и Сальери». Противоречат образу Александра и некоторые детали стихотворения, например, строка «С грозным деспотизма взором»: Александр отличался как раз внешней лояльностью и вежливостью; о его «кротком взоре» постоянно вспоминали современники. Непонятно, наконец, почему он «прозаик».
Так представляются позиции спорящих сторон в настоящее время. Попытаемся оценить их аргументы — но для этого вначале бросим взгляд на все стихотворение в целом. Неверно, конечно, что тема его — зависть бедного-поэта к богатству и что Пушкин («Я») не мог написать такое, ибо осуждал зависть. Став на эту точку зрения, попробуем найти поэта пушкинского времени, который бы оправдывал зависть и декларативно признавался в ней. Скорее всего, мы придем к заключению, что эти стихи вообще не имеют автора.
Это отнюдь не парадокс и не полемический ход. Любая подстановка конкретного лица на место «Я» и «Ты» грозит обессмыслить текст, если читать его целиком, а не по отдельным строчкам. Тема стихотворения — контрастное и иронически-озорное противопоставление неслыханной роскоши «Ты» и полной нищеты «Я», завершающееся пародийной антитезой запора богача и поноса бедняка и мягкого коленкора и жесткой оды Хвостова, употребляемых для единой цели. Эти сцены играют в общем эмоциональном рисунке стихотворения гораздо большую роль, нежели ей обычно отводится; на них лежит сильный смысловой акцент, ибо они составляют концовку, эпиграмматическую «пуанту» стихотворения. Строки «Окружен рабов толпой, / С грозным деспотизма взором» полностью пародийны, ибо нельзя грозно повелевать, сидя на судне. Ирония окрашивает все стихотворение, распространяясь не только на «Ты», но и на «Я». Именно поэтому параллель между ним и стансами Вольтера Фридриху II представляется искусственной, ибо стансы Вольтера, вопреки мнению В. А. Сайтанова, не содержат в себе ни малейшей иронии, напротив — это тонкая похвала новому Марку Аврелию, ответный жест старого поэта на столь же галантный жест Фридриха. Сразу же скажем, что не менее искусственными кажутся нам и сопоставления «Ты и я» с посланием Энгельгардту 1819 г., где «худоба» и болезненность поэта проистекают не от нищеты, а от болезни, и, выздоровевший, он спешит вернуться к друзьям и чувственным и интеллектуальным наслаждениям. «Угол тесный и простой», как мы попытаемся показать далее, также отнюдь не тождествен «чердаку» в «Ты и я». Все это мотивы функционально разные, если не прямо противоположные, и даже внешнее их сходство остается весьма проблематичным. Явной натяжкой выглядит и ссылка на указы и манифесты в объяснение того, почему Александр I «прозаик», — недоуменный вопрос Л. С. Салямона остается в силе. Но самое главное — то, что в тексте стихотворения нет ни одной конкретной черты, позволяющей идентифицировать с Александром адресата «сатиры»; ни одного политического обвинения, которое Пушкин — хотя бы и несправедливо — адресовал ему; за пределами же текста существуют лишь позднейшие догадки, не подкрепленные ни одним доводом. Первый признак сатиры «на лицо» — узнаваемость объекта; без этого она лишается смысла. Ни одной сатиры Пушкина на Александра, где «лицо» было бы зашифровано до неузнаваемости, мы не знаем.
Итак, не убеждаясь аргументами Л. С. Салямона, мы должны принять его конечный вывод: у нас нет оснований считать «Ты и я» сатирой, направленной на Александра I, — и пока такие основания не появятся (например, в виде авторитетных свидетельств современников), вопрос этот должен быть снят. Но тогда заново возникает другой вопрос: о том, как толковать это стихотворение.
Ни «Ты», ни «Я» стихотворения, как мы уже сказали, не имеют персональной определенности. «Ты» — это не Александр I, «Я» — не Александр Пушкин. Вариации названий и подзаголовков в копиях типа «К ***» говорят лишь о том, что читательское сознание, как это постоянно бывает, стремится к буквальному истолкованию текста и поискам конкретных лиц, якобы за ним стоящих. Между тем конкретизация «Ты» и «Я» дана самим Пушкиным во второй строке: «Ты прозаик, я поэт».
Параллель проводится не между «прозаиком» царем и «поэтом» Пушкиным, а между богатым Прозаиком и бедным Поэтом.
То, что противопоставление Прозаика и Поэта существовало в художественном сознании Пушкина и составляло для него особую, специальную тему, показывает его стихотворение «Прозаик и Поэт», датируемое обычно 1825 г., — стихотворение, также во многом загадочное, к которому мы еще вернемся.
«Бедный поэт» и «богатый прозаик» — центральные мотивы, организующие стихотворение. Они реализованы в системе более частных оппозиций: дворец — чердак, пресыщение — голод, наконец, гротескная оппозиция «запора» и «поноса», подчеркивающая социальную разницу представителей двух родственных профессий неожиданным, смешным и озорным способом. Этот набор мотивов — все, чем мы располагаем, — и вслед за В. А. Сайтановым мы вынуждены сосредоточиться на нем и попытаться найти для него оптимальную точку прикрепления в системе координат пушкинского творчества. Этими поисками мы и займемся и начнем с первого же и основного мотива — «бедного поэта».
Бедность поэтов была одной из самых распространенных литературных тем уже в XVIII веке.
Она подкреплялась многочисленными историческими примерами, начиная с нищего Гомера. В «Письмах русского путешественника» Карамзин упоминал о судьбе С. Бетлера, автора «славного Годибраса». «Двор и король хвалили поэму, но автор умер с голоду»[526]. «Голод свел в могилу безвестного Мальфилатра», — писал в своей сатире «Восемнадцатый век» Никола Жильбер.
Сам Жильбер был символом поэтической бедности и несчастий. Именно ему принадлежала формула «Бедный поэт», «Несчастный поэт», «Le poète malheureux» — так называлась его элегия, получившая в России особую известность и отразившаяся, между прочим, в элегии Ленского в «Онегине». Легенда о Жильбере, подхваченная затем романтиками, приписывала ему смерть в нищете в состоянии безумия. В 1802 г. выходит целая книжка Бен де Сен-Виктора «Великие поэты-несчастливцы» с биографиями Тассо, Камоэнса, Мильтона, Ж.-Б. Руссо и других поэтов, умерших в бедности, вплоть до Жильбера и Мальфилатра. Ее почти сразу же начинают переводить на русский язык: в 1807 г. журнал «Минерва» печатает из нее несколько глав. Одновременно «Любитель словесности» Н. Ф. Остолопова помещает «Список бедных авторов», а «Вестник Европы» переводит из А. Коцебу статью «О бедности поэтов», — где, впрочем, были приведены и противоположные примеры[527].
Все это было в поэтическом сознании Пушкина еще в Лицее. В одном из самых ранних его стихотворений — «К другу стихотворцу» (1814) — мы находим эти темы; некоторые детали описания и выбор имен (ср. упоминание Ж.-Б. Руссо) как будто свидетельствуют о знакомстве юного поэта с компиляцией Бен де Сен-Виктора. Но Пушкин дополняет список и именем русского поэта:
Здесь уже намечены некоторые из поэтических мотивов, которые через несколько лет выйдут на передний план в «Ты и я», — например, оппозиция «пышные хоромы — убогий чердак».
Описание убогого чердака, где обитает поэт, — особый поэтический мотив. Оно было хорошо известно русским поэтам, и в том числе лицеисту Пушкину по посланию Ж.-Б. Грессе «Обитель» (La Chartreuse), которое варьировал Батюшков в знаменитых «Моих пенатах», а вслед за ним и молодой Пушкин в нескольких лицейских посланиях, в том числе в «Городке». Эта часть послания Грессе — около сотни строк — как мы увидим, очень преобразовалась под пером Батюшкова и Пушкина. В оригинале оно все проникнуто иронией, доходящей до сарказма. Стихи о богах и героях рождаются под крышей пятого этажа, в жилище, напоминающем скорее птичье гнездо, нежели приют человека, в этой подоблачной гробнице, где гуляют «братья Борея»; автор послания трудится над ним, закутавшись, подобно лапландцу, при писке полчища крыс под звуки кошачьего концерта. Единственную мебель в этой комнатке непонятной конфигурации составляют почти безногий стол и шесть растрепанных соломинок, прикрепленных к двум ветхим жердям. Эта-то «обитель» и оказывается убежищем поэтической свободы. У Батюшкова и Пушкина акцент стоит на этой семантике мотива; «стул ветхий и трехногий / О изодранным сукном» в «Моих пенатах» символизирует не «бедность», а «презрение к роскоши». Отсюда, между прочим, и «угол тесный и простой» в пушкинском послании к Энгельгардту — с тем же значением.
«Чердак поэта» может превращаться в узилище. Так происходит в «Веселости» Д. О. Баранова — стихотворении, несомненно, переводном, якобы написанном в якобинской тюрьме. Оно было напечатано в «Любителе словесности» в 1806 г. — почти одновременно со списком бедных поэтов, включено Жуковским в «Собрание русских стихотворений…» 1811 г. и пользовалось известностью вплоть до конца 1820-х годов; ему подражал юноша Лермонтов. Ситуация здесь иная, но мотив функционально очень близок к «Обители» Грессе:
Стихи эти, без сомнения, были знакомы Пушкину, еще в Лицее внимательно изучившему «Собрание русских стихотворений» Жуковского. Когда бы ни было написано стихотворение «Ты и я», к моменту его создания в художественной памяти Пушкина существовал тип иронического описания жилища «бедного поэта», не в эстетизирующем варианте «Моих пенатов», а в деэстетизированном, включавшем и «грубые», натуралистические детали. Любопытно, что мальчик Лермонтов, перерабатывая «Веселость» Баранова, как раз их и сохраняет, совпадая в них с неизвестным ему пушкинским стихотворением:
Ср. в «Ты и я»:
Нужны были лишь условия, чтобы потенциально существующий мотив стал художественной реальностью.
Такие условия складываются в Михайловском в 1825 году. Вчитываясь внимательно в пушкинскую переписку этого времени, мы можем уловить в ней почти все темы стихотворения «Ты и я».
Зимой 1824–1825 гг. им овладевает какая-то веселая и озорная злость. Он почти не пишет лирических стихов и жалуется Вяземскому, что «не лезут» (письмо от 25 января 1825 г. — Акад. XIII. С. 135). Зато он пишет эпиграммы. В том же письме он разбирает «эпиграмматические» стихи Вяземского «Черта местности» и вспоминает о Ж.-Б. Руссо, чьи «похабные эпиграммы стократ выше од и гимнов», и прилагает свои.
Через три дня, не дожидаясь ответа, Пушкин пишет Вяземскому новое письмо, вдогонку; он спрашивает, напечатан ли Хвостов в новом журнале Н. А. Полевого «Московский телеграф», которым усердно занимался и Вяземский. «Что за прелесть его послание! достойно лучших его времен. А то он было сделался посредственным, как В<асилий> Л<львович>, Ив<анчин> — Писарев — и проч. <…> Милый, теперь одни глупости могут еще развлечь и рассмешить меня» (28 января 1825 г. — XIII, 137).
Так в Михайловских письмах возрождается тема «хвостовианы».
Граф Дмитрий Иванович Хвостов был излюбленной мишенью «арзамасских» сатириков и пародистов. Его притчи (в первом издании 1802 года, позднее исправленном) считались образцом «галиматьи», комических алогизмов, стилистической и звуковой какофонии. Притча «Два голубя», персонаж которой «разгрыз зубами узелки» сети, была буквально притчей во языцех.
Вяземский в 1813–1817 гг. написал целый цикл очень удачных пародийных басен «в духе Хвостова».
От Хвостова ждали именно «галиматьи» и разочаровывались, получая стихи на обычном поэтическом уровне. В 1823–1824 гг. ожидания стали оправдываться. 26 октября 1823 г. А. И. Тургенев сообщал Вяземскому почти пушкинскими словами; «Читал ли „Родовой ковш“ графа Хвостова? <…> Он опять становится прелестен»[530]. За «Родовым ковшом» последовало «Послание к NN о наводнении Петрополя, бывшем 1824 г. 7-го ноября» — то самое, о котором пишет Пушкин и которое он упомянет затем в «Медном всаднике» как «бессмертные стихи».
«Одни глупости могут еще рассмешить и развлечь меня». Из четырех с лишним десятков законченных им в 1825 году стихотворений более половины — шуточных и эпиграмматических. Ему жаль, что написанные ранее эпиграммы не смогут войти в готовящийся сборник «Стихотворения Александра Пушкина»: «их всех около 50 и все оригинальные» (Вяземскому, март-апрель 1825 г. — XIII, 160). «Есть предположение, что он намеревался объединить их в особый сборник, в дополнение к печатному»[531].
Все это имело если не прямое, то косвенное отношение к весьма важному эстетическому спору, который он — в те же месяцы и даже дни — ведет с Рылеевым и Бестужевым по поводу только что вышедшей первой главы «Онегина».
Этот спор давно и хорошо описан; известно, что декабристы — оппоненты Пушкина — не могли принять главного героя и самого «предмета» романа в стихах. В предисловии к первой главе Пушкин упоминал о «дальновидных критиках», которые «станут осуждать <…> антипоэтический характер главного лица», как будто предугадывая возражения Бестужева и Рылеева; он заявлял, что первая глава есть «шуточное описание нравов» и «напоминает Беппо, шуточное произведение мрачного Байрона» (VI, 638).
Бестужев и Рылеев настаивали, что подобные герой и тема могут быть предметом лишь сатирического изображения и что первая глава «Онегина», во всяком случае, ниже и «Кавказского пленника», и «Бахчисарайского фонтана».
Пушкин возражал: ужели Бестужев хочет «изгнать все легкое и веселое из области поэзии? куда же денутся сатиры и комедии?» — и далее перечисляет то, что «нужно будет уничтожить» в этом случае: «„Неистового Роланда“ Ариосто, „Гудибраса“ С. Бетлера, „Pucelle“ — „Орлеанскую девственницу“ Вольтера, „Вер-Вера“ Грессе, „Ренике-фукс“ — „Рейнекелиса“ Гете и лучшую часть Душеньки, и сказки Лафонтена, и басни Крылова etc. etc. etc. etc. Это немного строго. Картины светской жизни также входят в область поэзии…» (письмо Рылееву от 25 января 1825 г. — ХIII, 134). Рылеев соглашался нехотя; Бестужев же продолжил полемику в длинном письме от 9 марта: «Что свет можно описывать в поэтических формах, — это несомненно, но дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов? поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты? <…> Ты схватил петербургский свет, но ты не проник в него» и т. д. (XIII, 149). Он требовал от Пушкина сатиры, подобной байроновской[532].
Пушкин отвечал, что он и не помышлял о сатире и что самое слово «сатирический» не должно бы находиться в предисловии. «У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатиры» (письмо Бестужеву 24 марта 1825 г. — XIII, 155). Но самые требования критиков уже начинали раздражать его. В письме его брату Льву от 14 марта мы находим загадочную фразу, насколько нам известно, нигде не объясненную: «У вас ересь. Говорят, что в стихах — стихи не главное. Что же главное? проза? должно заранее истребить это гонением, кнутом, кольями, песнями на голос Сижу один во компании и тому под.» (XIII, 152).
Это — саркастическая реплика на только что полученное письмо Бестужева, где от Онегина требуются «поэтические формы» «помимо стихов». И противопоставление «поэзии» и «прозы» здесь не риторическая фигура.
Через три месяца в руках Пушкина окажется «Войнаровский» Рылеева с посвящением Бестужеву:
Это была декларация приоритета общественной идеи перед поэтической формой, намечавшаяся уже в письмах Бестужева. Пушкин сообщал Вяземскому, что Дельвиг «уморительно сердится» на эти стихи, и предлагал ему пародировать их: «Я не поэт, а дворянин» (письмо 10 августа 1825 г. — XIII, 204). Уже в старости Вяземский вспоминал, что Пушкин «очень смеялся» над ними. «Несмотря на свой либерализм, он говорил, что если кто пишет стихи, то прежде всего должен быть поэтом; если же он хочет просто гражданствовать, то пиши прозою»[534].
В письмах 1825 года начинает кристаллизоваться тема «прозаик и поэт». Она прямо выходит на поверхность в «Прозаике и поэте»:
Это стихи 1825 года. К сожалению, мы не можем датировать их точнее — и потому не знаем ни адресата, ни повода их создания. Но даже не будучи удовлетворительно истолкованы, они показывают нам, что оппозиция «прозаик — поэт» получила художественное оформление и что в этой оппозиции первенство отдано поэту как носителю творческого начала, прозаику недоступного. В иной форме, но эта же мысль предстанет в стихотворении «Ты и я».
Гиперболическая гротескно-сатирическая роскошь «прозаика», как и предельная «бедность поэта» имеют аналоги в мировой литературе.
Прежде всего это, конечно, «Пир Трималхиона» из «Сатирикона», приписываемого Петронию Арбитру. Книгу эту Пушкин знал, по-видимому, уже в Лицее по французским переводам; в библиотеке его было двухтомное французское издание 1694 г. «Le Satyre de Petrone…» с приложением латинского оригинала[535]. Трималхион, ублажая своих гостей неслыханными яствами, произносит специальный монолог о необходимости «отдавать долг природе» сразу же, как природа этого потребует, для чего у него готовы все приспособления.
В банях раб носит за ним серебряный ночной горшок, в который он и удовлетворяет свою надобность; омытого и надушенного, его вытирают не полотном, а простынями из мягчайшей шерсти[536]. Все эти детали могли всплыть в памяти Пушкина как раз в Михайловском, когда он перечитывал «Анналы» Тацита и специально заинтересовался фигурой Петрония, впоследствии сделав его героем «Повести из римской жизни».
Но если сатирическая традиция могла подсказать ему отдельные детали, то центральная тема — противопоставление запора богача и поноса «бедного поэта» — возникла иначе. Как и другие, прослеженные нами, она кристаллизовалась постепенно в переписке с Вяземским.
В первой половине 1825 г. Пушкин пишет «Оду в честь его сият<ель-ства> гр<афа> Дм<итрия> Ив<ановича> Хвостова» — одну из самых блестящих своих пародий, имитирующих «хвостовский стиль».
В оду «в духе Хвостова» Пушкин включил пародии на обновителей оды — Кюхельбекера, Рылеева, а также на И. И. Дмитриева, с которым у него были свои литературные счеты[537]. Но основным адресатом ее были все же не принципиальные литературные противники, а сам Хвостов, сквозной идеей пародии — комическое сопоставление Хвостова с только что погибшим Байроном — игра в духе прежних арзамасских буффонад, и Пушкин спешит переписать эти стихи и отправить их Вяземскому — признанному мэтру арзамасской «хвостовианы».
Вяземский не сразу получил эти стихи. Лето он провел не в Москве, а в Ревеле на морских купаниях, откуда писал длинные письма, полные забавной и парадоксальной эпистолярной болтовни. Одно из его писем — к жене от 15 июля — должно остановить наше внимание. Оно содержит рассуждение о действии желудка, напоминающем работу человеческого рассудка; сильный рассудок переваривает жизненные впечатления, превращая их «в хорошее, сочное, здоровое г<…>»; «оно лучший, необходимый результат нашей жизни, эссенция всего нашего дня, вернейшая ртуть нашего телесного барометра. Человек больной, человек озабоченный, человек беспокойный, порочный, слишком скорый не имеет хорошего испражнения, а человек нехорошо испражняющийся никуда не годится». «Жаль, что нет при тебе Александра Пушкина, — заканчивал Вяземский свои философические выкладки. — Он умел бы оценить это письмо, а тебе писать все равно, что метать бисер перед свиньею»[538].
В письме заключалось зерно пародийного замысла, и когда Вяземский, вернувшись в Москву и Остафьево, получил оду в честь Хвостова, он осуществил свое желание сообщить его Пушкину. 16–18 октября 1825 г. он посылает ему письмо, где варьирует эту тему «мыслительного навоза». Оно начинается стихами:
Некоторые места в этом письме не вполне понятны и не получили объяснения. Очевидно — это следует и из него, и из последующих писем — Вяземский прислал Пушкину какие-то свои стихи о Хвостове, написанные им в дороге, и в этих стихах была та тема «поэтического навоза», которая наметилась уже в его ревельском письме к жене — том самом, которое он так стремился показать Пушкину. Вероятно, стихи были пародийны, — и Вяземский соотносил их с пушкинской одой (о ней идет речь в строках «Ты сам Хвостова подражатель…»). Стихов этих мы не знаем; вероятно, они были приложены к письму на отдельном листке и не сохранились. Шестистишие, начинавшее письмо, было своего рода сопроводительным текстом.
Около 7 ноября Пушкин пишет Вяземскому, что стихи доставили ему величайшее удовольствие. «<…> С тех пор как я в Михайловском, я только два раза хохотал; при разборе новой пиитики басен (статья Вяземского „Жуковский. Пушкин. О новой пиитике басен“. — В. В.) и при посвящении г<…>у г<…>а твоего». И он подхватывает тему «поэтического поноса»:
Этот фейерверк каламбурных двусмысленностей — еще один выпад против одописцев. «Парит орлом» — одический поэт; «сидеть орлом» — удел обуреваемого поносом. «Поносная праздность» — одновременно и «позорная».
Что же касается первой строки — это преображенная биографическая реалия. Конечно, «измучась жизнью постной» — гипербола; в Михайловском Пушкин вовсе не голодал. Но подобные же гиперболы мы находим и в раздраженных его письмах этого времени, где он жалуется на безденежье, на контрафакции и беспечность брата Льва, грозящие оставить его без куска хлеба. «<…> Эдак с голоду умру <…>» (брату, от 7 апреля 1825 г. — XIII, 161). «…Год прошел, а у меня ни полушки <…> Словом мне нужны деньги или удавиться» (брату, 28 июля 1825 г. — ХIII, 194).
Нужен был еще один шаг, чтобы спроецировать на себя литературный облик «бедного поэта»:
Последняя строка также подготовлена цепью каламбуров в шуточном послании к Вяземскому:
В заключении возникает фигура Хвостова — основного героя переписки:
Это — контекст «жесткой оды Хвостова» в «Ты и я».
Итак, почти все мотивы и темы, составляющие в совокупности это достаточно сложное для истолкования стихотворение, сходятся, как в едином фокусе, в пушкинской переписке 1825 г. Они интегрируются в единое целое, скорее всего, осенью этого года, когда в стихах, включенных в письма, появляются прямые словесные переклички с «Ты и я». «Бедный поэт», противопоставленный «богатому прозаику», — эта центральная контрастная пара влечет за собой целый ряд противопоставлений, о которых у нас уже шла речь,
Но это и все, что может нам дать мотивный анализ. Не имея творческой истории стихотворения, не зная импульса, вызвавшего его к жизни, мы не можем истолковать его до конца. Так, мы не знаем, что именно заставило Пушкина сделать «прозаика» подобием «русского Трималхиона», но должны еще раз предупредить об опасности конкретного, тем более биографического истолкования мотива. «Богатых прозаиков» в России не было — во всяком случае, к 1825 году. Пушкин это отлично знал и еще летом 1825 года писал Рылееву: «Не должно русских писателей судить как иноземных. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) из тщеславия. Там стихами живут, а у нас гр<аф> Хв< остов > прожился на них. Там есть нечего, так пиши книгу, а у нас есть нечего, служи, да не сочиняй. Милый мой, ты поэт и, я поэт — но я сужу более прозаически и чуть ли от этого не прав» (письмо от второй половины июня — августа 1825 г. — XIII, 219). Как и «поэт», «прозаик» в стихотворении — условно-литературный персонаж, «не-поэт», «антипоэт», носитель прагматического, материального, «прозаического» начала, — именно на этом значении слова «проза» Пушкин постоянно играет в своих письмах.
«Ты и я» — не памфлет, хотя и «сатира» в том смысле, в каком это слово можно применить, например, к «Сатирикону» Петрония. В ней ясно проявляется игровое, пародийное начало, восходящее ко времени «Арзамаса», соединенное с теми элементами народной, «раблезианской» смеховой культуры, которое было описано в работах М. М. Бахтина как поэтика материально-телесного низа. Эта авторская установка на пародийную, травестирующую игру отличает «Ты и я» от «Прозаика и поэта», где просматривается конкретный полемический адрес, который сейчас от нас ускользает. Он вышел на поверхность в одном примечательном эпизоде, который, как представляется, имеет некоторое отношение к нашей теме.
Этот эпизод, уже однажды бывший предметом внимания пушкиноведов, был рассказан Вяземским в поздней (1875 г.) приписке к статье «Цыганы, поэма Пушкина». Вяземский вспоминал, что некоторые замечания его о поэме не понравились Пушкину своим учительским тоном и «слишком прозаическим взглядом» и что ответом на них была эпиграмма «Прозаик и поэт». «Пушкин однажды спрашивает меня в упор, — продолжает Вяземский, — может ли он напечатать следующую эпиграмму:
Полагая, что вопрос его относится до цензуры, отвечаю, что не предвижу никакого со стороны ее препятствия. Между тем замечаю, что при этих словах моих лицо его вдруг вспыхнуло и озарилось краскою, обычною в нем приметою какого-нибудь смущения или внутреннего сознания неловкости положения своего. <…> Уже после смерти Пушкина как-то припомнилась мне вся эта сцена; <…> я понял, что этот прозаик — я, что Пушкин, легко оскорблявшийся, оскорбился некоторыми заметками в моей статье и, наконец, хотел узнать от меня, не оскорблюсь ли я сам напечатанием эпиграммы, которая сорвалась с пера его против меня. Досада его, что я, в невинности своей, не понял нападения, бросила в жар лицо его»[539].
Н. О. Лернер впервые обратил внимание на то, что этот рассказ противоречит хронологии событий. «Прозаик и поэт» напечатан впервые в декабре 1826 г. — в № 1 «Московского вестника» на 1827 г., статья же о «Цыганах» закончена лишь 5 мая 1827 г.[540] Добавим к этому, что и по содержанию эпиграмма трудно согласуется с ним.
Более вероятным кажется другое объяснение.
Пушкин писал вовсе не против Вяземского, но боялся, что Вяземский примет «прозаика» на свой счет. Нечто подобное уже случилось в 1825 году, когда Пушкин отдал ему для «Телеграфа» эпиграмму «Приятелям». Вяземский изменил ее заглавие на «Журнальным благоприятелям» и объяснял потом Пушкину, что так ему казалось осторожнее: «…у тебя приятелей много и могли бы попасть не впопад» (письмо от 7 июня 1825 г. — XIII, 181). Пушкин перепечатал текст у Булгарина с примечанием, что в «Телеграфе» он опубликован неточно; Полевой обиделся и доказывал свою правоту ссылкой на доставленную ему рукопись. Пушкин вынужден был объясниться, что не хотел обидеть Полевого, что послал исправление в «Пчелу», а не в «Телеграф», потому что почта идет в Москву несносно долго, — и нехотя извинял вмешательство Вяземского, хотя и стоял на своем: «…ты не напрасно прибавил журнальным, а я недаром отозвался» (письмо от начала июля 1825 г. — XIII, 186). Спустя пятьдесят лет эта размолвка могла выпасть из памяти Вяземского и подмениться другой, возможно, более существенной; он, вероятно, не придал значения и тому обстоятельству, что в 1825 г. Пушкин в особенности был заинтересован прозой Вяземского и что сам он, не лишенный мнительности, жаловался Пушкину, что «совсем отвык от стихов». «Я говорю как на иностранном языке: можно угадать мысли и чувства, но нет для слушателей увлечения красноречия. Не так ли? Признайся!» (письмо от 4 августа 1825 г. — XIII, 201). Может быть, имея в виду эти колебания и сомнения, Пушкин через полтора месяца включает в свое письмо Вяземскому шуточно-комплиментарное послание «Сатирик и поэт любовный» — об их поэтическом братстве (XIII, 231).
Он не мог противопоставлять свою «поэзию» «прозе» Вяземского, но мог подозревать, что Вяземский сделает это сам. Тогда эпиграмма становится злой и даже злорадной. И дополнительные акценты она получала в том противопоставлении бедного поэта и антипоэтического богача, которое, как мы предполагаем, было написано за год до разговора о «Прозаике и поэте». Но об этом мы можем только гадать.