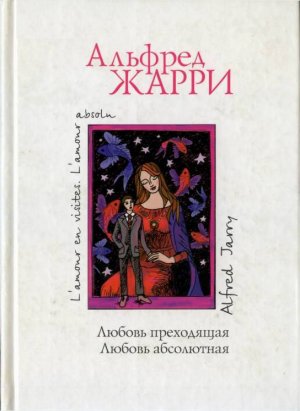
I
Да будет тьма[2]!
Он живет в оконечности каменистой звезды.
Это тюрьма ЛА САНТЕ[3].
В ее оконечности, где окаталоженных держат смертников, ведь он приговорен к смерти.
Окаменевшая астерия[4], астра морская, дабы цвести, — звезд зерцало — ждала лишь, когда наступит сей звездный час.
Солнце зашло по регламенту, рыбак жандармского рода сворачивает свои щупальца-удочки; велосипедист и кучер уже обернулись влюбленными самками светлячков; электрик звездной оси жестом гипнотизера, перстом указующего меж бровей, вызывает имитацию смерти.
ЛА САНТЕ подобна Аргусу[5], у которого было сто глаз.
Он живет на звездочке маленькой, в оконечности большой каменистой звезды; человек — один из цветков-присосок с руки звезды подводной морской.
Последний затылочный позвонок, распустившись — как Хекель[6] сказал бы — распустившись на один всего лишь — последний — день, усваивает общее для всех цветов движение подсолнуха.
К лампе.
Камера современно отделана и обустроена в чисто английском стиле; строгая мебель под белой блестящей краской, нежные стены.
На стенах нет никаких украшений, но к потолку подвешено солнце.
Солнце или луна — звезда: она зажигается и гаснет в положенное время.
Ни один наблюдатель не смог бы отметить ее движение автономное.
Эта звезда неподвижна.
Она благороднее всех звезд вселенной; она сама как небосвод, венец иль гильотины нож, будто последнее наложение диадемы.
Имя ее — Зенит.
И родилась она не из какой-то туманности.
А масло в этой лампаде — Человек.
Если бы в секторе смертников не досчитались кого, на каменном небосводе ЛА САНТЕ стало бы одной звездочкой меньше.
Моисей говорил о тверди небесной[7].
Человек, что под сей звездой, есть — каков бы он ни был, и каковы бы ни были обстоятельства дела его, — человек примечательный.
Он ведь создал звезду.
Не астроном: астрономы возьмутся их открывать позднее.
Скорее астролог: эта звезда загорается по причине его будущего.
Это человек вроде Бога.
По этой или же по другой причине, поскольку таково его настоящее имя, оно начертано на двери:
ЭММАНЮЭЛЬ БОГ.
Бог несколько ослеплен светилом своим.
В Морском Музее[8] Лувра можно закрыться в одном из залов с крутящимся фонарем от обезглавленного маяка.
Жирная огненная муха или светоноска с настойчивой регулярностью бьется о вашу прозрачную роговицу.
Вы мигаете в ответ на мигание огромного ока.
К счастью, оно слишком прерывисто для глаза гипнотизера и слишком ярко для зеркала-приманки.
Бог несколько ослеплен светилом своим; ему бы хотелось поспать.
И он гасит пару сигнальных огней, отраженных в море его очей.
Так дракон прячет свой карбункул, единственный глаз и сокровище змея-циклопа, дабы припасть к источнику.
Эмманюэль Бог пользуется сном, древней Летой[9], как временной вечностью.
Вечности не хватает пространственности, чтобы в тюрьме уложиться, пусть даже и звездно расколотой.
Вот почему на заре просят ее подождать во дворе.
К ней пристань, подобная укреплениям в устье реки, тянется острыми волнорезами, от опор ее мостов выступающими, навстречу городу.
Орфей[10] восстает с мехового ковра, город мурлычет под лампой, светило, сотворенное Богом земным под сводом, тянется, — полуостров земли в верхних водах, как улиточный глаз, — к небосводчатым звездам.
Звезды действующие к торжествующим, голова, как светильников глаз, умоляет освободить ее от пуповинной шеи.
Как знать, может быть, кометы, за собой оставляющие брызги-следы разрыва, ничто иное, как сыпь высвобождения ламп?
По мнению многих, кометы бесхвостые — ангелы.
Эмманюэль Бог ожидает звездного часа, когда и его голова отлетит.
…Однако, если он не убивал или если никто так и не понял, что он убивал, нет у него другой тюрьмы кроме его черепной коробки, и он — всего-навсего человек, что грезит, сидя под лампой.
II
Странствующий Христос
— Каковы ваши средства к существованию?
— У меня нет сбережений с детства, ни кола, ни двора, ни шиша, а в кошельке у меня три гроша: вот и все мои средства.
Шарль Делен[117]«Сказки и легенды славного фламандца»
Один шаг внутрь улитки.
То Волхвы ли бредут на свет звезды, надиром которой был хлев, иль Аладдин, нагруженный сокровищами из подземелий сада, идет снимать с плеч дивную Голову?
Нет, это не проводник последней зари.
Он один.
И он — не аббат Фариа[12], что пробивал крепостные стены.
Ни единой морщинки на глади стены.
Есть лишь он, заключенный навечно, чьи слова ответствуют на допросах.
Он один заметит, что остановлен лишь потому, что он в пути.
Агасфер[13].
Эмманюэль Бог ведет диалог с призраком.
На самом деле — монолог, ибо персонаж легендарный способен отвечать лишь легендой своей иль молчанием и первую приберегает для судей.
Вот, что на исповеди, обращаясь к Молчанию, Эмманюэль изрекает:
— Я — Бог, и на Кресте я не умираю.
Я — немощен к смерти и недостоин мирры.
Сумрачный Бог, к замене приговоренный на время, на тайный срок, от детства до тридцати трех лет.
О сроке том ничего не известно, быть может, лишь потому, что ДРУГОЙ не пожелал — иль не смог — жить в это время.
Наверное, он воплотился, как призрак крадет скороспелое тело: лишь два пространственных контура, два временных предела, достаточно плотны для чувств.
Он не прожил со всей полнотой до тридцати в ту эпоху, зато его современники годы свои отжили, но вне временных катаклизмов.
Марии Матери Божьей на двадцать лет меньше у подножия Креста, чем Марии Матери Человечьего Сына, приспевшего к предсказанной дате.
Это дева придумала для него cripagne[14].
Я — Бог; и у меня не было детства.
Новый Адам, взрослым рожденный, я явился на свет двенадцати лет, и изничтожусь — так, чтобы не умереть в тридцать — завтра! и каждое утро являет миллионы подобных мне преходящих богов, как тысячи алтарей, мириады месс и миллиарды просфор освященных.
Я не вселяюсь — как не вселяются и они — окончательно в чьи-то тела и души. Мы исчезаем, вознесенные или подавленные, из этой юдоли, населяемой эпизодически. Есть некая вероятность того, что исчезание наше чаще всего совпадает с причастием тех, кто нас приютил, возобновив Страсть Христову.
Итак, мы, похоже, чаще всего населяем людей, заброшенных в смертном грехе, дабы в них пребывать долгосрочно, — а, может, хоть это менее вероятно, — верующих и воцерковленных: пребывание наше было бы слишком кратким для периода с двенадцати до тридцати. Но относительны годы, и живем мы во времени сжатом безмерно, и достаточно нам мгновения, дабы прожить в них всю нашу жизнь. Вне всякого — или почти — сомнения, а для меня и с уверенностью вожделенной, хоть и пугающей, мы населяем преступников закоренелых и СМЕРТНИКОВ, чтобы исчезнуть в момент их причастия непреложного за решеткой.
Мы толкаем их сами на преступление, дабы исполнить свой долг, сводящийся лишь к тому, чтобы потребности угодить и кичливость выказать тем, что не евнухи мы, отнюдь.
Слабоумный ребенок или бессмертная душа почившего в бозе — что может считаться более славным потомством?
При ином состоянии общества и законах иных мы могли бы…
В данном же случае мы совершенно не можем предвидеть средства свои к существованию, имея в виду завершение существования, цель осуществления, а конечной целью Сына всегда была Страсть.
Человек, одержимый нами, знает все по наитию и самодержавно всесилен.
То есть, обладает всей волей другого, даже если бы тот, другой, бесчувственным был.
Одержимость Духом Святым и одержимость дьяволом заведомо симметричны.
Женщины, возлюбившие нас, возобновляют настоящий Шабаш.
Демоны из Лудена[15] — нам сводные братья.
Дабы власть наша была абсолютна (а она таковой и является), порою случается так, — причем, без каких-либо антиномий, — что пользуемся мы Всевышнего покровительством, то есть выверяем, как по магниту в форме креста, по потокам магнитным восток-запад, правильный курс, исходя из времени Синтеза мирового.
Мы живем за счет катаклизмов…
Пред тем, как, подобно белой звезде, займется заря и даст мне знак раствориться мучительно иль без страданий, — мне самому и звездочке белой моей, — что есть конкретное пресуществление кончины моей на моем языке, послушайте и объявите всем народам…
А лучше, в ожидании признаний более разимых, остановитесь, присядьте, за конторкой клерка устройтесь и запишите!
Вот Апокалипсис черни вульгарной.
История одного опарыша, лишь одного из сих.
III
О, сон, мартышка смерти[16]
Сыновье свидетельство девственности материнской.
«36 драматических ситуаций».СИТУАЦИЯ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ[123].
Фуганком своим Иосиф стружки плодит, подобные рожкам.
— Баю-бай, — произносит чей-то голос очень тихо.
И все, что говорится, Иосиф не слышит, ибо слышать сие ему не дано.
— Баю-бай, дитя.
Спит не Ребенок, а Мириам.
И от яслей или брачного ложа, так высоко или так низко — но Иосиф не слышит — раздается прекрасный голос в ответ на зов маленькой Мириам, которая шепчет:
— Владыка…
С очень долгими интервалами меж слогов каждого слова, — интуитивное ощущение разговора с Вечностью, невосприимчивость длительности, или время, необходимое для того, чтобы их вознести из колодца мертвых.
— Прикажете, если угодно, руку согнуть? Я на руку легла, и она затекла.
— Мать, почему ты взываешь ко мне с таким беспредельным почтением? Этой ночью ты явила меня на свет. Я — твой малый ребенок, хотя и сотворенный Богом. Женщина! Бог единый есть в трех ипостасях, я — Бог единый в трех ипостасях, за мной восемьсот секстиллионов веков и все то, что случилось за это время, ибо мною все это сотворено, и вечность уже была при мне, когда я отмерил первый век! Я — Сын, я — твой сын, я — Дух, я — навеки твой муж, твой муж и твой сын, о пречистая Иокаста[18]!
А еще я — юный супруг в постели возлюбленной; и узнал, что ты девственна, о, моя мать, моя дорогая супруга, и посему начинаю верить в то, что я — Бог.
Ты слышишь меня, заснувшая Мириам?
— Если прикажете слышать, услышу, Владыка.
— Мама, ты мне объясни…
— Вы говорите со мной, как будто младенец мой новорожденный никнет к живой. Когда я живая, я плохо слышу. Я — ваша мать, Владыка, а также супруга плотника.
— А теперь?
— О! Теперь… вы должно быть действительно Бог, чтобы принять улыбки моей сияние… теперь Я воистину ДЕВА.
Усыпите меня еще глубже… Теперь я… я — то, что вам будет угодно. Не спрашивайте, вы ведь прекрасно знаете, что скажу я все, что вы пожелаете. Я — вам слуга, я…
— Что, Женщина?
— Я — ВОЛЯ БОЖЬЯ[19].
Молчание сказочным золотом наполняет любые сети.
Мириам спит безмятежно.
Маленький Йешуа-бен-Иосиф лежит обнаженный, тихо и неподвижно.
В движениях, криках, пеленках нет никакого смысла или лишь смысл, который им придается, поскольку все будет осмыслено позже, когда вырастет он.
Он — Кумир.
Волхвы объявили свои подношения:
Золото, Царь.
Ладан, Бог.
Мирра, смерть.
Мирра у ног Мириам охладилась.
От ее сна удаляются колокольчиков звон на шеях верблюжьих и кровосос, пролетающий над песком, что словно войлоком кутает их копыта, и колыханье верблюжьих шей.
Фуганок Иосифа, надвигаясь, щитком отметает щепки, подобные рожкам.
Когда волхвы удалились в сторону гор, Дитя-Бог снова заговорил:
— Ты спишь?
— Да, — шепчет очень далекий голос.
— Тебе хорошо?
— Да.
— Тебе хорошо!
— Да! Да!
Улыбки.
— Когда я была живая, я задыхалась в песочной могиле. А теперь мне хорошо. Нет! Я снова живу! Грудь моя… Прикажите мне быстро заснуть, быстрее и глубже…
Я живу, я умираю!
Эмманюэль!
Саван наволочки на глазах.
— Ка… та… лепсия, — произносит она.
Волхвы так далеки, что между нами и временем их — девятнадцать веков.
— Да, засни же ты, наконец!
— Я сплю. Она спит.
Она мертва.
Вам не следует ей доверять.
Да и вообще, здесь ее больше нет.
Она — грязная женщина… та, живая.
Та, что способна сзади пырнуть ножом.
— Ты любишь меня?
— Я не вольна.
Я — ваша воля.
— Она меня любит?
— Да. Беззаветно.
Ай! прикажите мне вытащить руку!
— А Иосиф?
— Если хотите, я убью его, только скажите.
Можете даже не говорить.
Легкий отблеск вашей воли на крохотной пуговке крохотного мандарина, что у вас в голове.
— Получится нехорошо. Я не очень верю. Значит, она не любит его, Иосифа?
— Она его презирает, ведь он очень старый.
Но они все-таки кое-чем занимаются, хотя он и очень старый.
Пусть этим занимаются с ней, ей все равно, какой он: красив или уродлив.
Он не знал меня никогда, меня.
Он знал лишь ту, другую.
С ним она не такая, как с тобой.
Смехотворность старца куда непристойней.
Вчера она сказала тебе, что он с ней больше не спит. Они только что занимались любовью на кухне.
Он в нее очень влюблен.
А она его не любит.
Значит, она его обманывает.
Ты — ее первый любовник, после шести десятка других.
— Для нее. А для тебя?
— Я? Меня никто не познал.
Даже она.
Я помню ее, и я для нее невидим.
— Та, другая, почему она целовала в губы старого таможенника?
— Она сделала это сознательно.
Потому что ты ее видел.
Та еще стерва, я тебе говорю.
Но она любит тебя.
А после даже боялась смотреть в твою сторону.
Ведь ее всегда тянет на самое безобразное.
— А тебя?
— Я? Я — в твоей воле.
Делай со мной, что захочешь.
Та, другая, ничего не узнает.
— А, правда, что ты — красивее, чем та, другая, будет выглядеть при твоем пробуждении?
А при ее пробуждении?
— Возможно, ее плоть сохранит воспоминание…
Не надо!
Она никогда тебе этого не простит.
Если бы она знала, что мы ее обманываем, она отсюда бы вышла на цыпочках.
— Ты можешь уговорить ее остаться. И заодно ей сказать, что я запрещаю ей эти гротескные шутки с таможенниками…
А как запретить ей?
— Твои запреты при моем посредничестве будут кратковременны.
Я могу тебе сообщать, что она делает, и мы примем меры.
Но чтобы она никогда не узнала об этом.
— Договорились… Что же ты делаешь? Чего ты хочешь?
— Вознаграждение. Поцелуй меня. А… почему бы тебе не стать моим любовником, таким же полноценным, каким ты стал для нее?
— А что скажет она? Повелеваю тебе представить, что я им уже стал…
— Эй! Хватит! Она может подумать, что это и в самом деле произошло. А теперь, моя маленькая Мириам. Скорее МИРРА, — ты — та, что мертва, — воскрешайся к жизни нотариальной.
— Я не хочу! Я хочу баю-ба…
— Просыпайся! И что за ба? Повтори!
— Ба… ба…
…Бабочка.
IV
Aotrou Doué[20]
Раз нашли его в doué, запруде для стирки, в местности, где говорят на «гало», то решили оттуда взять и фамилию заодно.
А поскольку фамилию отчую подобрали в окропившей его воде, то подыскали и имя из античного языка, соответствующее дню, когда был он найден, а именно: Ноэль[21].
Nédélec (Ноэль, Эмманюэль) Doué.
Они — это нотариус и его жена.
Нотариус Иосиф и жена его Мария.
Жозеб и Вария, как их называли на диалекте тех мест, где они проживали (местечко Ланполь[22] в Бретани).
Нотариуса звали Иосифом не потому ли, что жену его звали Марией? Или же это ее прозвали Марией, потому что она вышла замуж за Мэтра Жозеба?
Это не имеет никакого значения.
Их просто не могли звать по-другому.
Их звали так вечно, ибо под их патронажем младенец, которого они только что усыновили, был наречен Nédélec Doué.
Пред крестильными вратами ланпольские сорванцы, почитая богача, горожанина и нотариуса, который создает Господина одним своим росчерком беглым, росписью, запросто, как делают в деревнях детей, и который кидает им россыпью леденцы, — что в этом возрасте понятнее всего, — уже указывают друг другу на Сына согласно Акту Регистрации:
Aotrou Doué.
Это первый зачин во всех литаниях.
Но ланпольские сорванцы об этом не думают.
Они просто называют: «ГОСПОДИН БОГ».
И литания продолжается, пророческая, в сложенных дланях закрытой книги, в которой она прописана:
— Сжальтесь над нами! Aotrou Doué, о pet truez auzomp!
V
Контора Мэтра Жозеба
Мэтр Жозеб…
Мы говорим Мэтр Жозеб, потому что в местечке его называли «Г-н натарьюс».
Это могло бы избавить нас от описания его дома, изучения входной таблички и утепленной ризничей двери на лестничной площадке.
Но Мэтр Жозеб был нотариусом на бретонский манер.
Там, «нотариус» обычно значило: «любой человек, который пишет».
Когда Леконт де Лиль[23] приехал в Париж, жители Фобур де Рен решили, что он успешно завершил свое преднотариальное образование:
— Давай пойдем прямо к нему. А где его контора?
В более широком смысле, «нотариус» — это естественное свойство того, кто не обременен ручным трудом, или же того, чьи руки искусны в делах весьма сложных и совершенно ненужных.
Однако, Мэтр Жозеб писал и читал с трудом, зато был богат по части амбара и конюшни, а еще закрывался в кабинете с чучелами птиц ради таинства выпиливания лобзиком.
А значит, был вправе, почти что обязан, не иметь растительности на своем обтекаемом черепе и обритых губах; и, как створки драгоценного триптиха (или же, как более понятно, по его мнению: боковые подушечки в кресле с «ушами») — распускать аккуратно расчесанные бакенбарды цвета слоновой кости.
Итак, Мэтр Жозеб назывался правильно:
— Мэтр Жозеб.
VI
Господин Ракир
Именно в конторе Мэтра Жозеба, точнее в его столовой, начиналось воспитание маленького Эмманюэля.
Первый учитель Эмманюэля — подобен лунному диску.
Он из тех, что предстают единым целым или, лучше сказать, одним большим ореолом.
А венок его, легендарного книжника, — венец Предтечи, который вовсе не украшал им, как Иродиада[24], верхнюю часть головы.
Пурпурный участок, быстро бледнеющий, шеи.
Эмманюэль сам себе предоставил свой юный мозг, — дабы заправить его умом, — in disco[25].
Он — множествен.
Это двенадцать тарелок с двойной каймой зодиакального алфавита.
Наука накатывает отовсюду, без истока и без конца, как Океан, разбиваясь о щит Ахилла[26].
И алфавиты эти могли читаться с буквы любой; сталкивая их и роняя, Эмманюэль низводил их до простоты более краткой.
Класс учителя был античным и черным.
Ученое светило — в час, когда луна и пяденицы проникают в окна, и их стужа желейная плавится и над свечами сгорает, — спускалось с вершины серванта, кафедры застекленной, причаститься интимной беседы.
Формула представления ученика учителю и учителя Господину Богу была несомненно:
— Ессе corpus Domini…
— Domine, non sum dignus…[27]
— Ничего делать не буду.
— После вас, сударь.
Эмманюэль был — на фоне существ слишком тусклых, чтобы услаждать барабанной дробью барабанные перепонки плоти — его единственным слушателем.
По окончании урока он переворачивал на столе, — вокруг двадцати четырех преподавательских зубов широко раскрытого учительского зева, — маленький деревянный домик, установленный на корабле, и из-под рухнувшей крыши ковчега появлялись Ноя чета и всякой домашней твари по паре.
Нотариус, как Демиург, своевольно шеренгами расставлял зверей, отколовшихся — согласно их Нюрнбергской родословной[28] — от туманности елочной ежегодной.
Наглядевшись на всех этих коров и медведей на исключительно прямоугольных подставках — с которых те кренились к земле, то есть к столу, — и наслушавшись, как они падают тихо, поочередно, Эмманюэль получал от него озабоченное распоряжение:
— Животных поставь!
Ибо нотариус приказывал, а не творил.
Катаклизм порождал трехногих чудищ, которых Господин Бог низводил до коленопреклонения, отрывая у них выпирающие конечности, ради их же устойчивости.
И отличительные имена давались им по их пятнам, сколам, особенностям ортопедии и общему виду, что получался в итоге.
Самыми красивыми были ракиры и растроны, значения которых не помнил даже сам Эмманюэль; после них, возможно, — рататромпы, облагороженные почтительным обращением «Господин».
И казались они Господину Богу такими большими, что он — сам же их сотворив, — сильно пугался.
А как-то раз — и вовсе не надуманно.
Как голодный пес, закованный в латы и привязанный к колоколу в заброшенной башне, наводит на жертву ужас оседлости, так ветер — колокольный набат — взревел у дверей нотариуса.
Ветер, наверное, кто ж еще, башмак свой тяжелый, — как в картинках с Полишинелем[29], — с силой протиснул в щель двери, которую перед ним мальчик хотел закрыть.
Но то был не ветер, а посетитель куда более заурядный.
Вот почему у Господина Бога не хватило сил расколоть этот орешек.
То был не Один[30] при двух волках, поскольку явился без свиты вороньей.
Четыре волчины кусали его за пятки[31].
В зале Ковчега он демонстрировал их податливость за гроши.
А чтобы сомнений не возникало, насколько смирение их — результат дрессировки, он тоже перевернул на стол одну коробочку, и по всей скатерти разбежались пастись деревянные звери.
Свирепость рычащих собак, под стать их челюстям, клацала в стороне от бесплотных фаланг ручонки, отделившейся от их хозяина.
Образ зверей, ощетинившихся на его глазах, их липкая шерсть на его ресницах, их рычание комом в горле его, — маленький Эмманюэль еще два дня потом заикался.
VII
Эта
Греческое имя этого персонажа, Θάνατος[138], — мужского рода; некоторые латинские интерпретаторы передают его именем другого инфернального божества, Orcus[139]. Я полагаю, что лучше оставить оригинальное название, хотя французское слово Смерть — женского рода. Это ничего не меняет ни в игре, ни в характере персонажа.
П. Брюмуа«Греческий театр»[140]
Когда ему минуло четыре года, Госпожа Жозеб стала сама водить его по утрам в класс Самых Младших при городском лицее.
По крутому склону, доступному лишь по спирали, следуя мощеным скатом речушки вкруг серпантинного стержня[35], что называлась Роке[36].
Затем — по маленькой и также извилистой улочке, где он гордился своим недавним умением идти по поребрику тротуара, вдоль ручья, — как ему представлялось, — по кромке над бездной.
И вот, за железной дверью, в цветущем саду, который называли двором, его одиночество скреплялось прощальным поцелуем его матери.
Быть может, вспоминая о материнских юбках или же просто набирая воздух в легкие прежде чем выговорить сложное имя, а, может, потому, что все малыши были одеты в девчоночьи плиссированные юбки[37], каждого из них он называл — в общих чертах рассказывая нотариальной чете свои школьные приключения, — ЭТА.
— Эта Мекербак, эта Зиннер, эта Кзавье.
А, отвечая урок, лез под крылышко к учительнице, поскольку Самым Младшим преподавала дама.
Госпожа Венель[38].
Он так никогда и не узнал, была ли это действительно ее фамилия или же персонификация улочки, что ежедневно в школу вела.
Он умел читать и расписывать тарелки, иероглифами (или каракулями, как все дети, он рисовал человечков с лица и затылка одновременно) и вечностью, и так никогда и не понял, зачем его отправляли сносить этот поток учености.
По-своему рассудив, он решил воспринимать ее как затейницу, что курьезами развлекает.
Она и в самом деле, дабы удобнее воздействовать на рассеянных и отстающих, вооружалась длинным ореховым прутом.
Что-то вроде волшебной палочки.
Когда она не использовала этот телефон[39] (ибо предпочитала исправлять, с костяным стуком шлепая по ученическим пальцам белой рукояткой ножа для бумаги, которая колебалась с интервалами, изохронными вибрациям лезвия), то отбрасывала его за свою кафедру, в кучу тетрадей рваных, в угол, который называла (термин Эмманюэль воссоздаст позднее) — кафарнаум[40].
Тогда, в первый раз, ему послышалось «кофр эпиорна»[41], что показалось более внятным, более точным и даже роскошным.
Вскоре он увидел эпиорниса и динорниса на гравюрах.
От этого школьного года у него не осталось никаких других привычек, кроме увлечения, подражательного, деревянными ножичками для бумаги, которые он называл более абстрактно ножами.
Их ему вырезал нотариус, а сам он украшал их и совершенствовал, несомненно по образу пилы живой, прожорливой и творчески заостренной, которая, с высоты жердочки красного дерева являла себя восхищенному взору: от зубчиков мелких, через изгиб изощренный, до зримого на обороте, у самого острия, слова тесак.
Как-то раз он провел всю вторую половину дня в прострации после сладких страданий, лежа плашмя перед пучками розог и ужасающим ликом Отца Бичевателя.
И добрую часть вечера подстерегал — теребя деревянное орудие пытки под диваном, на котором прикидывался спящим, — своего товарища Кзавье, чьи родители общались с нотариусом.
А окончательное воспоминание о классе Самых Младших схематически свелось к Кзавье, — черты, стираемые эскизной подменой X[42], что к похоронам у ворот бледнеет на полотнах под человечьими черепами:
Эта Меккербак, эта Зиннер, эта…
ЭТА СМЕРТЬ.
VIII
Один
Когда ему исполнилось пятнадцать лет, Госпожа Жозеб (точный образ его матери до этой даты в памяти не сохранился) во время каникул — через заросли древовидных папоротников — отправилась его повидать.
Поскольку в доме нотариуса для Эмманюэля, уже юноши, подходящей комнаты не нашлось, Жозеб одарил парижского пансионера вольным двухмесячным жильем на одной из своих ферм, которая — как и большинство ферм, — была просторна и могла уместить несколько замков.
Посреди парков, на холмах.
Обрабатываемые склоны и долина к морю классическим образом уподоблялись разноцветно залатанным рабочим суконным штанам, которые для демонстрации тех самых заплат, словно дерево, растянулись бы вверх тормашками.
В глубине развилки — кущи каштанов, скрывающие свои корни в папоротнике.
Варии, на ее пологом пути, встречались лишь растения и животные.
Все — небезопасные.
На плато, перед спуском, утесники с золотыми цветами в оправе — камень в обмен на металл — с изумрудными шпильками.
Дрок, менее агрессивный, но искусственно пчелами укрепленный.
Терновника иглы, солнцем очищенные от мха, как огневые длинные копья в пепле компоста.
Мокрицы, тщательно облаченные в латы.
Жучки-карапузики цвета траура плевались кровью, словно разбрызгивая свежие мозги.
Шипам и огням — косогористый холм все заострялся — на смену пришли мечи шпажника, осока и путанная витиеватость корней.
Лягушек не было видно, она не слышала, чтобы они плюхались в лужи, да и воды поблизости не было.
Трава и земля подражали чавканью тварей.
Так скрипела бы губка, если б вода — как бусины четок, отмеряющих смерть принца Парвиза[43], — превратилась в сгустки текучего зла.
Вария шла, будто по старой широкой кровати, которая с каждым шагом-скачком выдает все потрескивания, заключенные в деревянные стенки шкафов.
— Эмманюэля на ферме нет, он отправился к морю.
Крестьянин, вернулся к себе, а Вария — в кров свой пустынный.
…Затем папоротники, что сабельные букеты, разложенные по поверхности гербария, распределенные по росту, как ладони раскрытые, а значит способные и сжиматься; как ощетинившиеся косами телеги, которые не двигаются, но заполняют собой все пространство вогнутого коридора, по которому приходится идти.
А еще, как перчатка, играя мышцами — подобно осьминогу, сплошь утыканному пустулами.
Которые вовсе и не пустулы, а споры: технически, индузированные сорусы.
Безобидные.
Но видные.
Страх, от которого невозможно отвлечься, — есть всячески декорированная безобидность.
Затем, в подстилке из мха, под дубами, престранными яйцами — грибы-дождевики.
Вария осмелилась ступить на один из этих мешков ядовитых, еще более мягкотелых, чем веко.
Яйцо птицы Рух смертоносной[44] с тупого иль острого конца надлежит разбивать?
Она вспомнила, что плаун[45], в театрах, вспыхивает при появлениях и исчезновениях через подвижную часть сцены.
ВОЛКИ.
Снуют не иначе как по сухой листве.
А на земле только мох.
Но если была бы сухая листва, то было бы слышно, как снуют по сухой листве!
В лесу без солнца Страх также плохо улетучивается, как и в закрытом доме.
Папоротник — словно ажурный свод подвала, позволяющий видеть всех подвальных чудищ.
У волков не порежутся лапы, заросшие грубой щетиной.
И морды у них — зубастее всех папоротников вместе взятых, хотя зубам не хватает пустул.
Кусающиеся растения друг друга не пожирают.
Вария не оборачивается.
Ведь она прекрасно знает, что они позади нее.
В двухсводчатой аллее лесосеки, их шерсть и клыки опережают их мрачные тени.
Как пара ресниц над двумя глазами большими.
Она побежала.
И вот добежала.
Эмманюэль — в таможенной хижине, у самой кромки на гребне скалы.
Хижина поделена на две части, как котел паровоза с вертикально стоящей трубой.
Первая, будка без штукатурки, сложена из камней — один из которых изъят в пользу пустой альвеолы — бойницы в сторону моря.
Орбита, которую таможенник экспроприировал, чтобы было куда углубиться взору, подобно тому, как рак-отшельник раковины освобождает, дабы в них что-то другое влагать.
Вторая комната плоская и голая: кровать с простыней из камня и подстилкой из водорослей морских.
Несмотря на тесноту, Эмманюэль является Варии во весь рост, за его спиной — колпак камина из розового гранита.
Под колпаком. Он — огонь.
Подставки для дров, справа и слева от него, разбитые, железо изъедено жаром.
Или, скорее, тут только одна подставка — словно угрюмый волк, сидящий в профиль и кажущий зубы кривые из-под усищ и единственный — вместо двух — глаз-дырищу — насквозь.
Чересчур симметричен для одного.
Его спутник-близнец[46] входит в дверь, на удивление отдаленную: для такого большого камина необходима столовая зала аббатства Сен-Мишель.
Второй волк тянет Варию за платье, в пряжу вцепившись зубами.
И Эмманюэль, выйдя из очага и, тем самым, зал осветив, выпуская вперед первого волка с громоподобным рычанием на пастушку, провозглашает:
— Госпожа, садитесь на спутника моего.
Вария, словно очнувшись от сна, с ужасом видит двух черных алмазных волков — а других никогда и не водилось — под бровями Эмманюэля.
IX
На зеленом фоне горностай по центру[47]
«Из-за того что эти демоны водянисты, они неимоверно сладострастны».
СИНИСТРАРИ «О демоническом»[154],пер. Изидора Лизё
Из своей обсерватории Эмманюэль смотрел на приближающуюся Варию.
Не по дороге и не по лесу.
А в своей памяти.
Он видит ее еще лучше, замечает еще до того, как она появляется, хотя стоит спиной, глядя в бойницу к морю.
Париж. Зима.
Господина Ракира и Госпожу Венель сменил Кондорсе[49].
Когда Господин Бог тосковал по морю, то шел к витражу на фасаде вокзала Сен-Лазар, который в освещенные часы походил на аквариум.
И разбивать зеркальную гладь ему уже не хотелось.
Его мать отводит текучую хрустальную портьеру и устремляется к нему, на каникулы.
Впрочем, он очень скоро перестал считать ее своей матерью.
Когда она появлялась, в ней было слишком много от сирены.
И ждал он ее в часы, которые слишком ярко фосфоресцировали.
Приметил же он, что она ему не родная мать, особенно по ее пугливой походке в лучах электрического света.
Скорее — мать-опекунша.
Ночник не боится ни других ламп, ни звезд.
Жена ланпольского нотариуса была из тех мест, где с заходом солнца передвигаются, освещая себе путь железными фонарями, подобно пяденицам, что пугливо несут на себе чудесную и страшную жертву собственного свечения.
И голова ее — едва заметно, но с неукоснительной точностью — покачивалась, склоняясь перед очарованием пылающих стекол.
От которых, однако, пушок шелкопряда на ее белой муфте не золотился.
И скользила она быстрой волной муара, как меховой кожеед.
Или как голова павлина, или точнее, как робкая голова ужа, поскольку эгретка стеклянных нитей, по мере увеличения амплитуды, выдавала дрожание.
Эмманюэль особенно быстро определял, что зверь, вкрадчиво скользящий по льду меж розовых вересков — геральдический.
Горностай.
Возможно, зверек боится его, лицеиста полицейского вида.
Боится себя запятнать?
Горностай — зверь весьма неопрятный.
Сам себе белье драгоценное, но без смены, а посему моет себя на себе же своим языком.
Гаргантюа определил бы его так:
— Птенец, способный глубоко проникать.
Но «мартовская кошка» его расцарапала, подпиливая свои ногти лишь для других горностаев[50].
В тот день, когда Эмманюэль, обращаясь к Варии, сказал не «Маман», а «Мадам», она предложила ему, на выходе из Кондорсе, «почасовой фиакр в Лес[51]» или отдельный номер.
И подумал он вовсе не об инцесте, а о мгновенном возрождении жизненных функций нотариальной супруги.
— Главное, — решился он, — с раками[52].
К отдельному номеру Вария уже была подготовлена читальной комнатой в Ланполе.
Она позаботилась дать пять франков кучеру, не иначе как, чтобы купить его молчание.
Хотя, в этом случае, ей следовало взять у менялы монету поменьше, но золотую.
Как водится, по лестнице гостиницы они поднялись не вместе.
— Официант, накройте на троих, — произнесла Госпожа Жозеб. — К нам еще собирался присоединиться Господин в зрелых летах…
— Украшенный, — шепнул Эмманюэль.
— …Спросит нас? Спросит даму и лицеиста? Удивительно, что его все еще нет. Официант, накройте на троих. Мы его подождем.
— За обедом, — сгладил напряженность Эмманюэль.
Обед оказался прескверным, а любовь не состоялась вовсе, так как им оказали честь самой новой газовой печкой.
Господин Бог был окроплен лаковым фимиамом.
Они лишь осмелились на скомканный поцелуй — при оплате счета.
И все.
Хотя в номере был диван.
Вария откинулась, полулежа, обнажив подвязку плоти чуть выше подвязки чулка.
Но Господин Бог — еще школьник и только.
В сторону вереска направляет свои коньки горностай.
Сегодня Господин Бог обедает не в отдельном кабинете.
Он — в хижине таможенника, которую полагает ничейной, поскольку таможенник отсутствует.
Он — у себя.
Он приготовил странную трапезу, представив ее как подношение самому себе жертвенных тварей и освященного хлеба в храме свободных камней.
Он Ноев ковчег опустошает.
Пирожное в виде миндального ежика при иголках, хотя ему известно, что фигурные пирожные — отвратительны.
Само собой разумеется, десерт будет подан сначала.
Кьянти в легкой бутыли, забавно оплетенной соломой, разбухшей от масла.
Устрицы в маринаде, так что гадко смотреть.
Хлеб ржаной с вкрапленным изюмом коринкой.
Фаллос златой колбасы из фуа-гра.
И поскольку в приюте таможенника нет стола, он разворачивает на полу — для размещения всей своей фауны — черствый ворох старой географической карты.
Он не понимает, что Вария боится волчьего взгляда.
Однако он смотрит именно так.
Он замечает, как тонкая бестия входит под каменный кров.
Который ему представляется для нее куда естественнее и пристойнее, чем какой-нибудь дом.
Сначала они ужинают, сидя рядом, на водорослевой подстилке.
И даже не могут встать во весь рост — эгретка на шапочке Варии цепляет мелких тварей, обживших низкую крышу.
Господин Бог сознает несколько смутно, что его «волчья головка»[53] это то, с чем не стоит играть.
Она — настоящая.
Госпожа Жозеб поднимает руки: ее забавляет, что под довлеющим потолком они вынуждены быть в кровати; а поскольку она не может ни вытянуть руки из-за низкого свода, ни в силах его приподнять, она превращает их в двух маленьких горностаев, и они шныряют уже повсюду, изучая на ощупь сначала карту-скатерть, а потом и географию Эмманюэля.
Он и сам уже разводил под рубашкой зеленых ящериц юрких.
Но эти белоснежные змеи-проныры — намного приятнее.
Их сначала согрели, а потом сунули… не туда.
А Госпожа Жозеб замечает, что ее маленький школьник — маленький не везде.
У него оказался такой повод для гордости, наличие коего ни у нотариуса-старика, ни у его временных заместителей — клерков! — она даже и не могла предположить.
И бестия, метнувшись от чудища больше ее самой, пустилась бежать к закрасневшему полю.
И вдруг на пороге столкнулась: явление силуэта высокого под капюшоном зеленым.
В виде довеска.
Таможенник, настоящий, вернулся вступить во владение хижиной.
Не медля, — так быстро, что все произошло еще до того, как Эмманюэль смог обдумать причину поступка, — она кидается на грудь мужчине, плохо сбитому и ощутившему себя вдруг солдатом.
Словно шлепок от шага — ее каблучок не пугается лужи — она целует его в уста, прямо в губы.
X
Скреплено желтым воском[54]
А вечером, когда, по своему обыкновению, нотариус, заправившись бутылочкой светлой настойки, убаюкивал пищеварение, в отдаленной своей мастерской, вплоть до самой зари, мерно орудуя лобзиком в зарослях арабесок красного дерева, которые он изводил и возвращал к жизни, Эмманюэль и Вария без предисловий и объяснений встретились снова.
И если уста их слились, как на зеркальную гладь присевшее насекомое со своим отражением, то для того, чтобы удержать — поэзию прочь — от падения изнемогавшие в неге тела.
И если их руки сплелись, замыкая окружность ласки, то для того лишь, чтоб сжать всю невозможность присутствия их совместного до густоты, коей не миновать действительности.
К тому, на что они не могли решиться, к чему склонял шепот морской меж створок их известкового ложа, они все равно пришли, вторя звукам прихотливых рулад Птицы нотариуса с клювом ажурным.
Они, два гибких и зябких белых зверька, — ибо что еще может сравниться белизной с мехом зимним животных неразоблачаемых, не будь то человечья кожа, — в объятиях под покровом розового вереска кружев.
Плащом Варии оба накрыты.
Это значит, что он не облачает ее отныне.
И то, что скоро Эмманюэль замерзнет без одеяла.
Головки горностаев с мордочками, порозовевшими от вереска, поджидают в зарослях, острые, настороже.
Осторожность маленькой бестии способна развеять даже гнев Жозеба, как бесстыдство юнца может с пути совратить прохожих.
И действительно, на нее многие оборачиваются.
Вария бела той сверкающей белизной дев, в которых вовсю расцветает Гольфстрим.
Цветы как из лейки пьют теплые волны — иллюзия тропиков.
Она бела, как бледные камни цветные.
Молочного топаза, лилового рубина, мертвого жемчуга порошковая смесь.
Как плоды из сада Алладина, что не успели созреть.
Если они и зелены на вид, то лишь потому, что небо — темно-пунцово.
Шевелюра — черна до фиолетовости епископальной[55].
Существуют морские епископы[56], что растворяют свои аметисты[57] в лобзании, совершая конфирмацию волн.
Кожа казалась бы темной, несмотря на этот контраст, при строгом наличии пушка, как намытая галька и торсы витые сирен.
Когда она обнимает Эмманюэля, ее подмышки мигают всеми своими ресничками, словно кисточками, что пытаются сепией воздух окрасить.
Где-то вдали — чешуйки морских зверей.
Мертвые жемчуга…
Господин Бог вновь их нанизывает — вот ожерелье.
Эмманюэль пробил витраж — головой, словно клоун в скафандре, — аквариума на вокзале Сен-Лазар.
Лицеист времен каникулярных наездов вырос в своем Кондорсе.
Он — ростом с Варию, которая выглядит гибкой бестией еще и потому, что она высока.
Но все-таки кажется ниже, чем рядом с нотариусом-недомерком.
Когда они укусили друг друга и мгновенно отпрянули, дабы увидеть в глазах блаженство; груди одной — отпечаток груди другого.
Точное наложение двух треугольников.
Ведь Господин Бог на печать Триединства обладает наследственным правом!
Они отстраняются, как раскрывается книга.
Как белые бакенбарды нотариуса, с той только разницей, что тот никогда их не сводит.
Созерцают друг друга.
Пальцы Варии щупают плечи Эмманюэля.
Она пробует разобрать, где сочленяются крылья Амура.
Их полет, возможно, столь быстрый — как у macroglossae fusiformes и stellatarum[58], приколотых на витринах спальни, — что заметна лишь дымка.
Но вдруг что-то черное — банальность или фатальность темного диска после разглядывания солнца — как из двойного кувшина[59], выпало из зениц Эмманюэля и запало в зеницы Варии.
Осадок Любви, что есть Страх.
Вария дрожит как под снегом, как ночью, когда снег видится черным.
— Уходите! Я вас умоляю! Позвольте же мне уснуть одной!
Что я вам сделала?
Ее голос надломан до клекота.
— Сжальтесь же надо мной!
Так говорит и та, другая Книга, когда ее раскрываешь:
— Aotrou Doué, о…
Сжалиться, для Бога, значило бы от собственной божественности отречься.
Ведь в его присутствии страшно всегда.
И вот уже порождается Страхом инстинктивный жест, защитный рефлекс — самый опасный враг для Господина Бога.
То, что для него может быть самым неприятным.
Госпожа Жозеб в своем абсолютном праве.
— Я у себя дома!
Она бросается к стене.
Разумеется, кроме чучел птиц и рассохшихся рамок с тельцами насекомых — щебетание и шорохи живут вовне, в неколебимой листве, что вырезает Контора, — имеется у нотариуса и замысловатая коллекция оружия разного и экзотического.
Она срывает первый попавшийся под руку нож.
Это ханджар[60], и его рукоять не в форме креста, скорее — развилка сяжков булавоусого скарабея.
— Уходите или я вас убью!
Перед бестией, что под кору тел внедряет смерть своим яйцекладом, Эмманюэль вспоминает — в мгновение ока — о детской божественной радости от рассматривания чудищ, расставленных на столе у нотариуса.
Он готовится вновь пошатнуть стол.
Одним легким вздохом.
Тем, что легче малейшего вдоха.
Дуновением от ресниц.
Ибо видит впервые, необычно отчетливо, что именно Варию напугало.
Насколько силен ты, когда обнажен и недвижим, взирая на ятаган вознесенный.
Ибо тот, кто оружием потрясает, признает тем самым, что он — слабее тебя, раз за помощью обращается к металлу.
Они безобидны, поскольку они вдвоем.
И ты либо пьян, либо грезишь, поскольку они двоятся в глазах.
Эмманюэль доверия преисполнен, той потрясающей веры, которую надлежит ощущать, вернее, которую ему надлежит ощущать, под ножом гильотины, невероятном в своем падении, даже когда мгновенный щелчок раздается.
Поскольку:
— Это с вами еще никогда не случалось.
— Такое случается в жизни лишь раз.
— А верно ли, что закон падения тел подтверждается также и в случае с гильотинным «барашком»[61]?
Руками окоченевшими, голый Эмманюэль распинает себя на саване постели, но все ж пускает — о, так мягко, — две черных стрелы своего взора Немого.
— Баю-бай, — шепчет он.
Вария падает.
Падая, наносит удар.
Но ханджар не повинуется той, которая под гипнозом.
Он подобен разнузданному коню.
Он не любит разить тела распростертые.
Он утыкается меж рукой и левым боком Эмманюэля — в матрац цвета пробки с витрин, где приколоты прочие скарабеи, — до крестовины эфеса.
Тогда Эмманюэль выскальзывает из кровати и, облокотившись на изголовье, взирает на конвульсии этой «булавки».
Бария, как сомнамбула, ощупывает место.
Она достает и роняет нож.
Пытаясь очистить.
Она ищет, совсем как искала крылья Любви.
Место пусто, как кресло призрака оперы.
Трон, а на нем — Никого.
Никого.
Один из таких Никого.
На простынях нотариальных, свежих, воскресших от всякой сельской лаванды из гербариев платяных шкафов, Господин Бог оставлет свой знак.
РР.С.
Загнутый угол визитки[62].
Триединство ставит печати своей Треугольник.
XI
Et verbum caro factum est[63]
В начале было Слово[170]…
…полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца[171].
Евангелие от Иоанна.
В конце концов, не говоря ни слова, они вволю пошумели…
Рабле, Пантагрюэль,Книга 3, гл. 19
Так, от спящего нотариуса Господин Бог отъял Мириам.
Они вновь переживали Волхвов и ясли до тех пор, пока он к яви ее не вернул, меж бровей приложив указательный перст, если можно сказать, что булавка сквозь бархат крыльев больших «выявляет» бабочку из ее жизни-мечты по прилагаемой этикетке.
Мириам припомнила свое подобие-в-метаморфозе:
— Я не хочу… Я хочу баю-ба… бабочка!
Пусть он руководит ею, рожающей Госпожу Жозеб.
Госпожа Жозеб — Вария, Другая, жена нотариуса, — совсем не похожа на Мириам.
Она не так молода.
Ей двадцать пять лет согласно свидетельству о рождении.
А Мириам — пятнадцать.
Но и Вария тоже не стара.
Мириам охотно рассказывает о своих приключениях, которые случились семьдесят две тысячи лет назад.
А когда женщина — так стара, то это уже не возраст.
Это — искусство.
Господин Бог, создавая Мириам, был словно скульптор, лепивший Венеру, которая явилась к нам в год Первый двадцатого века без своего изъяна — еще более верного признака старости, чем выпадение волос, — с руками.
Госпожа Жозеб — менее чем Мириам и, причем, во всем.
И самое главное — менее красива.
И это менее, предполагающее сравнение, не имеет для Эмманюэля никакого значения.
Ибо он замечает уже во второй раз, что две его возлюбленные или, точнее, любовница и жена, совсем не похожи.
Мириам — блондинка.
Вария — брюнетка.
Это отличие слишком парадоксально, чтобы им пренебрегло его богатое воображение.
Но оно — реально.
Сам Жозеб вряд ли узнал бы свою жену в Мириам.
Золото, поднесенное Царю-Богу и сверкающее на голове какой-нибудь незнакомки, обрадовало бы Жозеба куда больше, чем раздвоенная лента супружеского шафрана на его собственном лбу[66].
Господин Жозеб, вот почему та, что не ваша жена — жена Бога! — блондинка[67].
Смеженные веки, как сведенные руки, скрывают ресницы.
Пряди, что разглажены и со лба откинуты, непреклонным затылком распластаны по простыне.
Весь лик — вытянутый овал гладкого воска.
Статуя.
И если вы приподнимите эти веки, то обнаружите там не больше зениц, чем в обнаженных грудях.
Белок — молоко иль скелет — очей.
Статуи — проэпилированные даже там, где отродясь не бывало никаких волос, — векам на милость сохранили свои стеклянные глаза в оправе.
Так значит, бывшая ваша жена — блондинка.
Злато, в дар поднесенное Царю, на голове скорбящей Мирры[68].
Но вот госпожа Жозеб пробуждается.
Нос морщится, как мордочка у зверька, что фыркает от меховой щекотки.
Глаза, после подъемных усилий век, на белом лике Другой появляются разом, словно врываются негры, или — не будь они так красивы — словно пуговки, что пришиваются на ботинки машинкой специальной; они красуются, удивляются.
Ресницы иссиня-черные кустятся.
Столь обильная растительность как камнеломка на мертвой Венере — и распадается мрамор на клетки, и от былого шедевра остается лишь плоть.
Ах, как представить отчаяние Пигмалиона[69]; если бы был не дурак, мог бы статую сотворить, а сварганил заурядную самку!
Но Господин Бог избегает шаблонных решений.
Иначе он не был бы Господином Богом.
Он отдаст Адаму взятое у того ребро.
Иль, на худой конец, обломок обглоданный.
Также считает и госпожа Жозеб.
Сидящий мелкий зверек (всякая женщина, даже большая, если раздета, кажется мелким зверьком) с мордашкой растянутой из-за зажмуренных грузных век, как пару самых тяжелых дамасских слив, приподнимает пучки свои иссиня-черные и изрекает резко и сухо:
— Ах, Боже ты мой!
Ее.
Она и не думает об Эмманюэле.
Его бы она назвала Эмманюэлем или именем птицы какой.
Она говорит о Боге своем.
О личном Боге ее.
О Боге каждой госпожи Жозеб.
Как все они говорят:
— Мой песик, моя белошвейка.
И
— Мой муж.
Все же «Мой муж» из их уст изрекается с большим почтением.
Поскольку содержит — оплачивает их содержанье — и песика, и белошвейку.
Они «придают ему больше значения», подобно тому, как проказник «усложняет» хвост собачонки, кастрюлю к нему привязав.
Такой Бог не очень-то интересен.
— Что скажет служанка?
Еще одна особь, того же подвида, которую она прибавляет.
— Какая нелепость — так тратить время мое!
Эмманюэль Бог не удосуживается сообщить ей, что потрачено вовсе не время, ее личное или чье-то еще, а несколько кубометров вечности.
— Сколько времени?
Затем, вдруг, с самой свирепой злобой на свете:
— Вы только что меня усыпили!
Эмманюэль задумывается, достойна ли она услышать его рассказ или нет; должен ли он придумать зерцало, которое показало бы ей Другую, — Мириам! — или же все отрицать.
Он решается на ложь самую верную, когда дело имеют с низшим иль Относительным.
Он раскрывает пред ней Абсолют.
— С вами случился — как, не понятно, — нервный припадок.
Вы хотели ударить меня ножом — вот лезвия след, — четко виден на простыне маленький треугольник.
Мне привычно своих мертвецов вынимать, дословно, из копий писем…[70]
А раз я умею негодных детей усмирять, то и вам я сказал «баю-бай»!
— Это сделали вы?! Вы сошли с ума!
Ах, я тебя обожаю. Снова меня усыпи. Скажи «баю-бай»!
Но нет! Это все небылицы. Женщин усыпляют лишь в романах и иногда в больницах.
Доказательство!..
Чем занимались мы в тот момент, когда… эта история про удар ножом, верно, тебе пригрезилась.
— Моя дорогая, мы занимались…
— Вот видишь! Ты… все такой же и… Вы хотите уверить меня, что я проспала целых два часа?!
Она уцепилась за свое «доказательство» и уже не отпустит его, пока будет в силах хоть что-то доказывать.
Она обрела мужчину.
И это намного приятнее, чем обрести какого-то Бога.
Эмманюэль решает не отвечать.
Он забирает обратно ребро у Адама, у того, который нотариус.
ET VERBUM CARO FACTUM EST
— Et habitavit[71]?
— Вот именно.
XII
Право на ложь
Вульва Варии — ограниченность маски.
Глаза Господина Бога — брелочек к его костюму, даже когда он раздет: это его врата плоти, ведущие к Истине.
А Истина — лишь одна.
Зато мириады, точнее, неопределенное множество чисел — чисел, которые не Единица, — обозначают все то, что этой Истиной не является.
Количество лжи настоящей или возможной записывается так:
∞ — 1 = ∞
И никто этой Истиной обладать не может, ибо ею владеет Бог.
Бог Эмманюэль или же тот, Другой.
Они нарушают гармонию прекрасной вселенской Лжи, не разрушая.
Они — вульва Лжи, которая женского рода.
Вульва — вдовствующая ячейка, пока свою Истину они хранят у себя.
А поскольку в природе нет пустоты, то что-нибудь, — что по определению Истиной не является, — ячейку Истины всегда наполняет и даже переполняет.
«Место Истины» — вот название для описания жизни этой галантной Дамы.
Для всех Единиц Лжи возлюбленный носит всегда свое настоящее имя.
Но они знать не знают, что он — вовсе не та, что есть.
Только Бог (Эмманюэль и тот, Другой), знающий, где Истина, может вечно и изощренно лгать.
Они лгут наверняка, зная, что она хранится у них.
Господин Бог стал бы блудницей, если бы выдал ее — если бы выдал себя.
А когда он выдает что-то другое, то у людей есть некоторый шанс поверить, что он изрекает Истину, ибо куда вероятнее, что он скажет близкое к тому, что они полагают Истиной, чем явно противоположное его истинной Истине, которую сам же хранит.
А раз так, для него, — убежденного в том, что можно, дабы понятым быть, лишь убежденно лгать, — любая ложь безразлична.
Это один из путей, ведущих к людям.
Если он предпочитает наикратчайший.
В то же время он говорит охотно разную ложь разным людям, поскольку они — хотя в действительности безмерно от него далеки — на самом деле не далеко отклоняются от его же курса.
Он лжет вовсе не им, ибо говорит сообразно их собственному пути.
А себе.
Когда он лжет им всем вместе, то — как паук-крестовик, отползающий как можно дальше от всех точек окружности паутины, — оказывается в центре ее.
Так кто отличит Эмманюэля от Варии, той, которая лжет?
Женщины лгут как школьники.
Очень подробно.
Продуманно.
Мириам (нервный сон обманчив всегда, повинуясь защитному рефлексу слабых) лжет, сообразно воле Эмманюэля.
Она отмечает Истинное, которое он выдает экспромтом.
Она, по воле его, — абсолютная Истина.
Истина человека — в том, что человек желает: это его желание.
Истина Бога — в том, что он творит.
Когда ты не первый и не второй, — а Эмманюэль, — твоя Истина это творение твоего желания.
XIII
Кухарка Мелюзина[72] — полна объедков корзина, Пертинакс[73] латает прорехи и колет орехи[74]
«АНТРАКТ: Звезды падают с неба»
«Кесарь-Антихрист»[181]
В едином порыве, — обмен иль обман, — Бог отобрал свою кость у нотариуса, а жена нотариуса вновь похитила Мириам у Бога.
Мириам, чтобы быть, низводила Варию в небытие: белые веки Божьей Жены, словно уста, выедали черные ресницы и брови Госпожи Жозеб, выпивали ее всю, вплоть до фиолетовых волн ее шевелюры.
Теперь в результате аналогичного поглощения Госпожа Жозеб вытеснила Мириам.
На мраморном веке, белом, как гладкая сфера лампы, что защищает от ослепления, — ресницы Варии выстроились победоносной изгородью из флажков траура по живой.
Словно черные профили штыков или других каких штук военных и острых.
Колющие на расстоянии подобно лучам нечистой звезды.
И, разумеется, кончиками протыкающие — в точке пересечения — глаз.
Они грубо орудуют в очаге абсолютной любви.
Господин Бог, который все это обдумывает, должен быть абсолютно безумным.
Абсолютно. — Absolu-ment[76] — Абсолют лжет.
Это шарада.
Второе слово как раз означает то, что первое передать не в силах.
Все во вселенной определяется этим глаголом и этим прилагательным.
Господин Бог воссоздает в голове, бесперебойным усилием мозга вспять, пункт за пунктом, весь путь, что приводит к нему Варию.
И переводит — иначе нельзя, поскольку он сам проходит весь путь — на язык абсолюта.
Каштановый лес.
Тернии, языки огня, шпажники-гладиолусы.
Семь лезвий папоротниковых мечей в сердце Мириам.
Рука засушенная — с большим трудом — в тихих гербариях нотариальных — для кражи какой сия длань создана?! — сжимает пальцы.
Так, кропотливо и непреклонно округляется мокрица.
Невероятная хватка.
— Сжальтесь…
Нет, ничего страшного.
Не обращайте внимание.
Эти круглые штуки все в острых шипах…
Это всего лишь падающие звезды.
Да и то, только те, чье излучение приходится на зеленый спектр.
Последние по величине в каждом из созвездий.
И вот уже пали на Землю: Вега, Сириус, звезды Кита, Поллукс, Регулус, Процион и Лира, Капелла, Альтаир, Полярная, Кастор, Венера!
Адаптируясь к земной среде, они ежатся под каштанами.
Это суть ехидны зеленые подкаштанные.
Ежи растительные, ибо цвета недоспелых фруктов.
Каштаны — незрелые звезды.
Мириам была бледна, как незрелая звезда.
Как неживой жемчуг.
Но иголки этих мелких ежей гниют слишком быстро, чтобы признать в них ресницы маски Варии!
Маска очень искусная.
Использован метод иероглифов Ребенка-Бога.
Она закрывает всю голову.
Как у статуй — глаза без зрачков не позволяют сбегать их взгляду.
Плауны одинаковой формы с непристойной грубостью выпускают из капсул пыль-ликоподий, что умертвляет.
Буквально: где-то не здесь фармацевты крутят из него пилюли.
Мирра — потому что она умертвляет: ею бальзамируют и чествуют мертвых.
Все, что относится к славе, кроется в мерзкой жильной породе.
Грибы-дождевики.
Вонючи…
Чистота[77].
Горностай!
Геральдическая Чистота своей сияющей мордочкой очищает, словно меж прутьев решетки, роясь в грязи, меж иголок ежа, зверя зловонного, и сосет.
Простодушие воскресает.
Савойский пирог формы звериной, глазурованный шоколадом темным и нашпигованный светом.
Миндалинами, как иголками, утыкан его шар.
Миндалины.
Басня Флориана:
— У орехов прекрасный вкус, но их надо еще расколоть.
…Немного труда…[78]
Господин Бог один раз потрудился.
Он боролся с дрессировщиком волчьим — господином Ракиром! — и зажал большой курносый башмак в тисках нотариальной двери.
Лущить башмак не стал он, ибо ребенком был, да и боялся увидеть, что там внутри.
Кость, вне сомнения, Господина Ракира, обглоданная волками, предплюсна хрустящая в древесине звенящей миниатюрного гроба.
— Ля[79], — говорит камертон.
Нож Госпожи Венель дрожит.
Миндалины.
А вообще-то, он любит миндаль?
— Она любит меня?
— Они только что занимались любовью на кухне… Я — то, что вам угодно.
Обретенная мирра пахнет гарью.
Темно-красный рубин — геральдический змей — растаял на раковине.
Кухарка Мелюзина — полна объедков корзина… Пертинакс тоже повязывает фартук.
Блистательной мощью ножа, наскоро, он разделил ежа аж до сердца, где миндальный источник — чистосердечные сливки.
Мелюзина, сирена с хвостом змеиным, с крыльями жаворонка, как ребенок, что слушает сказки, засыпает под резкие звуки вещи блестящей дрожащей.
XIV
Любовная западня
— Баю-бай, дитя, слушай сказки.
Разве не красавица твоя Шехерезада?
— Я слушаю.
Красота.
Сестра моя, если вы не спите…
— Тебе хорошо?
— Мне хорошо.
Она замерла у стены, склонившись под углом в сорок пять градусов, каталептически.
— Пятое путешествие Синдбада-морехода.
Слушай внимательно и ни о чем не думай.
Жозеба здесь нет.
Жозеб путешествует.
Жозеб — Синдбад.
— Синдбад. Да.
— А ты — Морской Старик[80].
Твое тело юно, как и мое, но сама ты очень стара.
Я старше тебя всего лишь на семьсот четырнадцать тысяч лет.
Ты высматриваешь путников одиноких на берегу реки.
— Я вижу Синдбада.
Синдбад придет этим вечером.
— Ты понял еще до того, как я изрек свою волю.
Ты знаками просишь его перенести тебя на другой берег реки, чтобы набрать там фруктов.
— О, персики златотелые и виноградные кисти — словно хвост сахарного павлина!
У меня аж слюнки текут.
Позвольте мне вытереть рот.
— Не спеши.
Можно в любое время на фрукты смотреть.
Ты прекрасно знаешь, сколько времени в твоей голове; ты, как и я, также стара, как Хронос[81].
В одиннадцать вечера тебе уже полагается спать, если ты хочешь дождаться Синдбада.
Ты сожмешь ногами шею его, а кожа твоя (мы не должны забывать, что ты ведь — Морской Старик!) подобна коровьей шкуре.
Покрепче сдави его шею ногами, когда он пойдет через реку.
Когда Кристоф переносил меня на другой берег вброд — я действительно нес на себе целый мир и поплыть бы не смог, будучи слишком тяжелым, — то опирался на высокое дерево.
Но Кристоф был гигантом, юным крепким гигантом, а Синдбад — старым сплетником седобородым.
Покрепче ногами сдави шею Синдбада, когда он войдет в поток.
Осторожно!
Синдбад прошел через воды реки, но он весь в вине, раздавил виноград в калебасе, розовый сладкий нектар с его седой бороды, что щекотчет…
(Уже не щекочет, перестань же смеяться!)
…запятнал тебя от пояса до колен.
— Мне страшно!
У меня голова кружится!
Держите меня, я сейчас упаду!
— Сейчас пьяный Синдбад с плеч своих тебя снимет, борец не лежит уже на обеих лопатках, и ловкий индикоплевст[82] захочет камнем разбить, как краба, главу Старика Морского!
— Мне страшно!
Мне больно!
— Да будут тиски твоих ног смертельным жгутом[83] для сонной артерии льстеца бородатого.
Воробьев же ты видел в ловушке.
Так склонится Синдбад.
— Господин, да будет воля твоя.
Жозеб и Вария — в постели.
Заря поднимается в светлой склянке (самый бледный свет — в пустом хрустале), нотариус — длинная борода в «мехах похмелья» — от конторы идет, ковыляя, к более темной склянке, своей жене.
Он некрасив на вид, но Вария не видит его.
Она заснула по указанию стенных часов.
Жозеб верит, будто ее глаза сомкнулись, судорожно, от его поцелуев.
Что, кажется, подтверждают и контрактура конечностей, что обнимают шею его, стискивая неумолимо.
Старый Синдбад качается: больше похожий на висельника, чем на пьяницу.
Каталептический жгут (нам известны аномалии в развитии Гребешковой мышцы и трех приводящих мышц в женских ляжках, а также мы знаем, что женщины от мужчин отличны кроме того еще и поясничной мышцей, которая есть лишь у одного из восемнадцати самцов) более неминуемый и роковой, чем его железная парадигма.
Но в повешении — Омоложение старика.
Единым усилием трицепсов маленький человечек отбрасывает свой недоуздок из плоти с костями, а затем — обвивает руками покорную талию, и дыханием из ноздрей, поскольку прижаты уста к устам, — ее будит.
Даже Медея[84] была бы рада, если б таких результатов добилась в омоложении дальнего родича.
И так, через неприкрытую дверь, Эмманюэль Бог взирал — под луной, улетевшей, чтоб диском осесть на потолке, из стеклянного сарбакана[85] лампы — на свое творение предусмотренное.
Адам, прикрытый «мехами похмелья» — маской блевотины — да, Адам XX века — прилепить к его телу ту половину, что отъял Другой Бог…
В начале[86].
Орган независимый по всем законам пространства вот уже несколько тысяч лет, ЯИЧНИК, ранее был растворен в Человеке универсальном, едином.
НОТАРИУС.
Эмманюэль Бог безмятежно вознесся, после сего допущения[87], на небеса голубой мансарды своей.
XV
Божья Жена
Taenia solum[194]
И Дух Божий носился над водою[89]…
У окна мансарды.
Всю ночь соловьиная трель, вступившая после визга пилы нотариальной, в ланпольских платанах, посаженных в шахматном порядке, доносилась раскатисто словно тачка, что требует масла для смазки.
Эмманюэль Бог никаких угрызений не слышал — лишь этот несносный скрип.
Он с удовольствием в нем признал приближение Правосудия колченогого.
Но не пристало же Богу (Эмманюэлю) правосудную тачку одаривать каплями масла.
Другой Бог проронил на нее слезу, желтую и сладкую, полную солнца.
Это был день посвящения.
Эмманюэль Бог знал превосходно, что умерщвлением Варии (умерщвлением более реальным, чем по законам плоти исключение из вселенной, чем изгнание за грань Абсолюта — любым тесаком, орудием огненным Ангела, что запирает Рай…) он не убил Мириам!
НАПРОТИВ.
Истинная Мириам пребывала вне Варии.
Из окна, открытого в желтую тишину, над платанами и амфитеатром домов ланпольских, он созерцал, на холме, что превыше всего, Статую Итрон-Вария[90].
Ступни Девы — под платьем.
Не видно, попирает ли Дева дракона.
Под подошвами у нее — три ступени и целый пьедестал гранитной твердыни.
Тропинки стелятся, извиваются вкруг холма, и спускаются пить у ручья мукомолен.
Эмманюэль Бог не стал смотреть, где они прерываются, ибо застыл перед их головой.
Он заключил — довольно правдоподобно, — что она раздавлена под пьедесталом.
Ибо тропа нигде не отгибалась, как завитой уголок пергамента, от земли.
Земля была выткана змеями.
Крестный ход в этот час, как всегда в воскресенье, растекался — зыбью тщательно сделанных образков корабельных — то по тропинкам, то изливаясь на бархат полей и зябко кутаясь в складки.
Огромный морской змей Левиафан[91] также явился главу треугольную возложить под хрупкую пятку Мириам, — с легкостью приподнявшей свой гранитный ботинок.
И когда песни сирен теряются на ветру, — под которым дрожат вздыбившиеся по курсу суденышки в том же ритме, что и спинной плавник у чудовища, — сбегаются дети с этим ветром играть.
Их воздушный змей вздымает свой крест, белее и выше, чем крестных ходов кресты (как крестики на покровах алтарных у Гроба. Господня), насаженный на рукоятку хвоста, как жаворонок в полете.
Мелюзина…
С внезапным дождем, как часто бывает в Ланполе — заплакать, как видно, Богу Другому пришлось, поскольку Эмманюэлю самому не хотелось, — ветер стих.
Огромный Питон зари нырнул в облака и вислоухую голову скрыл, как и прочие гадюки, что переплелись меж собой, дабы заснуть в своем змеином логове.
Эмманюэль снизошел и, на ковре из рептилий, стал молиться рядом с воздушным змеем, слегка исказив — учитывая обстоятельства — заключение своей Ave…
— … Молись за нас…
Ныне — в час нашей смерти[92].
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.