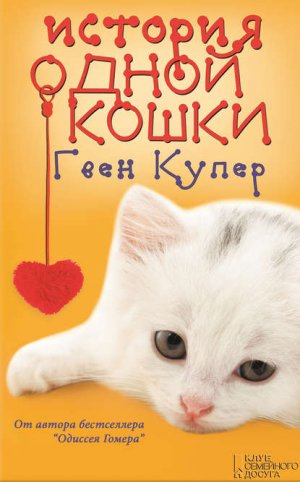
Dear Prudence won’t you come out to play Dear Prudence greet the brand new day The sun is up the sky is blue It’s beautiful and so are you Dear Prudence won’t you come out to play
The Beatlеs. Dear Prudence
Книга, которую вы держите в руках, — своего рода роман-мюзикл. Перелистывая страницы, вы будете слышать голоса, а не только мурлыканье, как, должно быть, опасаются знатоки литературы или предвкушают любители кошек, разглядывая обложку. Приготовьтесь наслаждаться вокальными партиями бессмертного Джона Леннона, Мика Джаггера, Майка Лава, а также Сары, Джоша… За Лауру нельзя поручиться, но кто знает, может, Пруденс заставит беззаботно напевать даже молодую женщину-адвоката, лелеющую честолюбивую мечту стать партнером в фирме, где работает…
Но начнем с начала, какой бы минорной ни показалась нам заданная Гвен Купер тональность: Пруденс одна дома — Сара, ее хозяйка, не появлялась несколько дней. Никто не станет сообщать кошке, что ее «сожительницы» больше нет в живых. Не скажем и мы: пусть ждет, пусть надеется — возможно, так ей будет легче привыкнуть к своей новой обители с незнакомыми запахами и малознакомыми людьми.
Осиротевшую кошку забирает к себе осиротевшая дочь. Но смогут ли Лаура и ее муж Джош заботиться о Пруденс так, как Сара? Ведь они посвящают себя друг другу и даже в большей степени работе, пока в один черный для рынка труда день… талантливый парень не теряет рабочее место… Тут уже не до мелодий старых пластинок в самом лучшем, винтажном, смысле этого слова, не так ли? Или самое время завести граммофон и поставить что-нибудь из коллекции Сары? Но что мы слышим взамен? Бесконечные телефонные переговоры в пользу бедных — это Джош, он не поет и не дурачится, а серьезен и мрачен как никогда: «Возможно, я стану рассматривать предложения с меньшей зарплатой…»
Но прогноз «охотника за головами» неутешителен: стоит всерьез подумать над тем, чтобы применить свой опыт и умения в другой области. В определенный момент вынужденный домосед Джош примелькался даже Пруденс. Впрочем, кажется, путь к сердцу мохнатой дамы не так уж тернист: отчасти через желудок, отчасти…
«И тут Джош совершает невероятное. Он начинает петь для меня, совсем как Сара.
— Пру-денс, Пру-денс, ответь мне, ответь же мне. — Я смотрю на него в растерянности. Тогда он встает и начинает кружиться по кухне, по кругу, по кругу, дрыгая ногами и размахивая руками. Он танцует! Он совершает смешной танец по кухне, размахивая кусочком рыбы, зажатым между большим и указательным пальцами левой руки. Я повторяю его движения, стараясь оставаться поближе к рыбке и подальше от его ног. Даже мои усы с трудом помогают мне сохранять равновесие, когда он поет — на этот раз еще громче. — Я почти сошел с ума, и все из-за любви к тебе. — Теперь он становится на одно колено, вторую ногу сгибает, и рыбка свешивается через согнутую ногу. — Свадьба не будет модной, я не могу нанять машину. Но ты будешь отлично выглядеть и на сиденье велосипеда, рассчитанного на двоих!»
А вот возвращать себе расположение Лауры, заказывая те цветы, которые она трепетно прижимала к груди в самый счастливый день их жизни, — epic fail, как принято говорить в кругах, где он привык вращаться. И вы, дорогие читатели, если хотите, чтобы у вашей cat/love story был happy end, никогда не дарите даме с кошкой лилии…
Сюжет романа «История одной кошки» — художественный вымысел. Имена, персонажи, места и события являются плодом авторского воображения. Любые совпадения с именами реальных людей, событиями или местами совершенно случайны.
Скарлетт, прототипу Пруденс
Гомеру, вдохновителю
Вашти, который слаще, чем мед
И Лоуренсу — всегда с любовью
Как и все чистые творения, кошки чрезвычайно практичны.
Уильям С. Берроуз
Часть первая
Глава 1
Пруденс
Люди умеют говорить неправду по-разному. Раньше я это плохо понимала, особенно когда не видела явных признаков лжи. Например, когда Сара называла мои белые лапки «носочками».
— Только посмотри на свои очаровательные носочки! — восклицала она.
Носки — это то, что люди носят на ногах, чтобы те больше походили на кошачью лапку. Но мои лапки и так мягкие и пухлые, и мне трудно представить, что уважающая себя кошка будет терпеть на своих лапах такую глупость, как носки.
Поэтому вначале я думала, что Сара пытается меня перехитрить, заявляя то, что не соответствует истине. Совсем как в тот день, когда она отвезла меня в Ужасное место и сказала:
— Не бойся, ты станешь здоровой и сильной.
По ее напряженному голосу, когда она усаживала меня в переноску, я поняла, что тут скрывается какой-то подвох. И оказалась права. В меня тыкали чем-то острым, заставляли не двигаться, пока человеческие пальцы щупали все части моего тела, даже рот.
Когда пытка закончилась, дама, которая этим занималась, усадила меня назад в переноску и сказала Саре:
— У Пруденс такие прелестные беленькие носочки! — Она улыбалась и была спокойна, когда произносила эти слова, поэтому я видела, что она не пытается обмануть Сару, как та пыталась провести меня по дороге сюда. Я подумала: возможно, мне стоит облизать свои лапки или сделать что-нибудь подобное, чтобы показать им — это мои настоящие лапы, а не те фальшивые, которые натягивают на себя люди, когда идут на улицу. Я решила, что человеки, вероятно, не так умны, как кошки, и не поймут такой тонкой разницы, пока им на нее не указать.
Этот случай произошел, когда я была еще очень юной, если честно, совсем котенком, — тогда я только начала жить с Сарой. Теперь я знаю, что люди иногда лучше понимают истинное положение вещей, если сталкиваются с ним вплотную. Например, случается, что лучший способ поймать мышь, находящуюся прямо перед твоим носом, — немного попятиться перед прыжком.
Потом, уже дома, глядя на свое отражение в зеркале (как только я поняла, что это мое собственное отражение, а не другая кошка, которая пытается захватить дом), я заметила, что нижняя часть моих лапок на самом деле немного напоминает носочки, которые иногда носит Сара.
И тем не менее сказать, что это и есть «носочки», вместо того чтобы заметить, что они просто «похожи на носочки» — чистейшей воды ложь.
Ко второму способу лжи люди прибегают, когда откровенно пытаются надуть друг друга. Например, когда приезжает Лаура и говорит:
— Прости, что так долго не заглядывала, мам, я честно хотела заехать пораньше… — Совершенно очевидно — по тому, как розовеет ее лицо, напрягаются плечи, — на самом деле она думает, что лучше бы вообще никогда сюда не приезжала. А Сара отвечает:
— Да, конечно, я понимаю. — Хотя по тому, как повысился ее голос и изогнулись брови, сразу видно, что она ничего не понимает.
Раньше я задавалась вопросом, где остальные детеныши из Лауриного помета и почему они никогда к нам не наведываются. Но мне кажется, в помете Лаура была одна. Вероятно, у людей детенышей меньше, чем у кошек, или с остальными детенышами что-то случилось. Так или иначе, а у меня самой когда-то были братья и сестры.
Но это было давным-давно. До того, как я нашла Сару.
Ужасное место находится совсем рядом, можно пешком дойти от того места, где мы живем, — оно называется Нижний Ист-Сайд. На самом деле шла одна Сара, потому что я сидела в переноске. И тем не менее шла она недолго, а кошки бегают быстрее людей. Это факт! Дама в Ужасном месте сказала Саре, что я многопалая коричневая кошка. Сара поинтересовалась, значит ли это, что я некий летающий динозавр? Дама засмеялась и ответила: «Нет, это лишь означает, что у нее лишние подушечки на лапках». Однако я не знаю, какие из своих подушечек считать «лишними», потому что совершенно уверена, что они необходимы мне все. И сказать, что я коричневая — не совсем правильно, потому что частично я белая: например, у меня белая грудка, и подбородок, и нижние части лапок. К тому же у меня зеленые глаза. И даже коричневые мои части кое-где имеют более темные полосы, которые кажутся почти черными. Но я уже заметила, что люди менее щепетильны, чем кошки. Трудно поверить, что они спокойно спят по ночам.
Дама, которая ощупывала меня, еще заявила, что я слишком худая. А чего можно было ожидать, если я жила на улице? Она добавила, что я быстро поправлюсь. С тех пор я стала намного выше и длиннее, но все равно остаюсь довольно тощей. Сара говорит, что мне повезло: я без лишних хлопот сохраняю изящество. Но на самом деле я худая потому, что никогда не доедаю ту еду, что кладет мне Сара. Она кормит меня каждый день, но делает это в разное время. Иногда Сара дает мне еду прямо с утра, иногда уже ближе к обеду. Бывало даже, что она забывала меня покормить, пока на улице не темнело. Именно поэтому я всегда оставляю еду про запас, на тот случай, если однажды Сара вообще забудет меня покормить.
И как оказывается, волновалась я не зря. Однажды Сара не вернулась домой, чтобы покормить меня, — она вообще не была дома целых пять дней. Первые два мне пришлось довольствоваться тем, что осталось в моей миске. Я даже запрыгнула на стол, где стоит пакет с моим сухим кормом, и с помощью зубов и когтей проделала в нем небольшую дырочку, чтобы достать себе еду. (Обычно я так никогда не поступаю, потому что это неприлично. Но, оказывается, есть вещи поважнее приличий).
Наконец на третий день пришла какая-то женщина (я узнала в ней одну из наших соседок) и открыла для меня консервы.
— Пруденс! — позвала она. — Иди покушай, бедная кошечка, наверное, ты так проголодалась…
Я ждала под диваном, пока она уйдет, но вылезла, услышав звук открываемой банки. Женщина попыталась погладить меня по голове, поэтому мне пришлось вновь забираться под диван. У меня какое-то время мелко-мелко подергивались мышцы на спине, пока я не успокоилась. Не люблю, когда ко мне прикасаются незнакомые люди. Поэтому я дождалась, когда она уйдет, а потом уже вышла поесть, несмотря на то что два дня практически умирала с голоду.
С тех пор женщина приходит кормить меня каждый день, хотя я и продолжаю прятаться под диваном, пока она не исчезнет. Может быть, она пытается заманить меня с помощью еды? Может быть, она уже заманила куда-то Сару? Именно поэтому Сара так долго не возвращается домой?
Чтобы скоротать время в ожидании возвращения Сары, я сижу на подоконнике — того окна, что выходит на пожарную лестницу, на которую, как предупреждала Сара, я никогда — ни в коем случае — не должна вылезать. Я наблюдаю за тем, что происходит на улице. Отсюда мне прекрасно виден вход в наш дом, а это значит, что, как только Сара вернется, я обязательно ее увижу.
Чтобы взобраться на подоконник, я с пола прыгаю на кофейный столик, оттуда — на диван. Затем со спинки дивана шагаю прямо на подоконник. Я, конечно же, могла бы запрыгнуть на него и непосредственно с пола (я могу прыгать даже выше, если есть нужда), но, выполняя определенный порядок действий, я удостоверяюсь, что все путем, именно так, как было в прошлый раз. Если не меняются мелочи, следовательно, неизменны и более важные и значительные вещи в жизни. Если я буду продолжать поступать так, как поступала всегда, Сара обязательно вернется домой, как всегда возвращалась. Вероятно, несколько дней назад я совершила какую-то ошибку — что-то сделала не в том порядке, — поэтому она и ушла.
Мы с Сарой живем вместе уже три года, один месяц и шестнадцать дней. Я бы посчитала, сколько это часов и секунд, но у кошек нет понятия «час» и «секунда». Мы знаем, что часы и секунды придумали себе люди. У кошек есть внутреннее чутье, которое подсказывает, когда и для чего настало время. Люди же зачастую не знают, что и когда им делать, поэтому им нужны такие приборы, как часы и таймеры, чтобы ориентироваться. Дважды в год Сара переводит все часы в квартире либо на час вперед, либо на час назад, и это лишний раз доказывает, что часы — вещь надуманная. Нельзя однажды перевести весь мир на день назад или на целый год вперед и надеяться, что он послушается.
Вероятно, вы полагаете, что мы с Сарой — семья, потому что живем вместе? Но не всех, кто живет вместе, можно назвать семьей. Иногда это соседи по квартире. А разница заключается в том, что в семье все делают вместе, причем каждый день в одно и то же время. В одно и то же время завтракают по утрам. Потом вместе ужинают, и это опять происходит в определенное время. Отвозят друг друга на работу или в школу, потом забирают из этих же мест через несколько часов, и это тоже является частью «семейного графика». Я узнала об этом из телевизионной программы, которую мы смотрим вместе с Сарой. Даже телевизионные программы о семье начинаются всегда в одно и то же время.
(Раньше я думала, что действия на экране телевизора на самом деле происходят в нашей квартире. Однажды я даже пыталась поймать мышку на экране. Я прыгала на него, царапая стекло, и не понимала, почему не могу поймать мышь. А Сара засмеялась и объяснила, что телевизор — как окно, только показывает он то, что происходит далеко-далеко).
Соседи же, обитáя под одной крышей, чаще всего живут каждый своей жизнью. Все случается, когда случается, нет определенного графика. К тому же семьи живут в домах, где есть первый и второй этаж. Сожители живут в квартирах. Мы с Сарой живем в квартире, и наши расписания не совпадают. Сара списывает все на то, что на работе у нее нет нормированного графика. Она печатает документы для большой конторы в месте, которое называется Мидтаун, причем печатает настолько хорошо, что иногда нужна с самого утра, а иногда под вечер. Случается, ей платят много денег, чтобы она печатала всю ночь, и тогда Сара возвращается домой лишь на рассвете, когда большинство людей только начинают работать.
Деньги Сара использует, чтобы покупать мне еду и платить за квартиру. Она постоянно повторяет: «Куй железо, пока горячо, даже если не очень хочется». Я понимаю, что она хочет сказать, потому что иногда и кошка вынуждена ловить себе еду, если та пробегает под носом, несмотря на то что в этот момент сама кошка сладко дремлет. Кто знает, когда еще еда пробежит рядом? Именно поэтому умные кошки бóльшую часть времени дремлют — чтобы запастись энергией, когда она внезапно понадобится.
Но даже в те дни, когда Сара не работает, она не придерживается ничего хотя бы отдаленно напоминающего расписание. Иногда мне приходится мяукать как можно печальнее и бить ее лапкой по ноге, чтобы напомнить, что пришло время меня кормить. Мне грустно, когда приходится так поступать, потому что по ее лицу я вижу, как она расстраивается, если забывает позаботиться обо мне. Но обычно она посмеивается, как поступают люди, когда пытаются превратить что-то грустное в смешное, и уверяет, что, вероятно, причина ее забывчивости кроется в художественном темпераменте, хотя она уже сто лет не занималась творчеством.
Я не уверена, что понимаю значение слова «темперамент». Может быть, его (темперамент) создает художник. Или художник пользуется им, чтобы создать что-то еще. Однако, что бы это слово ни значило, ничего подобного я у нас дома не видела.
Вы можете подумать, что я жалуюсь на жизнь с Сарой, но это неправда. Жить с ней на самом деле здорово! Она всегда готова поделиться со мной своей едой. Когда Сара садится есть, то обычно кладет немного своей еды на тарелочку, стоящую рядом с ее тарелкой, и я сажусь за стол и ем вместе с ней. Но иногда Сара ест обычную траву. А есть еще такая еда, называется «домашнее печенье», которую Сара особенно любит, хотя в ней нет ни мяса, ни травы. Сара смеется, когда я дергаю носиком от отвращения, и уверяет, что я не понимаю, от чего отказываюсь. По-моему, это Сара не знает, что нужно, а что нельзя есть.
В нашей квартире две комнаты. Там, где находится кухня, стоит еще диван, телевизор и кофейный столик. Именно сюда пускаются посторонние, когда приходят к нам в гости, хотя к нам редко кто заглядывает, за исключением Лауры и временами лучшей подруги Сары, Анис. Последняя приезжает два-три раза в год, потому что ее работа заключается в разъездах по месту, которое называется Азия. Лаура не приходит, если знает, что в гостях будет Анис, но мы с Сарой всегда радуемся приезду Анис, потому что, когда та улыбается, она улыбается всем лицом и никогда не обманывает, даже в мелочах. К тому же, как говорит Сара, Анис из тех людей, которые понимают кошек. (Разумеется, насколько вообще человек способен на это). Когда я только начала жить с Сарой, она принесла домой «самоочищающийся» лоток, который издавал пугающий звук «в-р-р-р-р-р-р», когда я пыталась им воспользоваться. (По-моему, лоток намеревался оставаться чистым, не подпуская меня к себе). Он так меня напугал, что я стала облегчаться на коврик в гостиной, только бы не пользоваться лотком. Сара очень расстраивалась из-за этого, хотя виновата была она сама. Так продолжалось несколько недель, пока наконец не приехала Анис. Она сморщила носик от вони, которую источал коврик. Впрочем, к тому времени эта вонь распространилась по всей квартире.
— Фу, — скривилась она, — неужели у Пруденс нет лотка? — Потом увидела «самоочищающегося» монстра, купленного Сарой, и продолжила: — Сара, эта штуковина заставляет ее писаться от страха. — (Если честно, от страха я как раз не могу писать и держусь до последнего).
Анис тут же увела Сару в магазин, чтобы купить мне обычный лоток, и проблема была решена.
Во второй комнате стоят наша кровать, комод с зеркалом, где Сара хранит свои вещи, и — мое любимое место — наш шкаф. В обеих комнатах много предметов, с которыми я могу весело играть, например старые журналы, похожие на пожухлые листья, на которых я лежала, когда жила на улице, и афиши в рамках, висящие на стенах. Я могу подпрыгивать и бить их лапами, пока они не съезжают набок. Повсюду стоят обувные коробки, наполненные небольшими бумажными игрушками, которые Сара называет «этикетками от спичечных коробков» и уверяет, что у нее есть этикетки из всех нью-йоркских клубов, баров и ресторанов, в которых она побывала, с тех пор как переехала сюда тридцать четыре года назад. Хотя у Сары много вещей, она педантично следит за тем, чтобы все было сложено аккуратно и убрано подальше, чтобы мне было где побегать. Да, Сару в неряшливости обвинить нельзя.
В глубине нашего шкафа висит много одежды, которую она больше не носит, — эти вещи носились давным-давно, когда Сара, как она говорит, «выходила в свет». Некоторые отделаны перьями, поэтому я поначалу думала, что это птицы, и пыталась ухватить их лапами. Это был единственный раз, когда Сара по-настоящему на меня разозлилась. Но если люди не хотят, чтобы кошки охотились за их одеждой, не стоит иметь одежду, похожую на птиц.
Мне понадобилось некоторое время, но я в конце концов добилась того, чтобы во всей квартире воцарился уютный кошачий запах. Этот запах нос человека унюхать не способен, но если сюда явится другая кошка и попытается здесь поселиться, она поймет, что место уже занято. В недрах шкафа этот запах кажется особенно домашним и уютным. Сара положила туда несколько старых своих вещей, чтобы я спала на них. Это место больше всего похоже на мою личную «берлогу».
Но что самое важное — вся наша квартира наполнена музыкой. Она живет вокруг нас, на плоских черных дисках, которые Сара хранит в плотных картонных обложках. На всех обложках есть картинки или рисунки, некоторые похожи на афиши, висящие у нас на стенах. Однако на той стене, где живет музыка, афиш нет. Потому что там нет ничего, кроме музыки, от пола до потолка. Сара запрещает мне прикасаться к ней даже кончиком лапы, и это означает, что стена принадлежит исключительно ей, а не нам обеим. Тем не менее мне разрешено вместе с ней слушать музыку. Черные диски мало напоминают предметы, которые на что-то способны, но Сара кладет их на специальный серебряный столик, где могут одновременно уместиться два из них. Потом она нажимает на какие-то кнопки, что-то перемещает, и диски поют свою музыку. Бывает, мы слушаем всего пару песен, но иногда Сара заставляет черные диски петь целый день. Временами, хотя не слишком часто, Сара им подпевает. Это мое самое любимое время.
Благодаря музыке я вообще «приняла» Сару. Это случилось, когда я была еще крошкой и жила на улице со своими братьями и сестрами. Однажды мы убегали от крыс — самых омерзительных созданий на земле. У них страшные длинные зубы и когти, от них воняет, и если они не охотятся за тобой, чтобы укусить, то стремятся отобрать у тебя те крохи пищи, что тебе удалось найти. Потом пошел дождь — настоящий ливень с ужасным громом. Я была уверена, что он погребет под водой всех, кто не сможет найти себе укрытие. Убегая от крыс и потом пытаясь спрятаться от дождя, я отстала от своих братьев и сестер. В итоге я юркнула под рухнувшую когда-то бетонную плиту возле большого здания. Я так испугалась оттого, что впервые в жизни оказалась одна! И жалобно замяукала в надежде, что меня услышат и прибегут за мной братья и сестры.
Вместо этого меня нашла Сара. Разумеется, тогда я еще не знала, что это Сара. Знала всего лишь, что она высокий человек с каштановыми волосами до плеч. Она казалась старше, чем многие люди, живущие в Нижнем Ист-Сайде, но не слишком старой.
Обычно я умею оставаться незаметной, если не хочу, чтобы меня нашли люди. Многие прошли бы мимо места, где я пряталась, и не заметили бы меня. По-моему, Сара тоже не заметила бы меня, если бы не остановилась прямо перед домом и не разглядывала долго и пристально мое убежище. Она смотрела туда так долго, что тучи рассеялись и выглянуло солнце. И тут она заметила мое укрытие.
Я думала, что она просто уйдет и оставит меня одну. Но она подошла ближе и, присев на корточки, протянула мне руку. Однако люди никогда ко мне не прикасались, и я никому из них не доверяла. К тому же я не понимала, что она говорит, потому что в те дни плохо разбирала человеческую речь. Я стала пятиться, пока не упала в лужу, вздрогнув от холодной дождевой воды.
И тут Сара запела. Тогда я впервые услышала музыку — до того момента почти все, что мне доводилось слышать, было противным и пугающим: гул машин, звон и грохот на тротуарах, крики людей, когда они откуда-нибудь прогоняли нас с братьями и сестрами.
Музыка Сары являла собой самые прекрасные звуки на свете. Кое-что прекрасное я видела и раньше, например, тарелки с вкуснейшей едой, которую люди ели на открытых террасах, когда было тепло. Или трава в тени деревьев в парках, куда ходили гулять люди, — это означало, что мне с моими сестрами и братьями оставалось только прятаться и с завистью наблюдать за ними, думая о том, как приятно находиться в тенистой прохладе.
Но когда Сара запела, я поняла, что впервые что-то красивое предназначается именно мне. Музыка Сары была моей красотой, никто меня от нее не прогонит, никто у меня ее не заберет.
Я не понимала смысла песни, но в ней было два слова, которые она постоянно повторяла: «Милая Пруденс». Она пела: «Милая Пруденс», обращаясь именно ко мне, как будто это было мое имя. И оказалось, что меня действительно зовут Пруденс. Просто раньше я этого не знала.
Но Сара знала это с самого начала. Так я поняла, что могу ей доверять, несмотря на то что она человек. Тогда я решила принять Сару, потому что стало очевидно, что мы предназначены друг для друга.
Мыши в нашей квартире — гости редкие, но когда какая-нибудь из них все же появляется, я ловлю ее и дарю Саре, чтобы показать ей, насколько благодарна за все, что она делает для меня. Я усиленно училась ловить мышей, даже когда их не было. Тренировалась на рулонах туалетной бумаги или на смятых клочках газеты, прыгая на них и оттачивая охотничьи навыки, чтобы, когда появится мышь, быть во всеоружии. Я надеялась, что если сильно постараюсь, то однажды мы с Сарой сможем стать настоящей семьей, а не просто соседями по квартире.
Размышляя об этом, я со своего места на подоконнике замечаю на противоположной стороне улицы Лауру. Она выходит из машины с мужчиной, которого я не узнаю. Лаура с мужчиной несут несколько больших пустых коробок.
Я не могу сказать вам, как я обо всем догадалась. Вероятно, дело в том, что Лаура редко приходит сюда, когда Сара дома. У меня все сжалось внутри, и чувство это распространилось на спину, отчего шерсть стала дыбом, выше, чем обычно. Усы прижались к щекам, и темные зрачки моих глаз, должно быть, расширились, потому что неожиданно я стала видеть все необычайно четко и ясно.
Еще до того, как Лаура подошла к входной двери нашего дома, каждая клеточка моего тела уже знала, что произошло что-то ужасное.
Глава 2
Пруденс
Лаура и незнакомец приносят с собой запах улицы. Сами они пахнут одинаково. Не абсолютно одинаково, потому что мужские особи пахнут по-другому, но все же по запаху можно сказать, что они живут вместе.
Если бы Лаура пришла одна, я бы встретила ее у двери и громко потребовала объяснений. Несмотря на то что люди понимают кошачий язык не так хорошо, как я понимаю язык людей, твердое и призывное мяуканье обычно не остается без ответа. Например, если Сара забывает меня покормить, я стою у кухонного стола и многозначительно мяукаю. Обычно Сара в ответ либо дает мне угощение, либо объясняет, почему его нет, восклицая что-то типа: «О нет! У нас закончилась вкуснятинка! Сейчас сбегаю на ту сторону улицы и чего-нибудь куплю». Сара уверяет, что так я ее «дрессирую». Дрессировка — это то, к чему людям приходится прибегать, имея дело с собаками, потому что собака не знает ни как сидеть, ни как лежать, пока ее не научит этому человек. (Люди, которые держат собак, должны быть очень терпеливыми и чрезвычайно добрыми, чтобы взвалить на себя заботу о таких глупых созданиях). Я о Саре совершенно так не думаю. Я нисколько ее не «дрессирую», мне только иногда приходится мягко напоминать ей кое о чем.
Но Лаура пришла сюда с мужчиной, которого я не знаю, поэтому я решаю подождать под диваном, пока не пойму, грозит ли мне опасность. Люди могут быть непредсказуемыми. Иногда они хватают меня и гладят против шерсти, и даже (это так унизительно) пытаются взять меня на руки! Поэтому единственное, что мне остается, — ждать, наблюдая, как Лаура подпирает ногой входную дверь, чтобы этот незнакомец первым вошел в квартиру, потом закрывает ее и трижды поворачивает ключ.
Давным-давно Сара подарила мне красный ошейник с маленькой биркой, на которой, как она говорит, написано: «Пруденс». Иногда, если я двигаюсь слишком быстро, эта бирочка звенит. Поэтому сейчас я очень медленно подбираюсь к краю дивана, откуда мне лучше видно незнакомца с Лаурой.
Он выше ее, со светло-каштановыми волосами и синими глазами, и еще он худее, чем большинство людей. Однако лучше всего мне видны его ступни и лодыжки. На ногах у него обувь, которая называется «кроссовки» (потому что они помогают людям бежать кросс?), и, по всей видимости, они очень старые, потому что покрыты черными пятнами и засохшей грязью, а еще в них есть маленькая дырочка под большим пальцем левой ноги, которую он пока еще не заметил. В последнее время рядом с ним не было кошек, потому что на брюках его нет ни одной шерстинки и от лодыжек кошкой не пахнет — именно о лодыжку потерлась бы головой кошка, чтобы пометить человека своим запахом. Один шнурок на кроссовке развязался. Наблюдая, как шнурок манит меня, когда мужчина двигается, я едва преодолеваю соблазн броситься на него. Но заставляю себя сидеть неподвижно, прижимаясь к полу так низко, что шерсть на животе касается пола и неприятно щекочет кожу.
Лаура тоже в кроссовках, только ее пара чисто белая и, кажется, намного новее. По небольшим выступам на верхней части кроссовок я вижу, что она подогнула пальцы ног, а это означает, что Лаура напряжена. Даже еще больше, чем обычно, когда к нам приходит. И пахнет от нее напряжением. Мужчина со светло-каштановыми волосами, должно быть, почувствовал это, потому что поставил свои коробки и положил руки ей на плечи. Сара всегда гладит меня по спине, когда я чем-то расстроена, например когда мне удается загнать в угол муху, но та выскальзывает из моих лап, или когда неожиданно гудит машина на улице и пугает меня. Лаура, кажется, расслабляется от прикосновения мужчины. Тот мягко спрашивает:
— С тобой все хорошо?
Пальцы на ее ногах опять сжимаются, и она отвечает:
— Я в порядке. — Потом проводит пальцами по волосам, как это делает Сара. — Давай просто покончим с этим.
— Мы можем подождать, — отвечает мужчина. — Я уверен, управляющий поймет, если…
Но Лаура качает головой.
— В четверг уже первое число, — говорит она. — Если мы будем ждать, придется оплатить аренду.
Мое правое ухо поворачивается чуть вперед, чтобы лучше слышать, что говорит Лаура. Если Сара больше не собирается платить за то, чтобы жить здесь, следовательно, она решила жить где-то в другом месте. Чувство тревоги, поселившееся в моем животе, усиливается, пока я пытаюсь понять, почему Сара ушла и ничего мне не сказала, почему не взяла с собой свои любимые вещи. По телевизору, когда две женщины живут вместе, а потом одна из них решает переехать, прежде всего она объясняет своей соседке, почему уезжает (обычно либо из-за Карьеры, либо из-за Человека, которого она любит). Соседки начинают злиться, ссориться, пока не вспоминают, как весело им было вместе. Потом они плачут, обнимают друг друга — и вот они уже снова подруги, и тогда вторая соседка, хотя и грустит, признается, что понимает, почему та вынуждена уехать, и желает ей счастья.
Соседки по квартире должны предупреждать друг друга, прежде чем переехать. Я почти уверена, что это Закон.
По движениям Лауры сразу видно, что она точно знает, куда идет, и жалеет, что не сделала этого раньше. Именно так она и входит в нашу спальню, но ей не удается сохранять решимость. Шаги ее становятся чуточку медленнее, чем обычно, и если бы я к ней подкрадывалась, то решила бы, что это отличное время для нападения. Она говорит, что займется спальней, а он пусть пока начинает на кухне. Она передает ему какие-то старые газеты, и вначале я думаю, что они собираются поиграть со мной в мою любимую игру: Сара комкает газету и бросает ее мне, чтобы я охотилась и оттачивала искусство ловли мышей. Но вместо этого мужчина заворачивает в газеты тарелки и стаканы, прежде чем уложить их в коробки. Он также упаковывает большую керамическую чашу, которая живет на маленьком столике у входной двери. Именно в этой чаше я люблю спать, когда мое тело подсказывает мне, что вот-вот домой придет Сара. Она переступит порог, а я буду прямо у двери. Однажды, когда особенно обрадовалась при встрече с Сарой, я так быстро выпрыгнула из чаши, что она упала на пол и разбилась. От неожиданного грохота я метнулась в спальню, под кровать, где долго лежала и тряслась. Но Сара была очень терпеливой и невозмутимой, когда склеивала вазу. После этого на ней остались трещины, но Сара уверяет, что ничего страшного, потому что сквозь трещины проникает свет.
Лаура с мужчиной работали молча, она лишь сообщила ему, что из Армии спасения придут попозже, чтобы забрать мебель, кухонные принадлежности и кое-что из вещей Сары. Не знаю, что Армия намерена делать с кроватью, которая пахнет мной и Сарой, прятавшимися под одеялом холодными ночами. Или с диваном, который пахнет случайно пролитым мною молоком (стакан сам виноват, что упал: он притворился, что он ниже, чем был на самом деле). Я так испугалась, потому что неожиданно на меня выплеснулось молоко, и подумала, что Сара, скорее всего, будет меня ругать, но она лишь взяла меня на руки, прижалась щекой к моей макушке и сказала:
— Бедняжка Пруденс! — Потом обняла меня еще крепче и продолжила: — Ох, Пруденс, жизнь была бы такой скучной, если бы рядом не было тебя. (Вещь настолько очевидная, что и говорить об этом не стоит).
Я не понимаю, какая польза Армии от этих вещей, но вокруг сейчас происходит много непонятного. Сара была знакома с человеком, который в один день потерял кота и все, что имел. После этого, по словам Сары, он больше не хотел жить. Возможно, Сара ушла, так как знала, что сюда придут Лаура с этим мужчиной и станут забирать все наши красивые вещи, а она не сможет на это смотреть. И меня впервые осеняет: если Сара уехала, то вместе с мебелью и другими вещами придется покинуть квартиру и мне.
Я еще ниже припадаю к полу с одним желанием — чтобы вернулась Сара и объяснила мне все происходящее. Она могла бы предупредить меня обо всем до своего ухода, даже если причины, которые заставили ее покинуть дом, могли испугать меня или просто сбить с толку. Уж ей ли не знать (кому, как не ей?), как много я понимаю!
Кошки всегда все понимают. Именно поэтому являются хорошими соседками по квартире.
Лаура и мужчина со светло-каштановыми волосами — в противоположных углах квартиры, а это означает, что я не могу одновременно следить за обоими. Несмотря на то что мои усы позволяют мне уловить направление движения каждого, кто находится у меня за спиной, я так и не могу решить, за кем нужно следить. Потом Лаура наступает в спальне на доску пола, которая при этом издает звук, похожий на человеческий крик. Я тут же переключаю на нее все свое внимание. Дверь в спальню располагается прямо напротив правого подлокотника дивана, и я, перемещаясь ползком, теперь могу заглянуть в спальню и наблюдать за Лаурой.
Нельзя сказать, что Лаура с Сарой — одно лицо, но они достаточно похожи, чтобы предположить, что девушка из Сариного потомства. Волосы у них одного цвета и длины. Лаура не такая высокая, как Сара, но более гибкая и, стоя на носочках, может дотянуться туда, куда дотягивается Сара. Глаза у Лауры светлее и не такие круглые, а челюсть более квадратная, и косметика, которой она обычно пользуется, лишь подчеркивает эти различия. Сегодня Лаура не накрашена — что само по себе необычно. Круги под глазами темнее, чем всегда, отчего сами глаза кажутся такими же синими, как у Сары, а кожа настолько бледная, что кажется еще светлее, чем у той. Руки у Лауры и Сары совершенно одинаковые, ладони на удивление широкие для таких худых людей, а пальцы очень длинные.
Сейчас руки Лауры немного дрожат, но ей все равно удается аккуратно сворачивать и складывать вещи. Она достает из шкафа одежду Сары так же уверенно, как я, когда нахожу что-то, спрятанное в лотке. Вещи, которые Сара носила на работу, Лаура складывает в аккуратную четырехугольную стопку. Она толстой черной ручкой что-то пишет буквами на одном из коричневых ящиков, в который затем складывает Сарины повседневные и рабочие вещи. Остальные наряды, те, с блестящими камнями, бахромой и перьями, которые я раньше считала птицами, она складывает в другую, менее аккуратную стопку. А затем кладет ворох «птичьей» одежды в мусорный пакет.
Сара нечасто надевает «птичьи» наряды, но я уверяю (по крайней мере мне так кажется), что они много для нее значат, как и все остальные вещи в квартире. Сара любит повторять: «Очень важно тщательно систематизировать свое прошлое».
Однажды вечером три месяца назад Сара разговаривала по телефону с Анис и часто повторяла слово «помнишь». Ну, например: «Помнишь, как я впервые пришла послушать твоих ребят в “Монти Пайтон”?[1] То место было такой дырой!» Или: «Помнишь вечер, когда та сумасшедшая гналась за нами с ножом по Четырнадцатой улице? И нам пришлось умолять водилу поскорее увезти нас оттуда, хотя у нас совершенно не было денег?»
Мне эти истории смешными не казались, но Сара залилась смехом так, что стала задыхаться. Я слышала такой долгий и громкий смех Сары только в редчайшие моменты моей неловкости. Например, когда я попыталась шмыгнуть в закрытое окно (откуда мне было знать, что существуют вещи, через которые можно видеть, но нельзя прыгать?), или когда однажды я потянулась к бумажной тарелке на кухонном столе, чтобы попробовать то, что лежало на ней, а тарелка со всем содержимым перевернулась мне на голову. (Я продолжаю утверждать, что в этом была вина Сары — никогда не стоит оставлять тарелку с едой на краю стола).
После того как Сара поговорила с Анис и положила трубку, она достала из большого шкафа в гостиной несколько ящиков и сумок. Взяла с полки пару черных дисков, и квартира наполнилась музыкой, пока мы вместе просматривали игрушки в спичечных коробках[2]. На самом деле рассматривала Сара, а я гоняла их по комнате, иначе какой смысл в игрушках, если ими не играть? Сара беспрестанно восклицала: «Я совсем забыла об этом месте!» Или: «В этом клубе мне впервые разрешили выступить, и мне пришлось делать это бесплатно. Диджеям-девушкам пробиться было намного труднее». Она показала мне газеты и журналы, настолько старые, что их больше не выпускают, там было полным-полно слов (читать я не умею, но Сара кое-что прочитала мне вслух о музыке, которую раньше слушала, о местах, где раньше бывала).
Потом Сара отправилась в спальню и надела наряды времен молодости.
Она была такой счастливой, когда, красуясь в этих вещах, смотрела на себя в зеркало! Через некоторое время лицо ее немного порозовело, но в конце концов она покачала головой и пробормотала себе под нос: «Глупости». Потом переоделась в свою обычную пижаму, заставила замолчать черные диски, прибрала в квартире и пошла спать.
Самое лучшее в старых вещах не то, что они помогают Саре систематизировать прошлое. Самое приятное, что они пахнут нами обеими, живущими в этой квартире. А сейчас все эти вещи из нашего шкафа исчезают в огромном пакете и принесенных ящиках. Шерсть у меня на спине взъерошилась, но я пытаюсь сохранить спокойствие.
Возможно, если я отправлюсь вместе с пакетом и коробками, находящиеся в них вещи будут хранить мой запах. Но если Сара не вернется, ее запах будет понемногу улетучиваться из них. И однажды во всем мире не останется ничего, что пахло бы, как мы с нею вместе.
Сейчас комната выглядит пустой, постель разобрана, как в прачечный день, когда я помогаю Саре сменить белье на свежее — бегаю из угла в угол матраса, чтобы удостовериться, что простыня легла куда нужно. Лаура держит одну из коробок, чтобы отнести ее в гостиную, но тут ее пугает звук хлопнувшей наверху двери, и она роняет свою ношу.
— Черт! — ругается она себе под нос. Ее глаза наполняются водой, она торопливо вытирает ее рукавом свитера.
— Лаура? С тобой все в порядке? — Из кухни выглядывает мужчина со светло-каштановыми волосами.
— Все нормально, Джош, — откликается она. Голос ее дрожит, она делает глубокий вдох. — Ненавижу эти старые дома без лифта, — добавляет она. — Слышно абсолютно все.
Тут я понимаю, что уже слышала об этом мужчине. В последний приезд Анис, семь месяцев назад, Сара рассказала подруге, что Лаура выходит замуж за парня по имени Джош. Казалось, Анис несказанно удивилась, что Лаура вообще выходит замуж, и Сара ответила, что сначала и сама удивилась, но Джош оказался Хорошим парнем. Анис заметила, что, учитывая все обстоятельства, это настоящее чудо, что Лаура выходит замуж за Хорошего парня. Лицо Сары на мгновение погрустнело при этих словах. Потом они начали болтать о мужчине, за которым раньше была замужем Сара, и я наконец уснула, когда поняла, что никто не вспоминает о Пруденс.
Джош в свою очередь освободил кухню: все, что раньше там жило, теперь оказалось в коробке или в мусорном пакете. Больше это не было похоже на нашу кухню. И только по пачке моего сухого корма, который продолжал стоять на столе, можно было сказать, что раньше здесь жили Человек и Кошка. Когда Лаура подошла с какой-то шипучкой и бумажными полотенцами, чтобы вытереть стол, она взглянула на пакет с едой, затем оглядела квартиру, как будто пытаясь найти меня. Но потом просто отодвинула пакет и продолжила вытирать стол.
Еще никогда я не видела Лауру такой грустной, но сегодня она, казалось, действительно грустила. Ее глаза опять наполнились водой, когда она вернулась в гостиную, хотя Лаура тут же смахнула ее. Но в ее словах тоже слышалась печаль. Обычно Лаура быстро и четко формулирует свое мнение и никогда его не меняет. Когда они с Сарой о чем-то спорят, сразу видно, насколько она становится нетерпеливой, когда Сара начинает колебаться и мямлить: «Ну… возможно… может быть, ты и права… я не знаю…» И хотя я всегда поддерживаю Сару, потому что она мой Самый Важный Человек, в душе я согласна с Лаурой: Сара должна быть более решительной. Именно поэтому я и Сара так хорошо ладим — у меня всегда есть собственное мнение, даже если его нет у нее. Например, она всегда спрашивает меня, что я думаю о ее наряде, в котором она собирается выйти. Если мне нравится, я пристально смотрю на нее своими огромными глазами и вкладываю в них всю свою мудрость и одобрение. Если наряд мне не по душе, я прикрываю глаза и отворачиваюсь в сторону, как будто меня клонит в сон, но Сара прекрасно знает, что это означает. И тогда она говорит:
— Ты права, под эту юбку нужен другой жакет. — И надевает что-нибудь получше, прежде чем уйти.
Не знаю, что смутило Лауру в этой комнате. Мне все здесь кажется обычным. Возможно, она выглядит неряшливее и пахнет пылью немного больше, чем всегда, потому что Сара не убирала в ней почти неделю. Мой лоток, стоящий в ванной комнате, нестерпимо воняет, и мне стыдно, особенно когда в квартире посторонний человек, который не знает, насколько я чистоплотна.
Но, по-моему, Лауру смущает не лоток и не пыль. Меня осеняет: Лаура чувствует то же, что и я. Она так же не ожидала Сариного ухода и сейчас сбита с толку и грустит, потому что ей приходится решать, что делать с вещами Сары и моими пожитками. Я жду, что она расскажет мне о том, куда и почему ушла ее мать, но, судя по всему, ее Сара оставила так же, как и меня.
Когда я понимаю, что Лаура не знала об отъезде матери, я впервые начинаю по-настоящему бояться, что больше никогда не увижу Сару. От этой мысли мой желудок сжимается, к горлу подкатывает ком. Мне хуже, чем бывало, когда люди кричали на меня на улицах, или чем было в тот день, когда я в грозу потеряла своих братьев и сестер.
Сейчас мне отчаянно хочется вылезти из-под дивана, сказать Лауре, что Сара обязательно вернется, если мы не станем трогать ее вещи, которые так знакомо пахнут и дают ей понять, что это и есть ее дом. Но Лаура не позвала меня, как это сделала бы Сара, и не попыталась представить меня незнакомцу, как это положено делать. На сегодня слишком много необычного, и от мысли о том, чтобы вылезти из-под дивана, когда никто даже не позвал: «Пруденс, иди сюда, познакомься с тем-то и тем-то», у меня внутри все сжимается еще сильнее.
Первым к большому шкафу подходит и начинает доставать вещи именно Джош. На его голову падают обувные картонки со спичечными коробками. Я жду, что он сейчас разозлится, как разозлился бы любой человек в подобной ситуации, но он только ойкает и преувеличенно потирает голову, делая вид, что коробки сильно ударили его. По тому, как он стреляет глазами в Лауру, я понимаю, что он ждет ее смеха, потому что людям кажется смешным, когда на других людей что-нибудь падает.
Лаура в ответ лишь вяло улыбается.
— Посмотри на все это! — восклицает он, опускаясь на колени и набирая горсть спичечных коробков. — «Парадиз Гараж», «Ле Жардин», «Эйт Би-си», «Макс Канзас-Сити». — Он вновь складывает их в коробку. — Писаки, на которых я работаю, готовы были бы убить за возможность провести пять минут в «Макс Канзас-Сити».
Лаура начинает ревизию во втором шкафу, в том, что поменьше, — у входной двери. Она роется в ящиках с бумагами, некоторые складывает в папки, тут же исчезающие в большой коричневой коробке. Остальные отправляются прямиком в пакет с мусором.
— Выбросим все в мусорные контейнеры, — говорит она Джошу. — Армии спасения они ни к чему.
Может быть, Армии они и ни к чему, но они нужны мне! Почему Лаура не спросит меня, как я намерена поступить со своими (ну, моими и Сариными) вещами?
Джош при этих словах Лауры замирает, его рука как раз тянется к вещам на верхней полке. Он продолжает тянуть руку в том же направлении, хотя делает это уже значительно медленнее, — так обычно двигаешься, чтобы не испугать мелкое животное.
— Ты же не собираешься все это выбрасывать? Твоя мама не стала бы хранить все эти вещи, если бы они для нее ничего не значили. Однажды, когда будешь готова, ты захочешь вернуться и просмотреть их.
В голосе Лауры слышится раздражение, как всегда, когда Сара возражает против того, что, по мнению Лауры, является совершенно логичным.
— И куда ты собираешься все это сложить?
— В свободную комнату, — чуть тише, чем до этого, отвечает Джош. — Мы могли бы все перенести туда, по крайней мере на время.
Лицо Лауры едва заметно меняется, но я вижу, что идея ей не по душе. Если бы это предложила Сара, Лаура продолжала бы спорить, пока не доказала бы свою правоту (или по меньшей мере до тех пор, пока Сара не признала бы ее). Но сейчас она лишь бормочет:
— Отлично. — И продолжает разбирать бумаги. Джош складывает спичечные коробки назад в обувную картонку, потом кладет все в одну большую коричневую коробку. Оба продолжают молча заниматься своим делом, пока Джош не натыкается на пузатый бумажный пакет в глубине большого шкафа. Как только он его достает и заглядывает внутрь, так тут же восклицает:
— Ух ты! — Он извлекает старые газеты и журналы Сары. — «Миксмастер», «Нью-Йорк Рокер», «Ист-Виллидж Ай»… — Он воздевает глаза кверху и чуть влево, что означает — он погружен в воспоминания. — Моя сестра когда-то ездила в город и привозила мне эти журналы и газеты. Я до сих пор не могу простить маму за то, что однажды она посчитала это мусором и все выбросила.
Лаура как раз складывала пальто и жакеты Сары, которые больше всего сохранили ее запах. Почему она хочет избавиться от всех вещей матери? Как-то Сара говорила: если кого-то помнишь, он всегда будет с тобой. Но если существует и обратная связь? Если избавишься от всего, что тебе напоминает о другом человеке, он больше никогда к тебе не вернется? Я чувствую, как напрягаются мышцы вокруг моих усов, и прижимаю усы к щекам.
Разумеется, Лаура этого не знает. Она поворачивается к сидящему на полу мужчине и, когда видит пакет, который он просматривает, прищуривается и подходит к нему. Поднимает пакет и читает на нем рукописный текст. Потом произносит:
— Любовь спасет день.
— Что? — удивляется Джош. Он продолжает листать старые газеты.
— Любовь спасет день, — повторяет она. — Этот пакет оттуда. Из того винтажного магазина на Седьмой и Второй улице. — Сейчас Лаура закатывает глаза вверх и влево. Ее голос звучит мягче, так, как обычно звучит голос Сары, когда она рассказывает мне о чем-нибудь приятном, что случилось давным-давно. — Мы с мамой иногда наведывались туда, когда я была еще маленькой. Мы часами примеряли смешные наряды, а потом поднимались на один квартал вверх к «Gem Spa», чтобы полакомиться коктейлем с содовой.
Джош улыбается Лауре.
— У тебя остались фотографии? — Я вижу, что он пытается представить себе Лауру такой, какой она была много лет назад, в платьях, похожих на «птичьи» наряды Сары. Он окидывает взглядом комнату. — Не перестаю надеяться, что найду твои детские снимки, но пока их нигде не видно.
Черные зрачки в глазах Лауры расширяются, лицо заливает румянец, и я тут же понимаю, что в ее ответе будет лишь частица правды.
— Мы потеряли их при переезде.
— Да? — В голосе Джоша звучат разочарование и сомнение. Но он только произносит: — Как жаль! — Он смотрит на столик у дивана, где у нас с Сарой стоят лампа и несколько фотографий в рамках, между которыми я научилась лавировать, не задевая их. Джош добавляет: — Что ж, по крайней мере у нас остались фотографии твоей мамы и ее кошки. — Он окидывает взглядом комнату и спрашивает: — Кстати, а где кошка?
Голова Лауры не двигается.
— Прячется под диваном?
Я не прячусь! Я жду! Конечно, не стоило ожидать от людей понимания таких тонких различий. Тем не менее ближе, чем сейчас, Лаура, вероятно, уже не подойдет к тому, чтобы попросить меня выйти и представить как следует. Поэтому отчасти для того, чтобы дать Лауре шанс сделать все как полагается, а отчасти для того, чтобы ясно дать понять этим людям, что я не прячусь, я вылезаю из-под дивана и возвещаю о своем появлении отрывистым мяуканьем. Потом начинаю отточенный ритуал потягивания и вылизывания, как будто говоря: «Ой! Неужели здесь есть кто-то еще? А я ничего не слышала, потому что крепко спала. И уж точно я не пряталась, даже если вам показалось именно так».
Людей гораздо легче обмануть, чем кошек.
— Ну привет, Пруденс, — произносит Джош, поворачиваясь ко мне. — Похоже, ты ласковая кошка. Ты же ласковая, разве нет?
Снисходительный тон обращения — вещь недопустимая. Я одариваю его ледяным взглядом и рассекаю воздух хвостом, чтобы напомнить ему о хороших манерах, а потом возвращаюсь к прерванному занятию — продолжаю чистить мордочку левой передней лапкой. Джош медленно протягивает руку к моей макушке, но я останавливаю его предостерегающим шипением. Как невежливо обращаться к тому, кому тебя должным образом не представили, но еще хуже, когда к тебе прикасается тот, кому ты не был должным образом представлен. Лаура смеется впервые с тех пор, как вошла в дом, и говорит:
— Не обижайся. Ничего личного. Пруденс не любит чужих людей.
Джош и Лаура наблюдают, как я чищу у себя за ухом. Почему они столько внимания уделяют тому, как я умываюсь? Джош говорит:
— Я буду рад, если она поселится с нами, Лаура. Но если ты найдешь для нее другой дом, я пойму. Любой поймет.
Лаура секунду молчит, глядя мне прямо в глаза. Но моя мордочка остается совершенно бесстрастной: не хочу, чтобы она знала, как я нервничаю, когда думаю о всех тех невыносимых изменениях, которые ждут меня в случае переезда на новое место с незнакомыми людьми.
— Для моей мамы было бы важно, чтобы Пруденс осталась жить с нами, — наконец произносит Лаура. — Она особо отметила это в завещании.
Я вспоминаю тот день, когда познакомилась с Лаурой. Тогда я была еще маленькой, жила у Сары только четыре недели и три дня. Тогда Сара произнесла голосом, каким обращается только ко мне:
— Пруденс, это моя дочь Лаура. — Та замерла, а я подошла к ней, как должна подходить к человеку, когда Сара обращается ко мне с такими интонациями. Лаура не нагнулась ко мне, даже не пошевелилась, но глаз с меня не спускала. — Уверена, ей понравится, если ты к ней приласкаешься, — продолжала Сара, и, хотя я не люблю, когда ко мне прикасаются малознакомые люди, Лаура пахла почти так же, как Сара, что позволяло мне считать, что я тоже смогу принять ее. Я потерлась о ее ногу и даже замурлыкала. Не так громко, как мурлычу, когда трусь о Сару, но достаточно, чтобы Лаура поняла, что я ее принимаю.
Они с Сарой переглянулись и улыбнулись, когда услышали мое урчание (тогда я еще не знала, какая это редкость — видеть, как они счастливо улыбаются друг другу). Затем Сара сказала:
— Животные всегда любили тебя. Помню, как обожал тебя кот Мандельбаумов.
И в одну секунду лицо Лауры изменилось. Однажды, когда я еще была котенком, Сара не увидела меня перед собой и наступила мне на хвост. Боль разлилась по всему телу. И от этой резкой боли я разозлилась, настолько разозлилась, что зашипела и впилась в Сару когтями. Вот так в тот момент выглядело и лицо Лауры. Сперва быстрая, ужасная боль, потом злость — такая же мгновенная и испепеляющая — на Сару, за то, что причинила ей эту боль. Лаура перестала улыбаться, плечи ее напряглись.
— Хани, — сказала Лаура, — кошку Мандельбаумов звали Хани. — И потом, используя свой голос, как я — когти, продолжила: — Я не понимаю, зачем ты завела кошку, мама. Мне казалось, что коты тебя мало заботят.
Тогда лицо Сары опечалилось, но она даже не попыталась оправдаться. Она понимала, что сказала не то, хотя даже я видела, что она не хотела никого обидеть.
Я не хочу ехать к Лауре. Я не хочу жить нигде и ни с кем — только в нашей квартире вместе с Сарой. Но Сара не будет платить деньги, чтобы жить здесь, следовательно, я тоже не смогу больше здесь жить. По всей видимости, Сара знала, что уезжает, и хотела, чтобы я жила с Лаурой. Возможно, она собирается вернуться и хочет быть уверенной, что знает, где меня найти. Вот в чем дело!
Какое же облегчение я испытываю — просто удивительное! Я едва сдерживаюсь, чтобы не впасть в глубокий, роскошный сон, когда напряжение покидает мое тело. Тем не менее по взгляду Лауры я вижу, что она размышляет над словами Джоша. Хм, он понял бы, если бы Лаура хотела отослать меня жить в другое место. Помню, как она обрадовалась, когда в первую нашу встречу услышала мое урчание, и, по-моему, она любит кошек больше, чем хочет показать. (А разве можно не любить жить с кошкой?)
Поэтому, не обращая внимания на Джоша с его отвратительными манерами, я подхожу к Лауре и касаюсь ее ноги своей лапкой (предварительно втянув когти), как поступаю обычно, когда хочу привлечь внимание Сары. Потом трусь головой о ее ногу, помечаю ее своим запахом, даю понять, что у нее нет выбора: брать меня или нет.
Лаура не протягивает руку, чтобы погладить меня, но тяжело, как-то покорно вздыхает. В животе у меня еще больше оттаивает, я еще энергичнее трусь головой о ее ногу.
Вероятно, у Джоша не было кошки, которая научила бы его хорошим манерам, но, проведя со мной всего пару минут, он уже поумнел. Он ничего не говорит, однако, когда слышит вздох Лауры, так же ясно, как и я, понимает, что вопрос решен.
К закату солнца квартира почти полностью опустела. Все шкафы были разобраны, ковры скатаны в ожидании Армии спасения. Все плакаты, которые висели на стенах в деревянных рамах и которые я раньше любила раскачивать в различных направлениях, вытащили из-под стекла и свернули, чтобы они влезли в ящик, где лежали те вещи, которые ехали с нами. Они выглядели и пахли по-другому, и мне становилось труднее вспоминать нашу жизнь с Сарой. Моя пластмассовая переноска ждала у двери, и, хотя обычно ненавижу туда садиться (потому что Сара сажает меня в переноску, только когда носит в Ужасное место), сейчас я лезу в нее по собственной воле. Я точно знаю, что сегодня в Ужасное место мы не поедем. И кроме того, переноска осталась практически единственной вещью, которая пахнет одновременно Сарой и мной.
Когда Лаура и Джош скатывали ковры, они обнаружили старую пищащую игрушку, которую Сара принесла мне как-то, когда я только поселилась здесь. Она уверяла, что ей всегда не по себе, когда приходится оставлять меня одну, уходя на работу; она хотела, чтобы у меня всегда была рядом игрушка, которой я могла бы играть и которая издавала бы какие-то звуки. Она не понимала, что я люблю иногда находиться одна и в тишине. Возможно, потому, что сама Сара никогда не любила бывать одна.
Эти игрушки не представляли для меня такого интереса, как спичечные коробки или газеты (какой интерес играть с тем, с чем нужно играть? Намного веселее играть с тем, что находишь сам), и я давным-давно позабыла о них. Но сейчас я вспоминаю, как радовалась, когда Сара впервые принесла эту пищалку домой. Так я узнала, что она думает обо мне, даже когда не видит, — несмотря на то, что частенько забывает вовремя меня покормить, и на тому подобные мелочи. Как и я думала о ней, когда она уходила. А это означает, что я не ошиблась в тот день, когда решила принять ее.
Я продолжаю сердиться на Сару за то, что она уехала, не простившись. Однако все же надеюсь, что однажды увижу ее снова. Она единственный человек, которого я когда-либо любила.
В квартире неупакованными остались только коллекция черных дисков Сары и специальный столик, на котором она их проигрывала. Джош помыл руки, прежде чем к ним прикоснуться, и по его движениям я вижу, как сильно ему хочется изучить эти черные диски с тех самых пор, как он переступил порог этой квартиры. Мне это не нравится, потому что это диски Сары, и только Сары, ведь даже мне не разрешено к ним прикасаться. Но Сара здесь больше не живет. Вероятно, у нее были причины, которые заставили ее оставить диски здесь. Надеюсь, что, где бы она сейчас ни жила, у нее есть что послушать.
— Поверить не могу, сколько здесь дисков! — признается Джош Лауре. — По-моему, я еще никогда не видел такой большой коллекции винила.
— Я тоже никогда не замечала, насколько она большая, — говорит Лаура. — Должно быть, мама оставила себе больше, чем я предполагала, после продажи магазина.
— Какой выбор! — По восхищению в голосе Джоша я понимаю, что, вероятно, не у всех людей есть такая стена с черными дисками, как у Сары. Сквозь металлические прутья переноски я вижу Джоша фрагментами — раньше я так смотрела на мир через большое окно, подкравшись к нему и глядя сквозь прутья пожарной лестницы. Джош сидит, скрестив ноги, перед пластинками.
— Посмотри на это!
— Мама в основном увлекалась танцевальной музыкой, — объясняет Лаура. — Но ее соседка по комнате участвовала в панк-группе, и они обменивались дисками.
Джош усмехается.
— По всей видимости, это и объясняет наличие у нее пластинки «Go Girl Crazy» рядом с «Discо Tex and the Sex-O-Lettes».
— Давай упакуем их. Посмотрим позже, дома, — говорит Лаура. Поскольку Джош колеблется, она поднимает уголки рта вверх и произносит: — Честное бойскаутское!
Джош кивает. Потом громко ойкает, встает, подходит к открытой коричневой коробке и что-то оттуда достает.
— Я не упаковал, потому что думал, ты захочешь оставить это в квартире.
Лаура подходит, чтобы разглядеть вещь, которую держит в руках Джош. Предмет похож на одну из вставленных в рамочку фотографий, которые когда-то жили на столе у дивана.
— Сколько ей здесь? — спрашивает Джош. — Она такая юная.
Лаура берет в руки снимок.
— Девятнадцать. Это как раз перед тем, как она родила меня.
— Она была такой красавицей. — Джош смотрит на Лауру и улыбается. — Как и ты.
— Нет, — отвечает Лаура. — Мне никогда не стать такой красавицей, как мама.
Вначале мне кажется, что она говорит это из так называемой скромности — это когда люди делают вид, что не настолько хороши в чем-то, хотя на самом деле лукавят. (Кошки так никогда не поступили бы). Но в ее улыбке сквозит такая печаль, когда она добавляет:
— Будучи маленькой, я всегда думала, как мне повезло, что у меня самая красивая мама на свете.
— Наши дети когда-нибудь тоже будут так думать. — Лаура молчит, Джош приобнимает ее за плечи и мягко произносит: — Так и будет, Лаура. Обещаю.
Как мило с его стороны сказать такое! Особенно учитывая, что мне трудно судить о человеческой красоте (мне существо, лишенное меха и вынужденное ходить на ногах, как у оленя, кажется голым и неуклюжим). По-моему, нет причин для того, чтобы глаза Лауры опять наполнялись водой от слов Джоша. Но они почему-то наполняются.
Мне кажется, Джош хочет оставить Лауру в одиночестве, чтобы она согнала эту воду. Лаура несколько раз тяжело сглатывает и пытается смахнуть ее, пока она не полилась ручьем. Мужчина вновь подходит к черным дискам, берет один, кладет на специальный столик Сары. Музыка наполняет квартиру в очередной раз. Это так похоже на то, что сделала бы Сара, и впервые мне кажется, что, возможно, я полюблю Джоша. Он даже подпевает под музыку, как иногда делала она.
Любовь — это послание, любовь… Любовь — это… любовь.
Бóльшая часть коричневых коробок остается в квартире — за ними приедет Армия спасения. Оставшиеся Лаура с Джошем сносят вниз, к огромному, прикрепленному к машине металлическому ящику на колесах. Мусорные пакеты Лаура относит в конец коридора к мусоросборнику. Дверь она оставляет открытой, и я слышу, как ее шаги замирают, когда она возвращается назад в квартиру. Потом я слышу, как она вновь бежит к мусоросборнику и достает один из пакетов. Ее шаги звучат все глуше, как будто она несет его на улицу, и у меня мелькает догадка, что она относит его к коробкам, которые мы берем с собой.
Я ни на минуту не покидаю переноску. Так уж выходит. Лаура прикрыла, а затем заперла ее, что с ее стороны крайне невежливо — я же залезла в нее по собственной воле! Назовите мне хотя бы одну причину, по которой нужно обращаться со мной, как с глупой собакой, которая только и мечтает сбежать из конуры. По-моему, люди даже не понимают, как иногда ранят кошачье достоинство. Я в последний раз окидываю взглядом квартиру через прутья переноски. Неужели я больше никогда не буду здесь жить?
Лаура выносит меня на улицу, мне приходится зажмуриться на полпути, потому что сквозь расположенные крест-накрест прутья решетки слишком ярко светит солнце. Лаура садится в машину, мою переноску ставит себе на колени. Джош тоже забирается внутрь, но через другую дверь, чтобы сидеть за большой круглой штуковиной, которая заставляет машину двигаться.
Раньше я ни разу не ездила в машине. Признаюсь вам, не так уж и плохо ехать, как только привыкнешь к этому ощущению: ты движешься вперед не на своих лапах. Езда даже навевает на меня дремоту, мне с трудом удается держать глаза открытыми, но я не хочу ничего пропустить и гляжу на проплывающие в окне предметы. До настоящего момента я даже не предполагала, сколького еще не видела.
Чем дальше мы едем, тем шире становятся улицы, пока я не убеждаюсь, что мы покинули Нижний Ист-Сайд. Некоторые улицы такие широкие, что даже не верится, что они настоящие. А здания! Я даже не все верхушки вижу, хотя и вытягиваю шею настолько, насколько позволяет переноска. В Нижнем Ист-Сайде я никогда не видела таких высоких зданий. В окнах некоторых я замечаю других кошек, которые греются в лучах послеобеденного солнца или прыгают на занавески, которые закрывают им обзор. Меня мучают вопросы: они всю жизнь будут жить в своих квартирах? Или однажды, как и мне, им придется куда-нибудь переезжать, потому что их люди перестанут приходить домой? Жаль, что я не могу у них спросить. Возможно, кто-нибудь из них знает, как заставить человека вернуться, после того как он тебя бросил.
Джош говорит Лауре, что он поедет по шоссе Вест-Сайд. Мы минуем широкую реку, в которой воды столько, что я и представить не могла, что в реальной жизни бывает столько воды. Там плавают лодки и люди на других странных агрегатах поменьше, которые позволяют им передвигаться по воде как будто бегом. (Я всегда жалею людей, потому что им приходится постоянно окунаться в воду, чтобы оставаться чистыми, но сейчас они передвигаются по воде без всяких причин!) На тротуарах у реки толпятся другие люди, которые несут еду, пакеты для покупок или держат за руку людей поменьше. Один из них бросает хлебные крошки огромной стае голубей — ах! Как было бы чудесно прыгнуть в самую середину стаи и показать этим глупым птицам, кто здесь хозяйка!
Лаура опускает окно со своей стороны, и тут же мне в нос ударяет множество запахов. Смесь этих ароматов заставляет меня вспомнить те времена, когда я еще была без Сары, жила на улице вместе со своими братьями и сестрами. Я чувствую запахи других машин, птиц, потеющих в своих пальто людей, свежей грязи. В это время года холода начинают отступать, поэтому я чувствую запах цветов и еще чего-то, чего назвать не могу, потому что слишком потрясена. Жалко, что нельзя оставаться на одном месте, чтобы различить запах каждого предмета и точно его назвать.
И если бы я все же здесь остановилась — прямо сейчас, в этом самом месте, — мне бы не пришлось ехать в квартиру Лауры и Джоша. Не пришлось бы начинать новую жизнь, которую придется начать. По крайней мере пока… пока в нее не вернулась Сара.
Глава 3
Пруденс
Люди называют человека, который переезжает из одной страны в другую, иммигрантом. Я переехала из Нижнего Ист-Сайда в Верхний Вест-Сайд, который, по всей видимости, находится на противоположной стороне земного шара. А если он расположен на противоположной стороне земного шара, следовательно, это абсолютно другая страна. А это означает, что я тоже иммигрантка. (Как-то Сара рассказывала об иммигрантах в Нижнем Ист-Сайде, которым пришлось переехать, потому что квартиры подорожали. Совсем как в случае со мной!)
По телевизору говорят, что иммигранты часто испытывают тоску по дому. Пока я живу здесь шестнадцать дней, но по дому тосковала только первые пять. Столько потребовалось времени, чтобы привыкнуть к здешней еде. Я так нервничала по поводу того, что вокруг все другое, что незнакомую еду вынести уже не могла. Я слышала, как Джош говорил Лауре, что им стоит купить мне что-нибудь «получше», чем этот «дешевый» корм, которым угощала меня Сара. (Нет! Я люблю свой корм! Жаль, что рядом нет Сары, которая бы велела Джошу купить мне то, что я люблю). Он купил что-то в консервной банке и сказал Лауре, что это «экологически чистая» еда. Этими словами люди называют продукты, которые получают от ферм, а не от заводов. Только эта еда была в консервной банке, а консервы делают только на фабриках. Как же еда в консервной банке может быть «экологически чистой»?
У меня взбунтовался желудок, когда я попыталась определить, что на самом деле содержится в этой еде, которая настолько отличается по запаху от моего привычного корма. Единственный раз я выбралась из шкафа, стоящего в спальне на верхнем этаже (именно туда сложили все Сарины коробки), когда меня вырвало. Джош встревожился и сказал Лауре, что, вероятно, меня следует отвезти в Ужасное место — отчего в желудке у меня все сжалось еще сильнее. Но Лаура пошла и купила корм, к которому я привыкла, и смешала его с новой едой, купленной Джошем. Хотя на вкус он был не так хорош, как мой обычный корм без добавок, по крайней мере он имел знакомый запах, и мне удалось, не нервничая, поесть.
Теперь Лаура подмешивает новую еду в мой старый корм каждое утро, только с каждым разом ее становится все больше, а старого корма все меньше. По-моему, Лаура пытается меня обмануть, думает, я не знаю, что она вскоре попробует накормить меня исключительно новой едой без грамма моей любимой. Как будто можно обмануть кошку!
Когда я жила с Сарой, первым чувством, которое я испытывала по утрам, было счастье. Я стояла рядом с ней у кухонного стола и мяукала, поторапливая ее (люди склонны тянуть время, когда кормят кошек), пока она насыпала мне еду в специальную Миску Пруденс. Потом я начинала в предвкушении бегать кругами у ее ног, пока она несла миску к столу, где я садилась есть.
Однако с Лаурой все по-другому. Лаура всегда в плохом настроении, когда входит в комнату с пожитками Сары и ставит мне на пол миску. Я это сразу понимаю, замечая, что тоненькие волоски у нее на руке едва заметно поднимаются. И даже если бы мне хотелось побегать кругами (а мне совершенно не хочется) — пол в комнате так заставлен коробками Сары, что я не могу никуда побежать, не наткнувшись на какой-либо предмет.
К тому же я не могу есть на глазах у Лауры, как ела вместе с Сарой, потому что не хочу, чтобы она слишком много знала о моих привычках в еде. Пока жила на улицах, я узнала, что вода, которая слишком долго стоит недвижимой, обычно невкусная. Теперь я люблю толкать миску с водой правой лапой, прежде чем выпить. Я должна видеть, как вода приходит в движение, чтобы постоянно быть вкусной. Сара прекрасно это понимала, поэтому наполняла миску лишь наполовину. Но Лаура наполняет миску до самых краев, поэтому на темном полированном паркете появляются брызги, которые оставляют, высыхая, белые следы. Лаура поджимает губы в тонкую линию, когда видит эти пятна, и мне кажется, она бы разозлилась, если бы увидела, что я намеренно расплескиваю воду. Вчера она принесла домой синий резиновый коврик со смешными мультяшными изображениями улыбающихся кошек (неужели Лаура действительно думает, что так и должны выглядеть кошки?) и положила его под мои миски с едой и водой, чтобы больше ничего не проливалось на пол. А может, легче прекратить наливать так много воды? Но даже если бы я нашла способ подсказать ей, сомневаюсь, что она прислушалась бы. Сара постоянно повторяла: «Лаура все должна сделать по-своему». Наверное, мне стоит благодарить ее за то, что она позволяет мне есть здесь, в окружении наших с Сарой старых вещей. Она не настаивает на том, чтобы я ела в другом месте. Не думаю, что я могла бы проглотить хотя бы кусочек без надежных, знакомых запахов вокруг.
Я мало спала, отчего чувствовала себя не вполне здоровой и более настороженной, чем раньше. Обычно сон — мое любимое времяпрепровождение, этому людям стоило бы у кошек поучиться! Кажется, люди никогда толком не высыпаются, а Лаура с Джошем не прилегли подремать ни разу с тех пор, как я сюда переехала! (В последние месяцы моей жизни с Сарой она достаточно поумнела и, следуя моему примеру, стала спать намного чаще). Но сейчас мне заснуть было тяжелее, потому что каждый раз, просыпаясь, я не сразу понимала, где я и почему все пахнет так незнакомо. Мне снова и снова приходилось напоминать себе, что я живу с Лаурой и Джошем, а не с Сарой, и когда я об этом вспоминала, у меня начинало болеть в груди, и боль шла дальше вниз, к животу. Дошло до того, что я боялась спать, потому что было больно просыпаться.
Однако пару раз мне удавалось забыться на пару минут — и это было еще хуже.
Я сижу в глубине шкафа, только-только открыв глаза. Чувствую запах из банки с моей старой едой и вижу у своей миски женщину с волосами Сары.
— Доброе утро, Сара, — мяукаю я. Та удивленно поднимает голову, но, когда волосы ее соскальзывают с лица, я вижу, что это не она. На меня пристально смотрит Лаура. Меня сбили с толку ее волосы, так похожие на волосы Сары.
Больше всего в Саре, помимо ее поющего голоса, я любила волосы. Я обожала тереться о них мордочкой, зарываться в них носом. Я часами могла бить по ним передними лапами или наблюдать, как Сара скручивает их в «конский хвост» и расплетает, замечать, как отдельная прядь в лучах солнечного света, проникающего через окна, блестит и становится немного другого оттенка, чем остальные пряди. Однажды я сидела на подголовнике нашего дивана, зарывшись в ее волосы, и в какой-то момент набила себе ими полный рот. Сара разозлилась (хотя и не смогла удержаться от смеха, когда увидела меня с полным ртом волос, будто это была мышь, которую я несу назад в свою «норку»). Я точно не знаю, зачем так поступила. Подумала только, что было бы хорошо, если бы я смогла унести немного волос Сары в свою маленькую норку в глубине нашего шкафа.
Во время одного из визитов в нашу квартиру Анис отрезала для себя немного Сариных волос. Волосы самой Анис каждый раз оказывались другими. Иногда они были короткими и прямыми, иногда — длинными и вьющимися. Бывало, она даже вплетала в них пряди других цветов, например зеленые и розовые.
Анис всегда упрекала Сару в том, что та уже тридцать лет носит одну и ту же прическу — длинные и прямые волосы, — и пора ее сменить хотя бы «ради смеха». (Что «смешного» в переменах?) Однако в тот раз ей таки удалось уговорить Сару. Анис усадила ее на один из наших кухонных стульев, обвязав ей вокруг шеи полотенце, и набросилась на голову подруги с ножницами, в результате чего волосы Сары стали намного, намного короче. Пока Анис трудилась, подружки смеялись и разговаривали о Былых Деньках, когда обе были молоды и бедны и не могли позволить себе новую одежду или профессиональную стрижку, поэтому Анис приходилось шить для обеих и самой стричься.
Мне так жалко было смотреть на то, как на пол тусклыми небольшими комками падают прекрасные волосы Сары! Я впервые была недовольна Анис. Но реакция Лауры была еще хуже. Когда она пришла в гости через три воскресенья и Сара открыла дверь, лицо Лауры застыло. Глаза расширились и заблестели ярче, чем обычно.
— Твои волосы! — воскликнула она. — Что с ними случилось?
— Тебе не нравится, — вместо ответа констатировала Сара.
— Я только… — Одна рука Лауры дернулась, как будто она хотела прикоснуться к голове Сары, но тут же остановилась на полпути. — Я всего лишь удивлена, — наконец произнесла она. — Что подвигло тебя на такие кардинальные перемены?
— Я готова меняться. Тебе нравится? — Сара выглядела смущенной. — Меня Анис подстригла.
Лаура издала звук, похожий на фырканье.
— Дело рук Анис, — повторила она. — Ты всегда можешь рассчитывать на нее в таких мелочах. — Особо Лаура выделила слово «мелочи».
Волосы Лауры выглядели и пахли, как у Сары, хотя по утрам она проводила намного больше времени, чем та, распрямляя их громким феном. Лаура очень пеклась о волосах. Должно быть, именно поэтому она так расстроилась, когда Анис подстригла Сару.
Сара еще долго потом отращивала волосы и после этого так коротко никогда их не подстригала. Когда Лаура приходила к нам в гости, она постоянно шарила глазами от макушки Сары по всей длине ее волос, пока о чем-то говорила. По-моему, Сара ждала, что Лаура заметит и что-то скажет о ее прическе. Но та молчала.
Обычно Лаура в этой комнате не засиживается, но случается — как, например, сейчас, — она долго и молча смотрит в окно, после того как накормит меня. Наблюдает за стаей голубей на крыше здания напротив. Этих же птиц можно увидеть через высокие, от потолка до пола, окна гостиной на нижнем этаже. Эти окна занимают целых две стены. Голуби цвета кофе со сливками — очень необычный для голубей окрас. Хотя, за исключением цвета, я в них не вижу ничего примечательного. Но Лаура, похоже, не может глаз от них оторвать. Она даже накручивает прядь волос на палец, как всегда поступала Сара, когда глубоко погружалась в свои мысли.
Я тоже пробовала наблюдать за голубями, чтобы понять, что же приводит ее в такой восторг, но голуби только летали большими кругами до смешного долго, а потом возвращались на крышу. Естественно, я ничего другого от них и не ожидала, потому что голуби еще глупее собак, если такое вообще можно себе представить.
В комнате стоит тишина, пока Лаура наблюдает за птицами, а я, припав ко дну шкафа, жду, когда она уйдет. Верхний Вест-Сайд — тихое место, в Нижнем никогда не было так спокойно. В нашей с Сарой квартире, когда были открыты окна, я слышала, как шуршат в опавшей листве белки и крупные жуки, поют птицы, мастеря себе гнезда на деревьях. По тротуарам прохаживались люди, разговаривали по крошечным телефонам, и в окно нашего третьего этажа лились все эти звуки. Мимо проносились машины с опущенными стеклами, из которых доносилась музыка, возвещая о том, что они приехали. Совсем как человек, который живет в вестибюле этого многоквартирного дома, звонит Лауре и Джошу, чтобы сообщить о том, что прибыла пицца или еда из китайского ресторана. В Нижнем Ист-Сайде даже при закрытых окнах всегда можно было слышать, как в соседних квартирах разговаривают люди или в трубах в стене шумит вода. Иногда я слышала даже громкий треск! Хотя и не могла понять, откуда он раздается. Я раньше его пугалась, но потом Сара объяснила мне, что это просто наше здание «оседает».
Здесь, в Верхнем Вест-Сайде, тоже есть соседи и птицы, но улица находится так далеко внизу, что ни один звук до меня не долетает. Я никогда не слышала, чтобы в соседних квартирах кто-нибудь разговаривал или включал телевизор на полную громкость. Чаще всего, когда Лаура с Джошем на работе, единственный звук, который я слышу, — звон бирки «Пруденс» на моем красном ошейнике, когда я перехожу из комнаты в комнату. Временами, если я долго сижу неподвижно, то начинаю громко мяукать — звук эхом отражается от стен и потолка и помогает мне удостовериться, что я не оглохла.
Сара никогда не любила абсолютную тишину. Вероятно, поэтому она постоянно включала музыку и смотрела телевизор. Когда бы дочь ни приходила, она говорила с ней, не умолкая ни на минуту, опасаясь услышать тишину, которая повиснет, если она говорить перестанет, поскольку сама Лаура в ответ большей частью молчала. Как-то Сара сказала Анис, что Лаура возвела вокруг себя стену молчания. Раньше мне казалось, что своей болтовней Сара пытается пробить брешь в этой стене, хотя сама я эту стену не видела. Однако в Верхнем Вест-Сайде все было по-другому, потому что здесь Лаура постоянно разговаривала с Джошем.
Мимо двери проходит Джош в красивом костюме и черных туфлях, которые он носит на работу. Рабочие вещи Лауры намного лучше гармонируют друг с другом, чем наряды Сары. Сегодня на ней черный жакет и брюки в тон, а также блестящие черные туфли на высоких каблуках. Единственная не черная деталь ее одежды — белая блузка.
Джош останавливается, когда замечает у окна Лауру, и говорит:
— Все в порядке?
— В порядке. — Лаура едва заметно улыбается и поворачивается к мужу. — Просто задумалась.
Иногда по тому, как Джош сужает и расширяет глаза, мне кажется, что он видит больше, чем другие, обычные люди. Когда бы Лаура к нему ни обращалась, его глаза шарят по ее лицу, и сразу видно, насколько ему интересно то, что она говорит. Его взгляд совершенно не похож на тревожный взгляд Сары, застывавший на лице дочери. Когда Сара обращалась к ней, Лаура всегда отводила глаза. Тем не менее иногда, когда Сара переводила взгляд на меня, Лаура смотрела на лицо матери с выражением, которое трудно описать. Кожа на ее горле натягивалась, как будто она намеревалась что-то сказать. Но когда Сара вновь переводила взгляд на нее, лицо Лауры уже вновь имело обычное выражение, и она говорила матери что-то ничего не значащее, например: «Вкусный кофе».
Джош отрывает взгляд от лица Лауры лишь для того, чтобы еще раз обвести взглядом комнату.
— Где Пруденс?
— Прячется в шкафу. — Мой хвост со свистом рассекает воздух, когда Лаура называет мои действия «прятками», вместо того чтобы дать им правильное определение — я жду, пока она наконец уйдет.
— Как она полюбила этот шкаф, — произносит Джош.
— Ей нужно время. — Лаура смахивает мою шерстинку с рукава своего жакета. — По-моему, ей пока не очень уютно. Похоже, она очень мало спит.
Джош подходит к Лауре и нежно проводит рукой по ее щеке.
— В последнее время столько всего навалилось.
Лаура касается своей рукой его ладони, но делает шаг назад, чтобы он больше не трогал ее лица.
— Я в порядке, — повторяет она. Потом смотрит на свои наручные часы и говорит: — Если мы не поторопимся, опоздаем.
Я прислушиваюсь к звуку их шагов на лестнице. Интересно, сколько еще мне придется здесь жить, пока не вернется Сара и не заберет меня в Нижний Ист-Сайд?
Каждое утро, после того как Лаура с Джошем уходят на работу, я брожу по квартире и пытаюсь найти себе место, где можно уютно устроиться и долго, крепко поспать. Дни идут, а мне все острее необходимо хорошо выспаться. Однако трудно выспаться, когда все пахнет не так, как должно. А Лаура еще больше усложняет задачу, потому что всегда убирает и моет пол с вонючими распылителями и полиролями, которые пахнут так, как, по мнению людей, должны пахнуть лимоны и сосна. Особенно ей не нравится, когда под кухонным столом валяются крошки. Лаура утверждает, что от крошек заводятся тараканы и мыши (хотя о последних ей волноваться не стоит, пока я здесь), и я вспоминаю рассказы Сары о том, как им приходилось поддерживать чистоту в квартире, где они жили с Лаурой, когда та была еще маленькой.
Я залезаю в коробки Сары и вылезаю из них, пытаясь уютно устроиться среди знакомых запахов. Прижимаюсь щекой к вещам, впитываю Сарин запах, но коробки заполнены доверху, поэтому лечь и поспать я не могу. Вчера я попыталась зарыться в большой пакет «Любовь спасет день», который лежит на боку в одной из коробок. Тогда я подумала: там пахнет, как у нас с Сарой в квартире, и, если мне удастся зарыться поглубже, чтобы окружить себя нашим чудесным общим запахом, получится что-то вроде пещерки.
Понадобилось время, но я вытащила часть газет и журналов и расчистила местечко, чтобы протиснуться внутрь. Но когда я извлекла все бумаги, то поняла, что на дне находится предмет из холодного металла — совершенно непригодный для лежания. Даже с помощью своего «лишнего» когтя я не могла бы его передвинуть. Когда Джош вернулся домой и увидел разбросанные на полу старые газеты, он засмеялся и сказал:
— Кто-то, похоже, сегодня весело провел день. — Не знаю, что его натолкнуло на эту мысль (мой день можно назвать каким угодно, только не веселым), но, по всей видимости, предположение ему понравилось, потому что он продолжал улыбаться, складывая назад все эти газеты и журналы. Времени уборка заняла у него больше, чем нужно, потому что он сначала читал эти газеты, а только потом складывал.
Он запихнул всю эту прессу назад в пакет «Любовь спасет день», а потом отнес его в Домашний кабинет — комнату, соседнюю с этой. Мне этот поступок кажется разумным. В той комнате уже множество журналов, потому что Джош работает на компанию, которая их издает.
Теперь я медленно крадусь в Домашний кабинет, прислушиваясь к звуку шагов — на всякий случай, — несмотря на то что слышала, как Лаура с Джошем ушли на работу. Домашний кабинет слишком переполнен тем, что Джош называет «памятными вещами», а Лаура просто «хламом» (хотя она дразняще улыбается, когда это говорит), чтобы стать для меня по-настоящему уютным. Но здесь есть чудесная нагревающаяся кровать для кошки, которая расположена на письменном столе перед небольшим экраном телевизора. К кровати крепится игрушечная мышка на поводке, что лишний раз подтверждает, как мало такие люди, как Джош, знают о мышах. Во-первых, игрушечная мышка совершенно не похожа на настоящую. Во-вторых, ни одна мышь не позволит человеку усадить себя на поводок, потому что даже мыши умнее собак.
Джош любит использовать кровать для кошек как когтеточку, тренируя свои пальцы по несколько часов безостановочно. Странно, но они издают клацающие звуки, а не звук царапающих когтей, обычный для когтеточки. Если Джош видит, что я сплю на ней — используя ее по прямому назначению, — он сгоняет меня, чтобы самому сесть за нее и использовать уже не по назначению. Поэтому теперь я захожу сюда немного подремать днем, пока Джош на работе. Когда он заставал меня на столе первые пару раз, он говорил, что я должна держаться отсюда подальше — такое «правило». Если бы я так не устала от недосыпания, вероятно, я нашла бы попытку Джоша навязать мне «правила» смешной. Все кошки с рождения знают, что бессмысленно обращать внимание на бессмысленные правила, устанавливаемые людьми. Кроме того, меньше люди знают — крепче спят.
Мне удается немного поспать, но все вокруг пахнет слишком незнакомо, чтобы можно было полностью расслабиться. Я осторожно ступаю с кровати для кошек на стол, со стола на кресло, стоящее перед ним, а потом с кресла спрыгиваю на пол. Затем возвращаюсь в комнату, где Лаура меня кормит. Тут стоят все коробки Сары.
Похоже, Лаура не любит заходить в эту комнату, но я должна признать, что она очень аккуратно придерживается расписания — намного лучше Сары. Каждое утро она кормит меня в одно и то же время, за исключением воскресений — единственный день, когда Лаура не ходит в контору. Она, как и Сара, работает в юридической фирме, но, по всей видимости, работа Лауры намного важнее, чем набор текста, потому что людям из ее конторы она необходима с той самой секунды, как просыпается. Вечером, возвращаясь домой, она приносит с собой большие пачки бумаг, чтобы поработать еще и дома. Читая свои бумаги, Лаура надевает очки — скорее всего и на работе она тоже ходит в очках. По бокам на переносице у нее остаются едва заметные розовые следы.
Рабочие дни Лауры длиннее Сариных, обычно она возвращается домой намного позже наступления сумерек, чтобы покормить меня перед сном. Джош по вечерам часто ходит куда-нибудь с друзьями по работе, с сослуживцами, но даже он возвращается раньше Лауры. Порой он выражает сожаление по поводу того, что она так поздно приходит домой, но Лаура объясняет: дела ее клиентов расстроятся, если она будет работать меньше, и тогда ее начальство станет поручать ей меньше дел. Мне кажется, что получать меньше работы — это хорошо. Но Лаура явно придерживается иного мнения. Кажется, чем больше некоторые люди работают, тем больше им приходится работать. А смысл где? Однако мне многие из людских поступков кажутся бессмысленными.
Стены в этой комнате выкрашены желтой краской, и запах ее до сих пор не выветрился. Пол выстлан гладкими деревянными досками, которые натирали до тех пор, пока в солнечном свете они не стали блестеть, как водная гладь. В первые несколько дней после переезда я думала, что пол на самом деле сделан из воды, таким он был скользким. Не сразу я научилась передвигаться здесь так, чтобы подо мной не разъезжались лапки, когда я бежала или слишком быстро поворачивалась.
Такие же скользкие деревянные доски покрывали пол и во всех остальных помещениях квартиры, и даже Лаура с Джошем иногда на нем поскальзывались. Как-то Лаура рухнула прямо на Джоша, когда они шли по коридору. Он подхватил ее, чтобы она не упала. Я бы не позволила, чтобы человек меня так хватал, но Лаура выкрутилась и рассмеялась. Она вообще много смеется над поступками Джоша. Иногда он комкает бумажную салфетку в руке, подносит ее ко рту, а потом кашляет — смятая салфетка вылетает. «Ой, прости меня, — говорит он. — Не знаю, как это произошло». Мне это кажется нелепым, но Лаура всегда закатывает глаза и смеется. Как несправедливо! Когда я выплевываю клубок волос, Лаура не закатывает глаза в восторге и не восклицает: «Пруденс! Как смешно!», а начинает сердито убирать за мной.
Эта комната практически пустая, если не считать коробок с вещами Сары и сгруженных в одном углу четырех темно-коричневых стульев с черными кожаными сиденьями. Я попыталась пометить хотя бы один стул в этой комнате когтями, как пометила наш диван в Нижнем Ист-Сайде (единственным моим желанием при этом было сделать эту комнату хоть немного похожей на мое прежнее жилье), но Лаура застала меня за этим занятием и решительно сказала: «Нет! Нет, Пруденс!» Не понимаю, почему она так разволновалась. Она могла бы просто спокойно сказать: «Пруденс, в Верхнем Вест-Сайде метить стулья считается дурным тоном», и я бы отлично ее поняла. Наверняка это лучше, чем крик.
Хотя, если честно, стулья мне вообще ни к чему, потому что оба больших окна имеют подоконники, на которых я могу разлечься и наблюдать за происходящим на улице. Эта квартира расположена так высоко, что из окна я вижу множество вещей, о существовании которых даже не подозревала. Например, я не знала, как выглядят верхушки зданий. У некоторых крыши черные, у других белые, а где-то есть небольшие, выложенные кирпичом островки, где люди выращивают цветы и нежатся в лучах солнца. На паре крыш есть огромные круглые предметы, поверх которых лежит что-то остроконечное, — как-то я слышала, что Джош назвал это «водонапорными башнями». Вокруг нас больше неба, чем мне до этого приходилось видеть, и, когда солнце светит слишком ярко, а небо слишком голубое, перед глазами у меня возникают волнистые линии, если смотреть долго.
Если бы со мной жила Сара, она, скорее всего, поднесла бы один из этих стульев к окну, чтобы мы могли сидеть вдвоем и любоваться солнышком. Она бы что-то напевала и гладила меня по спине, пока я сижу у нее на коленях, возможно, спела бы даже песенку о Пруденс, пока я погружаюсь в глубокий сон.
Но здесь я почти все время одна, и единственная музыка, которую я слышу с тех пор, как покинула Нижний Ист-Сайд, — воспоминания о песнях Сары.
Слышу, как в замке поворачивается ключ, и по звяканью понимаю, что вернулся Джош. Лаура всегда держит ключи наготове, когда выходит из лифта. Я ни разу не слышала, как она звенит ими, пытаясь отыскать нужный, чтобы войти в квартиру.
На лестнице слышатся шаги Джоша, доносится слабый запах его одеколона (который по утрам намного сильнее), когда он направляется в их с Лаурой спальню. После того как Джош переодевается из рабочей одежды в спортивный костюм и снимает туфли, оставаясь в одних носках, он проводит какое-то время за клацаньем на кровати-когтеточке в Домашнем кабинете. Потом он спускается вниз — послушать музыку в гостиной в ожидании Лауры. До меня доносятся ее приглушенные звуки.
Бóльшая часть музыки Джоша живет на маленьких серебристых дисках, которые заезжают в совершенно другое устройство, не похожее на столик Сары, заставляющий петь ее черные диски. У Джоша тоже есть несколько черных дисков, но они намного меньше, чем Сарины. У самой Сары тоже было не так много, когда я ее приняла. Ее плакаты, диски и специальный «диджейский» стол, на котором она их проигрывала, много лет жили сами по себе в месте, которое называется Склад. И только когда я прожила у Сары месяца два, она однажды куда-то уехала и привезла их домой. «Знаешь, это все благодаря тебе, — позже шептала Сара, когда мы вместе сидели на диване и слушали черные диски. — Ты вернула назад мою музыку. Мне казалось, я потеряла ее навсегда». Я перекатилась на бок и замурлыкала, потому что по голосу и поглаживаниям Сары почувствовала, как сильно мы привязаны друг к другу. Но я не понимала, каким образом помогла Саре вернуть ее музыку. Может быть, мне сделать это еще раз? Может быть (если мне придется жить здесь достаточно долго), через пару месяцев Лаура с Джошем отправятся на Склад и вернутся с сотнями собственных черных дисков.
Джош любит музыку почти так же сильно, как Сара. Если он слушает музыку, а в комнате находится Лаура, он поджимает губы, кладет руки на бедра и изображает витиеватые па. Он выглядит очень глупо, совершая эти движения, но Лауру это заставляет смеяться. Или возьмет ее за руку, а свою положит ей на талию, и оба закружатся в настоящем танце. Интересно, а Саре понравилось бы танцевать с другим человеком под музыку в нашей старой квартире?
Позже из-за недосыпа я начинаю путать, что происходит на самом деле, а что является воспоминанием или сном, которым я, вероятно, все-таки ненадолго забываюсь. Легкий ветерок из открытого окна в моей комнате шевелит белые занавески. Когда тени на противоположной стене тоже приходят в движение, мне на мгновение кажется, что я вижу в этой комнате Сару, которая наклоняется, гладит меня по спинке и приговаривает: «И что мы сегодня вечером послушаем, Пруденс?»
Я долго потягиваюсь, выпрямляя перед собой передние лапки и выгибая спину. Мой хвост тоже вытягивается прямо вверх, а кончик его закручивается. Мне нужно встать и пройтись, иначе я так и застряну в полудреме и мне будет казаться, что я повсюду вижу Сару. Боль от осознания того, что Сары со мной здесь нет, начинает привычно растекаться от груди к животу. Чтобы она оставила меня в покое, я встаю и иду в сторону лестницы.
Раньше я мечтала жить с Сарой в доме, где есть лестница, но оказывается, лестницы могут быть очень обманчивыми, если ты к ним не привык. Я пытаюсь выяснить, не проще ли будет передвигаться, по отдельности перемещая каждую из моих четырех лап на ступеньки впереди меня. Или стоит перемещать две передние лапы одновременно, а потом подтягивать задние? Я стараюсь осваивать лестницу, когда Лаура с Джошем на работе, чтобы они ничего не видели. Иначе стыда не оберешься. «Бедняжка Пруденс не знает, как пользоваться лестницей!» — могут посмеяться они над моим невежеством. Два дня назад я случайно вошла в спальню Лауры и Джоша и увидела, как они катаются друг с другом по кровати, издавая странные звуки. Еще никогда я не видела более неподобающего поведения! У меня нет ни малейшего желания выглядеть в их глазах так же глупо.
Прямо на середине лестницы есть участок, где пол совершенно ровный, и только потом опять начинаются ступеньки. Когда Лаура с Джошем дома, я могу оттачивать навыки хождения по ступенькам на верхней половине лестницы, а потом отдыхать на ровном участке и выглядывать из-за угла, чтобы посмотреть, чем они занимаются в гостиной.
Самая маленькая часть гостиной отведена под столовую, которая примыкает к кухне. Там стоят длинный стол темного дерева и четыре стула в тон, которые выглядят так же, как те, что свалены в углу моей комнаты. Я вижу Лауру с Джошем в столовой только тогда, когда они просматривают счета или говорят о деньгах. Лаура боится, что они мало откладывают, а Джош возражает, мол, Лаура слишком уж печется о деньгах. Однажды я слышала, как Лаура сказала Джошу, что ему так кажется, потому что на самом деле он никогда не знал абсолютного безденежья.
Хотя эта квартира намного больше той, где жили мы с Сарой, у Джоша с Лаурой гораздо меньше вещей, чем было у нас. На стенах ничего не висит, никаких тебе безделушек, так любимых Сарой, как, например, красивые маленькие бутылочки или призмы, которые она повесила на окна, чтобы солнечные лучи преломлялись в них и плясали на стенах радужными бликами. Сара разводила цветы, включая и специальное растение, которое называется «кошачья трава», — ее приятно было есть при расстройстве желудка. В этой же квартире всего одно растение, оно стоит в углу гостиной и сделано из шелка.
На полках видно несколько фотографий в рамочках — в основном снимки Джоша в разном возрасте. На одной он стоит на улице в снегу (снег — это просто холодная вода!), держа в руках пару больших деревянных палок в рост человека. Или вот, на сцене с другими юными на вид людьми в смешных костюмах. Снимков Лауры совсем мало, и нет ни одного детского. Несколько совместных фотографий Лауры и Джоша, сделанных в день их свадьбы, а еще во время их медового месяца в таком месте, которое называется Гавайи. (На заднем плане на этих снимках много воды, следовательно, Гавайи, должно быть, располагаются возле той реки, которую мы проезжали на пути в Верхний Вест-Сайд).
Есть еще одна фотография со свадьбы, где Лаура стоит с Сарой. На Лауре простое короткое белое платье и небольшой жакет в тон, а в руках букет красивых длинных белоснежных цветов. Сара в светло-фиолетовом платье. Это моя любимая фотография, потому что я помню, как помогала Саре выбрать, какой наряд надеть к дочери на свадьбу. Я радуюсь, глядя на нее, хотя Лаура с Сарой не выглядят естественными — они напряженно позируют, взяв друг друга под руку.
Сейчас Джош встает с дивана и направляется мимо полки с фотографиями на кухню. Я слышу грохот тяжелых кастрюль, которые достают из шкафа, и через несколько мгновений лестницы достигает запах готовящейся еды. Пахнет так, будто Джош готовит яичницу, что не может быть правдой. Джош жарит яичницу только по утрам в воскресенье, а Лаура тогда идет за бубликами, чтобы съесть их с яйцами. Лаура утверждает, что Джош готовит самый вкусный омлет, хотя я не могу его оценить, потому что никто даже не подумал предложить мне кусочек, как это всегда делала Сара, когда готовила завтрак.
Печально, если все происходит не по плану, но еще хуже, когда это касается твоей еды. Мне кажется, что, хотя Лаура любит омлет, приготовленный Джошем, скорее всего, она расстроится, когда вернется домой и обнаружит, что Джош жарит омлет не в воскресенье утром, а во вторник вечером. Но происходит по-другому. Когда Лаура является, проходит на кухню и видит, что Джош жарит омлет, она говорит:
— По какому случаю? — В ее голосе слышатся удивление и радость.
— Завтрак вместо ужина, — отвечает Джош. — Люблю омлет. Я подумал, что плотный ужин поможет тебе уснуть. Обычно после завтрака в воскресенье ты возвращаешься назад в постель.
— Я же не одна туда возвращаюсь! — Лаура не то чтобы смеется, но в ее голосе слышится улыбка.
— Готов перепробовать все, чтобы помочь тебе расслабиться.
— Спасибо, — отвечает Лаура голосом, который Сара назвала бы «холодным». Потом я слышу мокрый, чмокающий звук, который издают эти двое, когда их рты соприкасаются. Через секунду, когда звуки стихают, Лаура говорит уже потише:
— Джош, не стоит обо мне волноваться. Я тебе об этом постоянно говорю. У меня просто голова забита работой и всем остальным.
Слышится звон тарелок и столовых приборов, а потом звук удаляющихся шагов Лауры и Джоша. Они движутся из кухни в гостиную, и мне опять становится их видно. За едой оба делятся тем, что произошло на работе. Потом замолкает музыка, и Джош идет к тому месту, где она живет. На этот раз он вместо маленького серебристого диска ставит черный.
Песня, которая льется, напоминает те, что раньше, два-три раза в год, слушали Сара с Анис, когда приезжала последняя. Что-то о «кризисе личности». Подруги вели себя глупо, пели в такие предметы, как расчески или пустой держатель бумажных полотенец, как будто это их микрофоны, в которые поют люди по телевизору. У Анис приятный голос (хотя обычно он звучит низко и хрипловато), и я сразу вижу, что ее пение нравится Саре больше собственного. Сара уверяет, что та известна благодаря своему пению.
Должно быть, у кошек и людей разные музыкальные вкусы, потому что, на мой взгляд, ни у кого нет такого приятного голоса, как у Сары. Анис всегда повторяла, что Саре самой стоило попробовать стать профессиональной певицей. Я вскакивала на лапы, тыкалась головой в руку Сары, потому что радовалась, когда она пела. А Анис наклонялась почесать меня за ушком, так, как мне нравится, и говорила: «Смотри — даже Пруденс со мной согласна!»
Но Сара уверяла, что не обладает Тем, чем обладает Анис, чтобы выступать на сцене перед другими людьми. Именно поэтому ей нравилось быть диджеем. Она могла дарить музыку людям, не стоя перед ними. «Как бы там ни было, — отвечала Сара подруге, — я никогда не была такой талантливой, как ты».
Несколько секунд я не слышу ничего, кроме этой песни и звона вилок о тарелки. Джош продолжает есть, но вилка Лауры замирает на полпути ко рту. Тогда он говорит:
— Все в порядке?
— А? — Лаура едва заметно качает головой, как делает Сара, когда пытается «прояснить мозги». — Прости, задумалась.
Лицо Джоша розовеет, хотя не могу точно сказать почему — то ли от смущения, то ли потому, что он собирается сказать неправду.
— Это ты меня прости, — извиняется он. — Я не подумал. Я видел такую же пластинку в коллекции твоей мамы, когда мы убирали в квартире.
— Может быть, — отвечает Лаура. — Она любила «New York Dolls».
Джош смотрит Лауре в лицо, она же пытается выглядеть как обычно, и ей практически удается, если бы не морщинка между бровей. В конце концов Джош мягко произносит:
— Может быть, пойдем наверх, когда поедим, и рассортируем какие-то из ее коробок? Пластинками можно заняться на выходных. Если честно, мне кажется, — поспешно добавляет он, как будто боится, что Лаура его перебьет, — ты будешь крепче спать, как только мы с этим покончим. А когда мы кое-что вынесем, то сделаем немного веселее жизнь Пруденс. Я вижу, как она ходит по комнате — ей даже развернуться негде.
Мышцы вокруг моих усов напрягаются. Если Джош на самом деле беспокоится обо мне, то должен понимать, что меньше всего мне хочется, чтобы любую из этих коробок уносили.
К тому же, если бы ему на самом деле не безразлична была моя судьба, он дал бы мне попробовать свой омлет.
— Пруденс привыкает к новому месту, — отвечает Лаура. — С ней все будет хорошо. А мне сегодня вечером нужно просмотреть кучу бумаг. — Она встает с тарелкой в руке.
— Не волнуйся, — уверяет Джош, — я все уберу.
— Спасибо, — благодарит Лаура, останавливается и целует его в щеку.
В квартире стоит тишина, слышно только, как ручка царапает бумагу, — это на диване в гостиной работает Лаура. Джош уже давным-давно пошел спать. Со своего места на середине лестницы мне видно, что Лаура тоже устала. Слишком часто она замирает, поднимает на лоб очки и потирает глаза. Однако спать не идет. Вероятно, потому, что знает: все равно будет несколько часов крутиться из стороны в сторону, путаться в одеяле, как происходит, похоже, каждую ночь.
Что-то звенит у меня в левом ухе, я дергаю им, но звон не прекращается. Наконец левой лапой я достаю до своего ушка и чешу его когтями. От этого моя бирочка «Пруденс» начинает звенеть, и Лаура испуганно поднимает голову. Наши взгляды встречаются. Она впервые видит меня на лестнице. Я напрягаюсь всем телом в ожидании ее дальнейших действий.
— Привет, Пруденс, — негромко окликает она. — Не спится?
Я не раз слышала, как Лаура с Джошем разговаривают обо мне, с тех пор как я живу здесь, но она впервые обратилась непосредственно ко мне. Я начинаю нервничать по какой-то необъяснимой для меня причине. Приподнявшись, я поворачиваюсь и прыжком преодолеваю верхнюю часть лестницы, потом стремительно несусь по коридору, держась поближе к стене, — назад в свою темную комнату, где стоят коробки с вещами Сары. Всю дорогу звенит моя бирочка и умолкает только тогда, когда я стремглав бросаюсь в недра шкафа. Лаура заходит в комнату следом за мной и останавливается. Хотя в темноте она не может видеть, где я прячусь, уверена: она точно знает, где я.
Ее темный силуэт пересекает комнату и присаживается перед одной из коробок Сары. Слышится глухой стук и шелест перемещаемых предметов, а потом шуршание, как будто из-под более тяжелых предметов достают какой-то пакет. Тут я вспоминаю, что Лаура возвращалась к мусорнику, чтобы забрать обратно один пакет, который выбросила в день нашего переезда.
Лаура подходит к шкафу, моя шерсть встает дыбом.
— На, держи, — мягко говорит она, опускаясь на корточки, и бросает что-то мне в шкаф.
Это один из Сариных «выходных» нарядов, тусклого золотистого цвета с белым рисунком в виде ромбиков. Помню, как я подумала в тот день, когда Сара примеряла свои модные «птичьи платья», что никогда не видела ее более красивой, чем в нем. Она носила его, будучи еще моложе теперешней Лауры.
Я осторожно подползаю к платью, тяну его передними лапами, чтобы удобнее расправить. Я сразу понимаю, что, имея рядом мягкую подстилку с таким приятным, знакомым запахом нас-с-Сарой-вместе, сегодня я усну намного быстрее. Лаура продолжает сидеть на корточках перед шкафом, и, когда я отрываю глаза от платья, наши взгляды опять встречаются. Мы смотрим друг на друга, Лаура медленно закрывает и вновь открывает глаза. Так иногда делала Сара, когда я смотрела на нее. Я ощущаю полное опустошение в теле. Когда опускаются мои веки, Лаура осторожно мне подмигивает.
Мои глаза так быстро слипаются, что я даже не слышу, как она выходит из комнаты. И только на следующее утро, когда я просыпаюсь почти в полдень, кажется, впервые со вчерашнего вечера, я понимаю, что есть вещи, одинаковые везде. Даже здесь, в этой незнакомой стране, так далеко — на другом конце света — от дома, где я выросла, кто-то научил Лауру правильно общаться с кошками.
Глава 4
Пруденс
Лаура с Джошем неустанно повторяют, насколько это необычное явление для второй половины апреля, но на этой неделе все-таки пошел снег. Разразившаяся метель принесла с собой такой резкий ветер, что снег бил прямо в лицо. Дома, в Нижнем Ист-Сайде, через щели между оконной рамой и стеной в такую погоду слышалось завывание ветра. Здесь же странно было видеть, что на улице бушует снежная буря, а в квартире все тихо.
Сара раньше смеялась, наблюдая, как я прижимаю нос к окну, пытаясь поймать лапой снежинку. Даже понимая, что не могу достать снег через стекло, и зная, насколько там холодно и ненастно, я не могла преодолеть желание поймать снежинку. Лаура с Джошем продолжали ходить на работу, несмотря на то что на улице так сильно мело. Не было рядом никого, кто посмеялся бы над моими попытками поймать снежинки за окном, и неожиданно это занятие показалось мне уже не таким забавным, как раньше.
В день, когда пошел снег, Джош поднялся наверх, в мою комнату, чтобы достать их с Лаурой тяжелые зимние пальто, спрятанные в глубине моего шкафа. Он решил, что в этом году они больше не понадобятся, и спрятал их подальше. Джош совершенно не ожидал, что на шерстяной ткани окажется так много моей шерсти. Он пожаловался Лауре, что, на мой взгляд, было совершенно неразумно. В конце концов, моя шерсть не дает мне замерзнуть, поэтому если на их пальто будет немного моей шерсти, то им будет теплее. На самом деле Джош должен быть мне благодарен, если здраво рассудить.
Не так много людей умеют выражать кошкам благодарность, которой те заслуживают.
Джош спросил у Лауры, может быть, стоит закрывать дверь в шкаф, чтобы я туда не лазила, и шерсть у меня на спине вздыбилась, когда я представила, что потеряю свое любимое темное, уютное гнездышко. Но Лаура засмеялась и ответила, что проще перевесить пальто в другой шкаф, чем заставить кошку изменить своим привычкам.
За две недели, прошедшие с того дня, как Лаура дала мне платье Сары, чтобы я на нем спала, отношения между нами мало изменились. Разумеется, я сейчас сплю намного лучше, чем раньше, — теперь у меня есть вещь, которая пахнет нами с Сарой, и я могу свернуться на ней калачиком. Еще я много времени провожу внизу, я уже чуточку привыкла к окружающей обстановке, и Лаура следит за мной взглядом, когда отрывает глаза от лежащих перед ней бумаг. Иногда она сжимает и разжимает пальцы, и я вижу, что она хочет ко мне прикоснуться. Однако пока она даже не пыталась меня погладить.
Меня никто не гладил с тех пор, как ушла Сара, — кажется, прошла целая вечность, бесконечных пять недель. Когда я думаю об этом, то скучаю не по человеческому прикосновению как таковому. Мне все больше не хватает именно Сары.
Несмотря на лежащий на улице снег и тот факт, что весной совершенно не пахнет, сегодня вечером Джош с Лаурой ждут в гости родственников Джоша, собираясь отмечать весенний иудейский праздник под названием Песах. Сара с Анис раньше что-то говорили об обычных праздниках «в складчину», которые Сара устраивала в своей квартире в Нижнем Ист-Сайде, когда Лаура была маленькой. Целый день приходили соседи, друзья и люди, которые работали у Сары в магазине, приносили с собой еду и ели то, что принесли другие, пока Сара меняла пластинки на своем диджейском столике.
Один из двух дней за целый год, когда магазин был закрыт, — Рождество. Второй — День благодарения. Сара говорила, что День благодарения — праздник неплохой, но только на Рождество всегда находится по крайней мере один человек, который обязательно зайдет к ней домой и попросит ненадолго открыть магазин, чтобы купить черный диск, который ему так необходимо подарить другому человеку. По словам Сары, когда воспитываешь дочь, нужно зарабатывать деньги там, где только можно. Поэтому она ненадолго бежала в магазин, чтобы продать один черный диск этому человеку, и хорошо, что в квартире было так много людей, которые могли присмотреть за Лаурой в отсутствие Сары.
Не знаю, как люди в Верхнем Вест-Сайде отмечают праздники, но мне кажется, что семья Джоша — вовсе не частые гости. Сегодня понедельник, утро, а целое воскресенье Лаура, как ужаленная, носилась по нашей квартире. Она всегда что-нибудь убирает, когда выдается свободная минутка, но вчера она выдраила все от пола до потолка. Нигде не осталось ни пылинки, а в квартире повисла невыносимая вонь от чистящих средств. Она помыла пол даже под их с Джошем кроватью. Джош засмеялся, когда увидел, чем она занимается, и сказал, что его мать не станет заглядывать к ним под кровать. Но Лаура ответила, что это первый визит его родителей после их свадьбы, и она хочет, чтобы все было «безукоризненно».
Пока Лаура занималась уборкой, Джош сходил в магазин за особыми продуктами, которыми будут угощать его родителей. По возвращении он сложил все в холодильник, и теперь, когда бы Лаура или Джош его ни открывали, удивительный аромат мяса и других вкусностей, которые мне раньше не доводилось пробовать, поднимается наверх. Надеюсь, Лаура не забудет о щедрости, когда сегодня вечером подаст мне ужин в моей особой именной тарелке.
Я точно не знаю, кого из родственников Джоша ждать, но точно знаю, кто не приедет — человек, который раньше был женат на сестре Джоша. Потому что вчера я слышала, как Джош сказал:
— По крайней мере мне больше не придется видеть за праздничными ужинами этого Уставшего от Жизни.
Не уверена, что понимаю, что такое «Уставший от Жизни». Как-то Анис говорила, что отец Лауры тоже был Уставшим от Жизни. Но Сара всегда употребляла слово «жизнь» в положительном смысле, когда описывала любимую музыку. Еще Анис утверждала, что отец Лауры был ни к чему не пригодным человеком. Он пробовал играть в группе, потом пытался стать актером, даже немного занимался фотографией, но всегда слишком быстро уставал, чтобы хоть в чем-то преуспеть. Хотя именно он сделал ту фотографию Сары, которую Джош привез жить сюда, и я вижу, как Лаура иногда смотрит на этот снимок, когда рядом нет мужа.
Я понимаю, что значит «уставший» (так случается с кошками, если они слишком долго гоняются за мышами), но еще мне известно, что об усталых люди обычно не говорят плохо, потому что всем нужно отдыхать. Скорее всего, «уставший от жизни» означает, что человек создает по-настоящему ужасную музыку, а потом заставляет людей ее слушать, пока они от нее не устанут. Однако мне кажется, что это не совсем точное толкование. И я почти жалею, что сегодня вечером не придет Уставший от Жизни, чтобы я увидела, как же выглядят такие люди.
От мыслей меня отвлекает топот Джоша. Должно быть, он ждет Лауру, потому что теперь просто стоит посреди комнаты среди коробок Сары. Его быстрый взгляд скользит в пространстве, не замечая меня в глубине шкафа, а потом останавливается на коробках с черными дисками. Джош присаживается на корточки и начинает их перебирать. Я прижимаю уши к голове, когда он достает один, чтобы взглянуть на тыльную сторону конверта. Это же черные диски Сары! По-моему, одно дело, если на них захочет взглянуть Лаура, но то, что их перебирает Джош, кажется неправильным.
Он, по всей видимости, думает так же, потому что сначала кажется настороженным — одно его ухо повернуто к двери, но, похоже, он не в силах сдержаться. А потом, когда слышит звук приближающихся Лауриных шагов, Джош забывает об осторожности.
— Посмотри на это! — восклицает он. — На обороте этого альбома «Evil Sugar» — фотография твоей мамы. — Он протягивает Лауре черный диск в картонной обложке, указывая на что-то, чего мне со своего места не видно. — Вот она с Анис Пирс под навесом «Gem Spa».
— Они с Анис жили в одной комнате. — В голосе Лауры явно слышится нежелание говорить об этом. — Пока «Evil Sugar» не перебрались в Лос-Анджелес.
Странно слышать, как Джош называет ее «Анис Пирс», потому что Сара всегда называла ее «Анис-очнись». Тогда Анис была известной, и с ней, кажется, постоянно происходили безумные вещи. Сара поддразнивала подругу, мол, та даже за кормом для кошки не может выйти, чтобы не угодить под колеса машины, или не лишиться кошелька, или не получить по голове веткой дерева. Частенько в нее влюблялся с первого взгляда какой-нибудь парень, но обычно все эти неприятности случались в один день.
— Когда я учился в восьмом классе, — говорит Джош, — это был мой любимый альбом. Я увлекался всеми нью-йоркскими группами, которые записывались на студии «Альфавилль». — Он смеется. — Я был просто раздавлен, когда Анис Пирс вышла замуж за Кита Амейкера. И тогда я попытался убедить свою мать купить мне барабанную установку. Я решил, что если барабанщикам достаются такие женщины, как Анис Пирс, то я стану барабанщиком. — Джош повертел картонную обложку в руках. — Я никогда не представлял, насколько она хрупкая, пока не увидел ее рядом с твоей матерью. — Он поднимает взгляд на Лауру, его глаза возбужденно горят, но в них читается смущение. — Почему ты мне не сказала, что твоя мама с нею знакома?
— Да к слову не приходилось. — Лаура пожимает плечами. — Перестань. Давай эти стулья снесем в столовую, пока не опоздали на работу.
Кажется, Джош неохотно кладет этот диск в коробку к остальным, но, не говоря ни слова, все-таки идет с Лаурой за черными стульями, которые громоздятся в углу.
— Сегодня за ужином нас будет семеро, верно? — спрашивает Лаура.
Джош кладет одну руку ей на плечо.
— Еще не поздно все отменить, — мягко предлагает он. — Мои родители поймут, если ты пока не готова принимать гостей.
— Не говори глупости. Мы так долго к этому готовились. — Лаура поворачивает голову и улыбается ему, хотя ее ноздри слегка раздуваются — так обычно бывает, когда люди сердятся. — Я повторяю тебе, со мной все в порядке. Честно.
Лаура берет один стул, Джош два, и они пробираются между завалами коробок. Вчера Лаура не убирала только в этой комнате. Ей все еще неприятно сюда заходить, и я замечаю, что она даже не смотрит на стоящие на пути завалы.
Я думаю о том человеке, о котором однажды говорила Сара, — о том, кто потерял кошку и все, что у него было, поэтому не захотел больше жить. Интересно, почему Лаура не хочет пересмотреть содержимое всех этих коробок и вспомнить вместе со мной Сару, чтобы мы обе удостоверились, что у той есть причина вернуться.
Казалось, день тянется медленнее обычного, пока я жду, когда вернутся Лаура и Джош, чтобы наконец начать сегодняшний праздничный ужин. Я, пытаясь скоротать время, сплю в местах, куда обычно не забредаю, когда Джош дома, например, на кошачьей кровати в Домашнем кабинете и на том месте на диване, где любит сидеть и смотреть телевизор Джош, когда ждет Лауру с работы. Однако я догадалась, что, если перевернуться на спину и притвориться крепко спящей, Джош скорее всего не станет тебя трогать.
— Она, кажется, так уютно устроилась, — однажды говорит он Лауре. — Жалко будить. — Когда он это произносит, мне становится жалко людей, которые постоянно совершают глупости, а потом об этом жалеют.
Меня снова и снова тянет на кухню, хотя к праздничному ужину готовить еще не начинали. Наверное, следует проводить здесь побольше времени, потому что именно на кухне живут самые лучшие вещи. В Нижнем Ист-Сайде на кухне я иногда находила предметы, на которых безумно весело было оттачивать свое мастерство охотника на мышей. Например, неуловимые зажимы, которые не дают хлебу выпасть из пакета, или пластмассовые соломинки, через которые Сара иногда пьет содовую. (Мне так и не удалось дать Саре понять, для чего же на самом деле нужны соломинки, хотя я много раз пыталась это сделать. Под конец я просто стала прятать их под холодильник или под диван, чтобы она не пыталась забрать их у меня, дабы использовать не по назначению). А еще на кухне есть масса восхитительных вещей, которые можно есть и пить, даже если не намечается праздничного ужина. Например, тунец в консервной банке или тоненькие пластинки индейки, которые живут внутри мятой бумажки в холодильнике. Саре пришлось перестать держать там сливки для кофе и сыр, когда врач сказал, что молочные продукты вредны для ее сердца. Возможно, если бы я приходила сюда почаще, когда на кухне сидят Лаура с Джошем, могла бы вновь получать эти небольшие угощеньица.
И хотя день тянется медленно, когда в замке наконец поворачивается ключ Лауры, я понимаю, что все равно еще относительно рано. На улице пока даже не стемнело. Я знала — Лаура переживает по поводу сегодняшнего вечера, но даже не представляла, что она настолько взволнована, что уйдет с работы пораньше.
Лаура с Джошем сегодня утром что-то сделали со столом, и он стал длиннее — чтобы можно было поставить семь стульев. Сейчас Лаура тянется к самой верхней полке буфета, чтобы достать скатерти-подстилки (те намного симпатичнее, чем резиновые коврики, которые она положила под мои миски с едой и водой — на них нет обидных картинок с изображением улыбающихся кошек). Потом она идет к шкафу в прихожей и достает оттуда две огромные, тяжелые коробки. Оттуда она начинает вынимать разноцветные тарелки и стаканы, которые в десять раз красивее, чем посуда, из которой они с Джошем едят обычно. Руки Лауры двигаются медленно, она бережно рассматривает каждую доставаемую тарелку. Когда вся посуда оказывается на столе, она выглядывает в высокие окна и наблюдает за голубями цвета кофе на противоположной стороне улицы. Она так долго не сводит с них глаз, что я тоже поворачиваюсь к окну, но, как обычно, голуби не делают ничего примечательного — только летают бессмысленными кругами.
Вскоре домой возвращается Джош. Он подходит к ней сзади и заключает в объятия.
— Поверить не могу, что ты так рано вернулась домой! — радуется он.
— Песах — время чудес, — отвечает ему Лаура своим «бесстрастным» голосом.
Джош поднимается наверх помыть руки, потом возвращается, чтобы помочь Лауре: достает с верхней полки блюда, из холодильника бутылки, а Лаура тем временем включает плиту.
— Как думаешь, твоя мама не обидится, что вся еда куплена, не будет презирать меня за то, что я готовила не сама?
В голосе Лауры звучит тревога, но Джош смеется.
— Она будет тебя за это только уважать. Зельда уже много лет сама ничего не готовит.
Воздух перед плитой еще даже не нагрелся, а это означает, что пройдет какое-то время, прежде чем еда будет готова. Я решаю, что подремать в шкафу наверху — лучший способ скоротать время перед тем, когда я смогу наконец поесть. Я ухожу и слышу, как Джош говорит Лауре:
— Сейчас пройдусь с пылесосом в свободной комнате. Сегодня утром я заметил, как там пыльно.
— Отлично, — отрешенным голосом отвечает та. Когда я взбираюсь по ступенькам, моя бирка «Пруденс» негромко позвякивает на красном поводке, и я слышу позади глухие шаги Джоша.
И только я уютно устраиваюсь в глубине шкафа, как Джош включает верхний свет. Внезапно становится так светло, что я ничего не вижу — только размытый контур стоящего в дверном проеме Джоша, который толкает предмет, напоминающий высокий треугольник с ручкой наверху и квадратной штуковиной на колесиках внизу. От треугольника идет поводок, который Джош втыкает в розетку в стене справа от двери.
Мои глаза привыкают к яркому свету, и теперь я вижу, что Джош отставляет странный предмет, чтобы подойти к коробкам Сары. Он начинает их двигать и расставлять в совершенно другом порядке, а ведь я несколько дней потратила на то, чтобы запомнить их месторасположение. Я выскакиваю из шкафа и запрыгиваю на коробки, полагая, что дополнительный вес моего тела не позволит ему сдвинуть их с места. Но мне не удается его остановить. Он просто говорит: «Пруденс, перестань, не мешай», — голосом, который, по его мнению, звучит дружелюбно, и легонько отпихивает меня ногой, так что мне приходится перепрыгивать с одной коробки на другую.
Как только все они оказываются выстроены в два ряда под стенами, Джош возвращается к незнакомому предмету, стоящему в проходе. Он ударяет ногой по основанию, и вспыхивает белый свет. И предмет начинает визжать!
Он визжит без остановки, даже не переводя дыхание. И этот визг не похож на вопль боли — скорее на злобные крики того, кто хочет причинить боль. Может быть, кошке?! Это чудовище похоже на все чудовища, о которых я слышала по телевизору и в существование которых люди не верят. Только это чудовище настоящее! Оно ревет от злости, потому что Джош слишком крепко сжимает ему шею и не хочет отпускать, несмотря на то что оно скрипит зубами, и пытается вырваться, и злобно смотрит прямо на меня своим ужасным глазом. Оно жадно пожирает весь мусор, который рассыпался из моего лотка, и клочки моей шерсти (на протяжении нескольких последних недель ее выпало немало). Чудовищу приходится несколько раз пройтись по мусору, прежде чем оно сжирает все, но мою шерсть оно всасывает мгновенно. Чудовище охотится за мной! И не удовлетворится только шерстью — теперь оно хочет сожрать всю кошку!
Знаю, Лауре не нравится, что коробки Сары загромождают всю комнату, но я никогда не думала, что она пошлет Джоша, чтобы он их убил — и меня заодно. Я пытаюсь храбро защитить по крайней мере один ряд коробок Сары от этого ужасного монстра: поднимаю шерсть, чтобы казаться больше, чем есть на самом деле, шиплю на чудовище и предостерегающе царапаю когтями его гладкую голову. Обычно люди пугаются, но Это явно сильнее любого человека — за исключением Джоша. Он говорит:
— Кыш! — И машет рукой в мою сторону, как будто я собака, которую он пытается отогнать. Он способен управлять Ужасом одной рукой, а это означает, что он самый сильный человек на земле. В конце концов я сдаюсь и бегу прятаться в шкаф, сердце мое неистово колотится. Я слышу рев Чудовища у дверей шкафа, но за мной оно не гонится. Наверное, плохо видит, потому что у него всего один глаз. Тем не менее я не знаю, как хорошо оно слышит, а у меня так громко колотится сердце! Я сосредоточенно пытаюсь унять сердцебиение, и вскоре рев Чудовища становится все тише и тише. Понятно, оно ушло искать кошек в другую комнату.
Решаюсь выползти из шкафа, только когда больше не слышу его рыка. Кажется, ни одна из коробок Сары не пострадала, хотя все находится не на своих местах.
Я долго сижу в своей комнате наверху, припав к полу, так долго, что в окна уже заглядывает закатное солнце — так бывает, когда скоро стемнеет. На лестницу меня в конечном итоге выманивает запах готовящегося на плите мяса.
Осторожно пересекаю гостиную и столовую. На кухне витает такой манящий аромат, что я не знаю, что с собой делать.
Обычно я полностью управляю своими действиями, но сегодня воля мяса сильнее моей. Оно использует свой запах, чтобы вытащить меня прямо к плите и удерживать там, — и я не могу противиться его желаниям, как бы ни старалась.
Поэтому я сворачиваюсь калачиком у плиты и забываюсь полусном. Хочу хотя бы немного оставаться настороже, потому что, как только мясо достанут из духовки, я намерена потребовать у Лауры с Джошем свою порцию. В противном случае я не получу ничего, как происходит с омлетом.
Я думала, что смогу описывать вокруг еды круги, пока она не приготовится, — так подсказывали мне инстинкты. Но оказалось, я ничего не получу. Потому что, как только родные Джоша наконец переступили порог нашей квартиры, меня силой, можно даже сказать, грубо выставили с кухни.
Родные Джоша — это его мать и отец. В реальной жизни я еще никогда не видела таких старых людей (только по телевизору). Они приехали на машине из места, которое называется Нью-Джерси. Приехала также сестра Джоша со своим потомством: маленькой девочкой и мальчиком еще меньше. Я еще никогда не видела близко таких маленьких людей (только по телевизору). Они приехали на поезде из Вашингтон-Хайтс. Я это знаю потому, что, когда Джош открывает входную дверь, все гости веселятся, так как оказались у двери в одно и то же время, хотя приехали из разных мест.
— Хаг Песах, — произносит Джош и целует всех в щеку. Потом говорит маленькой девочке и мальчику: — Это означает «Счастливого Песаха» на иврите.
Маленькая девочка отвечает:
— Я знаю. — Да таким тоном оскорбленного самолюбия, что на мгновение мне кажется, что она мне понравится. — Нас учат ивриту в школе. На самом деле, — добавляет она, — нужно говорить: «Хаг Песах самеах».
— Своевременное замечание, — в голосе Джоша сквозит восхищение. — Постоянно забываю, какие в наши дни умные десятилетние дети.
Я понимаю, что эта девочка похожа на меня — люди недооценивают ее умственных способностей только потому, что она маленькая. Но когда они с мальчиком проходят мимо кухни и замечают, что я сторожу еду, они взвизгивают:
— Ой, коте-е-енок! — А потом оба бегут ко мне с распростертыми руками, не оставляя Джошу возможности представить нас как следует. И когда я поворачиваюсь и бегу от их объятий, эти маленькие негодники бросаются за мной! Я прячусь как можно быстрее под диван. Оба преследователя опускаются на колени, суют ко мне свои маленькие ручонки, которые пахнут соком и чипсами, и пытаются схватить меня за хвост или вырвать клок шерсти!
Я настолько изумлена их ужасающими манерами (неужели никто не потрудился ничему научить этих детенышей?), что мне больше ничего не остается, кроме как шипеть и бить их когтями по рукам. Мое дыхание становится громким и прерывистым, шерсть начинает подергиваться — Сара в такие моменты говорила, что я «пыхчу». Я не люблю так себя вести, но происходящее вынуждает. Наконец сестра Джоша произносит:
— Эбби! Роберт! Оставьте кошку в покое. Когда привыкнет, она сама выйдет с вами поиграть.
«Маловероятно», — думаю я, сгибая и выпрямляя хвост в попытке успокоиться.
— Простите, — извиняется Лаура перед сестрой Джоша. — Пруденс не очень-то любит чужих людей. — Я еще больше злюсь, когда слышу, как Лаура пытается оправдаться. Если бы она говорила правду, то сказала бы: «Пруденс играет только с теми, кто отличается хорошими манерами».
Родители Джоша входят в гостиную, где перед диваном стоит Лаура и наливает в бокалы вино.
— А вот и моя очаровательная невестка! — громким голосом восклицает отец Джоша.
Они обнимаются, и мать Джоша бормочет:
— Мы очень сожалеем, что твоя мама не может быть сегодня с нами.
Лаура немного скованно обнимает их в ответ и говорит:
— Спасибо. — Вежливо, но решительно, и это означает, что она сейчас не хочет говорить о Саре. Потом они с сестрой Джоша целуют друг друга в щеку.
У дивана есть длинная, а есть короткая сторона, и я прячусь под короткой. Детеныши садятся прямо надо мной, пихают друг друга ногами и играют какой-то небольшой пластмассовой коробкой, на которой есть кнопки и двигающиеся картинки. Временами они пытаются вырвать друг у друга эту коробочку, приговаривая: «Ты и так уже долго играешь. Моя очередь».
Джош с отцом сидят на другой стороне дивана, я могу разглядеть их лица, если высунусь чуть больше. На ногах у отца Джоша блестящие черные туфли со шнурками и черные носки, которые соскальзывают с лодыжек, когда он забрасывает ногу на ногу. Лаура сидит между матерью Джоша и его сестрой у стола. Мать Джоша вся сверкает — на ней украшений больше, чем когда-либо носила Сара. Кольца играют на свету — во время разговора она безостановочно хватает Лауру за руку, отчего та чувствует себя неловко. Как-то Сара сказала, что мы с Лаурой похожи, потому что терпеть не можем, когда нас обнимают, только если первыми не раскрываем объятий.
Я замечаю, как Лаура настороженно за всеми наблюдает. Как будто хочет убедиться, что не случится ничего неожиданного, чего-то такого, на что она не знала бы как реагировать. Я понимаю, что Лаура выросла в Нижнем Ист-Сайде с Сарой, где праздники отмечались по-другому. Лаура такая же иммигрантка, как и я. Она, должно быть, пытается понять, какие правила в этой стране.
Не то чтобы я испытываю к ней сочувствие. Ведь это она послала Джоша с Чудовищем наверх, чтобы уничтожить меня и коробки Сары.
Я еще никогда не была в комнате, где так много людей и все одновременно разговаривают — сложно что-то расслышать. Я не знаю, о чем говорит мама Джоша, но слышу, как отец с сыном говорят о работе последнего. Старик вздыхает и признается, что больше не понимает, чем занимается молодежь. Поэтому Джош объясняет (по голосу слышно, что он уже не раз объяснял это отцу), что занимается так называемыми «рыночными отношениями и связями с общественностью» — общается с репортерами, пишет рекламные тексты для людей, которые называются «рекламщиками», и помогает создать у потребителей мнение, что они должны покупать журналы, издаваемые его компанией.
— Да уж, — вздыхает отец Джоша. — Для меня это слишком мудрено. Я все еще не понимаю, чем же ты занимаешься целый день.
Джош негромко смеется и отвечает:
— Знаешь, мне в детстве тоже казалось, что у тебя очень мудреная работа.
— Что же тут сложного? — удивляется отец. — Я торговал электроприборами. У меня были электроприборы, я их продавал, вследствие чего у моего покупателя появлялись электроприборы, а у меня деньги. — Он опять вздыхает. — В то время можно было объяснить суть работы любого человека одним словом. Торговец. Поставщик. Бухгалтер. — Из-под дивана мне видны кончики его пальцев, когда он указывает в сторону Лауры. — Или адвокат, — продолжает он. — Эту работу я понимаю.
— Серьезно, папа? — В голосе Джоша слышится изумление, смешанное с раздражением. — Тебе известно, чем целый день занимаются адвокаты?
— Откуда мне знать, чем целый день занимаются адвокаты? — отвечает отец Джоша. — Если бы я это знал, работал бы адвокатом.
Позволь себе Сара так разговаривать с Лаурой, лицо последней тут же напряглось бы и она покинула бы квартиру матери, не сказав ни слова. Но Джош заливается смехом и говорит:
— Один из нас сейчас бредит, и я не уверен, кто именно.
— Это твоя мать, — отвечает отец Джоша. — Кажется, что она постоянно бредит. Думаю, нам пора спасать Лауру.
— С чего бы это? — удивляется мама Джоша с противоположного конца стола. У нее такой громкий голос, Сара сказала бы, что он «режет ухо». — Вы там обо мне говорите?
— Мы всего лишь интересовались, о чем беседуют наши дамы, — говорит отец Джоша.
— Я рассказывала Лауре с Эрикой об Эстер Букмэн. Она опять выходит замуж.
— Надо же, Эстер Букмэн! — восклицает Джош. — Знаменитая секс-динамо-машина городка Парсиппани. Какой это по счету, пятый?
— Перестань, — одергивает его мама. — Тебе прекрасно известно, что это всего лишь третий ее брак. — И, повернувшись к Лауре, добавляет: — Видишь, как они надо мной подтрунивают?
— Однажды, когда мне было лет девять-десять, мне пришлось звонить сыну миссис Букмэн, Мэтту, насчет одного школьного проекта, — рассказывает Джош Лауре. — К телефону подошла миссис Букмэн, и я попросил позвать Мэтта. Когда я повесил трубку, моя мать спросила: «К телефону подошла миссис Букмэн?» Я ответил: «Да», и мама продолжала: «Ты поздоровался? Поинтересовался, как у миссис Букмэн дела?» Я ответил: «Нет», а она велела: «Сейчас же перезвони ей и извинись за то, что вел себя так грубо». — Джош опять смеется. — Мне очень не хотелось звонить. Я умолял, плакал, но Зельда была непреклонна. Наконец, после часовых пререканий я перезвонил миссис Букмэн и сказал… — Джош делает вид, что плачет. — … «Простите, что я не поздоровался, миссис Букмэн, и не спросил, как дела».
Лаура тоже смеется.
— По крайней мере я теперь знаю, почему он такой вежливый, — говорит она матери Джоша.
Люди никогда не бывают такими учтивыми, как кошки. Но я должна признать, что со стороны матери Джоша чрезвычайно умно пытаться научить сына правилам хорошего тона. Интересно, почему он забыл об этом при нашей первой встрече?
— Я понятия не имею, о чем он говорит! — восклицает мама Джоша. — Он все выдумывает.
Лаура только улыбается.
— Кто-нибудь хочет еще вина? Может быть, содовой?
— Тебе вина хватит, Эйб, — говорит мама Джоша до того, как его отец успевает ответить Лауре.
— Сегодня праздник, — возражает он. — Ради всего святого, я могу пропустить еще стаканчик.
— Семидесятипятилетнему мужчине не стоит столько пить, — говорит она ему.
— Мама любит напоминать всем, какой я старик. — Я вижу, как его рука тянется к бутылке на кофейном столике. — Сама-то всего на пять лет моложе меня.
— Пять лет — это целых пять лет, — возражает та. Почему некоторые люди любят так много говорить и считают, что просто обязаны указывать на такие очевидные вещи?
— Мам, а тебе сколько лет? — Это интересуется маленький мальчик.
— Сорок два, — отвечает Эрика.
— А сколько лет дяде Джошу?
— Тридцать девять.
Сейчас в беседу вступает Эбби:
— А тете Лауре сколько лет?
— У женщин никогда не спрашивают о возрасте, — вступает мать Джоша. Но уголки губ Лауры расплываются в улыбке, и она произносит:
— Все в порядке. Мне недавно исполнилось тридцать.
Поскольку сейчас все увлеченно обсуждают свой возраст (я понятия не имела, что они все такие старые, — мне-то всего три!), кажется, я получаю прекрасную возможность вылезти из-под дивана и прокрасться на кухню, пока детеныши не успели меня заметить. Пахнет просто восхитительно, никто не в силах устоять перед таким ароматом. Я даже слышу, как урчит у людей в животах. Уже скоро.
Должно быть, Лаура думает о том же, потому что ставит свой бокал на стол и говорит:
— Почему бы нам не приступить к трапезе?
— Ура! — восклицают детеныши. Они так стремительно бросаются с места, что мне приходится спрятаться в тень у дивана, чтобы меня не заметили. Мама и отец Джоша мешкают немного, когда встают со своих кресел, но вскоре уже все сидят за столом. Во рту у меня столько слюны, что приходится несколько раз облизать усы, пока я жду, когда начнут есть.
Я была уверена, что, как только все усядутся на свои места, еда тут же появится из кухни. Любая умная кошка знает, что нужно по возможности сразу съедать любимое угощение, ведь никому не известно, что может помешать полакомиться им позже.
Но теперь я понимаю, что седер (так называется блюдо, которое мы сегодня будем пробовать) — особое кушанье, и этот ужин отличается от остальных. (Я узнаю об этом в определенный момент, когда Роберту приходится читать некие «Четыре вопроса», и первый из них: «Чем этот день отличается от других?») Седер длится долго. Очень многое должно случиться в определенном порядке, прежде чем позволено будет есть. И хотя я настолько голодна, что едва могу устоять перед этим удивительно пахнущим мясом, я понимаю, насколько важно все делать правильно, в заведенном порядке, особенно когда дело касается еды.
Сперва они должны были произнести что-то наподобие «молитвы» над вином и каким-то плоским печеньем. Потом все собравшиеся за столом поочередно читали из книги, в которой рассказывалось о группе людей, называемых евреями, которых заставили стать рабами в месте под названием Египет. Человек по имени Моисей пытался убедить другого человека по имени Фараон отпустить евреев жить в другое место. Каждый раз Фараон отвечал: «нет», а третий участник, его звали Бог, делал так, что с Фараоном и его людьми происходили несчастья. Каждый раз, когда что-то случалось, Фараон решал отпустить евреев. Но потом (и этого я действительно понять не могу) Бог заставлял Фараона передумать и оставить евреев. И затем опять брался за свое и посылал беду на Фараона. И так десять раз!
Это лишний раз доказывает, что люди далеко не так умны и рациональны, как кошки. Анис любила повторять, что кошка, раз дотронувшись до горячей плиты, больше никогда к ней не прикоснется.
В конце концов, когда закончили есть плоские лепешки и рассказывать истории, Лаура с Джошем наконец-то начали приносить еду. То удивительно пахнущее мясо (оно называется «грудинка»), на которое я целый день пускаю слюнки, и куриный суп, и блюдо под названием «рубленая печень», которая так аппетитно выглядит и пахнет, — поверить не могу, что Сара никогда не готовила это в нашей старой квартире. На столе еще много вещей. Все выглядит таким красивым и прекрасно поданным, как в тех телевизионных шоу, где учат готовить.
Разумеется, как только еду достали, я заскакиваю на стол, в надежде, что Лаура с Джошем поставят туда и мою миску. Сара всегда откладывала для меня немного еды, когда ела за кухонным столом, чтобы мы могли пожевать вместе. Я одной лапкой едва касаюсь грудинки, потому что первой хочу попробовать именно ее, — пусть Лаура и Джош знают об этом.
И что?! Никогда за всю свою жизнь я не слышала такого гвалта! Лаура с Джошем орут:
— Пруденс! Нет! Слезь!
А мама Джоша вопит:
— Что кошка делает на столе?! — Тем же голосом, каким кричат люди, когда обнаруживают в своей еде таракана.
Детеныши пищат:
— Кошечка! — И опять бросаются на меня со своими липкими руками, в то время как сестра Джоша пытается их удержать.
Поднимается такая суета, что даже запаха вкусной еды недостаточно, чтобы удержать меня здесь. Единственная проблема — я не могу найти места, где спрыгнуть со стола.
Я оглядываюсь — всюду люди, которые пытаются меня схватить. Я верчусь быстрыми кругами в поисках свободного места, откуда смогла бы выскользнуть и сбежать. Я слышу звон падающих бокалов.
— Мама, кошечка разлила на меня! — восклицает Роберт.
Я пытаюсь пятиться, но моя левая нога попадает во что-то горячее и жидкое. Это тарелка супа отца Джоша, и тогда он вскакивает и кричит:
— Эй!
Я так быстро отдергиваю лапу, что переворачиваю целую миску. Теперь стол скользкий и мокрый. Лапы у меня разъезжаются, и чем больше я пытаюсь убежать, тем больше предметов сбиваю. Уши и усы у меня прижаты к голове, шерсть вздыблена, кто-то тыкает в меня пальцем и кричит:
— Хватит! Плохая кошка!
Я шиплю и бью по его руке когтями, потому что это непростительная грубость, когда лезут руками тебе прямо в лицо.
Наконец Лаура встает и произносит:
— Тишина!
Все замолкают и поворачиваются к ней. Лицо у Лауры ярко-красное. Как помидоры, которые лежали сверху в той миске с салатом, которая перевернулась. Ее руки немного дрожат, но тем не менее она спокойно гладит меня по холке. Потом продевает одну руку под живот и поднимает меня со стола именно так, как нужно брать кошку, когда деваться некуда, потом очень осторожно опускает меня на пол. Секунду я не могу двинуться. Чувствую потрясение: ко мне так долго не прикасались руки человека! Чужие руки. Теплые, а не такие холодные, как были у Сары последние несколько месяцев нашей совместной жизни. Стол, который еще совсем недавно был красивым и заставленным едой, теперь выглядит так, будто по нему промчалась стая собак.
На этот раз я не бегу под диван. Я бегу наверх, зарываюсь в недра шкафа в своей комнате, где стоят коробки Сары, прячусь под платьем, которое пахнет нами. На спине так сильно дергаются мышцы, что я едва не бьюсь в судороге.
Мне кажется, что еще ни с кем не обращались так грубо, как со мной сегодня вечером. Как бы Сара ни была расстроена свалившимися на нее неприятностями, она всегда подбадривала себя поговоркой: «Самое плохое выпадает на головы наиболее достойных». Но, по-моему, ни с кем еще не происходило ничего более унизительного. Даже длинная история о евреях, которым пришлось многое пережить, не шла ни в какое сравнение с этим.
Я слышу звук шагов Лауры на лестнице, но они вдруг замирают, и следом раздаются шаги Джоша.
— Просто хочу проверить, как там Пруденс. Убедиться, что с ней все в порядке, — негромким голосом произносит она.
— Уверен, что с ней все хорошо, — так же тихо отвечает Джош. — Она просто немного напугана. Пойдем вниз, поможешь мне убрать на столе.
— Сейчас помогу, — обещает Лаура. — Через минутку вернусь.
Шаги Джоша начинают удаляться, когда я снова слышу голос Лауры:
— Джош… — на секунду она замолкает. — Прости. Я правда хотела, чтобы все прошло идеально.
— Все идет идеально. Хм, можно сказать, за ужином у нас случился неожиданный спектакль. — Он тихонько смеется. — Но все можно спасти. Серьезный урон не нанесен.
— Знаю, но… — Лаура вновь запинается. — Твои родители в первый раз приехали к нам на ужин, — наконец произносит она. — Не хочу, чтобы они подумали… Мне кажется, что Пруденс так воспитали. Позволить кошке есть на столе — это вполне в духе моей мамы.
— Пруденс — кошка, Лаура. — Голос Джоша при этом звучит мягко (хотя он опять произносит очевидные вещи). — Разумеется, она так воспитана. И конечно, это никак не отразится на отношении к тебе или твоей маме.
Как будто это у меня чудовищные манеры!
— Через минутку я приду, — опять повторяет Лаура. Слышно, что она продолжает подниматься по лестнице, потом шаги раздаются в коридоре и замирают у входа в мою комнату.
— Пруденс! — шепчет она в темноте. — Пруденс, ты в порядке?
Она ждет, что я мяукну в ответ, но сейчас мне нечего ей сказать.
— Пруденс! — опять шепчет она. Я три раза поворачиваюсь в платье Сары и жду, когда Лаура выйдет из комнаты, повиснет тишина и я смогу поспать. Хотя на ужин не ела ничего, кроме сухого корма со вкусом куриного супа, я облизываю левую переднюю лапу.
Глава 5
Лаура
Самым любимым местом Лауры Дайен, за исключением ее кровати по утрам в воскресенье, был сорок седьмой этаж офисного центра в Мидтауне, в конторе «Ньюман Дайнс». Там располагался корпоративный отдел юридической фирмы. Лаура частенько ела сэндвичи с ветчиной со своими коллегами в помещении, которое они называли конференц-залом на сорок седьмом этаже, хотя на самом деле это было крошечное помещение для заседаний. Они расстилали газеты и блокноты с отрывными страницами на поверхности круглого стола, где, словно лилии в темных глубинах, отражались лампы в форме шара.
Часто эти обеденные перекусы они использовали для того, чтобы неофициально разжиться информацией по очередному делу, над которым работали, или покорпеть над документами оппонентов. Но прежде всего эти обеды укрепляли дружбу. Когда-то их было тридцать человек, они начали вместе работать на летней практике. Теперь их осталось восемь, остальные ушли в другие конторы. Лауре тоже, как и другим, звонили из кадровых агентств — если честно, к ней обращались до сих пор, — но она на удивление вовремя поняла, что тот, кто рано спрыгивает с поезда, обычно так и мечется туда-сюда всю жизнь. Чтобы осознать правдивость этого суждения, Лауре достаточно было посмотреть на свою мать.
Хотя молодая женщина ценила товарищеский дух этих посиделок, больше всего она любила ранние утренние или поздние вечерние часы, когда в конференц-зале было пусто. Она могла смотреть в окно, на молчаливую диораму развернувшегося внизу города, и это абсолютное безмолвие умиротворяло ее. Эмпайр-стейт-билдинг находился более чем в десяти кварталах, но иллюзия, которую создавала высота ее собственного здания, казалось, возносила ее на один уровень с верхними этажами знаменитого небоскреба. Душными летними вечерами Лаура не раз наблюдала, как прямо в его остроконечную башню ударяет молния, но звук при этом «гасился» толстыми оконными стеклами их офиса. Лаура росла в атмосфере непрекращающегося шума, под танцевальную музыку, которая орет из стереопроигрывателей, среди полицейских сирен и домашних ссор, разбитого о тротуар стекла… Гул ночных вечеринок каждое утро сменялся грохотом переполненных автобусов и металлическим лязгом тележек для покупок. В пятиэтажном доме без лифта, где жили они с Сарой, эти звуки были постоянно слышны даже при закрытых окнах. К тому же к ним примешивались шумы их собственного дома: плач детей, звук смываемой в туалете воды, шаги над головой.
Люди говорили о видах, которые открываются на верхних этажах, но Лаура знала, что все дело в тишине, в спокойствии, которое дарит высота, — за них человек в таком городе, как Нью-Йорк, готов платить немыслимые деньги. Шум — одно из тысяч неудобств, которые приходится терпеть беднякам. Только за деньги можно купить эту иллюзию тишины.
Пэрри по опыту знал, что, если в конторе тишина, Лауру следует искать в конференц-зале на сорок седьмом этаже. Сюда она приходила подумать, дать мозгу отдохнуть от компьютера и звонящих телефонов. Здесь тишина позволяла ей найти творческое решение сложной проблемы.
Пэрри просунул голову в дверь и произнес:
— Уже почти девять. Ты должна идти домой к мужу, как примерная новобрачная.
Лаура оторвалась от окна и повернулась к нему.
— Не могу. Клей только что «нагрузил» меня делом о «Балабан Медиа». — Клейтон Ньювелл был ведущим партнером «Ньюман Дайнс», и его именем пугали всех сотрудников их фирмы. — Он говорит, что все документы должны быть готовы в понедельник к семи часам утра.
— Да, но мы же с тобой знаем, что Клей раньше половины одиннадцатого в понедельник в конторе не появится. Работа потерпит. — Пэрри улыбнулся. — Чтобы сделать имя на нашем поприще, нужно приучить людей ожидать от тебя лучшего, но пусть не ждут, что ты будешь посвящать себя делу без остатка.
Пэрри Стедмен был «учителем» Лауры, старшим партнером, который рано разглядел потенциал девушки и взял ее под свое крыло. Это был коренастый человек пятидесяти лет от роду, с редеющими волосами. К своей работе и переговорам он подходил неторопливо, что совершенно не вязалось с его скрытым острым умом. Хотя «учителем» Пэрри называли образно, он, как настоящий учитель, любил цитировать Талмуд. «Двое хромых в одном танце не закружатся, — не раз говорил он Лауре. — Каждый человек в некотором роде калека. Фокус в том, чтобы не поставить в одну пару людей с одинаковыми увечьями. В противном случае, пока они соображают, что вместе танцевать не смогут, тебе придется с головой погрузиться в бумажную писанину».
Не всякому помощнику так везет, не каждый смотрит на несколько шагов вперед, и далеко не каждый находит себе учителя, особенно такого влиятельного (как минимум в стенах этой конторы), как Пэрри. Стедмен как компаньон обладал широкими возможностями, обеспечивая фирму крупными клиентами, которых потом распределял между помощниками. Он заметил острый ум Лауры и ее дотошность еще в то время, когда она проходила летнюю практику. Когда же она первый год работала в фирме, Пэрри взял за правило нагружать ее самыми сложными докладными записками и кратким описанием материалов дела, с которыми стороны выступали в суде, хотя предполагалось, что начинающие помощники бóльшую часть своего времени проводят за тем, что «выбивают» себе работу. Лаура, окончившая Хантер-колледж[3] и юридический факультет Фордэмского университета, с внутренним удовлетворением отмечала, что достигла в профессии намного большего, чем некоторые выпускники Лиги Плюща[4], с которыми она начинала. Хотя она была осторожной и никогда не выставляла напоказ свой успех.
Она прекрасно научилась составлять контракты, чувствуя себя среди их многочисленных пунктов как рыба в воде. Она испытывала какое-то глубинное спокойствие, когда просчитывала самые худшие варианты развития событий и заранее искала оптимальное решение, закрепляя его черно-белым совершенством подписанного и заверенного документа. Лаура думала, что в идеальном мире все жизненные сюрпризы легко можно предвидеть и решить.
Именно Пэрри чуть больше года назад решил, что Лаура уже доросла до того, чтобы ходить на встречи с клиентами. На первой из таких встреч она и познакомилась с Джошем, что придало первым дням их романа налет некой тайны. Она понимала, как это будет выглядеть в глазах ее коллег, и особенно Пэрри, если им станет известно, что она встречается с одним из клиентов. Иногда Лаура размышляла о том, что согласилась выйти за Джоша всего через несколько месяцев после знакомства только потому, что брак, бесспорно, совершенно в ином (вполне допустимом) свете представлял их отношения. Когда девять месяцев назад она сообщила о своей помолвке, Пэрри тепло ее обнял и сказал: «“Если любовь крепка, мужчина и женщина могут устроить ложе и на лезвии меча”. Пусть ваша любовь всегда будет такой же крепкой, как сейчас». Тогда это прозвучало мило, хотя позже Лаура подумала, что его пожелание выглядело слишком назидательным для обычного поздравления.
Сейчас, вспоминая замечание Пэрри, мол, пора идти домой, Лаура поймала себя на мысли, что возвращается домой с меньшей охотой, чем в первые недели их брака, всего полгода назад. Вещи Сары — большей частью имущество, оставшееся от магазина грампластинок, которым она раньше владела, а шестнадцать лет назад продала, — так и остались неразобранными в свободной спальне их квартиры. Тем не менее запах старых пластинок и желтеющих газет, запах Лауриного детства заполнил весь второй этаж квартиры. Даже едва уловимый запашок кошачьего лотка грозился возродить давно погребенные и забытые воспоминания и ассоциации.
Именно эта путаница между «тогда» и «сейчас» создала чувство постоянной неловкости. Это напоминало низкочастотный звук, который она не могла отчетливо расслышать и поэтому идентифицировать, но все же он вызывал не меньшее раздражение. Лаура заметила, что стала по возможности пользоваться ванной комнатой на первом этаже и старалась не подниматься наверх в спальню до тех пор, пока в буквальном смысле не начинала валиться с ног. И несмотря на усталость, в последнее время сон у нее был беспокойным — когда по утрам она просыпалась, то чувствовала себя еще более вымотанной, чем перед сном.
Она видела, с какой радостью Джош, который являлся, по его собственному определению, «фанатом музыки», хотел бы перебрать все афиши Сары, прослушать песни на оригинальных виниловых пластинках — а ведь они недоступны уже практически целому поколению! Джош любил прошлое. Хранил в их доме, в кабинете, груды фотоальбомов и наград, полученных в заплывах во время пребывания в летних лагерях; школьные табеля и сведения обо всех встречах одноклассников за двадцать лет, со всеми именами и телефонами… Лаура знала, что он недоумевает, почему она еще не перебрала вещи, хотя прошло почти два месяца с тех пор, как они вывезли все из квартиры Сары. Однако пока он не спешил поднимать этот вопрос.
Единственным созданием, которое все время проводило, роясь в вещах Сары, была Пруденс. Лаура до сих пор не могла понять желание своей матери (своей-то матери!) завести кошку. Но было очевидно, что Пруденс ужасно не хватает Сары. Первые несколько дней жизни у них она отказывалась от еды, ее тошнило, и такие явные физические страдания зародили в душе Лауры сомнения: было ли принятое решение правильным? Или Пруденс было бы лучше жить в более приятном для кошки месте, несмотря на желание Сары? Только сидящее в глубине души нежелание расставаться с последней живой ниточкой, связывающей ее с матерью, доказывало Лауре правильность ее поступка.
Три дня назад за праздничным ужином на Песах, когда Пруденс устроила настоящее безобразие на тщательно накрытом столе, Лаура ощутила смесь крайнего смущения и бесконечной жалости к этой кошке. Как и Лауру, Пруденс воспитывала Сара. Откуда ей было знать, как за праздничным ужином ведут себя обычные семьи? Лаура, уже став взрослой, потратила несколько лет на то, чтобы это понять.
И тем не менее было приятно наблюдать, как в последние дни Пруденс наконец-то стала вливаться в общий поток жизни в их квартире. Лаура правильно поступила, когда вытащила одно из старых платьев Сары из пакета, который в последний момент забрала из мусорника. Пруденс начала вести себя как обычная, нормальная кошка (как будто, иронично подумала Лаура, можно говорить о «нормальности», когда дело касается кошек). Лаура не могла удержаться, чтобы не понаблюдать за Пруденс, и невольно улыбалась, глядя, как та временами растягивается на спине, подняв четыре белые лапки вверх, к солнечным пятнам, которые проникают сквозь окна. Интересно, а каково это полностью отдаваться таким простым вещам? Не думать ни о чем… «Солнечные лучики такие теплые. Как приятно!»
Лаура заметила интерес, который проявляла Пруденс к одной и той же стае янтарно-белых голубей на противоположной стороне улицы, — временами она заставала кошку за пристальным изучением птиц. Эти птахи такого необычного цвета высоко ценились бы там, где выросла Лаура, их бы разводили в голубятнях на плоских крышах, и за ними пристально следили бы в надежде украсть парочку местные ребятишки. Однажды, когда ей было двенадцать лет, Лаура тайком пробралась на крышу соседнего многоквартирного дома и погладила молодого птенца под бдительным взором его хозяина. Мир перед ней предстал в виде неровного лоскутного одеяла из белых цементных и черных толевых крыш, «сшитых» тяжело завешанными веревками для сушки белья. Лаура до этого никогда не прикасалась к теплому оперенью живой птицы, никогда не ощущала сложной симметрии, формирующей под мягким пушком упругую оболочку. Она брала в руки только перышки, найденные на тротуарах, или выкрашенные в неоновый цвет перья от одежды, которая хранилась в коробках в подсобке маминого магазина. Сара ужасно разозлилась, когда узнала, что Лаура лазила на крышу соседнего дома: двумя неделями раньше четырнадцатилетний подросток упал и разбился насмерть, когда пытался перепрыгнуть с одной крыши на другую.
Лауре нравилось наблюдать за смотрящей в окно Пруденс. В такие минуты ей хотелось погладить кошкину шерстку, вдохнуть исходящий от ее шеи запах корицы и молока, услышать глухое «м-р-р». Целую вечность она не сидела с кошкой на руках, не слышала ее урчания, не ощущала такого умиротворения, которое наступает, когда маленькое создание настолько доверяет тебе, что засыпает у тебя на коленях.
Но, протягивая руку к Пруденс, она каждый раз видела — как бы ни старалась отогнать эти мысли — заплаканного старика, стоящего на коленях на треснувшем тротуаре. Он кричал: «Она — все, что у меня осталось!» Чрезвычайно опасно любить маленьких, хрупких созданий. Эту истину Лаура осознала, пожалуй, раньше всего остального.
На ее лице, должно быть, появилось отстраненное выражение, потому что сейчас Пэрри повторял:
— Тебе пора домой, спать. — И продолжал с сочувствующим взглядом, который Лауре было вынести еще тяжелее, чем прямое внушение: — Я жалею, что ты не взяла несколько дней отпуска, когда умерла твоя мама.
— Не время было, — ответила Лаура. — Я только недавно брала двадцать дней. — На самом деле именно Пэрри, ссылаясь на прямое указание Клея (который иногда пытался смягчить действие собственных капризов такими же неожиданными проявлениями щедрости), настоял на том, чтобы она взяла полных три недели на медовый месяц. — Как бы там ни было… — Она запнулась и выдавила улыбку в надежде, что та выглядит убедительной. — Со мной все в порядке. Честно.
Был вторник, мартовский день, первый по-настоящему великолепный весенний день в году — иллюзия, потому что вся следующая неделя будет такой же холодной и дождливой, как середина февраля, — когда Лауре позвонили из маминой конторы. Хотя Сара более пятнадцати лет проработала секретарем в небольшой юридической фирме, занимающейся недвижимостью, Лаура никогда не встречалась с сослуживцами матери. Поэтому, когда услышала на другом конце провода голос, принадлежащий не Саре, тут же поняла — что-то случилось, поняла это еще до того, как женский голос нерешительно произнес: «Это Лаура? Я работала, то есть работаю с твоей мамой…» Она все поняла еще до того, как женщина произнесла что-то вроде «сердечный приступ» и «не вынесло».
Лаура, наверное, что-то отвечала сослуживице, наверное, кому-то рассказывала, что произошло, куда она собирается, хотя после ничего не помнила. Следующее ее воспоминание — она жмурится от слишком яркого света и думает: «Сегодня стоило бы надеть очки от солнца», а потом удивляется, что именно теперь думает об очках. Женщины в расстегнутых зимних пальто и мужчины в костюмах с расслабленными галстуками — люди, чьи матери живы, неспешно шагают по улице, намного медленнее, чем вчера, когда погода была более ветреной. Они проходят мимо небольших кафе, где на открытых террасах впервые в этом году сидят люди, чьи матери живы, мимо грузовиков «Мистер Софти»[5], которые, как только температура поднимается выше нуля, вырастают из-под земли, как молодая трава… Неожиданно Лауру накрывают воспоминания: Сара летними душными вечерами носит уличным проституткам, прогуливающимся по Второй Авеню, свежие фрукты; Лаура прячется за ноги Сары, а проститутки благодарят маму, наклоняются и говорят Лауре: «Какая красивая девочка!»
Теперь Лаура уже поняла, что ее разрозненные мысли являлись для нее способом отвлечься, избежать осознания новой действительности (теперь я сирота), даже когда она вызывала такси и ехала в морг на пересечении Тридцать второй и Первой улиц, спускалась под землю, ниже тех этажей, где стоял письменный стол, за которым умерла Сара, а потом взлетала куда-то высоко в стеклянной башне.
В один из похожих дней, когда Лауре было… сколько? шесть? семь?, Сара встретила ее в пятницу у ворот начальной школы и со счастливым лицом объявила с некой загадкой в голосе: «За магазином присмотрит Ноэль. А мы сегодня кое-куда пойдем». И Лаура, таща на спине красный рюкзак со значком группы «Menudo», который умолила Сару купить в специализированном магазине, торгующем символикой этой пуэрториканской молодежной группы, схватила мать за руку и пошла за ней по Элдридж-стрит и Гарден-оф-Иден Адама Перпла.
В те годы в Нижнем Ист-Сайде были десятки общественных парков, но «Райский сад» был самым отдаленным из всех. Адам Перпл, чудаковатый фермер, живущий неподалеку, провел десять лет, возделывая участок, оставшийся после пожара, во время которого сгорело пять многоквартирных домов. Он прививал растения и удобрял землю компостом, самолично привозил на тачке навоз, который подбирал за конными экипажами в Центральном парке. В результате — искусственно созданный сад площадью тысяча четыреста квадратных метров, с буйно цветущими розами, грушевыми деревьями, вьющимся плющом и сотнями других растений, названий которых Лаура не знала. В самом сердце сада — огромный круг «инь-янь» из зелени разных оттенков.
Лаура, со свойственной детству склонностью ограничивать перспективу, думала, что уже узнала все, что нужно знать о Нью-Йорке, особенно о своем маленьком уголке. И вдруг, как из ниоткуда, возникло ЭТО! Она была потрясена, осознав, какая красота пряталась среди убогих городских пейзажей, которые она видела ежедневно.
В тот день послеобеденное солнце озорно играло в Сариных волосах, создавая вокруг ее головы красно-золотой нимб. Ослепленной солнцем Лауре казалось, что она еще никогда не видела свою маму такой красивой. Та была похожа на фею из любимых цветных книжек Лауры. Каким же волшебством владела ее мать? Вот они идут по мрачным городским улицам из стекла и камня, осторожно пробираясь между треснувшими бутылками и смятыми жестяными банками, и неожиданно их окутывает пряно-сладкий аромат роз и крокусов. Бродячие кошки лениво щурятся, нежась в ажурной тени деревьев, слишком безмятежные, чтобы обращать внимание на щебечущих среди ветвей птиц. Лаура вспоминает «Таинственный сад» Фрэнсис Бернетт, книгу, которую только-только начала читать. И думает, что именно этот сад — самое волшебное место во всем мире.
— Большинство людей, живущих в других городах, представляют себе только грязь и шум, когда думают о Нью-Йорке, городе, где живем мы, — сказала Сара, когда они бродили, продолжая крепко держаться за руки, по сменяющим друг друга прохладным и теплым аллеям сада. — Они не знают наш город таким, каким знаем его мы с тобой. Понятия не имеют, что мы живем в самом чудесном городе на земле. — И, словно угадав предыдущие мысли Лауры, подмигнула и добавила громким шепотом: — Но это наша тайна.
Они стояли под вишней, которая еще не начинала цвести. Лаура остановила Сару, достала из рюкзака листок бумаги. В тот день учительница велела всем написать стихотворение о весне, и Лауре неожиданно захотелось прочесть свое маме. Залившись краской стыда (поскольку Лаура была не из тех детей, кто охотно «выступает» перед взрослыми), она прочла:
Сара была очарована.
— Мне еще никогда не доводилось слышать такого красивого стихотворения, — сказала она. — Ты в курсе, что некоторые из лучших стихотворений становятся песнями? — И Лаура, которая об этом не знала, но понимала, что мама ее знает о музыке и песнях все, кивнула с таким видом, который, как она надеялась, сойдет за важную мудрость человека, повидавшего жизнь. — Мне кажется, что твои стихи — это песня, — сказала ей Сара.
Потом они с Лаурой едва ли не бегом преодолели весь обратный путь к магазину Сары, где та отобрала несколько альбомов из своей обширной коллекции и позвонила одному приятелю. Затем они отправились к Авеню «А» и вошли в какое-то здание — с виду совершенно обычный двадцатиэтажный многоквартирный дом.
Но оказалось, что в полуподвальном помещении располагалась студия звукозаписи. Смешные на вид буквы, вытравленные на стеклянной входной двери, сообщали о том, что это студия «Альфавилль», а Сара добавила, что место это известное. Какой-то незнакомый мужчина (раньше Лаура его никогда не видела) с длинной клочковатой бородой появился откуда-то из тайного кабинета в глубине студии и в знак приветствия обнял Сару и тепло потерся щеками о ее щеки.
— Уже давненько к нам не залетали такие птички. — Он провел их в свободную звукозаписывающую студию, где Сара положила свои пластинки на какую-то машину, которая позволяла убрать из записи голос, чтобы осталась одна музыка. Лаура была глубоко поражена тем, что мама так здорово разбирается в таком сложном с виду механизме. По всей видимости, она когда-то проводила здесь немало времени. С этим осознанием пришла и мысль, всегда ошеломляющая маленького ребенка: Сара, должно быть, прожила целую жизнь до появления Лауры.
Женщина понажимала на какие-то кнопочки, покрутила ручки, пока тяжело не зазвучали ударные: там-там-там-там. Вот тогда она и начала петь Лаурины стихи. И заставила дочь подпевать. И хотя, по мнению самой Лауры, песня оказалась не так уж хороша, во всем мире за все эти годы мало что могло сравниться с маминым пением.
В этой студии Сара записала их совместное пение на кассету, которую дома они прослушали еще раз, а на следующий день она торжественно положила кассету в маленький металлический ящик, который однажды уже показывала Лауре. Там, по ее собственному выражению, она хранила свои самые ценные сокровища.
Через несколько лет городские власти сравняли бульдозерами «Райский сад», а металлический ящик исчез в 1995 году, в день, когда Лаура и Сара лишились квартиры. И сейчас Лаура подумала, что не осталось никого, кроме нее самой, кто помнил бы, как звучал голос Сары, когда она пела. И не осталось абсолютно никого, кто помнил бы (потому что сама Лаура поняла, что не помнит), как в детстве звучал ее собственный голос.
Куда деваются кассеты, когда умирают? Поднимаются на Кассетные небеса? Лаура почувствовала, что вот-вот зальется смехом, когда эта идея пронеслась у нее в голове, но она подавила этот порыв, потому что в тот момент стояла в вестибюле морга. Над ее головой висело изречение на латыни. Лаура воспользовалась своими знаниями латинского, приобретенными во время обучения на юридическом факультете.
«Пусть стихнут разговоры, пусть исчезнет смех. В этом месте царит смерть, пытаясь помочь живым».
Пэрри был не единственным, кто считал, что Лауре не хватило времени предаться скорби. Она начала чувствовать себя одной из тех кукол с веревкой на спине — если потянуть за нее, можно заставить куклу повторять одну и ту же фразу, как литанию. «Со мной все в порядке», — говорила она, когда на следующий день появилась на работе. «Со мной все в порядке», — уверяла она, когда вернулась с обеда после похорон матери. «Со мной все в порядке», — повторяла она всем — Пэрри, своим коллегам-помощникам, блондинке с суровым лицом, которая отвечала на ее телефонные звонки и занималась ее документами. «Со мной все в порядке. Все хорошо. Не нужно так на меня смотреть, потому что со мной действительно все в порядке».
В юности Лаура заметила, что практически в каждом таксофоне в Нью-Йорке — не только в Нижнем Ист-Сайде, но вдоль всей дороги до железнодорожного вокзала Гранд-Сентрал, — на металлическом основании было нацарапано «Чти Господа». Лаура дивилась силе человека, который потратил столько часов и дней — возможно, даже месяцев — на то, чтобы добраться к каждому таксофону на Манхэттене. Неужели это религиозный фанатизм? Искренняя, пусть даже извращенная вера, что два эти слова на самом деле могут обратить других к вере в Бога? Неужели весь груз с души этого человека лег на эти два бесконечно повторяемых слова, а попытка написать их повсюду была единственным способом очиститься?
Лаура была склонна считать это вполне вероятным, потому что если бы она могла одной из десятка скрепок, которые систематично разгибала во время рабочего дня, нацарапать «Со мной все в порядке» на столе, телефоне, стенах кабинета — то так бы и поступила. Она была благодарна за всеобщее сочувствие. Но нести тяжкую обязанность — делать вид, что у тебя все в порядке, чтобы другие за тебя не тревожились, было труднее, чем просто позволить себе скорбеть и чувствовать себя плохо.
Особенно она радовалась сейчас тому, что скрыла от всех, когда неожиданно (несмотря на все принятые меры предосторожности) узнала, что беременна, всего два месяца спустя после свадьбы. Разумеется, никто и не говорит о том, что нужно немедленно сообщать всем и каждому эту новость, — на самом деле принято молчать, пока благополучно не минует первый триместр беременности.
Джош был безумно счастлив, услышав эту новость, у него на глазах даже заблестели слезы. Но Лауре понадобилось несколько часов на то, чтобы собраться с духом и вымолвить хотя бы слово, потому что ее первой реакцией была настоящая паника. Лучшее время забеременеть для Лауры было бы четыре года назад, когда она только первый год работала в конторе и с ней могли бы безболезненно расстаться. Или лет через семь, когда она (можно надеяться) стала бы компаньоном. Пятый год службы — худшее время брать декретный отпуск. Сейчас время «навалиться» на работу, обрастать клиентурой, угождать потенциальным клиентам и строить отношения с компаньонами — и тогда, после десятилетней изнурительной работы, вознестись на вершину успеха, к которому она всегда так стремилась. Она видела других женщин-адвокатов, которые, родив, начинали работать неполный рабочий день. Это было чем-то вроде мрачной шутки среди женщин их конторы, потому что «неполный рабочий день» на самом деле означал необходимость выполнять то же количество работы за меньшее количество денег. Большинству из них так и не удавалось вернуть себе статус, который они имели в конторе до беременности. Лаура слишком поздно осознала, что вопрос о том, когда заводить детей, был одним из миллиона вопросов, которые им с Джошем следовало обсудить до свадьбы.
А еще ее раздирали более глубинные страхи. Существует бессчетное количество вариантов быть несчастливой. А от Сары Лаура узнала, что брак и дети вовсе не являются гарантией того, что удастся исключить их все.
И все же не обращать внимания на радость Джоша или оставаться к ней равнодушной было выше ее сил. Однажды воскресным днем они выкрасили стены свободной спальни в нежный солнечно-желтый цвет — идеальный, как заметил Джош, и для мальчика, и для девочки. Она думала об этом крошечном, размером с горошину создании — ее и Джоша частичке, которая ходила с ней всюду, куда бы она ни шла. О тайном участнике, который незримо присутствовал с ней на совещаниях, ездил с ней в метро, вдыхал, как и она, тот сладкий дым начала зимы. Иногда ее охватывала какая-то щемящая жалость к этому маленькому беззащитному созданию. «Бедняжка!» — думала она, а потом недоумевала, почему ей так его жалко.
Беременность осталась их тайной, ее и Джоша. И все стало несравненно проще, когда однажды в пятницу вечером, в середине февраля, как раз перед официальным окончанием первого триместра у нее начались боли внизу спины и открылось кровотечение.
В понедельник она вышла на работу более бледной, чем обычно, и чуть более уставшей, но во всем остальном ничего ее коллегам в глаза не бросилось. Поскольку она никому не сказала о своем положении, ей не пришлось проходить через весь этот ужас и сообщать всем, что она больше не беременна. Они не сообщили даже родителям Джоша. («Давай дадим Эйбу и Зельде пару месяцев, прежде чем они завалят нас своими родительскими советами», — сказал он). Но сделали единственное исключение — или по крайней мере Джош думал, что сделали.
— Конечно, ты захочешь сразу же обрадовать свою маму, — сказал он. Лаура не стала его переубеждать, поскольку что может быть более ожидаемым и естественным для молодой, впервые забеременевшей женщины, чем желание поделиться новостью со своей мамой, обратиться к ней за советом и помощью?
Но Лаура ничего Саре не сказала. И сама не знала почему. Возможно, потому, что когда сообщаешь маме о своей первой беременности, она тут же начинает убеждать тебя, что ты не узнаешь настоящей любви, пока не возьмешь на руки своего первенца. Что никого в жизни ты не будешь любить так, как своего ребенка. Только Лаура уже знала, что в случае с ее мамой это было не так. И Сара прекрасно понимала, что Лауре об этом известно. Что бы ответила Сара? «Ты будешь любить своего ребенка, но лишь настолько, насколько любишь некоторые вещи, и немного меньше, чем любишь другие»?
Возможно, если бы Лаура рассказала Саре о своей беременности, мама поведала бы ей о пузырьке с нитроглицерином, который обнаружила Лаура, когда убирала у Сары в ванной. Мама хранила секреты. И хотя сейчас Лаура злилась, злилась больше, чем хотела признавать, она догадывалась, что Сарой, когда она скрыла от дочери информацию о состоянии своего сердца, двигали те же причины, что и самой Лаурой, когда она решила не сообщать матери о своей беременности. Ведь когда мама признается ребенку, что больна, предполагается, что чадо разрыдается, обнимет ее и попросит, чтобы она выполняла все предписания врачей, потому что ему никак нельзя ее потерять.
Сара наверняка знала, что Лаура не сможет и не захочет говорить все эти вещи. И не потому, что это неправда. А потому, что они потеряли друг друга уже много лет назад.
Джош никогда не заговаривал с ней о случившемся выкидыше. Но продолжал попытки завести разговор о Саре, предаться воспоминаниям. Когда они приехали в Нижний Ист-Сайд, чтобы убрать в квартире Сары, он настоял на «ностальгической поездке», подобной тем, которые устраивали для них с сестрой родители, когда они семьей путешествовали, бывало, по Бруклину.
— Давай же, — подстегивал он, — расскажи маменькиному сынку из Парсиппани, каково это — расти на Манхэттене. Когда мы еще здесь побываем?
И Лаура постаралась. Попыталась описать ему «точки» на Авеню «Б» и Второй улице, где вовсю шла торговля наркотиками, а власти слишком долго смотрели на происходящее сквозь пальцы, потому что ничего не могли поделать с такой широко разветвленной — и приносящей огромную прибыль — сетью. Когда они проезжали мимо теперешнего парка Томпкинс-Сквер с его яркими игровыми и чистыми баскетбольными площадками, тропинками в окружении цветов, Лаура не могла заставить Джоша представить тот Томпкинс-Сквер, в котором она выросла, — практически весь парк занимали палаточные городки, которые возвели наркоманы и бездомные. Сюда частенько наведывались также подростки-панки в собачьих ошейниках и футболках с изображением «Секс Пистолс».
— Ой! Вон там, — Лаура указала на место на тротуаре. — Там мы с моей подружкой Марией-Еленой в детстве играли в «скелзи»[7] крышками от бутылок. Когда бы мы ни выходили поиграть, ее мама всегда кричала вслед: Cuidado en la calle![8]
Во время своего рассказа Лаура ловила себя на том, что недоумевает, зачем спустя столько лет Сара переехала в Нижний Ист-Сайд. Неужели она думала, что сможет переписать свое прошлое? Разыграть тот же сценарий, но с другой концовкой? Неужели она не осознавала, что Нижний Ист-Сайд лишь отдаленно напоминает то место, где она провела свою сумасшедшую юность, где у нее не было ничего, кроме школьного диплома и решимости увидеть мир таким, как она хотела?
Тем не менее воспоминания Лауры вызывали у Джоша улыбку. А Лаура никогда не чувствовала себя такой целостной личностью и такой нужной кому-то, как в те мгновения, когда заставляла Джоша улыбаться.
И только когда Джош настоял на том, чтобы, возвращаясь домой, проехаться по Стэнтон-стрит, в горле у Лауры встал ком.
— В детстве мама каждый день забирала меня из школы и приводила в свой магазин грампластинок, где я делала домашние задания, — сказала она мужу. — Мне было четырнадцать, когда мы переехали. Я, если честно, не так хорошо знаю эти окрестности, как ты думаешь.
Интерес Джоша к ее прошлому был ожидаемым. Он являлся главным специалистом, отвечающим за рекламу в издательстве, которое выпускало глянцевые журналы, посвященные музыке, а Нижний Ист-Сайд некогда был «эпицентром взрыва», где зародилась рок-и поп-культура. Конечно, теперь «родина» Лауры скорее напоминала парк отдыха, который можно было бы назвать «Мир панков» или «Дисколенд», где лишь со вкусом «обнищавшие» здания напоминали о суровом вчера. Если вглядеться попристальнее, можно сквозь дымку времен увидеть, как Джоуи Рамон или Уэйн Каунти тащат свои инструменты по улице Бауэри после выступления в «Си-Би-Джи-Би» — известном нью-йоркском клубе, где играли кантри, джаз и блюз. Даже самой Лауре на мгновение показалось, что она увидела Адама Перпла, сейчас уже старика, который толкает ветхую, груженую компостом тележку по Авеню «Б».
В тот день, когда Лаура впервые сопровождала Пэрри на переговоры с клиентами, Джош не был в числе сотрудников издательства, с которыми у ее команды была назначена встреча. Но он заметил, как девушка пытается войти в конференц-зал с двумя огромными портфелями, в то время как Пэрри остановился с кем-то поболтать. Джош поспешил к ней на помощь и предложил:
— Давайте я вам помогу. — Он взял у нее портфели, несмотря на возражения Лауры, и направился с ними к лифту. Девушка невероятно смутилась: в обязанности помощника входило носить портфели, когда адвокат направлялся на встречу с клиентами или в суд.
Еще больше она смутилась, когда через четыре дня он позвонил ей на работу. Наверное, он спросил у кого-то из присутствующих на переговорах, как ее зовут, где она работает. Когда он в первый раз пригласил ее в ресторан, она отказалась, не желая выглядеть легкодоступной. Второй раз Джош позвонил и пригласил ее на вечеринку, которую устраивало его издательство в честь выхода апрельского номера «Латинской музыки». Лаура согласилась. Она ведь не собирается всю жизнь проходить в помощниках адвоката, уговаривала она себя. Ее имиджу не повредит, если она станет мелькать на мероприятиях, которые устраивают клиенты конторы. Большинство помощников, которые рвались стать компаньонами, брали себе за правило посещать подобные мероприятия.
Журнал Джоша арендовал бразильский ночной клуб в Вест-Виллидж и нанял группу музыкантов, исполняющих сальсу. Потоки света из вращающихся стробоскопов превратили платья и летящие блузы женщин в сверкающие сигнальные маяки радужного света. Лаура в черном брючном костюме, который в тот день надела на работу, чувствовала себя как на похоронах. По залу разносили подносы с мохито, и она, стоя возле бара, один за другим выпила сразу три. Вскоре Лаура почувствовала, как закружилась голова, пришлось присесть. Подцепив с подноса проходящего официанта эмпанаду[9], она глазами поискала Джоша.
Он стоял в углу в глубине зала и что-то обсуждал с коллегами. Лаура даже не помнила, а, может быть, сразу и не поняла, насколько он красив. Разговаривая, он яростно жестикулировал своими длинными, чуть грубоватыми на кончиках пальцами. Лаура провела рукой по волосам, пытаясь вспомнить, укладывала ли их сегодня утром или просто позволила им высохнуть естественным путем. Она подумала: «Что я здесь делаю?» Джош поднял голову и увидел ее. Она наблюдала, как он дает последние наставления людям с телефонной гарнитурой «хэнд-фри», а потом размашистым шагом направляется прямо к ней.
— Ты все-таки пришла! — Он тепло улыбнулся и слегка чмокнул ее в щеку. Толпа за спиной Лауры отрезала ей пути к отступлению, и она протянула руку для более пристойного рукопожатия. Пытаясь перекричать звук оркестра, Джош спросил: «Ты танцуешь? Латинские танцы исполнять намного легче, чем кажется. Обещаю!»
Вероятно, само собой разумелось, что женщина, выглядевшая как она — одинокий остров в повседневном деловом костюме в море легкой и праздничной одежды, — не умеет танцевать. Однако именно это и подтолкнуло ее выйти на танцпол, хотя в обычной ситуации она бы отказалась. Со своим ростом метр семьдесят с лишним Лаура была выше многих из присутствующих мужчин, но Джош был достаточно высоким, чтобы рядом с ним она могла чувствовать себя женщиной. Она остро ощущала гладкую кожу его руки, которая сжимала ее ладонь, его дыхание у себя на макушке, когда он поворачивал ее к себе, прежде чем отпустить. Прошло лет пятнадцать, и выросла она по крайней мере сантиметров на двенадцать с тех пор, как танцевала так последний раз. Она была приятно удивлена, когда обнаружила, что ее тело до сих пор помнит, как двигаться в такт, движения остались такими же плавными, будто она танцевала еще на прошлой неделе. С одной только разницей: она не помнила, чтобы в юности у нее так кружилась голова, а дыхание становилось таким прерывистым. «Все дело в мохито», — подумала Лаура, а потом вообще перестала о чем-либо думать.
Они протанцевали четыре танца подряд, в конце каждого она ловила вопросительный взгляд Джоша (возможно, ей необходимо отдохнуть?) и отвечала успокаивающим рукопожатием (нет, не нужно). Она была удивлена — настолько крепким партнером он оказался. Лаура чувствовала, что ее танец со стороны выглядит так же красиво, как ей кажется, потому что присутствующие посторонились, любуясь тем, как эти двое кружат по танцполу.
Возможно, если бы она уже не совершила столько поступков, обычно ей не свойственных (однако, как ни удивительно, отражающих ее истинное «я», — она много лет не чувствовала себя в такой гармонии с самой собой), остаток ночи прошел бы по-другому. Возможно, она не стала бы так быстро рассказывать Джошу о том, что научилась скрывать от своих коллег. Когда те слышали, что она выросла на Манхэттене, то думали, что она говорит об одном из самых богатых жилых анклавов, расположенном вокруг Парк-Авеню. Возможно, сейчас она даже не была бы замужем за Джошем. Неужели все в жизни на самом деле решают такие мелочи? Электрический ток, который она ощущала у себя на талии от прикосновения кончиков его пальцев… Мгновение бурной радости от осознания того, что толпа незнакомых людей любуется ею на танцполе…
Когда в конце концов они, задыхаясь, упали на мягкий диван, синие глаза Джоша сияли.
— Ты просто удивительная девушка. Где ты научилась так танцевать?
— Я выросла в Нижнем Ист-Сайде, где полно пуэрториканцев, — ответила она. — Они устраивали эти огромные карнавалы с танцами и угощением. Мама рассказывает, что первый раз взяла меня на подобный праздник, когда мне было всего три года, и я затерялась в толпе. Нашла она меня только через час, в центре группки детей постарше, которые учили меня движениям. Танцевали все, от малышей до стариков. — Она улыбнулась. — Так приятно видеть, как один и тот же танец танцуют несколько поколений, наслаждаясь одной и той же музыкой.
Джош был ошеломлен.
— В детстве я был готов отдать все, чтобы расти в городе, — признался он. — Единственным моим желанием было жить здесь. Я все заранее спланировал. Собирался делать музыкальные обзоры в одном из еженедельных журналов и жить в каком-нибудь ветхом многоквартирном доме в центре, где из мебели только матрас на полу и ящики из-под молока.
Его признание вызвало у Лауры смех.
— Однако непохоже, чтобы все сложилось так, как ты планировал.
— Не так, — согласился Джош, и Лаура уловила в его голосе трогательную печаль. — Я даже не знаю, существовали ли еще те полные крыс квартиры, в которых я так мечтал жить, когда я сюда переехал.
— Я выросла в одном из таких кишащих крысами домов. Можешь мне поверить: в нищете нет никакой романтики. Например, когда засоряется водопровод…
Джош оценивающе оглядел костюм Лауры — несмотря на его строгую сдержанность, он явно был дорогим.
— Вы жили очень бедно?
— Достаточно бедно. Хотя я об этом не подозревала, пока мне не исполнилось четырнадцать лет.
— А что произошло в твои четырнадцать лет?
— Ну… понимаешь… — Лаура сделала неопределенный жест и почувствовала, как запылали ее щеки. Что с ней не так? Почему она не может просто болтать и флиртовать, как любая другая женщина, которая общается в ночном клубе с привлекательным мужчиной? — Однажды ты взрослеешь и понимаешь, как устроен мир на самом деле.
Оркестр, заиграв композицию Селии Круз, зазвучал намного громче, заполнив возникшую в беседе паузу.
Взгляд Джоша поймал улыбку Лауры.
— Значит, все было не настолько ужасно.
— Нет, конечно. — Она вздохнула с облегчением, когда разговор приобрел чуть более легкомысленный оттенок. — Я хочу сказать, что ни отопление, ни водопровод как следует никогда не работали. Наш дом был построен в начале века, поэтому в нем все и всегда ломалось, и еще мы постоянно чувствовали, сколько людей жило до нас в этой квартире. Мы с мамой время от времени кое-что обнаруживали, например след ожога от старого утюга на полу. Или однажды, когда сдирали обои, обнаружили, что одна комната оклеена нотами девятнадцатого века. Моя мама очень любила музыку, и она такой же романтик, как ты, поэтому мирилась со многими неудобствами тамошней жизни.
— А ты думала иначе? — спросил он.
— Мне нравились тамошние люди, — ответила Лаура. — Мне кажется, люди там именно такие, как ты себе представлял. Среди наших соседей было несколько интересных художников. А у тех, что жили сверху, было пятеро детей, и их дочь, моя сверстница, была моей лучшей подругой. А прямо в квартире над нами жили Мандельбаумы. Они, бывало, присматривали за мной, когда мама работала. — В улыбке Лауры проскользнула печаль. — Они были женаты более пятидесяти лет. И до самой смерти безумно любили друг друга.
— Настоящая любовь! — воскликнул Джош. — Это было чувство с первого взгляда?
— Ой, нет, — засмеялась Лаура. — Однажды летом их познакомила на пляже Рокуэя общая подруга. Мистер Мандельбаум был ростом невысок, и голова его уже начала лысеть, зато тело было густо покрыто волосами. Хотя, по общему мнению, женщины были к нему неравнодушны. — Лаура поймала себя на том, что понизила голос и говорит фразами самой миссис Мандельбаум, какими та рассказывала эту историю. «До знакомства со мной Макс проводил время с девушками из “Рокеттс”, — говорила та, пятьдесят лет спустя все еще испытывая гордость за то, что ей удалось победить фигуристых соперниц и завоевать любовь мистера Мандельбаума. — Будущей миссис Мандельбаум тогда только исполнилось восемнадцать, она на восемь лет моложе супруга. Поэтому, когда их общая знакомая попыталась их свести, мистер Мандельбаум ответил: «Я не стану встречаться с ребенком!» А миссис Мандельбаум заявила: «Не собираюсь знакомиться с этим волосатым бабуином!» Но каким-то образом ей удалось уговорить их встретиться. Они отвратительно провели время. Он повел ее в придорожную закусочную, оставил одну за столиком в углу, а сам танцевал со всеми девушками подряд. Но позже, когда он провожал ее домой, ему стало стыдно за свое поведение и он завел с ней беседу. Так они и проговорили до самого ее дома. Миссис Мандельбаум говаривала: «И тогда нас обоих укусила любовная муха!»
Лаура замолчала. Сейчас она испытывала необъяснимую радость оттого, что можно поговорить с Джошем об этих людях, но с воспоминаниями о них всегда приходила и боль. Она настолько углубилась в прошлое, что вздрогнула, когда Джош спросил:
— А дети у них были?
— Сын, Иосиф. Погиб во Вьетнаме. У них в гостиной, рядом с орденом «Пурпурное сердце» стояла его фотография в армейской форме. В детстве он казался мне таким красивым, прямо кинозвездой. — Лаура опустила взгляд на руки Джоша. — Если честно, он был чем-то похож на тебя.
Уголки губ Джоша поползли вверх — было видно, что комплимент ему пришелся по душе, хотя он сделал вид, что не обратил на него внимание.
— А кто-нибудь из твоих знакомых еще живет там?
— Нет. — Лаура старалась, чтобы ее голос не звучал так резко, но, кажется, безуспешно. — Здание было признано непригодным для проживания, и нам всем пришлось переехать.
Повисла очередная пауза. Джош поднес к губам бокал, и Лаура вся зарделась, когда поняла, что размышляет о том, какие на вкус его губы. Каково это, когда он прижмет тебя спиной к мягкому дивану и прикоснется к твоей шее. Он небрежно перекинул руку поверх спинки дивана, и Лаура уловила запах его шампуня и рома, запах тепла от танцев в битком набитой людьми комнате и аромат свежевыстиранной одежды, снимающий напряжение. Нос Лауры уловил даже что-то напоминающее цветы валерианы, которые Сара как-то безуспешно пыталась разводить в маленьких горшках, свисающих с подоконника их квартиры. Она поймала себя на том, что незаметно прильнула к нему ближе — краем рукава Джош задевал ей шею.
Он взглянул на Лауру, их взгляды встретились.
— А почему бы нам не взять немного еды? — предложил Джош. — Где-то здесь неподалеку «Рауль». — И когда Лаура возразила, полагая, что этикет требует их присутствия до конца вечеринки, он добавил: — Я и так уже здесь засиделся. Закончить смогут и без меня.
После того первого вечера они практически все свободное от работы время проводили вместе. Джош трудился так же много, как и Лаура, хотя его рабочий день длился не так долго. После окончания юридического факультета и устройства на работу в контору «Ньюман Дайнс» первым и единственным обязательством Лауры было обязательство перед конторой. Но теперь она ловила себя на том, что вечерами пытается сбежать с работы пораньше, часов в семь, потому что буквально не может дождаться встречи с Джошем. Жизнь в конторе с обязательным присутствием и неподъемным объемом работы давно стала для нее настоящей жизнью, а все остальное было лишь размытым пятном. Однако рядом с Джошем жизнь после работы неожиданно засверкала, стала отдушиной. Она вспомнила, какой была до того, как поступила в университет, пока существование не сузилось до следующего экзамена, следующего курса, следующего достижения. Джош обладал некой беспечностью, а порой и дурашливостью, которая так не вязалась с его внешностью. Его способность рассмешить Лауру была тонизирующим средством для ее скрытых сторон, о которых она даже не подозревала.
Лаура всегда пыталась подавить внутреннее убеждение, что она нелегалка в жизни, которую сама для себя построила. Давным-давно, когда она жила с Сарой, с ними происходили вещи, которые казались бы немыслимыми тем, с кем она общалась теперь. Например, нестерпимое унижение и огромное горе оттого, что тебе всего четырнадцать и ты видишь, как твоя мать пробирается через затопленные водой горы личных вещей, разбросанных по улице (где на них таращатся зеваки), в надежде найти хоть что-то — пару трусиков, потрепанный детский дневник — из того, что еще вчера было лично твоим. Разве можно представить, что нечто подобное могло случиться с Пэрри? Или любым другим ее коллегой? Или с миссис Риверс, женщиной, которая сидит в приемной за конторкой красного дерева, где отвечает на телефонные звонки и приветствует клиентов с авторитетом, непререкаемым последние тридцать четыре года?
Иногда Лаура представляла, во что же в конечном итоге превратится жизнь Сары — будет шаркать одна по маленькой, слишком натопленной квартирке среди обломков своей прежней жизни. Печаль, которую она видела на лице Сары во время своих визитов, все более редких, заставляла Лауру чувствовать и вину, и страх. Ей хотелось накричать на Сару: «Не я виновата, что сейчас тебе грустно и одиноко. Ты сама сделала выбор. И мы обе виноваты в том, что отношения между нами стали такими, как сейчас».
Вещи, которые могли случиться с ней или с Сарой, никогда, по представлению Лауры, не могли бы произойти с Джошем. Достаточно было только на него взглянуть, провести рядом с ним пять минут, чтобы понять, что он один из избранных — он и все, что ему принадлежит. Когда Лаура впервые за воскресным завтраком встретилась в Нью-Джерси с родителями Джоша, она вежливо сказала: «Приятно познакомиться, миссис Бродер». И Зельда Бродер, великанша в крупных бриллиантах, с посеребренными сединой волосами, схватила Лауру за руку и воскликнула своим дребезжащим голосом: «Джош, она настоящая красавица!» Лаура обводила взглядом расслабленные лица, прислушивалась к громким разговорам о работе или страстному обмену сплетнями. Они не имели ничего общего с далекими от реальности разговорами и занятиями из ее детства и отрочества с Сарой — с дискуссиями о музыкальном искусстве или с рисованием лозунгов для различных слетов, которые гласили: «ЖИЛЬЕ КАЖДОМУ!». Лаура думала: «Я принадлежу тому миру».
Джош был человеком, который просто наслаждается жизнью и работой. Он, как и Сара, очень любил музыку и книги, но воспринимал их как подарки, призванные сделать все вокруг лучше, а не как способ замкнуться на самом себе. Он мог из незначительного события, например, спонтанного похода в кино или заказа пиццы среди ночи, сделать праздник — награда, которую они заслужили после нелегкого рабочего дня. Для Лауры идея о том, что за тяжелую работу она может быть вознаграждена чем-то иным, кроме денег и уверенности в будущем, стала настоящим открытием.
Она думала о Джоше целыми днями, представляла, как его руки и ноги переплелись с ее собственными, — и колени молодой женщины дрожали под письменным столом. Безобидные рабочие разговоры, например: «Лаура, подойди, пожалуйста, сюда» или «Сейчас начинается совещание» напоминали ей о тех «пожалуйста» и «сейчас», которые настойчиво шептались в темноте. Лежа в кровати одна, в те ночи, которые проводила без Джоша, Лаура часами не могла заснуть; ее ноги судорожно подергивались, будто стремились идти — с ней или без нее — к нему.
Влюбиться в Нью-Йорке означает много гулять, и они с Джошем часами гуляли по городу, хотя, оказываясь в центре, Лаура следила за тем, чтобы они не заходили восточнее Сохо или Виллиджа. Их длинные ноги естественно стремились к быстрому шагу, но они намеренно замедляли его, чтобы не сбивать дыхание и иметь возможность вести бесконечные разговоры.
Однажды, спустя всего несколько месяцев после начала их отношений, они проходили мимо магазина в Верхнем Ист-Сайде — одного из тех крошечных бутиков, в витринах которых стоят манекены в захватывающе красивых, сногсшибательно дорогих платьях. Это было шелковым, длиной в пол, на тонких бретелях, цвета мякоти персика. Лаура на мгновение задумчиво задержалась у витрины и произнесла:
— Я всегда мечтала надеть такое платье.
— Тогда нам стоит зайти, чтобы ты могла примерить его, — ответил Джош.
Лаура опустила глаза на свои потертые джинсы и легкий свитер — свой типичный наряд вне работы — и засмеялась.
— А зачем? Куда я буду его носить?
— Померить не значит купить, — заметил Джош, и оба вошли внутрь.
Глядя в трехстороннее зеркало в магазине, Лаура почувствовала себя преображенной. Кожа ее казалась кремово-розовой на фоне нежного персикового платья, а волосы блестели, как драгоценности в бархатной шкатулке. Она совершенно не похожа была на адвоката, которому за ночь необходимо ознакомиться со ста пятьюдесятью договорами, чтобы утром вновь вернуться на работу, долго и утомительно тащась в метро с такой тяжелой сумкой на плече, что у нее уже стали возникать проблемы со спиной. Она была похожа на девушку, которая кружится по натертому до блеска паркету, а потом с бокалом шампанского и, возможно, с крошечным канапе грациозно опускается на изящный диванчик, чтобы немного передохнуть.
— Ты должна его купить, — произнес Джош у нее за спиной.
— С ума сошел? — Лаура повернулась к нему лицом. — Ты знаешь, сколько оно стоит? — Но ее возражения иссякли, когда она глянула в лицо Джоша.
Он будто видел ее такой, какой сама она никогда себя не знала. Такой взгляд иногда Лаура видела на лице мистера Мандельбаума, и направлен он был на миссис Мандельбаум, когда та занималась самыми простыми вещами, например, становилась на цыпочки, чтобы достать книгу с верхней полки, или наливала кипящую воду из чайника в чашку. Во взгляде его читалась полуулыбка — в глазах сильнее, чем у рта. И несмотря на то, что Лаура была очень юной, когда наблюдала этот взгляд, даже тогда она думала, что в этой улыбке таится целая жизнь, состоящая из книг и чашек, бессонных ночей рядом с кроватью заболевшего сына, аплодисментов годы спустя на выпускном вечере того же мальчика, месяцев, когда в чековой книжке не сходились доходы и расходы, и ежедневных семейных ужинов, которые все равно были исполнены радости. Потому что всегда оставалось одно. Эта комната. Эта женщина.
— Выходи за меня замуж, — предложил Джош. — Ты выйдешь за меня замуж?
Он хотел взять ее за руку, но Лаура инстинктивно отступила назад.
— Ты шутишь? — Она почувствовала, как вспотели подмышки и подумала: «Что ж, теперь я, по всей видимости, просто обязана купить это платье». — Мы еще недостаточно узнали друг друга, чтобы жениться.
— Я в своих чувствах уверен, — ответил Джош. — Я уже давно об этом размышляю.
Голос у него был решительный, он открыто смотрел ей в глаза. «Он действительно об этом думал», — поняла Лаура. В голове у нее родилась мысль: человек никогда по-настоящему не знает, о чем думает другой человек. Однако, что есть любовь, если не возможность — или хотя бы обещание — идеального понимания?
— Я еще никогда и ни с кем не был так счастлив, — продолжал Джош. — И я даже не представляю, что с кем-либо другим смогу испытать такое счастье. А ты? — Он продолжал стоять с протянутой рукой. — Если ты сможешь, тогда мне добавить нечего.
Лаура знала, что мир состоит из двух типов людей. Существовали такие, как Джош (и, кстати сказать, Сара), которые полагали, что жизнь дана для того, чтобы ею наслаждаться. И необязательно это означает безответственность (Лаура вновь подумала о Саре), но вся суть ответственности, тяжелой работы, беспокойства об оплате счетов и всего остального сводится у них к тому, чтобы, в конечном итоге, получать от жизни удовольствие. Если ничего из перечисленного не приносит радости, следовательно, и не имеет смысла.
Но был и второй тип людей, которые знали, что жизнь — это борьба за выживание. Если быть чрезвычайно осторожным, если много работать, то можно прожить жизнь, надеясь, что с тобой не произойдет ничего по-настоящему ужасного.
Лаура принадлежала ко второму типу, но она не всегда была такой. Она была счастлива эти несколько месяцев, пока встречалась с Джошем, и она помнила себя в детстве, когда самые простые вещи — например, обещание навестить Мандельбаумов и провести длинные, спокойные часы с Хани, кошкой, которая будет урчать у нее на коленях, — наполняли обычные дни радостным предвкушением. Но, если честно, она всегда знала, что это не будет длиться вечно. Она оберегала те счастливые дни от неизбежности влияния времени, и единственное, что у нее оставалось, — воспоминания о прошлом и реальность, в которой необходимо было выживать, несмотря ни на что.
Лаура почувствовала укол вины при мысли о том, что Джош хочет связать свою судьбу с такой, как она. Но мелькнула мысль, а вдруг… может быть… она сможет все вернуть — вдруг глупые песни о любви и счастье, которые всегда слушала и пела Сара, станут былью. И не на мгновение, а навсегда. Эта мысль показалась Лауре слишком большим искушением.
— Да, — ответила она, а затем позволила Джошу взять себя за руку и, когда он заключил ее в объятия, повторила ему на ухо: — Да, я выйду за тебя замуж.
Сара наконец познакомилась с Джошем (вскоре после их помолвки) за обедом в маленькой бутербродной в Ист-Виллидже. Если поспешность их решения и напугала ее, то она умело это скрывала. Сара с Джошем целый час говорили о музыке, и глаза женщины горели — Лаура уже много лет не видела в маминых глазах такого блеска. В течение этого часа Лаура видела Сару такой, какой запомнила с детства: Сару, которая говорила уверенно и могла рассказать много интересного. А не ту Сару последних лет, которая так безжалостно набрасывалась на Лауру со своей болтовней, что навещать ее или звонить было все равно что добровольно отдаться в заложники. После стольких лет отчуждения Лаура с обидой считала такое внезапное преображение нечестным.
Она беспокоилась о том, что подумает Джош, когда увидит, какие у нее натянутые отношения с матерью. (Разве возможно было не заметить, насколько неловко они чувствуют себя в присутствии друг друга?) Решит ли он, что всему виной Лаура? Подумает о том, а следует ли связывать себя узами с человеком, чья семья не такая крепкая, как его собственная?
Но Джош был очарован.
— Твоя мать — лучше всех! — восторгался он после той встречи. — Ты даже не представляешь, как тебе повезло! Расти с матерью, которая столько знает о музыке и к стольким вещам неравнодушна.
Лаура всегда представляла, что однажды, в каком-то туманном будущем, после того, как они с мамой простят друг другу все стоящие между ними обиды, они сядут в квартире Сары и будут за обветшалым столом говорить о Джоше. Лаура признается, что любовь к нему напоминает ей походы в городской бассейн, куда в детстве летом водила ее Сара. Лаура прыгала спиной в воду и невесомо шла ко дну. Пока она тонула, круг солнечного света отражался от поверхности воды, все увеличиваясь в размерах. Вот так чувствуешь себя, когда влюблен, — тонешь в потоке света.
Сара грустно улыбнется и скажет что-нибудь вроде: «Точно так было у меня с твоим папой». А потом Сара расскажет, почему у нее с отцом Лауры не сложилось. Дочь захочет, чтобы мама привела реальные доводы, которые можно было бы проанализировать касательно ее отношений с Джошем и в конце концов сказать: «Ну, с нами подобного не случится». Раньше Сара говорила, что Лаура пытается воспользоваться логикой как оружием, но Лаура знала, что для Сары, а следовательно, и для самой Лауры, все закончилось плачевно именно из-за отсутствия логики, сознательного неприятия основных законов причины и следствия.
Она вспомнила, что у них с Сарой были попытки подобных разговоров, но когда бы она их ни заводила, ей казалось, что неизбежная боль и изнеможение, необходимость утолить желание мучить себя, вытягивая на свет божий давно дремлющие воспоминания (любой адвокат назвал бы это «ценой выбора»), — слишком высокая цена. Может быть, когда-нибудь наступит подходящий момент.
Вот только теперь этот момент, конечно, уже не наступит.
Однако Лауру утешало, что ее мама прожила достаточно долго и смогла увидеть свадьбу дочери. Они с Джошем поженились в четверг утром, в середине сентября. В ресторан «Трайбека» позвали только нескольких близких друзей и родственников. Лаура радовалась, что не стали устраивать пышную свадьбу, поскольку не знала, кого пригласить, за исключением нескольких своих сослуживиц. Пэрри в костюме и ермолке, в меру веселый, но и сдержанный, как подобает случаю, заставил ее вспомнить о мистере Мандельбауме. Как бы тот обрадовался, если бы побывал на ее свадьбе! «Моя маленькая кецелe[10] превратилась в настоящую даму!» — обязательно сказал бы он.
Сара в свои сорок девять оставалась все такой же красивой: высокая и стройная, в сиреневом шелковом платье, придающем ее глазам живой оттенок индиго. И Лауру, и Джоша вели по проходу родители — согласно еврейской традиции. Пока они дожидались своей очереди, Сара подхватила дочь под руку. Лаура почувствовала, что мамина рука дрожит. Казалось, Сара хочет что-то сказать: она долго смотрела на букет Лауры.
— Мой свадебный букет тоже состоял из лилий, — вот и все, что она произнесла тогда.
Открывая входную дверь их с Джошем квартиры, Лаура услышала звук работающего в гостиной телевизора. Аккуратно повесила пальто, спрятала сумку в шкаф в прихожей. В глубине коридора заметила Пруденс. Хотя кошка лежала, ее тельце напоминало натянутую пружину. Когда Лаура вошла, она так и подскочила, сделала несколько каких-то неуверенных шагов в ее сторону, повернулась и стремглав бросилась назад в гостиную. Лаура остановилась, удивленная таким неожиданным поведением кошки, и, продолжая недоумевать, зашла на кухню — налить два бокала красного вина, которые потом отнесла в гостиную, где Джош не отрываясь смотрел телевизор.
— Прости, что опять так поздно, — извинилась она, чмокая мужа в щеку и протягивая ему бокал с вином. — Как прошел день?
Джош выключил телевизор и повернулся лицом к жене. Что-то в этой внезапно наступившей тишине и взгляде Джоша заставило все внутри у Лауры похолодеть.
— Не слишком хорошо. — Джош глубоко вздохнул и шумно выдохнул через нос. — Я потерял работу.
Часть вторая
Глава 6
Пруденс
Газеты, которые Джош разбросал на полу в кухне, оказались c норовом. Я бросилась на сложенные листы, только чтобы удостовериться, что в них не прячутся крысы или змеи (когда жила на улице, я видела, как они постоянно устраивают себе уютные норки в старых газетах). Но сейчас газеты так и пытаются накрыть меня с головой, даже когда я переворачиваюсь на спину и бью по ним задними лапами. Поэтому я встаю, припадаю к полу, вытягиваю хвост для равновесия и молниеносно прыгаю на них — чтобы показать, кто здесь хозяин. Газета видит, насколько я сильнее, и скользит по полу к стене, пытаясь убежать и захватывая меня с собой. Но я не хочу так легко сдаваться.
Газета перестает двигаться, понимая, что повержена, когда мы обе ударяемся о стену. Я торжествующе отрываю зубами несколько ее клочков. Джош и Лаура, которые в это время завтракают на кухне, с облегчением видят мою победу над ней — убедившись, что под газетой не прячутся ни крысы, ни мыши, они заливаются смехом. Я возвращаюсь на свой пост у стола, трусь головой о его ножку, а потом о ножки стула, чтобы любой (например, очередная злая газета), кто попытается пробраться сюда, знал, что эта территория находится под защитой кошки. Джош протягивает руку, чтобы погладить меня по голове, но я тут же отскакиваю и морщу носик от отвращения. Он вздыхает и продолжает доедать свой завтрак.
Несмотря на то что сегодня четверг, Джош не в своей рабочей одежде и блестящих черных туфлях. Потому что люди на его работе больше не разрешают ему туда приходить. Теперь Джош «работает на дому», хотя бóльшую часть дня он проводит за разговорами по телефону и тренировкой пальцев на кошачьей кровати в Домашнем кабинете. (Неужели люди думают, что это и есть «работа»?) И с той пятницы, когда Джош сообщил Лауре о том, что потерял работу, та стала кормить меня завтраком на кухне. Джош говорит, что слишком трудно сосредоточиться на «работе», когда из моей, соседней с ним комнаты долетают запахи кошачьей еды. Совершенно очевидно, что Джош не знает и о половине неудобств, которые сам создал мне тем, что неожиданно засел дома.
Сперва я нервничала по поводу того, что приходится завтракать там, где делают это Лаура с Джошем, из-за случившегося за семейным обедом на Песах. Но оказывается, не все так плохо. Я поняла, что, если мягко напомнить им — встать у кухонного стола и мяукнуть, — чтобы они дали мне немного молока, яиц или сыра, который они расплавляют на бутербродах в тостере, мне, скорее всего, дадут отведать чего-то такого. Сара говорит, что перед моим мяуканьем невозможно устоять. На самом деле она имеет в виду, что у некоторых кошек мяуканье напоминает музыку, но я, как ни печально, не из таких. По словам Сары, у меня голос торговца рыбой из Нижнего Ист-Сайда, и никто не в силах слишком долго выносить мое «пение». Мне кажется, Сара боялась, что я обижаюсь, когда меня называют «торговкой рыбой», потому что подхватывала меня на руки, целовала в нос и приговаривала: «Не волнуйся, Пруденс, я люблю твои атональные рулады». Не знаю, почему она решила, что я обижаюсь. Я не знаю точно, что означает «торговка рыбой», но звучит просто восхитительно.
Джош подходит к столу, чтобы налить себе кофе, и, когда я мяукаю, наливает мне в миску немного своих сливок и перемешивает их с моим завтраком. Произошло то, чего я ожидала: Лаура уже не мешает мой старый корм с «органической» едой, которую покупает мне Джош. Но я уже не так тревожусь о пище, как в первую неделю: оттого что в «органический» корм добавили сливок, он становится намного вкуснее. Тем не менее я погружаю всю правую лапу в миску, чтобы пролить немного сливок на синий резиновый коврик с изображением кошек, потому что я ненавижу этот глупый коврик.
Джош возвращается за стол, садится напротив Лауры, которая пьет черный кофе без сахара. Я следую за ним, трусь головой о его ногу — это ему награда за хорошее поведение — и с удовлетворением замечаю, что, помимо своего запаха, оставляю несколько шерстинок у него на брюках.
— И какие на сегодня планы? — спрашивает Лаура.
— Как обычно, — отвечает Джош. — Звонки по телефону, электронная переписка. Мне кажется, пора сообщить новость Эйбу и Зельде.
Лаура изображает на лице сочувствие.
— Да уж!
Джош пожимает плечами.
— Думаю, все не настолько плохо. Я тружусь с пятнадцати лет и работу потерял впервые. Наверное, они скажут мне, что пришел мой час отдохнуть. — Он отпивает кофе из кружки. — Кстати, у меня есть телефон одного человека, который пару лет назад пытался меня переманить.
Сара с Анис как-то говорили о потере работы. В Былые Времена у них была Дневная работа — там они зарабатывали деньги между тем, что называли Выступлениями. У Сары было много Дневной работы, например, продавать фрукты на фермерском рынке, который колесил по всему городу, и ей приходилось еще до рассвета выходить на работу, что бывало особенно трудно, когда у нее было ночное Выступление. Еще она обслуживала столики в кафе и выполняла секретарские обязанности в магазине грампластинок. У Анис была всего одна Дневная работа — барменом, но ей приходилось выполнять одни и те же обязанности во множестве различных мест. Они часто меняли Дневную работу по причине того, что Выступления приходились на те же дни, что и она, и, если вставал выбор, куда идти, Сара с Анис всегда выбирали Выступления, даже несмотря на то, что они часто не оплачивались. Именно поэтому Сара с Анис почти всегда были На Мели. В конце концов Сара перестала ходить и на Дневную работу, и на Выступления, когда Лауре исполнилось три года и исчез Сарин муж. Именно тогда она поняла, что пора повзрослеть, поэтому открыла собственный магазин грампластинок. К тому времени Анис уже стала известной и постоянно Выступала. И ей уже не приходилось беспокоиться о Дневной работе.
Такое впечатление, что Сара с Анис чаще теряли работу, чем работали на одном и том же месте, поэтому, если это правда, что Джош впервые потерял ее, тогда ему на самом деле повезло.
Лаура протянула руку через стол, пытаясь достать до руки Джоша. Несмотря на то что на лбу у нее залегла небольшая морщинка, она улыбалась.
— Что-то обязательно появится, — негромко успокоила она.
— Я и не беспокоюсь. — У Джоша немного опущены уголки глаз, а уголки губ, наоборот, чуть вздернуты, поэтому всегда кажется, что он вот-вот улыбнется и в то же время немного грустит. Сейчас уголки его губ ползут вверх, пока лицо не расплывается в улыбке. Но глаза остаются совершенно серьезными.
Как только в прошлую пятницу я увидела Джоша, сразу поняла, что с ним произошло что-то необычное и плохое. Я дремала на кошачьей кровати в Домашнем кабинете, когда он вернулся с работы. Неожиданно рано. Он заметил меня, поднимаясь по лестнице, подошел, как будто собирался меня прогнать, как поступал всегда, но потом, похоже, передумал. От него не то чтобы пахло пóтом, но исходил такой запах, будто он потел больше обычного — не от физических нагрузок, а от страха. Еще от него пахло так, будто, прежде чем вернуться домой, он куда-то заходил, чтобы выпить несколько глотков дурно пахнущей жидкости типа той, какую они хранят в отдельной тележке в столовой. После он вышел из Домашнего кабинета — даже не выключив свет, как поступал обычно, покидая комнату, — спустился вниз, и я услышала звук работающего телевизора.
Я еще не знала, какие ужасные вещи приключились с Джошем. Но запах чего-то пугающего нервировал меня. Потом я подумала о Лауре, которая вернется в квартиру после работы, даже не подозревая, что следует быть настороже. Вопреки здравым рассуждениям (поскольку нас с Лаурой, особенно после того ужасного семейного ужина, точно нельзя назвать подругами), я решила дождаться ее внизу и предупредить. Именно такого поступка ждала бы от меня Сара. В конце концов, Сара любит Лауру так же сильно, как меня.
Но все закончилось тем, что Джош сразу же сообщил Лауре о том, что произошло, и у меня не было шанса убедить ее в том, чтобы она была осторожна, приближаясь к нему. Он сказал, что журнальные издательства повсюду теряют деньги, а когда это происходит, первое, что делают владельцы, — избавляются от тех, кто занимается рекламой. Джош сказал, что «распотрошили» весь его отдел — ужасная новость! Я однажды видела по телевизору передачу, где один человек потрошил рыбу, которую сам поймал. Сперва он вскрыл рыбе брюхо прямо посередине, а потом вытащил все внутренности и швырнул все, что осталось, в большой контейнер. И даже при одном взгляде на это мне захотелось рыбы (как бы мне хотелось съесть рыбки прямо сейчас!), но, когда я услышала, что на работе Джоша делают то же самое с людьми, шерсть моя встала дыбом. Какие же злые люди у Джоша в конторе! Такое впечатление, что ему повезло сбежать из этого места, и мне тут же стало понятно, почему он выглядел и пах так ужасно, когда вернулся домой. Если бы я увидела подобное собственными глазами, думаю, я не смогла бы заснуть в течение месяца.
Я ожидала, что Лаура заключит Джоша в объятия, как в телесериалах, и скажет что-то типа: «Слава Богу, что с тобой все хорошо!» Вместо этого у нее между бровями залегла морщинка. Когда чуть позже она все-таки обняла мужа, то сказала нежнее, чем я могла бы от нее ожидать (учитывая, как счастливо отделался Джош):
— Мне очень жаль, милый.
Глаза Джоша из-за плеча Лауры выглядели печальными и озабоченными, несмотря на то, что произнесли его губы:
— Хочу, чтобы ты ни о чем не тревожилась. Знаю, как нелегко тебе пришлось за последние несколько месяцев.
Джош продолжал обнимать Лауру, поэтому не видел ее лица. В отличие от меня, он не видел того напряженного выражения, которое всегда возникает на нем при упоминании Сары. Создается впечатление, что слишком многое происходит у Лауры в голове, поэтому ее лицо не все может отразить, и она сдерживает работу лицевых мышц, чтобы оно вообще ничего не выражало. (Кошки от природы наделены такой способностью, им нет нужды практиковаться, как это делают люди).
— Джош, со мной все в порядке, — заверила Лаура, и в ее голосе зазвучали нотки раздражения. — Ты не должен обо мне тревожиться.
Джош отстранился, чтобы взглянуть Лауре в лицо, и поднял уголки губ. Теперь он выглядел скорее счастливым, чем печальным.
— И хорошие новости: мне выплатят зарплату за четыре месяца. На следующей неделе по электронной почте мне пришлют договор, и, как только я его подпишу, сразу получу чек. И с понедельника, прямо с утра я начну обзванивать работодателей.
Морщинка на лбу Лауры разгладилась, она улыбнулась.
— Это хорошие новости. Четыре месяца — огромный срок, за это время ты обязательно что-нибудь подыщешь. У тебя такое внушительное резюме.
— Надеюсь, — ответил Джош и улыбнулся.
Дни стали длиннее, и, когда Лаура или Джош открывают верхнюю половинку одного из длинных окон в гостиной, я чувствую, как потеплело на улице. Тем не менее в квартире все еще прохладно. Поэтому непонятно, из-за чего на лбу у Джоша вдруг выступили капли пота.
Сперва мне стало почти жаль Джоша, потому что случившееся в его конторе казалось еще хуже, чем те страшные вещи, которые происходят в Ужасном месте. Но жалела я его лишь до того момента, пока не поняла, насколько разрушительным для моего распорядка дня окажется его постоянное присутствие дома. Если я хотела тихонько посидеть наверху в своей комнате, заставленной коробками Сары, предаваясь воспоминаниям, Джош тоже оказывался там, ходил кругами, разговаривая по телефону, — совсем как голуби, за которыми так часто наблюдает Лаура. Не знаю, зачем, разговаривая по телефону, нужно обязательно ходить. Я, например, совершенно спокойно могу мяукать так же отчетливо и часто, сидя неподвижно. Но Джошу нравится ходить, разговаривая по телефону. Каждый раз, когда я пытаюсь пройти куда-нибудь, он обязательно оказывается у меня на пути, и мне приходится отскакивать за коробки Сары, чтобы не попасть ему под ноги. В последнее время я особое внимание уделяю тому, что говорят мне мои усы — будь осторожна, на тебя вот-вот наступят. (Может быть, чувство равновесия у Джоша недоразвито именно потому, что он каждое утро сбривает свои усы.)
Когда я решаю спуститься в гостиную, где раньше всегда могла рассчитывать на одиночество хотя бы днем, Джош тоже спускается вниз. Он продолжает разговаривать по телефону, хлопать дверцей холодильника, открывать и закрывать кухонные шкафчики, но ничего оттуда не достает (и даже не заглядывает в них), пока разговаривает. Такое поведение особенно расстраивает, потому что кошка имеет все права рассчитывать на то, что, если человек открывает холодильник или кухонный шкафчик, он обязательно достанет оттуда еду и поделится с ней. Даже когда я сажусь прямо перед Джошем и начинаю мяукать, недвусмысленно поглядывая на шкафчики, ничего не меняется — он обходит меня, как будто не замечает, как будто я диван или кофейный столик у него на пути. Иногда он нажимает на ручку консервного ножа, раздается характерный клац, который свидетельствует о том, что банка открыта. И хотя я понимаю, что Джош на самом деле никакие консервы не открывает, а просто нажимает на ручку, я все равно бегу проверить — чтобы убедиться собственными глазами. А если случится так, что я не прибегу, а Джош откроет банку с тунцом или еще чем-нибудь вкусным?
В конечном счете, когда уже больше не могу выносить этого разочарования, я возвращаюсь наверх, чтобы немного вздремнуть на кошачьей кровати в Домашнем кабинете. И, как вы понимаете, Джош врывается туда же, когда я уже начинаю дремать, и говорит:
— Пруденс, я же предупреждал тебя, чтобы ты держалась подальше от моего компьютера! — И прогоняет меня без всяких тебе «пожалуйста» и «спасибо». Разумеется, я знаю, что он меня предупреждал, но я думала, это относится к тем вечерам, когда он дома и ему самому необходима кошачья кровать в качестве когтеточки. Для меня совершенно очевидно, что такой теплый и пружинистый, идеально подходящий кошкам по размеру предмет используется ими для сна. Если Джошу не на чем больше тренировать свои пальцы, я с удовольствием уступлю ему свою когтеточку внизу. Мне кажется, на ней он достигнет лучших результатов, поскольку именно для этого она и предназначена. И она намного тише.
Неожиданные перемены всегда к худшему. Следует по возможности избегать любых перемен. Даже люди инстинктивно это понимают — следуя нашему, кошачьему, примеру, они приобретают полезные привычки, например, спать на одной и той же стороне кровати, или сидеть на одном и том же месте дивана, или каждый день завтракать в одно и то же время. Уж на что Сара была непредсказуема, но определенные вещи она всегда делала в одно и то же время. Например, перед тем как лечь спать, она неизменно считала до ста, пока расчесывала волосы.
Постоянное присутствие дома Джоша — очень важная и неожиданная перемена. Оно нарушило весь мой распорядок дня, я уже не помню, чтобы столько времени проводила с одним человеком. Даже Сара, у которой явно было намного меньше друзей-людей, чем у Джоша (судя по его бесконечным телефонным звонкам), никогда больше одного дня дома не засиживалась, не говоря уже о том, чтобы вообще не покидать квартиру. Я имею в виду те дни, когда ей не нужно было идти на работу.
Не поймите меня превратно. Приятно, когда рядом с тобой живет пара людей. Хотя ни один человек не сможет занять в моей жизни такое же важное место, как Сара, воспитанная человеческая особь вполне может быть приятным компаньоном. От них огромная польза, когда нужно открыть консервные банки с едой, или почистить кошачий лоток, или провести щеткой по твоей спинке, когда шерсть спуталась (как раньше по крайней мере раз в неделю делала Сара). Или нагреть местечко на диване, а потом встать — получится самое уютное гнездышко для сна.
Но даже наиполезнейший человек может исчерпать твое терпение, если будет слишком много времени проводить, расхаживая по дому и вертясь под ногами.
Джош усаживается в кресло, которое живет в Домашнем кабинете. Я следую за ним и протискиваюсь за столом, задевая провода, которые там болтаются. Джош не любит, когда я так делаю, но он сейчас слишком рассеян и не обращает внимания ни на что, а мне чрезвычайно важно отточить свое охотничье мастерство. (Я привыкла тренироваться именно в это время дня задолго до того, как Джош стал круглосуточно торчать в квартире, и стараюсь придерживаться своего давным-давно установленного режима). Он нажимает несколько кнопок на телефоне. Слышится пара-тройка гудков, потом трубку берет мама Джоша. После обмена приветствиями она говорит:
— Ты что, говоришь со мной по громкой связи? Ты же знаешь, я это ненавижу.
— Прости, мам, — отвечает Джош. — Я целое утро разговариваю по телефону, такое впечатление, что пальцы зажало в тиски.
Рука Джоша даже отдаленно не напоминает тиски, но его матери, находящейся на другом конце телефонного провода, этого не видно. Поэтому она смеется и произносит:
— А почему ты звонишь из дому посреди дня? Ты заболел?
— Вот поэтому-то я тебе и звоню. — Джош вздыхает чуть глубже. — На прошлой неделе я потерял работу.
— Почему? — В голосе ее явственно слышится тревога, и я инстинктивно поворачиваю свое левое ухо в сторону телефона, прислушиваясь к малейшему намеку на опасность.
— Да так… — протягивает Джош. — У компании финансовые трудности, произвели сокращение сотрудников. Я оказался среди сокращенных.
Повисает молчание.
— Ты еще никогда в жизни не терял работу, — наконец произносит его мать. — Ты обязательно что-нибудь найдешь, даже глазом моргнуть не успеешь. Такому умному мальчику, как ты, волноваться не о чем.
— Спасибо, — Джош улыбается в ответ.
Слышатся какие-то приглушенные звуки, а потом мама Джоша говорит:
— Не вешай трубку. Тут отец хочет с тобой поговорить.
— Джош! — из динамика раздается громкий голос отца. Джош немного переставляет ноги, чуть ровнее садится в кресле. Внезапно я оказываюсь в ловушке позади стола, мне отрезан путь к отступлению, если только он не изменит положения. — Мне очень жаль, что с тобой такое произошло. Послушай, ты откладывал по пятнадцать процентов от зарплаты, как я тебе советовал? Откладывал?
— Даже больше, чем пятнадцать, — еще до прошлого года. — Джош проводит рукой по волосам. — Хотя меня больно ударило по карману, когда обвалился рынок. Я еще в полной мере не оправился.
— Об этом не волнуйся. Просто сейчас не трогай эти деньги. Лаура пока достаточно зарабатывает?
— О да! У Лауры сейчас работы больше, чем обычно.
— Вот и хорошо, вот и хорошо, — повторяет его отец. — Вместе вы справитесь. — Раздается очередное невнятное бормотание, и отец говорит: — Мама опять хочет с тобой поболтать, поэтому я буду прощаться. Передавай Лауре привет и попытайся не слишком волноваться. Ты умный парень. Найдешь работу и оглянуться не успеешь.
Из динамика опять раздается голос матери Джоша. Эти двое беседуют о его сестре, о том, что она в следующем месяце надеется отослать свое потомство в место под названием «Летний лагерь». Я пытаюсь понять, насколько это долго — «не успеешь оглянуться». Трудно говорить о чем-то с уверенностью, потому что понятия о времени у людей и кошек не совпадают. Если ждать, пока меня покормят тунцом из открытой консервной банки, или стоять на железном столе в Ужасном месте, когда в меня втыкают иголки, — время тянется очень, очень долго. Если сидеть в керамической вазе в нашей старой квартире и ждать, когда Сара вернется с работы и поиграет со мной, то оно тянется просто бесконечно. Но если спать на коленях у Сары, когда она расчесывает мне шерсть или поет, — время проносится незаметно. Даже когда Сара иногда говорит: «Прости, малышка, но мне нужно вытянуть ноги. Мы сидим так уже четыре часа». (Это лишь в очередной раз доказывает, насколько надуманны человеческие часы — потому что, если бы они были настоящими, тогда четыре часа на коленях у Сары не кончались бы так быстро).
«Не успеешь оглянуться» звучит так, как будто это должно произойти прямо сейчас. Но когда Джош прощается с мамой, совсем не похоже, чтобы он уже нашел работу.
— Через пару минут я должен перезвонить «охотнику за головами» — агенту по найму, — говорит Джош матери на прощание. — Позже перезвоню вам с папой.
Существует разница между тем, чтобы говорить неправду и говорить правду отчасти. Джош рассказывает Лауре, как ищет новую работу, и это правда. Еще он говорит, что не хочет ее волновать, и я вижу, что это тоже правда.
Но Лаура знает не всю правду: на самом деле, с кем бы Джош ни разговаривал, никто не может предложить ему новую работу. Потому что Лаура, в отличие от меня, не сидит целый день дома и не слышит всех телефонных разговоров, которые ведет Джош.
Он говорит по телефону с огромным количеством разных людей, но все беседы чрезвычайно похожи. Они начинаются с того, что Джош восклицает, как здорово вновь услышать своего собеседника после стольких лет. Он спрашивает, как тот поживает, как его дети, жена, а потом, наверное, этот человек, с которым он разговаривает, должен сам поинтересоваться, как дела у Джоша, поскольку в ответ Джош произносит: «Не знаю, слышал ли ты, но…»
В начале разговора и вид, и голос Джоша свидетельствуют о том, что он искренне рад. Но со временем, несмотря на то что в его голосе продолжает звучать радость, лицо начинает выглядеть по-другому. Сначала у него лицо человека, который надеется на хорошие новости, затем он очень старается казаться непринужденным, хотя то, что он слышит, явно вызывает противоположные чувства. К тому моменту, когда он говорит что-то вроде: «Если что-нибудь узнаешь…» или «Я подумываю о том, чтобы взяться за работу консультанта, поэтому, если знаешь кого-то, кто ищет консультанта со стороны…», на его лице от радости не остается и следа.
Сейчас Джош разговаривает с человеком, которого называет Охотником за головами. Странное выражение: зачем кому-то охотиться за одними головами? Даже если удастся сцапать одну голову — есть там совершенно нечего!
Охотник сообщает Джошу, что по всему городу «летят головы», отсюда я понимаю, где он их находит. Это звучит еще страшнее, чем «выпотрошить весь отдел». Я понятия не имела, что работы у людей могут быть такими жестокими. Но с другой стороны, если столько людей не могут выполнять свои обязанности потому, что остались без головы, складывается впечатление, что Джошу будет скорее проще, чем сложнее, подыскать новую работу.
Но человек на другом конце провода отвечает Джошу:
— Даже если тебе удастся что-то подыскать, получать будешь гораздо меньше, чем раньше.
— Насколько меньше? — спрашивает Джош.
— Вероятно, раза в два. Если вообще найдешь что-нибудь.
И тут впервые я понимаю, что люди за свою работу получают разное количество денег. Раньше я об этом как-то не задумывалась, просто полагала, что деньги есть деньги, и любой человек, у которого есть работа, получает столько же, сколько и все остальные работающие люди. Однако, если задуматься, их подход справедлив. Работа — это средство, благодаря которому люди получают еду, кошки, например, для этого охотятся. И каждая кошка знает, что иногда ловишь толстую и мясистую мышь, а временами твой улов такой маленький и жилистый, что, как только съешь его, сразу же снова оказываешься голодным.
— Возможно, — медленно отвечает Джош, — я и стану рассматривать предложения с меньшей зарплатой. Если при этом будут возможности для роста.
— Загвоздка в том, что любой работодатель решит, что если сейчас ты и соглашаешься на меньшие деньги, то, как только ситуация наладится — тут же уйдешь. И, если уж быть честным до конца, вероятно, ты так и поступишь. — Охотник за головами замолкает, я слышу характерные звуки, как будто он пьет из стакана. — Мир изменился с тех пор, как я пытался заполучить тебя два года назад, Джош. Если честно, начнем с того, что в издательском деле осталось не так уж много вакансий твоей планки. Ваше дело сворачивается, и я не думаю, что в ближайшем будущем оно достигнет прежнего уровня. Мне хотелось бы тебя обнадежить, но факты налицо.
— Я знаю, что в мире царит кризис, — отвечает Джош, — наверное, я просто не представлял, насколько все плохо.
— Ты не знаешь и половины, — соглашается Охотник за головами. — Я каждый день беседую с теми, кто, как и ты, потерял работу и чьи жены или мужья тоже остались без заработка. А у них дети-школьники и выплаты по закладной, а денег нет. Вы с Лаурой арендуете жилье или живете в своей квартире?
— Арендуем, — признается Джош.
— Это уже неплохо. Кстати, как дела у Лауры?
— Великолепно. — Лицо Джоша расплывается в улыбке. — На самом деле она настоящее сокровище.
— Тебе повезло. — Охотник за головами шумно вздыхает. — Я буду держать ухо востро. Но, Джош…
— Да?
— На твоем месте я стал бы подумывать над тем, чтобы применить свой опыт и умения в другой области.
Я уже засыпаю к тому времени, как Джош заканчивает беседу с Охотником за головами, поэтому сворачиваюсь калачиком в своем любимом месте в глубине шкафа, где лежит Сарино платье. Оно до сих пор хранит ее запах, но в последнее время я заметила, что он становится все слабее. И что мне делать, если он полностью выветрится? Сара говорит, что, пока помнишь человека, он всегда с тобой. Но я постоянно вспоминаю Сару, а она до сих пор ко мне не вернулась. Может, я вспоминаю ее недостаточно часто? А что, если я вообще забуду Сару, когда у меня не останется ничего, что пахло бы ею?
Позже Джош слушает черные диски Сары, но обычно он всегда выключает музыку и убирает все назад в коробки до Лауриного возвращения. Именно музыка Сары влечет меня вниз после дневного сна. Джош сидит в большом кресле в гостиной, и как только я показываюсь из-за угла на лестнице, сразу замечаю по его опущенным плечам, что он чем-то расстроен. На кофейном столике лежит тонкая стопка белых листов, соединенных скрепкой.
Я устраиваюсь на своем любимом месте на короткой стороне большого дивана и слушаю вместе с Джошем музыку Сары. Время от времени он поглядывает на лежащие на столе бумаги. Когда музыка останавливается и Джош возвращает черные диски наверх, он берет бумаги и просматривает. По небольшим заломам по краям видно, что он просматривал их уже несколько раз.
Хотя дни сейчас стали длиннее, на улице все равно уже темно, когда Лаура наконец возвращается с работы. Обычно лицо Джоша меняется, когда он слышит, как в замке поворачивается ключ. У него такой вид, как, наверное, бывает у меня, когда Лаура накладывает мне еду и я знаю, что это одно из лучших мгновений дня. Но сейчас его лицо совершенно не меняется, когда жена кричит обычное приветствие, а он откликается:
— Я здесь.
Лаура входит в комнату с двумя бокалами вина, один протягивает Джошу. И только тут замечает странное выражение его лица.
— Что-то случилось? — Поскольку Джош продолжает молчать, она опять спрашивает: — Что-то произошло?
Джош долго хранит молчание, пьет вино. Потом отвечает:
— Почему ты мне не сказала, Лаура? — Он берет сложенные бумаги и протягивает их жене. — Сегодня я получил договор об увольнении. Он подписан за неделю до того, как меня уволили. Кто-то в твоей конторе обязательно должен был знать, что происходит. Я думал, что именно ты работаешь с договорами.
Лицо Лауры становится таким же красным, как в тот вечер на Песах. Она берет бумаги, которые протянул ей Джош, но не пытается их развернуть и прочесть.
— Джош, я понятия не имела. — Я знаю, что она говорит правду, потому что ее зрачки не меняют размер и тело абсолютно не напряжено, как обычно бывает, когда люди лгут. — Я никогда этого не видела. Мне никто и слова не сказал.
Это странно, потому что люди обычно так не расстраиваются, когда говорят правду. И тут я понимаю, что Лаура расстроена как раз потому, что говорит правду. Лично я не вижу в этом никакого смысла, но чувствую, что права.
— Тогда, может быть, поможешь мне? У меня есть пара вопросов, ведь твоя контора значится официальным поверенным. — Губы Джоша кривятся в улыбке, но это не совсем улыбка. — Я просмотрел раздел о выходном пособии и средствах на представительские расходы, которые они мне задолжали. И у меня будет еще три месяца оплаченной страховки, пока действует закон «COBRA»[11].
— Это стандартный договор, — отвечает Лаура. — Мы только подставляем цифры, исходя из данных, предоставленных клиентом. — Кожа на костяшках пальцев, которыми она обхватила бокал с вином, натягивается, пока не становится белее, чем остальная рука. Может быть, она боится наступить на тех кобр, о которых говорит Джош? Сара тоже боится змей, поэтому я всегда внимательно проверяю газеты.
— А как насчет третьей страницы? О моем окончательном и бесповоротном отказе от претензий? — Джош снова пытается улыбнуться. — Это что? Шутка?
— Это также стандартный пункт. Они просто пытаются исключить возможные судебные разбирательства. Как бы там ни было, ты же все равно не собирался подавать в суд. Они лишь стремятся к тихому расставанию, которое удовлетворило бы обе стороны.
При этих словах Джош морщится, хотя мне кажется, Лаура ничего не замечает.
— Возможно, все стандартно, но я не стал бы называть это расставание «тихим» и «удовлетворяющим обе стороны», — говорит он. — Значит, мне следует его подписать? Может, потратишь пару минут и просмотришь весь договор? В конце концов, ты же мой адвокат!
Лаура продолжает держать бумаги, не разворачивая. Делает большой глоток вина.
— Я не могу, — наконец произносит она.
— Неужели? — Голос Джоша звучит так, будто он думает, что Лаура говорит неправду. — Серьезно?
— Твоя компания — мой клиент, Джош. Забудем об этической стороне дела и конфликте интересов. Моим коллегам пришлось пойти на немалые уловки, чтобы я не узнала об этом договоре. Проводились встречи, составлялись служебные записки, о которых я понятия не имела — хотя они непосредственно касались одного из моих клиентов, — на мой письменный стол не попало ни одного документа. Однако тебе на самом деле не о чем тревожиться, — тут же быстро добавляет она, видя, как Джош негодующе сдвигает брови, и они превращаются в одну линию. — Эти договоры о выходных пособиях…
— Да, я уже понял. Стандартные. — Его голос становится громче. — Похоже, я не вписываюсь в стандарты, когда прошу юридического совета у собственной жены. Может быть, стоит позвонить твоему приятелю Пэрри — он с виду парень неплохой.
— Джош, если я отошлю тебя к нему с исправлениями в договоре, Пэрри тут же поймет, что это моих рук дело. Он же не идиот. — Лаура тоже повышает голос. — И даже если он ничего не заподозрит, я не смогу смотреть ему в глаза и врать.
— По всей видимости, Пэрри ничуть не беспокоился, когда врал прямо в глаза тебе.
— Он не врал. Он сохранял конфиденциальность информации клиента. Такая у Пэрри работа. И у меня, кстати, тоже. — Во взгляде ее плещется боль. Сара говорит, что дочь унаследовала глаза отца, но Лаура — копия Сары, особенно когда ерошит руками волосы. — За такое, Джош, меня могут и уволить. И ради чего? Мы не можем позволить себе отказаться от жалования за четыре месяца.
— Знаешь, мне кажется, на сегодня хватит. — Джош забирает у Лауры документы.
— Давай я позвоню подруге из другой юридической конторы. Уверена, я смогу найти…
— Не стоит волноваться. — В голосе Джоша уже не слышно злости. Он вообще лишен каких-либо эмоций. — Волноваться ведь не о чем, я правильно понял? Это стандартный договор.
— Завтра, с самого утра я сделаю несколько звонков, — обещает Лаура.
— Я же сказал: не стоит волноваться. Я не хочу, чтобы ты марала руки. — В этом Джош совершенно прав. Нет ничего более отвратительного, чем человек с грязными руками, который пытается к тебе прикоснуться. Он встает и говорит: — Пойду наверх, проверю электронную почту.
И отдает свой бокал Лауре. Она так и стоит неподвижно с двумя бокалами в руках.
По вечерам чаще всего Лаура ложится спать намного позже, чем Джош. Ей нравится читать свои рабочие бумаги, когда в квартире царит тишина. Но сегодня вечером Джош все еще сидит в гостиной, когда Лаура ложится в постель и включает телевизор. В тех немногих случаях, когда Сара смотрела маленький телевизор в своей спальне, а не тот, что побольше, в гостиной, — она просто была слишком слаба, чтобы встать с постели. Лаура тоже не смотрит телевизор в спальне. По крайней мере, обычно.
Помню, однажды вечером, год и три месяца назад, Сара очень поздно вернулась с работы. Отсутствовать в квартире много часов подряд — на нее похоже, но я уже начала волноваться, когда она вернулась. С ней была наша соседка — та, которая кормила меня, когда Сара вообще перестала возвращаться домой. Сара была очень бледной, лицо какое-то измученное, как будто у нее что-то болело. Но когда соседка помогла ей устроиться на диване и нависла над ней, спрашивая, что еще нужно, Сара ответила: «Со мной все будет в порядке, Шейла. Еще раз огромное спасибо за все».
Следующие четыре дня Сара провела в постели, смотря телевизор, — это были четыре самых счастливых дня в моей жизни. У меня была Сара, к которой я могла забраться под одеяло и уютно свернуться там калачиком, и ей не нужно было идти на работу, она вообще никуда не выходила. Еще никогда Сара не принадлежала мне так безраздельно, как в эти четыре дня.
Но в тот первый вечер я совершенно не обрадовалась. После ухода соседки Сара не стала выключать свет. Она просто сидела на диване — я устроилась у нее на коленях, — пока не рассвело. И хотя она ничего не сказала, я чувствовала: что-то случилось, и я должна находиться рядом с ней. В темноте я видела крошечные трещинки на коже у Сариных глаз. А когда вода, которая струилась из глаз, заполняла эти трещинки, я нежно слизывала их языком. Чтобы впустить свет.
Сейчас я иду на звук работающего наверху телевизора, вижу лежащую в постели Лауру, похоже, она спит, только продолжает лягаться во сне. Она лягается так сильно, что едва не сбрасывает одеяло с кровати. Сара порой тоже так поступала — воевала во сне с одеялом, когда была расстроена.
Когда Сара забывалась тревожным сном, я сворачивалась клубочком прямо у ее левого уха, вытягивала одну лапку так, чтобы она очень мягко касалась ее плеча. Я не собиралась ее будить, просто хотела, чтобы она знала — я рядом. Иногда от моего близкого соседства она засыпала настолько крепко, что переставала ворочаться.
Джош в гостиной слушает один из черных дисков Сары. Как раз играет песня, которую она пела мне в тот день, когда мы нашли друг друга, песня, в которой есть мое имя. «Милая Пруденс, — поется там, — выйдешь с нами поиграть?..»[12]
Я старалась не сближаться слишком ни с Лаурой, ни с Джошем. Ведь только один человек может быть Самым Важным Человеком в твоей жизни. Для меня им была Сара. И когда она вернется, я не хочу путать то, что есть, с тем, как все должно быть.
Но Лаура так похожа на Сару, когда лежит с закрытыми глазами и разбросанными по кровати ногами, что я незаметно для себя запрыгиваю к ней. Боль в груди оттого, что Сары, с которой я так долго жила, нет рядом, немного отпускает. Двигаясь осторожно, чтобы не зазвенел мой ошейник и не испугал ее, я устраиваюсь на подушке, рядом с левым ухом Лауры. Сворачиваюсь клубочком, обматываю хвостом нос, чтобы было тепло мордочке, протягиваю одну лапку и кладу Лауре на плечо.
Она переворачивается на другой бок, ко мне лицом. Дыхание у нее становится более ровным, каким становилось у Сары, когда та погружалась в глубокий сон; рука изогнута так, что мой хвост и нос оказываются на изгибе ее локтя. Находясь в комнате одна, в пижаме, без лежащего рядом Джоша, Лаура больше, чем когда-либо, пахнет, как Сара. Телевизор работает не слишком громко, и все еще можно уловить песню «Милая Пруденс», которая доносится снизу.
Когда я слышу эту песню со всеми потрескиваниями и шипениями именно в тех местах, совсем как в те времена, когда сама Сара проигрывала эти диски в нашей старой квартире, я забываюсь сном. В моих снах Сара рядом со мной, улыбается и говорит: «Кто моя любовь? Кто моя маленькая любовь?» Когда мне на спину опускается рука и гладит меня по шерстке, я не знаю, настоящая ли это рука или рука Сары из моего сна. Тем не менее я начинаю урчать и думаю: «Я, Сара. Я — твоя любовь».
Глава 7
Сара
Сейчас в это трудно поверить, но раньше в центре Нью-Йорка по ночам царила гробовая тишина. Можно было пройти половину Бродвея и услышать только шумок изредка проезжающих мимо такси и звук собственных шагов, отражающийся эхом от зданий. Можно было прогуляться в четыре утра по Элизабет-стрит и единственным своим спутником иметь аромат свежеиспеченного хлеба из небольших семейных булочных.
Там стояла тишина — правда, если только ты не знал, куда идти. Еще до того, как этот район разросся, потом стал финансовым центром и наконец — средоточием среднего класса и провинциалов, здесь уже были места, где всю ночь стоял шум. На чердаках Сохо, куда попасть можно было только по приглашению, зная пароль, открывался мир андеграундных вечеринок, где играли музыку, которую ты никогда не услышал бы по радио. Бары, где всю ночь играли музыкальные автоматы, клубы, где группы начинали свое выступление не раньше двух часов ночи. Звон пивных бутылок, неизбежный глухой звук падения человека, который слишком пьян, чтобы удержаться на ногах, чей-то бас, все громче и громче произносящий: «бу-бу-бу».
Я всегда ненавидела тишину. Мне казалось, что тишина похожа на смерть. Могильная тишина. Гробовое молчание. Мертвые молчат. На это нечего возразить. Никто же не говорит: «Шумно, как в могиле».
Именно это мне и нравится в диско. Диско использует все звуки, все биты, все инструменты. Звук диско всегда тебя найдет. Он подхватит тебя, начнет кружить, вертеть, опускать, пока у тебя не закружится голова и самому тебе будет уже сложно устоять на ногах. Но музыка никогда не даст тебе упасть.
Вероятно, вы думаете: какая глупая музыка — диско! Возможно, вы даже один из тех, кто носил футболки с надписью «ДИСКО — МУРА». Но вы утверждаете это только потому, что главные фирмы грамзаписи решили, будто вывели окончательную формулу диско, и в конце концов поставили на поток выпуск всякой ерунды, пытаясь побыстрее получить прибыль. Однако настоящее диско никогда не умирало. И даже сегодня, если вы окажетесь на свадьбе и диджей поставит песню, которая вытащит на танцпол и молодого, и старого, то, скорее всего, этот танцевальный хит был написан где-то между 1974-м и 1979-м годами.
В 1975-м я впервые открыла для себя музыкальную сцену Нью-Йорка. Когда в пятнадцать начинаешь одна появляться в Сити и тайком пробираешься на вечеринки в клубы, когда в шестнадцать появляешься здесь уже постоянно, а живешь при этом на чердаках без мебели над магазином скобяных товаров — окружающие решают, что ты бежишь от проблем в семье. Может быть, жестокие родители или какая-то скрываемая семейная трагедия, возможно даже — приставучий отчим. Когда люди постоянно придумывают для тебя одну и ту же историю, все проще и проще становится самому в нее поверить. Именно поэтому очень важно тщательно систематизировать свое прошлое. Прошлое человека — настоящая правда. Твое прошлое — это то, чем ты являешься сейчас.
Пруденс приходит и садится напротив меня. Маленькая леди с изящными белыми «носочками» и черными полосками, как у тигра.
— Очень важно тщательно систематизировать свое прошлое, — говорю я ей. Она смотрит на меня своими круглыми зелеными глазами, потом мяукает с задумчивым видом.
На тот момент, когда мы с Пруденс нашли друг друга, я давно уже не слышала музыку. И не только музыку на своих пластинках, которые вот уже много лет хранились на складе, но и музыку в своей голове. Просто однажды она прекратила звучать. Я потеряла ее. А потом появилась Пруденс. И после этой встречи как будто открылись ворота некоего шлюза, и вся музыка, которая где-то таилась, хлынула назад.
Пруденс, стоящая на задних лапах и сметающая хвостом пылинки в луче света, — дирижер этой симфонии. Пруденс свернулась клубочком у меня на коленях, и, пока я поглаживаю ее по спинке, играет «In My Room» группы «Тhe Beach Boys». А вот Пруденс тайком пробирается в ванную, разматывает, катая по полу, рулон туалетной бумаги в такт «Soul Makossa» в исполнении Ману Дибанго.
«Пру-денс — кош-ка, Пру-денс — кош-ка». Вот что я слышу в голове, когда смотрю на нее. Совершенный ритм на счет раз-два-три-четыре. Звук сердцебиения, умноженный на два. Двигатель жизни.
Больше всего в доме, где я выросла, мне запомнилась тишина. В каждой комнате, за исключением ванной и кухни, на всех стенах — ковры, поэтому звуки нашей повседневности больше напоминают сон, чем жизнь.
Когда я стала подростком, родители обращались друг к другу только в случае необходимости: «Что сегодня будем на ужин? Когда придет слесарь? Сара, передай, пожалуйста, горошек».
Они очень хотели завести второго ребенка. Когда мне было восемь, мама родила мальчика, который прожил всего десять часов. После его смерти маме было очень больно, когда ей напоминали, что у нее вообще-то есть ребенок. Единственным ее желанием была тишина. Когда в средней школе моя учительница музыки сказала, что у меня есть голос, что мне следовало бы брать уроки вокала, мама отказалась из-за того, что не хотела постоянного шума в доме. Как-то раз, пытаясь остановить мое «бесконечное щебетание» (я задавала ей вопросы о ее детстве), мама сказала, что пора бы мне перестать столько болтать, а то, когда я вырасту и выйду замуж, в моем доме будут бесконечные ссоры. Самое смешное, что я ни разу не повздорила с мужем до тех пор, пока Лауре не исполнилось три года. Тогда он просто сказал: «Мне кажется, я больше этого не вынесу». А на следующий день ушел. Вот и все.
В конце концов я привыкла к тишине, которая исходила от моей матери и, словно дым, заполняла комнаты нашего дома и заглушала наши слова. Бóльшую часть времени я занималась тем, что пыталась исчезнуть в этом дыму. И все же я вспоминаю те ночи, когда лежала в кровати и молилась, чтобы пошел дождь. Я хотела услышать, как он, похожий на шквал аплодисментов, барабанит по крыше над моей головой.
Все изменилось для меня в тот день, когда родители разрешили мне одной поехать на электричке из Уайт-Плейнс, где мы тогда жили, на Манхэттен. Мне пришлось только пообещать, что я не заеду дальше Геральд-Сквер, где располагался универмаг «Мейси». Но сеть метро, которая была абсолютно простой, когда я ездила в Сити с мамой, оказалась безнадежно запутанной, когда я попыталась разобраться сама. Я села не на ту электричку на станции «Гранд-Сентрал», а потом пересела не на ту на Четырнадцатой улице и таким образом оказалась на Третьей Авеню. Улицы были практически пустынными. Я встретила всего несколько бездельников, которые печально толпились у каких-то дверей, и группки крутых с виду девиц, стоящих на углах улиц. Здания выглядели обветшалыми и запустелыми.
К тому времени, когда я достигла Второй Авеню, я уже не сомневалась, что здесь даже близко нет «Мейси». Подняв голову, я увидела газетный киоск с желтым навесом, на котором написали нечто непонятное: Gem Spa (было непохоже, что там внутри находятся драгоценности или гидромассажная ванная), а дальше по улице — магазин с черным навесом над тротуаром. Разноцветными буквами на нем было написано: «ЛЮБОВЬ СПАСЕТ ДЕНЬ». Витрина магазина представляла собой буйство цвета — всплеск эмоций в море серого и мрачно-красного кирпича. В витрине размещалась всякая экстравагантная одежда, лежали журналы, игрушки — одним взглядом трудно было охватить все и сразу. Я поняла, что это магазин подержанных товаров, и знала, насколько будет потрясена моя мать при мысли о том, что я могу купить ношеную одежду. Но на фоне металлической тишины улицы цветá этой витрины звучали так призывно, словно приглашали войти внутрь именно меня.
Я понесла в примерочную первое же снятое с вешалки платье, которое сшил некто по имени Биба. Платье было приглушенно-золотистым, с ромбовидным узором кремового цвета. С длинными, аккуратно расшитыми рукавами. Само же платье, как у кукол, было плиссированным от моей все еще плоской груди до самого низа, едва прикрывающего попу, поэтому, выйдя из примерочной, чтобы взглянуть на себя в зеркало, я залилась краской стыда.
— Ты должна его купить, — услышала я голос. На меня восхищенно смотрела девушка ростом полтора метра и весом, который едва ли дотягивал до сорока килограммов. Я предположила, что она на пару лет старше меня. Красавица-проказница с огромными орехового цвета глазами, курносым, как у кошечки, носом и таким крошечным ртом, что взгляд невольно притягивали ее глаза. Волосы у девочки были коротко и как-то неровно подстрижены, но эта небрежность казалась сознательной. Они были по большей части белыми с редкими прядями зеленого и розового цвета.
Девушка перехватила мой изумленный взгляд, коснулась розовых прядей и сказала: «Маниакальная паника». Позже я узнала, что «Маниакальная паника» — название магазина на площади Святого Марка, где продаются необычные лаки для волос в аэрозольных баллончиках. Однако в тот момент я понятия не имела, о чем она говорит. А девушка добавила: «Я хожу туда пару раз в неделю, чтобы Снуки побрызгал мне на волосы, но уже подумываю о том, чтобы перестать этим заниматься. Сейчас слишком многие так делают».
Я кивнула, потому что хотела выглядеть перед ней так, будто понимаю, что означают ее слова. Оказывается, здесь в Сити зародилась и расцвела пышным цветом новая модная тенденция. А я в своем Уайт-Плейнс об этом не знала — там ничего не менялось, только становилось еще мрачнее.
— Тебе точно стоит купить это платье, — повторила девушка.
— Не уверена, — ответила я. — Тебе не кажется, что оно слишком короткое?
Моя собеседница громко и неприятно засмеялась. Голос ее напоминал скрип цепной пилы: слишком грубый и шероховатый для такого юного и нежного создания. Сколько же понадобилось бессонных ночей с сигаретой во рту и попыток перекричать гремящую музыку, чтобы сделать его таким? Позже я услышала ее пение и узнала, насколько чарующим может быть ее голос, если она захочет.
— Подруга, это платье идет тебе больше, чем любая другая одежда, которую ты носила раньше. — Она улыбнулась мне, на щеках появились ямочки. — А мы с тобой даже не знакомы.
Я тоже засмеялась — по поводу абсурдности ее логики.
— Какую музыку ты любишь? — неожиданно спросила она.
— Как все, наверное. — Я попыталась придумать что-нибудь соответствующее действительности, пытаясь одновременно произвести на нее впечатление. — В последнее время чаще всего слушаю «Pet Sounds»[13]. — Я опять залилась краской, потому что разве можно произвести впечатление на такую девушку, упомянув «Pet Sounds» — альбом, который вышел еще в 1966 году, целых девять лет назад?
Она оценивающе посмотрела на меня.
— Мне кажется, ты хорошо поешь.
— Раньше пела, — ответила я. — Но родители были против.
На лице девушки отразилось понимание, и я увидела, что неосознанно прошла проверку, о которой даже не подозревала.
— Сегодня вечером я собираюсь на вечеринку, там будет много отличной музыки, — сказала она. — Больше такую нигде не играют. Ты должна прийти. Встретимся в полночь и пойдем вместе.
Я представила те непреодолимые препятствия, которые возникнут между мной и полуночным походом на вечеринку в Сити. Я еще никогда не ходила на тусовки, которые начинались в полночь. Вероятно, девушка почуяла неладное, поэтому спросила:
— Ты с родителями живешь? — Я кивнула. Сколько, она думает, мне лет? Я ждала, что она посчитает меня ребенком и потому не станет больше тратить на меня свое время, но она продолжила: — Слушай, позвони родителям и скажи, что ты на ночь останешься у подруги. Мы можем остаток дня провести вместе, если у тебя нет других дел. Я подыщу для тебя наряд.
Я с сомнением взглянула на нее. Она не только была на голову ниже меня ростом, но и одета была совершенно по-другому. На ней была черная кожаная куртка, на спине — чуть вытертая блестящая пантера, чья усеянная железными заклепками лапа тянулась к ее левому плечу. Под курткой — нарядное, расшитое блестками платье цвета фуксии, надетое поверх узких черных джинсов. На ногах — черные тяжелые ботинки без шнурков. На шее — серебряная подвеска в форме кобуры, свисающая с тонкой серебряной цепочки. Она выглядела круто, сексуально и, как это ни удивительно, женственно, но на мой провинциальный взгляд — слишком уж необычно.
— Что-нибудь такое, что раскроет твою истинную суть, — подбодрила она меня очередной мягкой улыбкой. — И ради бога, купи это платье. Ты в нем — просто «отпад»!
Похоже было, без платья мне отсюда не уйти, поэтому я стала рыться в кошельке, чтобы убедиться, что у меня хватит наличности.
— Эй! — окликнула я. — А как тебя зовут?
— Анис. — Я раньше никогда не слышала такого имени, оно идеально подходило моей собеседнице.
— А я Сара.
— Приятно познакомиться, Сара. — Она нарочито торжественно пожала мне руку — ее ладонь оказалась больше, чем полагается такому хрупкому существу. — Можешь мне поверить, сегодня вечером будет весело, — пообещала она.
Вечеринку, на которую пригласила меня Анис, устроили на одном из чердаков на нижнем Бродвее, в здании, оборудованном под склад. Мы отметились в списке, который держали две девушки с папками, и передали им два доллара, прежде чем нам позволили взобраться по лестнице и войти в похожее на пещеру помещение, наполненное разноцветными воздушными шариками, как на детском дне рождения. Шарики были пронизаны мерцающими серебристыми искрами, отражающимися от зеркального шара, который свисал с потолка в самом центре комнаты. Он ловил и преломлял разноцветные вспышки света, источника которого видно не было; света, который вспыхивал и затухал в такт музыке. Толпившиеся здесь люди в вызывающих нарядах, напоминающих карнавальные костюмы, были еще более яркими, чем свет. У меня было такое чувство, что я оказалась в самом центре призмы.
Позже я узнала о технических приемах, которые использовал Дэвид Манкузо, человек, устроивший эту вечеринку. В те времена в большинстве динамиков применялся лишь один репродуктор высоких частот. Но Дэвид использовал восемь репродукторов фирмы «JBL» в колонках, которые попарно висели в каждом из четырех углов комнаты. Главное, что я поняла, когда впервые поднялась на этот чердак: что бы я раньше ни слушала, это была не музыка. Создавалось впечатление, что я всю жизнь слушала музыку с берушами в ушах. Я ощущала себя одним из обитателей мифической пещеры Платона (по социологии мы как раз изучали «Государство»), тем самым, который думал, что костер — это солнечный свет, пока не поднялся наверх и не увидел впервые настоящее солнце.
Каждый присутствующий на той вечеринке ощущал разницу звучания, даже если сам этого не понимал. Это было заметно по тому, как тела людей различным уровнем напряжения реагировали на хай-хэт в сравнении с барабанами или партией гитары. Дэвид следил за настроением в зале, используя мелодии, которые проигрывал, и рассказывая истории о музыке, которую выбирал. Никогда не думала, что за песней «Woman» в исполнении «Barrabás» может следовать «More Than a Woman» в исполнении «Bee Gees» — и при этом обе композиции рассказывали тебе о любви то, чего ты не знала раньше. В ту ночь я впервые почувствовала, что пластинка — живая. Семь дюймов Бога. Весь этот звук и все эти голоса сжаты в рубцы и желобки; каждый рисунок песни так же индивидуален, как отпечатки пальцев, и только и ждет малейшего прикосновения крошечной иголки, чтобы высвободить свою музыку.
Дэвид давал нам то, чего мы хотели, еще до того, как мы сами это понимали, но наши тела откликались раньше мозга. То мы желали увеличить темп, то отдохнуть. Музыка менялась в зависимости от нашего настроения, и наше настроение менялось в зависимости от музыки. Такое ощущение, что находишься на концерте или в переполненном кинотеатре, где все реагируют как один — смеются, кричат, вскакивают танцевать, — с одним исключением: мы не видим человека, который заставляет нас так поступать. Ему не было нужды стоять перед толпой, как приходилось стоять Анис, когда она выступала со своей группой. Дэвид царил, не показываясь на глаза.
И не успела я глазом моргнуть, как уже танцевала. Раньше, если честно, я никогда не танцевала, предпочитая скрывать, а не выставлять напоказ свою слишком высокую, слишком костлявую и слишком мальчишескую фигуру. Но через несколько секунд устоять на месте было уже невозможно. Мы с Анис танцевали вместе, потом с незнакомыми людьми, которые кружились поблизости, присоединялись к нам, а потом опять уносились прочь, чтобы где-то в другом месте создать ядро новой группы. Я знала о танцах только благодаря считанным школьным балам, где всегда ждала в одиночестве на стуле у стены, пока кто-нибудь пригласит меня, потому что танец — это когда мальчик танцует с девочкой. Здесь же партнеров не было. Здесь все танцуют как хотят и с кем хотят, однако, несмотря ни на что, все мы — часть единого целого. Первый раз в жизни я где-то пришлась ко двору. Я никогда не ходила на свидания, но наконец поняла, о чем говорили девочки в школе, когда описывали, какие чувства вызывают у них понравившиеся мальчики. Эти же ощущения дарила мне сейчас музыка — бросало то в жар, то в холод, по телу шла дрожь, не хватало воздуха в легких, и от этого в ушах стоял звон. Меня поймали на крючок.
Вечеринка, как и магазинчик, где мы с Анис познакомились, называлась «Любовь спасет день». Позже Анис показала мне скомканное приглашение, где название было указано на фоне тающих часов Дали. Она сказала, что между вечеринкой и магазином, где мы познакомились, нет никакой связи. Я ей не поверила. «Любовь спасет день» — явно некий код, опознавательный знак, который используют люди, понимающие вещи, о которых я даже не догадывалась.
Я целую жизнь ждала, чтобы кто-то со мной поговорил.
После этого я все стала мерить четырехтактным ритмом диско. Шагая по улице, я ставлю ноги с каблука на носок так, чтобы создать четырехтактный ритм, который всегда звучит у меня в голове: «раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре». Но я не только это слышу, я это вижу. Любой стул имеет четыре ножки с четырьмя тактами, а сиденье — это хай-хэты, фанфары. Я мысленно всегда этим занимаюсь — считаю слова, слоги, окна, экраны телевизоров, лица людей (которые удобно разбиты на два уха, два глаза, две ноздри и две губы — два полных такта на четыре счета). А когда не могу разбить чего-то на идеальные четверки, я представляю дополнительные звуки и фактуры — валторну, литавры, кларнет, тромбон, арфу, скрипку — все что угодно, лишь бы четырехтактный бит превратился в настоящую песню в исполнении оркестра.
Через несколько лет самой прекрасной музыкой, которую я только могла представить, стала Лаура, лежащая в своей колыбельке под красными лентами. Миссис Мандельбаум увесила ими кроватку малышки — от дурного глаза. Я пела «Лети, Робин, лети», когда она засыпала, потому что хотела, чтобы ей приснилось, как мы обе летим высоко-высоко в небе. Ее едва различимые крошечные бровки стали восьмой нотой на фоне четырехтактного ритма ее лица, а тоненькие прядки младенческих кудрей — открытым хай-хэтом на второй и четвертой доле такта. Ее радостное гуление — струны, которые звучали красивее, чем что-либо. С Лаурой я не просто слышала музыку. Лаура сама была музыкой.
Я стала каждые выходные проводить в Сити с Анис — у нас всегда было наготове выдуманное общественное мероприятие на случай, если родители поинтересуются, почему я внезапно перестала бывать дома, хотя они никогда ничего не спрашивали. А потом я окончила старшую школу — на год раньше. Поскольку я была высокой и несколько застенчивой, учителя в начальной школе думали, что я лучше «социально адаптируюсь», если буду находиться в обществе детей постарше, но этого не произошло. Как только я получила аттестат, у меня даже вопроса не возникло, что делать дальше. Я переехала в Сити к Анис, где попыталась стать диджеем, пока Анис со своей группой «Evil Sugar» стремилась стать рок-звездой.
Целых два года мы с Анис жили вместе на чердаке Бауэри. В те дни музыка обитала на улицах Нью-Йорка, и каждый соседний дом имел свой собственный ритм. В верхней части города, в Гарлеме и Бронксе, на вечеринках на весь квартал звучала музыка из стереопроигрывателей, диджеи играли повсюду мелодии и ремиксы диско и фанка, чтобы в процессе создать новую вещь под названием хип-хоп. В Нижнем Ист-Сайде на каждом углу, казалось, играли сальсу, а из дверей таких мест, как «CBGB» и «Monty Python’s» доносился «мягкий» вариант рока под названием «панк». Диско было повсюду. Диско жило в деловой части города, на чердаке у Дэвида Манкузо и дальше, в жилых кварталах — до самого Мидтауна, — в таких местах, как «Парадиз Гараж», «Галерея», «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Ле Жардан». Мы с Анис пару раз ходили в 54-ю студию, но нам не понравилось. Ничего музыкального там никогда не происходило. В таких местах никогда не услышишь страстного и зовущего исполнения песни Артура Рассела «Поцелуй меня еще раз». Куда бы мы ни ходили, отовсюду я уносила спичечные коробки, осознавая, что подобная жизнь мимолетна и позже я не смогу ее вспомнить, если памяти не за что будет зацепиться.
Я увлекалась диско, Анис — панком, что само по себе должно было, вероятно, сделать нас непримиримыми врагами. Но нас с самого начала связала одна общая черта: мы обе любили ШУМ. Хотя, если честно, больше шума Анис любила неприятности. Она переехала в Нью-Йорк, сбежав с фермы в Огайо, когда ей исполнилось шестнадцать (на три года раньше, чем мне). Уезжая, Анис сказала своим родителям, что беременна. Обманула — на самом деле Анис все еще оставалась девственницей, но она не могла уехать просто так. На ее пути постоянно должны были встречаться какие-либо трудности. И должно быть, трудностей возникло немало, потому что прошел целый год, прежде чем родители Анис в конце концов простили ее за ложь.
Анис постоянно не везло. Невезение, шум и жизнь — это Анис. Она никогда не возражала, если я проигрывала пластинки, в то время как она упражнялась на гитаре. Для нас обеих, чем больше было шума, тем лучше. Когда карьера у нее стала идти в гору и Анис наконец смогла купить себе электрогитару «Gibson» у Мэнни на 48-й улице, она сняла усилитель со своей старой гитары и подключила его к моим «вертушкам» из комиссионного магазина, чтобы они работали через него. Я увлеклась оттачиванием мастерства смешения и наслоения ритмов. Одно дело, когда в песне звучат барабанные установки. Но если хочешь добавить в ремикс, например, Эдди Кендрикса или Ван Моррисона, тогда придется попотеть, чтобы соединить ритм в конце одной песни с началом другой, чтобы они были идеально синхронизированы.
Вероятно, именно это частичное наложение двух наших совершенно разных стилей в конечном счете привнесло своеобразный танцевальный ритм в музыку «Evil Sugar». Но в то время, когда окружающие стали обвинять Анис в том, что она «увлеклась диско» (хотя ее музыку нельзя было назвать диско), «продалась» (никому она не продавалась), она всегда пропускала тот пятый бит, чтобы под ее музыку было сложнее танцевать. Ради смеха или чтобы еще больше всех запутать.
Из-за своей неутомимой любви к сложностям Анис настаивала на том, чтобы у нее жили кошки, причем не меньше трех. Подруга уверяла, что одна кошка в доме будет все время спать. Две — научатся отлично ладить между собой и подстроятся под ритмы сна друг друга. Но, согласно ее теории, если кошек будет три, хотя бы одна из них будет бодрствовать. Постоянно озорничать. Наверное, она была права. Все три кошки Анис много времени проводили за тем, что шипели и кричали на бездомных собратьев через металлические решетки на окнах, которые мы купили на улице у Джона Коммуниста, чтобы другие животные (и грабители) не залезли в нашу квартиру.
Анис безумно любила своих кошек. Постоянно их расчесывала, гладила, что-то им напевала, баловала их гостинцами (при том, что, видит Бог, иногда нам самим едва хватало на еду), придумывала разнообразные игры. Она прятала руку под простыню и шевелила пальцами ради того, чтобы посмеяться над тем, как они бросаются на мнимую угрозу.
Музыка Анис жила у нее в голове, но и руки у нее были золотые. Она виртуозно играла на гитаре, даже в те времена, когда большинство наших знакомых музыкантов гордились тем, что не умеют играть на своих инструментах. А еще она отделала нашу квартиру от пола до потолка, вдоль всех стен, замысловатыми дорожками, по которым могли бегать кошки. Она находила на улице старые доски или деревянные планки, приносила их домой, зачищала, отпиливала и вскрывала лаком. Затем оббивала их полосками разноцветного материала и прибивала к стенам гвоздями. Иногда сидишь на диване, а тут неожиданно тебе на колени — плюх! — откуда-то сверху упадет кошка, повертится, устраиваясь поудобнее, а потом крепко заснет. Анис шила нам новые наряды, распарывая и перешивая старые, а остатки материала мы использовали для того, чтобы сшить одежки для наших кошек. По стенам вокруг кошачьих «дорожек» были развешаны сделанные «Полароидом» снимки угрюмых на вид животных в манишках или крошечных, украшенных перьями пиджачках и прелестных шляпках. Человек, которого кошки невзлюбили, больше не приглашался в наш дом, а ведь он одновременно являлся местом репетиций группы Анис — в этом и кроется причина, по которой в процессе создания группы сменилось столько музыкантов.
Кошки платили Анис такой же искренней любовью. Когда мы были дома, у нее всегда на коленях сидела и урчала по крайней мере одна из них. Самую старую звали Рита. Анис нашла ее котенком на какой-то свалке среди кучи отправленных в утиль ржавеющих счетчиков оплачиваемого времени, привезенных с автомобильной стоянки. Потом была Люси, кошка с белой манишкой в форме ромба на груди. Самой молодой из кошек Анис была Элинор Ригби, ласковая пятнистая кошка, которая терпеть не могла оставаться одна. (Насколько бы сильно у нас с Анис ни различались музыкальные вкусы, нас объединяло одно — страстное обожание «Битлз») [14].
Однажды зимой мы проснулись оттого, что все три кошки неистово били Анис лапами, их мордочки все были в саже. Заслонка печи в магазине скобяных товаров, который располагался под нами, захлопнулась (хозяин магазина иногда не гасил огонь в печи, чтобы нам было теплее), и наша квартира наполнилась дымом и копотью. Если бы не кошки, мы бы задохнулись во сне. В чем мать родила мы стали бегать по квартире, кашляя и открывая окна, чтобы впустить свежий воздух. После этого случая Анис стала еще больше обожать своих кошек. «Мои ангелочки, — называла она их. — Мои спасительницы».
Анис умела позаботиться и о себе. Она перезнакомилась со всеми соседями. И не только с нашими сверстниками или стариками, которые жили здесь вечно. Она знала также уличных проституток, наркоманов, бродяг, которые спали в парках и подъездах. Они называли ее «Фея Динь-Динь», когда она приносила им одеяла и теплую одежду.
— Люди должны знать, кто ты, и понимать, что ты тоже здесь живешь, — повторяла она мне. — Тогда они оставят тебя в покое.
Новые наркоманы, время от времени появлявшиеся где-нибудь по соседству, на собственной шкуре чувствовали, что не стоит связываться с Анис. Однажды вечером, когда мы шли в клуб, перед нами как из-под земли вырос парень с ножом. Анис в мгновение ока схватила с земли какую-то доску с ржавым гвоздем и со всего размаху ударила ею нападавшего. Лишь по счастливой случайности гвоздь не попал парню в глаз — хватило ума пригнуться. Он побежал прочь. Анис бросилась за ним, подняв доску высоко над головой и ни разу не зацепившись своими пятнадцатисантиметровыми каблуками за случайную трещину в асфальте или камни. «Правильно, парень, беги! — кричала она. — Беги, трус! Я Безу-у-у-у-умная мамочка…»
У Анис ангельское личико, но язык — как шило сапожника. С виду она кроткая и хрупкая, но ведь для того чтобы быть солисткой рок-группы в Нижнем Ист-Сайде, необходима определенная жесткость. Я на голову выше Анис, однако люди предпочитают не связываться со мной из-за нее, а не наоборот.
Каждую лишнюю копейку я тратила на покупку пластинок. Благодаря собственным приобретениям и Дэвиду Манкузо, который распространял студийные демо-версии альбомов среди диджеев Нью-Йорка, к июлю 1977 года у меня была практически такая же внушительная коллекция пластинок, как и у Анис. К тому времени «Evil Sugar» уже стали активно гастролировать. У них появился управляющий и договор на выпуск трех пластинок, их выступления были расписаны наперед. Журнал «Интервью» опубликовал на двух разворотах материал о группе с фотографиями Анис в платьях, которые она смастерила из рваных футболок, а «Роллинг Стоун» поместил большой очерк с фотографиями в своей рубрике «Стоит побывать на концерте». В Анис всегда было что-то такое, что позволяло ощущать ее присутствие, в какой бы комнате она ни находилась. Однако мне приходилось воевать за место под солнцем. И неважно, сколько демо-кассет я компилировала в студии «Альфавилль», где «Evil Sugar» записывали свой второй альбом, — как только владелец клуба узнавал, что я девушка, он тут же утрачивал ко мне профессиональный интерес.
В то лето мне исполнилось семнадцать, стояла дикая жара. Даже кошки, которые по ночам всегда уютно располагались на нас, чтобы погреться, стали апатичными. Они лежали на огромных подоконниках и надсадно орали в ожидании прохладного ветерка.
Тем летом я познакомилась с Ником. Было слишком жарко, чтобы на ночь оставаться в квартире, поэтому мы с Анис пристрастились проводить время в «Театре 80» на площади Святого Марка. За два доллара можно было сидеть на двухместном диванчике и четыре часа наслаждаться прохладным воздухом из кондиционеров. Мы сидели в тишине и смотрели старые фильмы Хичкока и мюзиклы киностудии Metro-Goldwyn-Mayer, которые показывали по три-четыре штуки подряд, пока не начинал брезжить рассвет.
Ник натирал в фойе деревянную стойку бара, которая датировалась еще 1922-м годом. Я каждую ночь видела, как он натирает ее, когда наплыв людей спадал. Его черные волосы так же блестели, как и дерево стойки. А она блестела так, что, казалось, отбрасывает свет на собственную тень. Что-то в движении его лопаток под тонким хлопком рубашки с коротким рукавом, не слишком мускулистых загорелых рук, заканчивающихся тонкими пальцами, которые сжимали тряпку и бутылку с полиролью, — завораживало меня. Несколько недель я смотрела на него, а на меня никто не обращал внимания. Когда в конце концов он впервые взглянул на меня, его глаза — у ободка темно-синие, как полночное небо, а в центре светло-голубые — просто обворожили меня. Раньше я никогда ни в кого не влюблялась. Анис заметила, как покраснело мое лицо, и впоследствии беспрестанно меня поддразнивала. Именно Анис усадила нас двоих за стойку бара, представила друг другу и заказала всем выпить. Анис знала все о том, как привлечь внимание, но еще она умела оставаться незаметной и тихонько исчезла, как только я преодолела застенчивость и мы с Ником разговорились.
В первый раз мы поцеловались в тот же вечер на первом этаже театра. Это была ночь затмения, когда казалось, что обычные правила отменяются. Позже мы услышали о случаях мародерства и нарушениях общественного порядка в жилых кварталах города, но у нас в окрестностях гремели вечеринки и на улицах играла музыка. Мы с Ником, напуганные сигнальными огнями, спустились вниз, чтобы найти свечи. Он поцеловал меня в бывшем бункере одной банды, промышляющей в эру сухого закона. Эта банда владела магазином, где незаконно торговали спиртным, — сейчас на этом месте находился кинотеатр. Когда Ник заключил меня в объятия, от него пахло полиролью с ароматом лимона и жаром раскаленного уличного воздуха. Впервые почти за два года музыка в моей голове остановилась. Я слышала в темноте только собственное дыхание, которое прервалось, как мне показалось, на целую вечность, когда Ник прикоснулся к моим губам.
Позже Анис скажет, что худшее, что она могла сделать для меня как подруга, — познакомить с Ником. Эти двое практически с того самого момента, как мы стали вместе проводить время, невзлюбили друг друга. Ник обижался, что я уделяю Анис слишком много своего времени, а Анис презирала Ника на том основании, что он ни к чему серьезно не относился. Ник говорил, что хочет быть актером, и один «большой прорыв» — все, что ему необходимо для начала карьеры. Он таскал меня на все премьеры в небольшие экспериментальные театры по всему Нижнему Ист-Сайду, но, если ему и давали роль, всегда что-нибудь шло не так. Он не репетировал столько, сколько требовал режиссер, или у него возникали разногласия с другими актерами. Однажды он сообщил, что с актерством покончено, — его новой страстью стала фотография. Я ходила с ним в маленькие галереи, которые начали неожиданно возникать в нашем районе. Особенно он любил фотографировать меня, когда я забеременела Лаурой. Но подход у него был бессистемный: случалось, что целыми неделями фотоаппарат, на который он потратил две сотни долларов — огромная сумма для нашего тогдашнего бюджета, — валялся в углу нашего с Анис чердака, рядом с моим матрасом. Анис терпеть не могла людей, которые хотели заниматься творчеством, но при этом не обладали должной самодисциплиной. Религией Анис был упорный труд и оттачивание собственного мастерства.
— И кошки его не любят, — говорила она. Это было правдой. Но для меня это не имело значения.
Следующим летом мы с Ником поженились в Сити Холл. Я сжимала маленький букет из лилий, за который мы заплатили семьдесят пять центов в каком-то магазинчике по пути в центр города. К тому времени Анис уже была обручена со своим барабанщиком (первым из трех мужей и бесчисленного количества женихов) и «Evil Sugar» собирались отправиться в свое первое турне. Они играли «на разогреве» у «Тhe Talking Heads», что само по себе было невероятным прорывом. Мы с Ником подыскали квартиру с двумя спальнями на втором этаже в одном из старых домов на Стэнтон-стрит всего за двести пятьдесят долларов в месяц. Родилась Лаура, и я перевезла все свои вещи, фотографии, спичечные коробки и остальные сувениры из нашего с Анис прошлого на склад — потому что, как только родилась Лаура, оказалось, что остальной жизни как бы не существует. Как будто до этого все было только подготовкой к тому моменту, когда я впервые возьму на руки дочь и она взглянет на меня своими мягкими, до бесконечности красивыми, синими-синими глазами Ника.
К тому времени, как Лауре исполнилось три, Ник уехал навсегда, а Анис вернулась в Нью-Йорк, чтобы съехать с чердака и перевезти своих кошек и группу в Лос-Анджелес, где проводила уже по крайней мере половину своего времени. Анис шла к успеху, пока мне приходилось в одиночку воспитывать дочь. При этом у меня не было ни одной мысли о том, как это нужно делать.
Хотя иногда все происходит так, как должно. Однажды я везла коляску с Лаурой по Девятой улице мимо помещения, которое когда-то было магазином грампластинок, а теперь стояло заброшенным. Через грязные стекла я увидела кошку, которая очень сильно напоминала Элинор Ригби. Она вяло царапала сваленные в стопку старые научно-фантастические журналы. Она повернулась и посмотрела на меня, и хотя я не слышала, но видела, как она произносит: «мяу». Кошка ловко спрыгнула со стопки журналов и исчезла за углом в глубине помещения.
Я разыскала владельца здания, и мое предложение было совершенно простым: если он позволит мне снять магазин, я буду платить ему в качестве арендной платы пять процентов от прибыли. Платить я буду помесячно с возможностью в дальнейшем выкупить помещение официально. Подобные соглашения тогда в Нижнем Ист-Сайде были не редкостью, ведь район еще не считался престижным, и агентства недвижимости не получали от него прибыли. Он согласился.
Именно Анис посоветовала мне назвать магазин «Ушная сера».
Оглядываясь назад, я поняла, что поспешила выйти замуж за Ника, когда мне исполнилось всего восемнадцать, потому что хотела наконец-то завести настоящую семью. Мой отец умер от сердечного приступа незадолго до того, как я переехала в Сити, а мама собрала все их сбережения, добавила отцовскую пенсию и купила кооперативную квартиру во Флориде. Она никогда не приглашала меня в гости, никогда не просилась приехать в гости ко мне, а я не настаивала.
И хотя мой брак с Ником длился недолго, у меня появилась Лаура. Мы с ней и стали семьей. Лаура никогда не оставалась одна, а я никогда не давала ей повода спрашивать, почему ее собственная мать не хочет с ней разговаривать.
Анис как раз чистила уши Люси, в которых всегда собирался синеватый восковой налет, когда мы впервые заговорили о магазине звукозаписи.
— Почему бы не назвать его «Ушная сера»? — предложила она. Сперва я засмеялась, думая, что она шутит, потому что в тот момент Анис почти полностью погрузила свой ноготь в ушную серу. Но она продолжила: — Сара, я серьезно. «Ушная сера» — отличное название.
«Магазин грампластинок “Ушная сера”. Магазин грампластинок “Ушная сера”», — про себя повторяла я. И поняла, что она права.
Один наш друг-художник смастерил огромное ухо из папье-маше и установил его прямо посреди магазина под свисающими с потолка старыми поцарапанными пластинками. Оно оставалось там все время, пока мне принадлежал этот магазин.
Основой моего новоиспеченного бизнеса стали пластинки, которые я собирала в надежде стать диджеем — вместе с сотней других, подаренных Анис. «Я все равно должна от них избавиться, прежде чем перееду на запад», — настаивала она, как будто ее поступок не был чистым проявлением невероятной щедрости.
Несколько «ненужных» Анис пластинок оказались редкими монозаписями «Битлз», и мне сразу удалось продать их коллекционерам и заработать небольшое состояние. Еще я наняла человека по имени Ноэль в качестве управляющего. Ноэль, с неизменной бейсбольной битой в руке, представлял собой гору железных мышц, но при этом был ходячей музыкальной энциклопедией. Я познакомилась с ним на площади Святого Марка в одном из больших магазинов грампластинок, которым он руководил от имени владельца, и сразу же поняла: он — то, что нужно молодой женщине, которая пытается открыть неподалеку магазин грампластинок. Я уговорила его уйти из большого магазина и, используя наличные от продажи альбомов «Битлз», предоставила ему полную свободу действий в наборе персонала.
Мы с Лаурой счастливо жили на шестом этаже чуть выше по Стэнтон-стрит. Внизу располагался круглосуточный продуктовый магазин, поэтому, если я слишком поздно понимала, что у меня нет молока или арахисового масла, чтобы с утра приготовить для Лауры завтрак, мне было достаточно спуститься вниз. Двумя этажами выше нас жили Вердесы, и их вторая дочь, Мария-Елена, со временем стала близкой подругой Лауры. Девочки всегда торчали или у нас, или у них.
А в квартире прямо над нами жила чета Мандельбаумов. Макс работал шофером, а Ида вела хозяйство. Очень общительная пара. Было слышно, как уверенный и громкий голос мистера Мандельбаума разносится эхом по всему дому, даже когда двери были закрыты. Но он никогда не кричал. Никогда не злился. Обожал свою жену даже после пятидесяти лет брака, и она платила ему тем же. У нее была привычка посылать его каждый день вниз за молоком, когда он возвращался с работы, и каждый раз он ворчал по этому поводу.
— Тише, Макс, — всегда журила она его в ответ. — Ты же знаешь, врач говорит, что тебе необходимы физические нагрузки. — Когда он возвращался, миссис Мандельбаум говорила соседям, которые оказывались рядом: — Он ворчит, но ему нравится, когда жена его «пилит». Лучше открыто упрекать, чем скрывать любовь.
И мистер Мандельбаум продолжал брюзжать себе под нос, но по глазам его было видно, что он верит в то, что она говорит.
Миссис Мандельбаум никогда по-настоящему мужа не «пилила». Никогда не повышала голос и вообще была мягкого нрава. Ее глаза сияли, она всегда была рада встрече и готова предложить любые земные блага — мягкий диван, горячий чай, поднос со штруделями, тарелку с леденцами, остатки ужина, который готовила каждый вечер… На это всегда можно было рассчитывать в их маленькой квартирке.
Ида с радостью читала Лауре книжки с цветными картинками или учила ее готовить печенье, пока мистер Мандельбаум сопровождал меня в соседнюю мясную лавку, булочную или к торговцу фруктами. Пока я выбирала, он пристально следил за весами, чтобы удостовериться, что меня никто не пытается обмануть.
— Такая молодая, как ты, одна с дочерью! — восклицал он. — Кто-то должен позаботиться о том, чтобы твоей неопытностью не воспользовались.
Когда я наконец-то смогла позволить себе оборудовать Лауре отдельную спальню, миссис Мандельбаум настояла на том, чтобы сшить красивые кружевные занавески из «пары старых шматас[15], которые у меня повсюду».
Казалось, Лаура с восторгом оставалась с Мандельбаумами, хотя, возможно, не так бы любила бывать у них, если бы не их кошка — коричневая полосатая кошка с зелеными глазами, белой грудкой и такими же лапками, которая однажды увязалась за ними по пути из мясной лавки.
— И что нам оставалось делать? — любила говорить миссис Мандельбаум. — Мы взяли ее домой. Макс никогда не умел говорить «нет» попавшим в беду девицам.
Кошка, как будто понимая, что мистер Мандельбаум стал ее спасителем, отдавала ему всю свою любовь. Ходила за ним по пятам из комнаты в комнату, под настроение сворачивалась клубочком у его ног или на коленях. Она симпатизировала людям и характером обладала мягким, но единственным человеком, которого она любила так же, как мистера Мандельбаума, была Лаура. Я частенько задерживалась на работе допоздна, и, когда приходила забрать дочь, та уже уютно спала на маленькой кровати в комнате, которая раньше была спальней сына хозяев. Одной рукой она обнимала мягкий полосатый комочек, свернувшийся на подушке рядом с ней.
Я, конечно, понимала, что мы с Лаурой заменили им сына и внучку или внука, которого у них никогда уже не будет. Тем не менее не любить Мандельбаумов было невозможно. Ведь нам с Лаурой тоже нужна была семья.
Время от времени миссис Мандельбаум нежно брала меня за подбородок и говорила:
— Такая красивая девушка, как ты, достойна лучшего. Ты обязательно должна встретить того, кого полюбишь. Человек не должен быть один.
— Я не одна, — возражала я. — У меня есть Лаура, есть вы двое и мой магазин. Разве я одинока?
Однако я понимала, о чем она говорит. Вспоминала о Нике, которого не переставала любить, хотя и понимала, что он того не стоит. Вспоминала печальный блуждающий взгляд своей матери после того, как она потеряла моего младшего братика. Мандельбаумы нашли в себе силы продолжать жить после такой же потери. Но люди в моей семье были не похожи на Мандельбаумов. Если мы ломаемся, то так и остаемся развалинами.
Самый большой плюс, равно как и самый большой минус владения магазином — войти в него может кто угодно. Могут прятаться от дождя бездомные. Есть и те, кто каждый день по три раза заходит к вам потому, что не с кем поговорить. И еще есть те, кто зациклен на корзинах с последними рекламными листовками, которые только-только выпустили музыкальные критики. Я была более снисходительна к таким людям, чем Ноэль. Я всегда проверяла, чтобы у нас в наличии были кофе и содовая, а когда на улице холодало, в полуподвале складывала стопками одеяла и пальто, чтобы раздать нуждающимся. Я хотела быть частью этого общества, но больше всего я хотела, чтобы люди знали Лауру. Она не могла постоянно находиться со мной в магазине или дома с Мандельбаумами. Ей нужно было играть и на улице, с друзьями, и я спала по ночам лучше, когда знала, что приглядывать за дочерью мне помогает целая армия людей.
«Настоящих» покупателей у нас тоже было много. Тусовщики требовали Лидию Ланч или «New Order». Дети, экспериментирующие с латинским хип-хопом, заглядывали в нашу секцию сальсы. Диджеи с самого Бронкса заходили купить «Schoolly D» или старый школьный фанк, чтобы сделать ремикс. Один трансвестит, торговец марихуаной и страстный приверженец республиканцев во главе с Рейганом, выступающий в кабаре под именем Двойник Веры, заглядывал к нам по крайней мере раз в неделю, цитировал Айн Рэнд[16] и покупал пластинки с оперными ариями. Любой человек с зелеными волосами автоматически покупал панк и уговорить его взять что-либо другое было невозможно. Жители же пригорода приезжали за последними альбомами Спрингстина или «Talking Heads», и эти покупатели радовали нас больше всего. Они сразу же меняли свои двадцатки на новый диск Бон Джови, а чуть позже уходили с записями «Public Image» или «Liquid Liquid», потому что именно их композиции звучали в качестве музыкального фона у нас в магазине. «Что за песня? Звучит неплохо», — говорили они и тут же лезли в кошельки за наличностью.
В каком-то смысле управлять магазином грампластинок и работать диджеем — это одно и то же. По выходным, когда к нам набивалось полно народу, я будто чувствовала толпу. Я чувствовала, как меняется настроение в зависимости от того, какую композицию я вывожу на колонки в магазине. Если я ставила кавер-версию «Мексиканца» Бейб Рут в исполнении Джеллибина Бенитеза, все присутствующие в магазине начинали танцевать и я продавала все экземпляры композиции, которые были у меня в наличии.
Если в город приезжала Анис — в поддержку своего нового альбома или просто выступить в Мэдисон-сквер-гарден, — она всегда устраивала «встречу со слушателями» в моем магазине. В своих интервью она говорила, что единственное место в Нью-Йорке, где она покупает музыку, — «Ушная сера» на Девятой улице. Эти ее слова здорово помогали привлечь клиентов, как и упоминания о нас в путеводителях по Нью-Йорку, которые раздавали туристам.
И тем не менее «Ушная сера» никогда не приносила много денег. Все, что оставалось после того, как я выплачивала аренду и зарплату своим работникам, я снова вкладывала в дело. Оглядываясь назад, я понимаю, что это, вероятно, было самой большой моей ошибкой. Но в то время мне казалось, что этот магазин — мое с Лаурой будущее, наше единственно возможное будущее. Однажды Лаура поступит в колледж, у нее будет все, чего у меня никогда не было. Я обязана ее обеспечить.
В те дни женщины только начинали представлять свои интересы в профсоюзах и дискутировать о достоинствах дошкольных учреждений и института нянь. Но я сама могла встречать дочь из школы каждый день. Приводила ее в магазин, где она обедала, читала книги, выполняла домашние задания. Я видела, как Лаура растет, замечала каждую мелочь. Я восторгалась великолепием ее распущенных волос, когда мы развязывали после школы ее «конский» хвост, или наблюдала, как маленькая идеальной формы ручка подпирает ее красивое лицо, когда она читала учебники. Если в магазине наступало затишье, Лаура выбирала для нас с ней пластинки, и мы вместе подпевали. Она всегда настаивала на том, чтобы сделать музыку потише, и сама тайком пела все тише и тише — в результате я пела уже одна.
На каникулах Лаура приходила со мной в магазин задолго до его открытия. Мы доставали с полок альбомы, раскладывали на полу, прыгая между ними, будто играя в «классики», по квадратикам кафельного пола. Шустрая и высокая — порхающая, как голубка, — она никогда даже случайно не наступала на пластинку. По вечерам, если я работала допоздна, Лаура оставалась у Вердесов или Мандельбаумов, в безопасном любящем доме, пока я не приходила ее забирать. Она была счастливым ребенком. И я тоже была счастлива. У меня была Лаура, было собственное дело, была моя музыка. Это было самое счастливое время в моей жизни.
Даже в те годы, когда в Нижнем Ист-Сайде стало по-настоящему опасно, когда в середине восьмидесятых район наводнил крэк и невозможно было пройти дальше Авеню «А» без оружия, — даже тогда наша Девятая улица оставалась спокойным местом. Улица, усыпанная листьями, с движением по трем полосам. Весной Му Шу — кошка, которая жила в сообщающихся подвалах нашего квартала и получила свое прозвище за страсть к китайской еде, — оставляла у входа в магазин одуванчики. Летом она апатично дремала на тротуарах в пятнистой тени под деревьями. «Му Шу Хэмптонс» — бывало, называли мы эту сторону улицы. Над магазином в арендованных квартирах жили рабочие семьи из Украины. На закате старые украинки собирались на крыльце поделиться последними сплетнями. Из квартир на первых этажах, которые выходили окнами на улицу, молодежь, обитавшая там группами в семидесятых, переехала или переселилась в квартиры с окнами во двор, чтобы открыть собственные магазины. Маленький бизнес, как и у меня. В одном мастерили и продавали поделки из кожи. Какой-то джаз-музыкант открыл магазин одежды. Когда стояла хорошая погода, дети вместе бегали на улице. Лаура со своей подружкой Марией-Еленой частенько играли у витрины моего магазина с соседскими ребятишками — и постоянно были у меня на глазах.
Наркоторговцы и мелкие воришки, которые множились как грибы после дождя в соседних кварталах, в наш никогда не совались. И никогда не стояли на углу нашей улицы. Их и близко не было рядом с моей дочерью и ее друзьями. Те играли крышками от бутылок, которые находили на улицах, под пристальным взглядом красивой пятнистой кошки, которая время от времени хватала одну из крышек в зубы, а потом гордо, будто неся настоящий трофей, рысила по улице.
Глава 8
Пруденс
Когда Сара была молодой, мир вокруг был совершенно другим — тогда отсутствие денег лишь веселило. По крайней мере так говорили Сара с Анис. Когда бы они ни заговаривали о Старых Добрых временах, кто-то из них обязательно добавлял: «Тогда мы были такими молодыми! И мир был совершенно другим!»
Если ты беден, когда молод, можно, например, жить со своей лучшей подругой на огромном чердаке практически за копейки. («За бесценок!» — говорит Сара). Помещение было настолько большим, что там хватало места, чтобы разместить твой диджейский пульт, а твоей соседке — устраивать репетиции со своей группой, и оставалось еще достаточно, чтобы положить на пол два матраса, где ты с подругой могла лежать всю ночь, болтать о пустяках, смеяться, играть с ее кошками… Можно ходить на вечеринки или в такое место, которое называется «клуб», где твои приятели будут ставить пластинки и играть на музыкальных инструментах, чтобы остальные собравшиеся могли потанцевать. Если ты знакома с теми, кто работает в этом заведении, тебе разрешат бесплатно поесть и выпить.
Кроме лучшей подруги, ты знакома и с другими людьми, которые занимаются интересными вещами, например, актерами, художниками, писателями, и вы вместе отлично проводите время, валяясь на траве в городских парках, едите хот-доги (которые на самом деле готовятся не из собак). Хот-доги тогда стоили копейки. Иногда ты со своей соседкой по комнате могла скопить немного денег на шикарный ужин в ресторане под названием «Доджо» на площади Святого Марка, где можно было получить «работу». Или сходить в место под названием «Кафе-мороженое», где сами готовят мороженое и дают своим шедеврам красивые названия, например, «Красная Панама» (хотя на самом деле это обычное вишневое) или «Золотистый Акапулько» (на самом деле — персик).
Мне так не хватает мороженого. Сара перестала приносить его домой. А Лаура с Джошем, похоже, никогда его не покупают. Иногда я жалею, что мы не бедные и я не могу снова поесть мороженого.
Но мы не бедные, даже не малоимущие. По крайней мере так постоянно уверяет Джош. Например, недавно Лаура вернулась домой с работы с пакетом персиков, которые купила по дороге домой. (Я тут же подбежала, чтобы проинспектировать сумку, как только она оказалась на кухонном столе, в надежде, что Лаура купила персиковое мороженое или, возможно, кошачье угощение. Но ничего подобного там не было.) Джош спросил, почему она купила персики вместо слив, ведь они оба больше любят сливы. И Лаура ответила: «Персики продавали со скидкой». Он продолжал упрекать ее, мол, стоило купить сливы, а она твердила, что персики продавали со скидкой, пока Джош не сказал, что они еще не настолько бедны, чтобы покупать персики вместо слив, в то время как оба любят сливы. Лаура казалась расстроенной и сбитой с толку, как будто полагала, что поступает правильно, покупая персики, и совершенно не понимала, почему Джош поднял шум из-за такого пустяка. В конце концов она сказала, что на улице возле дома стоит палатка с фруктами, и, если он так уж печется о сливах, днем у него была масса времени — мог бы спуститься и купить то, что хотелось.
И тогда Джош вышел из кухни и отправился наверх в Домашний кабинет преувеличенно громко пощелкать на кошачьей кровати, совсем как поступаю я — иду к своей когтеточке, — когда на что-то злюсь.
После его ухода Лаура замечает каждую крошку, которую оставил на кухонном столе Джош, когда готовил обед. Она берет губку и бутылку с чистящим средством и трет его сильнее, чем необходимо, чтобы просто вытереть стол. Но люди и кошки должны находить способы использовать свою кипучую энергию, когда пребывают «в ярости», как говорит Сара. Хорошо, что еще раньше я запрыгнула на стол и доела кусочки мяса и сыра, которые остались там, после того как Джош приготовил себе бутерброд. Если бы Лаура видела, как выглядел стол до того, как я помогла его убрать, она была бы в еще большей ярости.
А на прошлой неделе, когда Лаура и Джош сидели за обеденным столом, проверяя счета, Лаура сказала, что стоит откладывать в два раза больше, пока Джош все еще получает деньги со своей старой работы, даже если при этом жить придется в «немного более стесненных обстоятельствах». Джош ответил, что у них достаточно отложено, а Лаура возразила: «На сколько их хватит?» Джош заявил: «Лаура, до нищеты нам еще далеко. Я откладывал деньги с пятнадцати лет. Ты же сама видела все документы». После этого никто из них к этой теме не возвращался. Но у Лауры на лбу залегла морщинка, а у Джоша стало подергиваться нижнее левое веко. Мне пришлось долго пролежать с Лаурой в постели в ту ночь, прежде чем она забылась настоящим крепким сном.
Лаура очень плохо засыпает, особенно после того, как Джош стал ложиться позже обычного — намного позже, чем Лаура. Она оставляет работающим телевизор, на экране которого мелькает какой-то старый фильм. Сара тоже, бывало, смотрела телевизор, если не могла заснуть. Когда же Джош наконец-то ложится спать, он укладывается подальше от Лауры, поэтому между ними остается достаточно места для меня. Иногда Лаура бывает настолько усталой по утрам, что забывает о части своих ежедневных утренних обязанностей, например накрасить губы после того, как наложила макияж на глаза, или уложить волосы с помощью гелей, которые живут в бутылочках на полочке в ванной. Пару раз забывала про свои таблетки, которые принимала каждое утро перед тем, как накормить меня завтраком. Хотя кормить меня она продолжает в одно и то же время. И только вздыхает, вместо того чтобы поджимать губы, когда видит разлитую из моей миски воду.
С того памятного вечера три недели назад, когда они с Джошем поссорились из-за договора об увольнении, отношения между ними изменились. Человек, который недавно с ними познакомился, не мог бы уловить, что не так, потому что большую часть времени они были предельно учтивы друг с другом. Они постоянно обращались друг к другу по имени и внимательно следили за тем, чтобы говорить «спасибо» и «пожалуйста» после каждого небольшого одолжения, как люди, которые недостаточно хорошо знакомы. («Если ты, Лаура, уже закончила с газетой, передай мне, пожалуйста, страницы с экономическими новостями. Спасибо». Или: «Джош, ты не мог бы завтра поменять наполнитель у Пруденс в лотке? Спасибо».)
Мне кажется, что Лаура злится не так сильно, как Джош, потому что она усерднее пытается разговорить мужа. Она постоянно находит причины, чтобы озаботиться мелочами, на которые раньше не обращала внимания. Если она решает принять душ после работы, то приносит телефон наверх в Домашний кабинет и говорит Джошу: «Вот телефон, если вдруг кто-то позвонит, когда я буду в душе». А Джош отвечает: «Спасибо», даже не глядя на нее. Лаура как будто ждет, что Джош добавит что-то еще, поскольку она взяла на себя труд принести телефон. Но Джош хранит молчание, пока в конечном итоге не произносит: «Ты еще что-то хочешь, Лаура?» Или если Лаура говорит: «Я решила заказать китайскую еду, если ты не против», а Джош просто отвечает: «Китайская? Отлично!», то Лаура добавляет что-нибудь, например: «Если хочешь, можно попробовать заказать в новом тайском ресторане».
Обычно Джошу нравилось дразнить Лауру: сразу видно, что она адвокат — уж очень любит все обсуждать. Если бы он предложил заказать тайскую еду, которую Лаура ненавидит (и я с ней согласна, потому что тайская еда слишком острая для кошек — а значит, не стоит ее заказывать), Лаура ответила бы что-нибудь вроде: «Хорошо, сегодня заказываем тайскую, но следующие три дня выбирать буду я». А Джош заметил бы: «Сегодня тайская кухня, а завтра выбираешь ты плюс я сделаю тебе массаж ног». А Лаура: «Сегодня тайская еда, сегодня массаж ног, и до конца недели будешь чистить лоток Пруденс». И Джош прищурился бы, опустил уголки рта и ответил: «Ну-у-у… Я не знаю, смогу ли…» Потом они посмеялись бы и заказали тайскую еду.
Но если сейчас Лаура предлагает заказать тайскую еду, чтобы порадовать Джоша, поскольку он один любит ее, тот отвечает одно и то же: «Лаура, заказывай, что хочешь».
Когда я была намного моложе и прожила с Сарой всего пару месяцев, мне с трудом удавалось заставить свой хвост меня слушаться. Я пыталась привести себя в порядок, и мой хвост извивался по всей квартире, избегая попадания мне в лапы, как бы сильно я ни пыталась его поймать. Я рычала в попытке его цапнуть, чтобы показать, насколько серьезны мои намерения. Иногда я даже пыталась поохотиться на него, но он всегда оставался недостижимым для моих зубов, и я только бегала по кругу. Я не злилась на него, если честно. Но была разочарована тем, что часть меня делает не то, чего я от нее хочу и ожидаю.
Нынче нас с моим хвостом напоминают Лаура с Джошем. Они кажутся смущенными и расстроенными, когда смотрят друг на друга, как будто не могут понять, что делает или говорит другой, тот, которого они считали своим близким человеком.
Жаль, что я не умею говорить на языке людей, тогда бы я смогла сказать Лауре, что Джош так злится только потому, что задели его чувства, равно как и ее. Может быть, тогда бы она стала лучше спать по ночам.
Конечно, если бы у нее не было проблем с засыпанием, она, вероятно, была бы против того, чтобы я спала в ее постели. А ведь сон рядом с Лаурой — лучшее, что случилось со мной с того дня, как, ничего мне не сказав, ушла Сара.
Сегодня воскресенье, и Лаура просыпается раньше, чем обычно по воскресеньям, — настолько рано, что мне даже не приходится заниматься тем, чем я занимаюсь в эти дни, чтобы мягко напомнить ей о завтраке. Например, ложусь ей на грудь и пристально смотрю в лицо, пока она не откроет глаза, или прохаживаюсь по верху радио с часами рядом с ее головой, пока из него не начнет звучать музыка. Когда Джош слышит воскресным утром радио, он зарывается головой под подушку и раздраженно бормочет: «Разве сегодня не воскресенье? Неужели нельзя нажать на кнопку “выключить” или как-то по-другому решить этот вопрос?» Лаура сонным голосом отвечает ему: «Не думаю, что на голодной кошке есть кнопка “выкл.”»
Но сегодня Лаура встает в обычное для рабочего дня время и убирает в квартире. Я даже слышу звуки буйства Чудовища в гостиной, пока сама ем на кухне. (Я уже понимаю, что сейчас Чудовище включили, чтобы почистить пол. Сара использовала для такой же цели обычный веник и вращающуюся щетку. Какая глупость рисковать нашими жизнями и заводить Чудовище в квартире, чтобы прибрать с пола, хотя, должна признать, Лаура кажется достаточно сильной, чтобы с ним справиться, — пока, по крайней мере). Сердце бешено колотится, я практически не притрагиваюсь к еде и несусь наверх в комнату с коробками Сары настолько быстро, насколько позволяют мне мои четыре лапы. Но когда я туда добегаю, дверь оказывается закрытой! Я издаю свое самое громкое мяуканье «торговки рыбой», но мои крики тонут в визге Чудовища внизу. Поскольку никто не отвечает, я подпрыгиваю и двумя передними лапами повисаю на ручке двери, потом всем своим весом тяну ее вниз, пока дверь не приоткрывается. Когда мы жили с Сарой в Нижнем Ист-Сайде, у нас на дверях были обычные круглые ручки, но тут они длинные и достаточно тонкие, чтобы я смогла на них удержаться и не соскользнуть.
Джош выходит из своей комнаты, готовый идти на улицу — в джинсах и старых кроссовках со свисающими шнурками, — и видит открывающуюся дверь и меня, висящую на ней. Он смеется.
— Бедняжка Пруденс! Неужели от тебя заперли твою любимую комнату?
Бирка на моем красном ошейнике звякает, когда я падаю на пол, приземляясь на задние лапы, и смотрю на Джоша снизу вверх, а он смотрит на меня. Его верхние веки немного опускаются, когда он сощуривается, и я гадаю, пришел ли он к тем же выводам, что и я, — Лаура не хочет входить в эту комнату, чтобы убирать там, но и не оставляет дверь открытой, чтобы никто не видел, насколько эта комната грязнее, чем все остальные помещения в квартире.
— Хорошо, — произносит Джош, — будем оставлять дверь приоткрытой, чтобы ты могла входить и выходить. Договорились? — Он тянется к дверной ручке и почти полностью закрывает дверь. Я удивлена, что мне приходится, толкнув дверь боками, приоткрыть ее больше, чем обычно. Еще недавно я с легкостью проникала в более узкие щели. Я неожиданно поняла, что давно уже не волнуюсь о том, что меня вовремя не покормят, и стала съедать всю еду, которую передо мной поставили.
— Я иду купить бублики и копченую рыбу, — говорит мне Джош. Он улыбается. — Если будешь хорошо себя вести, и тебе позже достанется.
Быстрые его шаги раздаются на лестнице, и Чудовище прекращает визжать ровно на столько, чтобы Джош успел сообщить Лауре, что идет за бубликами. Она просит, чтобы он не забыл купить продукты, перечень которых они составили вчера.
Я бросаюсь в комнату, зарываюсь в свое спальное местечко в глубине шкафа и внимательно прислушиваюсь, чтобы удостовериться, что Чудовище не придет сюда угрожать мне или Сариным коробкам. Однако в основном думаю о рыбе.
Днем приезжает вся семья Джоша, чтобы поговорить о деньгах, о том, кто болен, кто здоров, кто за кого вышел замуж и кто на ком женился, — хотя они уверяют, что приехали сюда на праздник. Джош крепко обнимает маму, когда она входит, и говорит:
— С Днем матери. — Мама Джоша обнимает Лауру чуть дольше, чем сына, гладит ее по спине.
— С Днем матери, — поздравляет ее Лаура, чуть тише, чем Джош, а та целует ее в щеку, а потом отпускает.
В этот же праздник год назад Лаура приезжала в нашу с Сарой квартиру в Нижнем Ист-Сайде. Она тоже принесла бублики и рыбу, а еще букет красных гвоздик, которые Сара поставила в маленькую желтую вазу посреди кухонного стола. Мать с дочерью заключили друг друга в некое подобие объятий (когда бы они ни обнимались, всегда казалось, что они забыли, как это делается). Лаура была не так напряжена, как обычно, когда приходила к нам в гости. Щеки ее порозовели, глаза блестели. Она засмеялась, когда Сара бросила в мою сторону извивающуюся завязку от пакета с бубликами, и я прыгнула, чтобы передними лапами поймать веревочку в воздухе. Она даже терпеливо улыбалась, пока Сара болтала о погоде и смешных историях, которые ей рассказывали на работе, спрашивала, не смотрела ли Лаура интересные фильмы.
После того как они расставили тарелки с едой, я прыгнула прямо на середину стола, чтобы Сара могла поставить и для меня маленькую тарелку с рыбой. Лаура наморщила носик:
— Фу, мам, ты всегда позволяешь Пруденс есть на столе?
Сара расправила плечи, как поступает, когда считает, что Лаура критикует ее поступки. И ответила так:
— Мы с Пруденс понимаем друг друга. — Она погладила меня по спине несколько раз, потом одну руку подложила под живот, чтобы мягко спустить на пол, и поставила рядом со мной мою личную тарелку. Обе внимательно наблюдали за мной. Потом Сара взяла вилку и положила рыбу на бублик. Она взглянула на Лауру. — Иногда мне кажется, что я люблю ее до безумия.
— Не знаю, — протянула Лаура. Несмотря на то что перед ней стояла еда, она к ней не прикоснулась. — А кто решает, что такое безумие? — Уголки ее губ поднялись вверх — намек на улыбку, а щеки порозовели. Она казалась смущенной и довольной собой, как будто владение некой тайной делало ее счастливой. Неожиданно Сара посмотрела на нее более пристально — потом и она улыбнулась, и глаза ее тоже сверкнули.
Сегодня у Лауры щеки не розовеют, глаза не блестят. Все косятся на нее краешком глаза, пытаясь скрыть свои взгляды, но Лаура замечает их, хотя и делает вид, что не замечает. На нее смотрят лишь потому, что она единственная, чьей мамы нет здесь на День матери? Но бабушек Джоша здесь тоже нет, и никто не косится из-за этого на родителей Джоша, поэтому, наверное, я ошибаюсь. Тем не менее Джош сегодня более любезен с Лаурой, чем был минувшие несколько недель, он сидит на подлокотнике кресла, обняв жену за плечи. Она не отодвигается, но и не кладет руку ему на ногу, не смотрит в глаза, как делала раньше.
На обеденном столе лежит громадная гора бубликов в плетеной корзине, которую я раньше не видала, а рядом стоят коробки с мягким сыром и тарелки с различными сортами копченой рыбы. После минувшего праздника я понимаю, что лучше не прыгать на стол и не требовать — как бы чудесно ни пахла эта рыба. Я вопросительно смотрю на Лауру и Джоша, пока все накладывают на тарелки еду и возвращаются в гостиную. (Отец Джоша кладет в тарелку меньше, чем остальные, потому что женушка предупреждает его: «Эйб, не забывай, что сказал доктор Стерн о твоем холестерине»). Я энергично трусь правой щекой о ножку стола, чтобы дать понять, что сейчас это мое место для еды. Но, похоже, никто не замечает, как вежливо я жду. По крайней мере детеныши ведут себя намного лучше, чем в прошлый раз. Роберт наклоняется, приближает ко мне (слишком уж) свое лицо, протягивает руку и говорит:
— Привет, киска. Можно тебя погладить? — Но в этой протянутой руке рыбы нет, поэтому я с отвращением дергаюсь.
Как только на тарелки положили еду детенышам (почему они должны получить рыбу раньше меня?), они спешат наверх, чтобы поесть и посмотреть телевизор в спальне Джоша и Лауры. Обычно есть наверху запрещено.
— Именно этого подарка я и ждала от них на День матери, — сухо признается Эрика. — Тихий обед со взрослыми. — Потом она вздыхает. — Я надеялась, что Джефф пришлет немного денег, чтобы я могла отправить их на лето в лагерь. — Она смотрит на Джоша, который сидит на диване рядом с Лаурой, но не настолько близко, чтобы их руки соприкасались. — Помнишь, как мы любили бывать в «Сосновом гребне»?
— Восемь недель в горах вдали от родителей, — улыбается Джош. — Что может быть лучше?
— Восемь недель в пригороде, одна, без детей, — говорит мама Джоша, и все смеются.
Джош поворачивается к Лауре.
— А ты ездила в летний лагерь?
— Я? — в голосе Лауры сквозит удивление. Она изгибает брови и приподнимает уголок рта, как будто считает вопрос глупым. — Дети из Нижнего Ист-Сайда не ездили в летние лагеря. Если только не считать лагерем катание на роликах под открытым пожарным гидрантом. — Она улыбается. — Мы называли это катанием на городских водных лыжах.
— И что делала с тобой мама, когда начинались каникулы? — спрашивает мать Джоша.
Лаура пожимает плечами.
— Чаще всего я помогала ей в магазине грампластинок или оставалась у соседей. Утром по субботам она брала меня на «блошиный» рынок на площади Астор, чтобы выкупить записи, которые магазинные воры украли за неделю. Потом мы ездили в «Киев» за шоколадными блинчиками. Так продолжалось, пока мне не исполнилось десять лет, — добавляет Лаура таким голосом, что становится понятно — она хочет сменить тему. — После этого я стала посещать летние школьные курсы, чтобы подготовиться к сдаче экзаменов для поступления в Стайвесент.
Отец Джоша изумленно приподнимает брови и негромко присвистывает. От этого звука мои ушки тут же на макушке — а вдруг он зовет меня, чтобы дать мне рыбки. Я подбегаю к стулу, на котором он сидит, и начинаю энергично тереться щеками о ножки. Но он лишь произносит:
— Твоя мама заботилась о твоем образовании. Стайвесент — чертовски престижное заведение.
— Я знаю, можете мне поверить. — Лаура издает короткий смешок. — Тамошние экзамены были не из легких.
— Постой, — говорит Джош. — Тебе же было лет десять в этом… в 89-м? — Лаура кивает, и он продолжает: — Должно быть, весело было болтаться в магазине грампластинок. У вас же был альбом «Mind Bomb» группы «The The», «Paul’s Boutique»[17], пластинка «Peace and Love», записанная «Тhe Pogues»…
На лице Лауры, когда она смотрит на мужа, читается смущение, но и нежность — впервые за долгое время.
— Откуда ты все знаешь? Даже ни на секунду не задумался.
Джош усмехается.
— Ты же знала, что выходишь замуж за помешанного.
— Слушай, — вмешивается Эрика, — а разве «Bleach» вышел не тем летом?
— Точно! — Джош опять поворачивается к Лауре. — Как твоя мама относилась к ранней «Нирване»?
— Не знаю. — Лаура откусывает от своего бублика, я с завистью наблюдаю, как рыба отправляется к ней в рот. Но поскольку все продолжают молчать, ожидая от нее ответа, она проглатывает еду и говорит Джошу: — Сперва она вообще ими не интересовалась. Это была не ее музыка. Но однажды в город приехала Анис и потащила ее на концерт в клуб «Пирамида». Тогда они впервые выступали в Нью-Йорке, и Курт Кобейн ввязался в драку с одним из вышибал. Это случилось во вторник вечером. — В улыбке Лауры сквозило невольное уважение. — А в среду утром она позвонила своему поставщику и попросила за ночь доставить ей огромное количество экземпляров «Bleach». К моменту закрытия магазина в воскресенье все пластинки были распроданы.
Отец Джоша встает и относит пустую тарелку на кухню. Я ложусь на живот, а нос кладу между передними лапами, обидевшись, что он не догадался дать мне рыбы.
— Нижний Ист-Сайд в те годы был жестоким районом, — говорит он, вернувшись. — Помнишь, Зельда? Каждый раз, когда ты читала о нем в газетах, там речь шла только о наркоторговцах и поджогах.
— Всего лишь проехаться по окрестностям значило рисковать жизнью, — соглашается его супруга. — Удивительно, что твоя мама решилась одна растить дочь в таком районе.
— Ма! — в голосе Джоша звучит предостережение.
— Ничего страшного, — отвечает Лаура. — Когда живешь там, все кажется совершенно по-другому, — уверяет она родителей мужа. — Мама взяла за правило ладить с людьми, поэтому за мной всегда приглядывал кто-нибудь из знакомых. Помню, однажды, когда мне было двенадцать лет, я каталась на велосипеде по Четырнадцатой и Второй и кто-то из детей постарше попытался продать мне наркотики. А уличные проститутки, которые знали мою маму, просто набросились на него, как тигрицы. — Она смеется. — Одна из них настояла на том, чтобы отвести меня к маме в магазин и передать, так сказать, из рук в руки.
И хотя слова Лауры звучат дружелюбно, в ее голосе различим и металл. Как будто она не желает, чтобы родители Джоша плохо думали о Саре. Это само по себе странно, потому что Сара уверяет, что Лаура всегда будет на нее злиться из-за магазина и места, где она решила растить дочь. «Она во всем винит магазин грампластинок, — однажды призналась Сара Анис. Потом вздохнула и добавила: — Если честно, она во всем винит меня».
Чем дольше Лаура говорит, тем мягче становится ее голос, плечи расслабляются. Боль в моей груди оттого, что Сары нет рядом, утихает и отступает, пока я слушаю Лауру и надеюсь, что она будет продолжать вечно. Приятно слышать о Саре что-то такое, чего я не знаю. Возможно, если Лаура щедро поделится со мной этими историями и мы будем достаточно часто вспоминать Сару, она вернется и всегда будет с нами.
Джошу тоже нравится слушать жену. Его глаза еще больше блестят, он не сводит с говорящей Лауры взгляда. Его поза (как и поза Лауры) становится более непринужденной, и теперь его рука и нога касаются ее, но оба этого не замечают — как в старые добрые времена, до того как они стали все время злиться.
Но родители Джоша обескуражены тем, что только что рассказала Лаура, и девушка это понимает. Ее лицо становится пунцовым, а смех — похожим на собачий лай.
— Однако на Девятой, к западу от Авеню «А», где располагался мамин магазин, все было иначе, — быстро добавляет она. — Эта улица всегда была спокойной. И улица, на которой мы жили, тоже была тихой… — Голос Лауры обрывается, а когда она вновь заговаривает, звучит обыденно. — Почему мы вообще затронули эту тему? — Она смотрит на Эрику, сидящую рядом с матерью Джоша на маленьком диванчике. — Мы говорили о твоих планах на лето относительно детей.
— Три дня в неделю у меня есть чем их занять, но я не знаю, что делать с двумя оставшимися рабочими днями, — угрюмо отвечает Эрика.
— Если хочешь, на два дня в неделю их могу забирать я, — предлагает Джош.
Эрика колеблется. По ее лицу видно, как сильно она хочет согласиться.
— Ты уверен? У тебя же есть… и другие дела.
— Конечно уверен! — восклицает Джош. — В любом случае я должен выходить проветриться. Будет здорово!
Ноздри Лауры слегка раздуваются. Она встает и начинает уносить на кухню пустые тарелки, крепко сжимая их пальцами. Я следую за ней, считая, что определенно заслужила поощрение за свое поразительное терпение, которое демонстрировала в течение всего обеда. Я становлюсь у стола и издаю свое самое громкое и решительное «мяу». Она подцепляет с чьей-то тарелки кусочек рыбки и кладет его передо мной на пол.
Я жадно его проглатываю — но, если честно, я заслуживаю намного большего, учитывая, как долго и терпеливо ждала. Когда Лаура начинает соскребать остатки еды с тарелки в мусорную корзину, я ставлю лапу ей на ногу и мяукаю более требовательно. И тогда она поворачивается ко мне и говорит:
— Не торопи свою удачу.
После того как все уходят, Джош относит тарелки и блюда с остатками еды на кухню. Рыба отправляется в пластиковый пакет, а блюда — в раковину. Но я продолжаю надеяться, что Джош все-таки угостит меня, как и обещал. Однако вместо этого он натягивает пару эластичных желтых перчаток и открывает кран. В воздух поднимаются пар и маленькие радужные пузырьки. Обычно мне нравится подпрыгивать в попытке поймать их, но теперь я не хочу отрывать взгляд от рыбы.
Лаура приходит с пустыми бокалами и ставит их рядом с раковиной.
— Отлично! — весело восклицает Джош. — Поможешь мне вытереть посуду?
Она берет полотенце и становится рядом с мужем. По ее напряженной спине заметно, что ее что-то тревожит.
— Что не так? — спрашивает Джош и передает ей вымытую тарелку.
Лаура так энергично трет полотенцем мокрое блюдо, что оно начинает скрипеть.
— Мне кажется, мы могли бы, по крайней мере, обсудить все, прежде чем ты предложил забирать детей Эрики два раза в неделю. — Она ставит сухую тарелку в металлическую подставку рядом с раковиной.
Джош протягивает ей следующую.
— Большое дело! У меня есть время, и мне на самом деле не помешают прогулки. Я с ума сойду, если буду целый день сидеть дома один.
Локти Лауры энергично двигаются вверх-вниз, пока она вытирает посуду.
— А как насчет поисков работы?
Джош отрывисто смеется.
— Поверь мне, — отвечает он, — трех дней в неделю достаточно для того, чтобы сделать телефонные звонки, на которые никто не отвечает, и отослать по электронной почте письма, которые также остаются без ответа.
— А если тебе назначат собеседование на один из тех дней, когда ты будешь сидеть с детьми? — Лаура берет следующую тарелку из его резиновой руки. — А если через пару недель появится работа, и у тебя больше не будет времени?
— Тогда мы с Эрикой пересмотрим наш договор. Будем преодолевать трудности по мере их поступления. — Джош закрывает кран. Желтые перчатки издают щелкающий звук, когда он стаскивает их с рук. Он поворачивается к жене. — Лаура, в следующие две минуты мои родители предложили бы забрать внуков. А в их возрасте трудновато дважды в неделю ездить в город и весь день крутиться вокруг двоих детей. Моей семье нужна помощь, и я в состоянии ее предложить. Однако сперва следовало посоветоваться с тобой. Прости меня, ты совершенно права. Но я, если честно, не вижу никакой проблемы.
— Я тоже твоя семья, — негромко произносит Лаура, и впервые мне в голову приходит, что она права: они с Джошем — семья. Я раньше считала их скорее соседями по квартире — как были Анис и Сара, а позже — мы с Сарой. У них настолько разные режимы дня, и они совсем не похожи на семьи, которые показывают по телевизору. Но Лаура с Джошем тем не менее семья, и на мгновение я отвлекаюсь от всех мыслей о рыбе, когда задаюсь вопросом о своем месте в их жизни. — Мне бы хотелось верить, что я тоже участвую в принятии семейных решений, — добавляет она.
На лице Джоша читается неуверенность, мне кажется, он хочет сказать ей что-нибудь приятное. Но потом его лицо опять суровеет.
— Я здесь не один, кто все решения принимает единолично.
Лаура аккуратно складывает полотенце и вешает его на ручку холодильника, чтобы оно там высохло.
— Пойду наверх переоденусь, — говорит она ему и покидает кухню.
После ее ухода Джош вздыхает, его взгляд блуждает вокруг, пока не падает на меня, продолжающую терпеливо ждать у стола.
— Я обещал тебе рыбки, так ведь? — спрашивает он, как будто это только что пришло ему в голову — как будто я не об этом целый вечер недвусмысленно ему напоминала! Он берет отличный толстый кусочек копченой рыбы из пластикового пакета, кладет его себе на ладонь, которая немного трясется. Потом наклоняется и протягивает мне.
— Ну же, Пруденс, — подбадривает он меня. — Держи.
Я в замешательстве, потому что не понимаю, чего он от меня ожидает? Есть рыбу с его руки? Но в таком случае мне придется к ней прикоснуться! Почему он просто не положит ее на пол? Или в маленькую именную мисочку, что было бы намного лучше…
— Ну же, Пруденс, — вновь подталкивает меня Джош. Его рот искривляется. — Я бы хотел быть в хороших отношениях хотя бы с одной женщиной в этом доме.
В каком доме? О чем он говорит? Я осторожно поднимаю правую лапу, пытаюсь выбить рыбу из его руки в надежде, что она упадет на пол. Но она продолжает лежать у него на ладони.
И тут Джош совершает невероятное. Он начинает петь для меня, совсем как Сара.
— Пру-денс, Пру-денс, ответь мне, ответь же мне. — Я смотрю на него в растерянности. Тогда он встает и начинает кружиться по кухне, по кругу, по кругу, дрыгая ногами и размахивая руками. Он танцует! Он совершает смешной танец по кухне, размахивая кусочком рыбы, зажатым между большим и указательным пальцами левой руки. Я повторяю его движения, стараясь оставаться поближе к рыбке и подальше от его ног. Даже мои усы с трудом помогают мне сохранять равновесие, когда он поет — на этот раз еще громче. — Я почти сошел с ума, и все из-за любви к тебе. — Теперь он становится на одно колено, вторую ногу сгибает, и рыбка свешивается через согнутую ногу. — Свадьба не будет модной, я не могу нанять машину. Но ты будешь отлично выглядеть и на сиденье велосипеда, рассчитанного на двоих!
Он прикладывает одну руку к груди, вторую выбрасывает в воздух и долго тянет последнюю ноту. Если честно, такое впечатление, что ему весело, хотя все эти танцы на кухне выглядят глупо. Даже я вынуждена признать, что сейчас он кажется забавным. Когда он отвлекается, я подхожу достаточно близко и зубами забираю у него рыбку. Пока я ем, он осторожно гладит меня по спине, а я так рада, наконец добравшись до цели, что даже не пытаюсь его остановить.
Мы оба поднимаем головы от неожиданного звука. На пороге кухни стоит Лаура. Ее губы плотно сжаты, но на этот раз потому, что она пытается сдержать смех. Ее плечи сотрясаются от напряжения. Немного успокоившись, она произносит:
— Как мило!
Джош втягивает голову в плечи с напускной скромностью.
— Я пытаюсь.
Он встает, и они смотрят друг другу в глаза. Он дышит немного тяжелее обычного из-за танцев на кухне.
Лаура подходит к мужу.
— Прости, — произносит она и обеими руками крепко обхватывает Джоша за талию. — За все. Не только за сегодня.
— Это ты меня прости, — отвечает Джош. На секунду мне кажется, что сейчас они станут спорить о том, кто из них больше виноват. Он отстраняется, чтобы заглянуть ей в лицо. — Ты же знаешь, что я схожу по тебе с ума. — Он усмехается. — И люблю тебя даже за то, что ты так предана своей работе.
Лаура зарывается лицом ему в грудь.
— Я тоже безумно тебя люблю.
— Значит, нам обоим очень повезло, — произносит он и целует ее в макушку.
Я слышу звук соприкасающихся губ. Я продолжаю есть рыбу, пока они оба поднимаются в свою спальню. Когда же они вновь спускаются в гостиную, на улице уже темно.
Глава 9
Пруденс
Один день в начале июня отличался для Сары от всех остальных дней в году. Она всегда проводила его, снова и снова прослушивая одни и те же две песни. Первая песня — одной из любимых Сариных групп, и мужчина, который поет, спрашивает: если он тебя полюбит, обещаешь ли ты (не ты, а «ты» из песни) быть верной? Вторую песню исполняет женщина. Она просит, чтобы приглушили свет и она могла протанцевать всю ночь напролет. Хотя сама Сара никогда не танцевала, когда слушала эту песню, и свет никогда не приглушала. Она доставала из металлической коробки, которую хранила в шкафу, старые сухие цветы и ложилась на диван с подушкой, которую Анис сшила для нее из свадебного платья. Подушка была покрыта черными пятнами. По словам Сары, это пятна от воды — давным-давно платье попало под дождь.
Хотя подушка уже утратила свою красоту — несмотря на то, что ее доставали всего раз в год, — она очень много значила для Сары. Та перебирала пальцами ее ткань, пока играла музыка, а потом растягивалась на диване вздремнуть. Я сворачивалась рядом с ней клубочком, тыкалась макушкой ей в руку, пока она не начинала меня гладить и чесать за ушками, как мне нравится. Я понимала, что она заснула, по тому, что ее рука переставала двигаться и оставалась лежать у меня на спине. И тогда я сама засыпала, вытянув одну лапу и положив ее Саре на плечо.
Сегодня я обнаружила эту подушку в одной из коробок Сары. Она лежала между связкой скрученных в рулон афиш и парой небольших сдвоенных барабанов — бонго, на которых мне иногда играла Сара. В эти моменты она смеялась и называла меня «продвинутой» кошкой.
Мне пришлось воспользоваться всеми лапами и вытащить подушку, чтобы я могла на нее лечь и подумать о Саре, о ее словах: если вспоминаешь человека, он всегда будет с тобой. Но когда я открыла глаза, Сары нигде не увидела.
Я не понимаю, почему этот день в июне так важен для нее, и не знаю, наступит ли он скоро или уже прошел. По-моему, это праздник только для Сары, а не для остальных людей, потому что единственное, что изменяется ближе к концу июня — дни становятся длиннее, а Лаура с Джошем все чаще включают кондиционер. В Нижнем Ист-Сайде холодный воздух выходил из ящика, который висел в гостиной на стене. Если я прижимала к нему ухо, то слышала, что происходит на улице, а иногда улавливала и щебетание птиц, которые вьют гнезда по ту сторону стены. Я очень расстраивалась, слыша птичий щебет, но не имея возможности схватить птичку. Но еще более расстраивалась Сара, которой приходилось стучать рукой по коробке, чтобы птицы улетели. Она говорила, что их перья забиваются в мотор, который нагнетает холодный воздух.
Здесь холодный воздух выходит из отверстия под потолком. Воздух дует до самого пола, а иногда неожиданный порыв щекочет мне уши — мне приходится чесать за ушами передними лапами. В те дни, когда Джош никуда не ходит с детенышами, он делает воздух прохладнее, чем понравилось бы большинству кошек (включая меня). Но когда он не видит, Лаура поворачивает маленькую круглую ручку на стене в гостиной и делает воздух теплее. Она как-то сказала, что это дорого — постоянно пускать холодный воздух (в Верхнем Вест-Сайде даже за воздух следует платить деньги?), но Джош ответил, что днем слишком жарко.
Я постоянно жду, что Лаура будет говорить о Саре, как говорила на День матери. Возможно, она вспомнит тот июньский день, который был так важен для Сары, и поднимется наверх, как это сделала я, чтобы просмотреть содержимое ее коробок в поисках подушки из свадебного платья. Но, кроме меня, только Джош проводит время в моей комнате, да и он заходит только за тем, чтобы изучить черные диски Сары, найти музыку, послушать, а потом все вернуть назад до прихода Лауры. Я мечтаю о том, что он поставит одну из двух особенных песен Сары, но пока он не ставил.
Жаль, что я не могу придумать, как заставить Лауру опять заговорить о Саре. Иногда, когда я смотрю на нее, то забываюсь и мне начинает казаться, что я смотрю на Сару. Она называла это «игрой света»: иногда на лице Лауры на мгновение появляется особое выражение, или же угол, под которым я вижу изгиб ее ресниц, почти превращает ее в Сару. Но я не знаю, то ли это потому, что Лаура на самом деле очень похожа на мать, то ли я просто начала забывать, как выглядит последняя. Я ловлю себя на том, что наблюдаю за Лаурой, как раньше наблюдала за Сарой. Ее волосы на солнце меняют свой цвет, подбородок начинает немного подрагивать до того, как она начнет смеяться над моими проделками; я вижу ее длинные пальцы (которые иногда приятно чувствовать на своей спинке), когда она бросает мне поиграть крышку от бутылки или пластмассовую соломинку. Я заметила, что запах Лауры сильно смешался с моим, что особенно сбивает с толку — потому что это Сара должна пахнуть мною и быть Моим Самым Важным Человеком.
Иногда я ловлю себя на том, что в груди утихла боль оттого, что Сары нет рядом. Мне приходится напоминать себе об этой боли — как бы больно ни было, — потому что мысли сами по себе ничего не значат, если телом этого не чувствуешь. А если мне суждено забыть о Саре? Я уже слишком многого не помню. Я вспоминаю тот первый раз, когда Лаура ко мне прикоснулась и дала мне платье Сары, и нашу первую встречу, когда я еще была котенком. Знаю, у меня с Сарой было много таких «в первый раз», но Сара давным-давно исчезла. Временами мои воспоминания о ней были такими четкими, как будто я видела ее только вчера. А бывало, как бы сильно я ни зажмуривалась и ни пыталась вспомнить — не помнила ничего. Образ Сары, ее теплота и нежность, красивое пение — эти воспоминания уже не вызывают в моей груди и животе никаких чувств.
Я жалею, что не могу спросить у Лауры, как много она помнит о Саре. Помнит ли она, как Сара пахнет? Я-то помню, но, вероятно, лишь потому, что ею продолжают пахнуть вещи в коробках. Они не смогут пахнуть Сарой вечно, однако что мне тогда делать? С каждым днем запах становится все слабее.
Я заметила, как Лаура иногда держит фотографию Сары. Она пристально смотрит на нее несколько мгновений, потом ставит назад, на ее лице вопросительное выражение, как будто она хочет узнать что-то, что, по ее мнению, можно узнать, если достаточно долго смотреть на фотографию. Если она слышит, что в комнату входит Джош, то быстро ставит фотографию назад и отходит от нее подальше. Неужели Лауре тоже тяжело оттого, что она так мало помнит о Саре, теперь, когда ее так долго нет?
Как тяжело, когда Сары нет! Теперь, когда я теряю даже свои воспоминания, кажется, что она уходит снова и снова. Лаура, вероятно, единственный человек, который может мне с этим помочь. Но Лаура не заговаривает о Саре.
Два дня в неделю Джош ездит на метро в Вашингтон-Хайтс, где живет его сестра, чтобы позаботиться о детенышах. Он всегда пахнет, как они, когда возвращается домой, — фруктовыми леденцами, картофельными чипсами и приторной жевательной резинкой. Еще он хорошо пахнет уличным воздухом, как обычно пахла Сара, когда возвращалась домой после одной из своих длительных прогулок по Нижнему Ист-Сайду, которые она так любила совершать в хорошую погоду. Даже когда Джош на целый день покидал дом, уходя на работу, по возвращении от него не пахло улицей так сильно, как сейчас.
Джош любит брать детенышей в так называемые «культпоходы». Сперва я немного ревновала, потому что знаю, как сильно мне бы хотелось отправиться в поход. Я никогда в походе не была, но видела по телевизору. Повсюду простирались огромные поля травы и заросли деревьев, и, хотя не могу почувствовать все те удивительные запахи, которые, я уверена, там витают, уже по картинкам на экране я вижу, что нет конца и края вещам, которыми можно было бы там заняться.
Но за исключением того раза, когда они ходили на Большую лужайку в Центральном парке, места, которые они посещали, совершенно не напоминали походы. Однажды Джош отвел их в Музей естественной истории, а в следующий раз — в какое-то закрытое помещение, где они могли расписать собственные керамические тарелки и горшки.
Между звонками по поводу поисков новой работы Джош звонит знакомым людям, у которых есть детеныши, пытаясь придумать новые развлечения для Эбби и Роберта.
— Я подумываю на следующей неделе отвезти детей в Нижний Ист-Сайд, — как-то вечером говорит он жене.
Брови Лауры ползут вверх и сходятся на переносице.
— Серьезно?
— Мы не собираемся на Четырнадцатую улицу на Манхэттене, — сухо обещает Джош.
Похоже, Лауре идея не по душе. Хотя я не знаю, почему — мне мысль о том, чтобы вернуться в Нижний Ист-Сайд, кажется восхитительной. Может быть, где-то там меня ждет Сара! И даже если не ждет — даже если просто продолжает заниматься тем, за чем ушла, — держу пари, что все эти знакомые запахи Нижнего Ист-Сайда заставят меня вспомнить о Саре все.
Я понятия не имею, как попросить Джоша взять меня с собой, если он решит отправиться в Нижний Ист-Сайд, но пытаюсь ему намекнуть: запрыгиваю в холщовую сумку с «припасами» — играми и пакетиками фруктовых соков, — которые он всегда берет с собой, когда проводит время с детенышами.
Иногда мне приходится вытаскивать из сумки маленькие игрушки и салфетки в мягкой упаковке и бросать их на пол, чтобы освободить там местечко для себя (до сих пор удивляюсь, насколько упитанной я стала). Джош всегда смеется, когда видит меня, свернувшуюся калачиком в своей сумке, — наружу торчит одна голова, но он всегда достает меня и ставит на пол. Глупо было позволять Джошу одурачить себя тогда с рыбой и идиотским пением и не зашипеть на него, когда он прикасался ко мне, потому что сейчас он, не колеблясь, поднимает меня на руки. Если бы он хотя бы на секунду заколебался, у него не было бы выбора — только оставить меня в этой сумке и взять с собой, куда бы он ни повел детенышей.
Джош смеется над моими поступками (как будто я здесь для того, чтобы развлекать людей!), но в последние дни он вообще смеется и улыбается намного чаще. Мне кажется, раньше я не слишком пристально следила за Джошем, чтобы заметить те незначительные изменения в его осанке и выражении лица, которые бы показали мне, насколько несчастным он стал, сидя постоянно в квартире. Люди любят проводить время с другими людьми. Сара всегда намного больше радовалась, когда рядом с ней находились я и Анис. Сейчас плечи Джоша напряжены уже меньше, чем сразу после того, как он потерял работу, и лицо его выглядит другим. Оно потемнело оттого, что он проводит время на улице, на солнце, и на носу у него появились крошечные коричневые веснушки.
— Я даже не ожидал, что мне настолько понравится проводить с ними время, — однажды вечером признается Джош Лауре.
— Уверена, им тоже нравится быть с тобой, — улыбается она в ответ.
Сегодня вечером они заказывают пиццу, так как Джош говорит, что слишком вымотался, бегая по жаре весь день, и даже думать не может о приготовлении ужина. Лаура тоже устала. Она опять допоздна бодрствует — ложится еще позже, чем раньше, когда я только стала здесь жить. Она не сидит за своими рабочими бумагами, и розовых следов на крыльях носа тоже не видать. (Может быть, нынче и на работе она не так много читает? На пальцах у нее теперь меньше чернильных пятен). Чаще всего она приглушает звук телевизора и бездумно таращится в экран, как будто о чем-то напряженно думает. Еще она начала класть небольшие кусочки еды рядом с собой на диван и подзывать меня: «кис-кис-кис», чтобы я подошла и съела. В большинстве случаев я не тороплюсь слезать с дивана, когда съедаю угощение. А потягиваюсь и устраиваюсь на нем, чтобы крепко поспать, и в последнее время этот сон стал моим самым спокойным.
Лаура не кладет на диван кусочек пиццы с сыром (я обожаю пиццу с сыром!), когда они едят вместе с Джошем, но бросает его на пол. Обычно, когда нам доставляют пиццу, человек, который живет за конторкой на первом этаже, звонит по телефону и предупреждает, что к нам поднимается пицца. Однако сегодня вечером никто не предупреждал — поэтому, когда раздался звонок в дверь, Лаура сказала:
— Странно, наверное, Томас отлучился с поста. — Как бы там ни было, они с Джошем едят пиццу, чего я на их месте, естественно, не стала бы делать. Всегда плохо, когда нарушается заведенный порядок вещей, но когда изменения касаются еды — это хуже всего. Поэтому я не обращаю внимания на сыр, который Лаура с Джошем продолжают крошить на пол (как будто думают, что я стану есть следующий кусок, если не съела предыдущий!), и всецело посвящаю себя игре с пластмассовыми крышками от бутылок с содовой — гоняю их передней правой лапой вокруг кофейного столика.
— Чем вы сегодня с детьми занимались? — интересуется Лаура, пока они едят.
— Ходили в «Катц». Так захотелось солонины. — Джош делает глоток из своего стакана и ставит его назад на стол. — Потом немного прогулялись, зашли в «Альфавилль» на Авеню «А». — Он с любопытством смотрит на Лауру. — Ты знаешь это место?
Лаура перестает жевать, едва не подавившись, но Джош будто не замечает.
— Конечно, — наконец произносит она.
— Я так и подумал! «Evil Sugar» записали там свой первый альбом. — Джош посыпает кусок пиццы чесночной пудрой. — Я и представить себе не мог, как это дешево — снять студию звукозаписи. Они даже разрешают группам оставлять свои инструменты и оборудование, чтобы не приходилось платить втридорога за перетаскивание вещей туда-сюда. А еще у них есть специальные программы для живущих неподалеку ребятишек, которые интересуются музыкой. Там живут хорошие люди — настоящий клад для общества.
Лаура медленно пережевывает пиццу. Она пытается сделать так, чтобы ее голос звучал равнодушно, как будто она задает вопрос, который задал бы любой другой человек в этом месте разговора, но ей это не вполне удается.
— А почему ты вообще решил туда пойти?
— Подумал, что Эбби с Робертом захотят посмотреть на студию звукозаписи изнутри. Знаешь, дети любят такие вещи. Я раньше был знаком с одним из сотрудников студии, и оказалось, что он до сих пор там работает. Должно быть, он там живет. Отрастил себе бороду практически до колен. — Я пытаюсь представить себе человека без рук и ног, с длинной-предлинной бородой. Однако не успеваю я нарисовать в своем воображении картинку, как щеки Джоша становятся такими ярко-розовыми, что их можно назвать даже красными: — Знаешь, — продолжает он голосом, каким говорят люди, когда признаются в чем-то, по их мнению, постыдном, — я роюсь в старых пластинках твоей матери. И постоянно натыкаюсь в выходных данных на студию грамзаписи «Альфавилль».
На этот раз Лаура ставит тарелку с недоеденной пиццей на столик, поворачивается и смотрит мужу прямо в глаза. Но она не успевает ничего сказать, так как Джош торопится с оправданиями:
— Послушай, помнишь, в марте ты обещала, что мы пересмотрим пластинки твоей мамы. Я не стал настаивать. Я пытался предоставить тебе свободу самой решать, когда и что делать. Но, Лаура, эти коробки не могут стоять там вечно. Когда-то нужно решить, что ты хочешь оставить, а что выбросить или отправить на хранение. И я надеялся, — его голос стал тише, — мы станем использовать эту комнату по другому назначению.
Почему эти коробки не могут оставаться там? Кому они мешают? Как будто у Джоша в Домашнем кабинете мало собственного хлама. Почему в огромной квартире нельзя найти всего одну комнату для меня и моих вещей? Шерсть у меня на спине начинает вздыматься.
— Не знаю, Джош. — Я вижу, как черные центры глаз Лауры расширяются в приступе паники. — Пока… все так… нестабильно.
— В мировой истории люди заводили детей и при более сложных обстоятельствах, — мягко возражает он.
Сейчас они обсуждают другую тему, и я не понимаю, какую. Единственное, что мне понятно, — если Лаура не озаботится судьбой вещей в Сариных коробках, то Джош заставит ее их выбросить. Я отвлекаюсь, моя правая лапа, которая продолжает играть с пластмассовой крышкой, ударяет по стакану с содовой Джоша сильнее, чем я ожидала, и напиток выплескивается на столик.
Джош с Лаурой оба вскрикивают:
— Пруденс! — И вскакивают с места, чтобы принести из кухни бумажные полотенца. Я спрыгиваю на пол и припадаю к нему животом. Если честно, они сами виноваты в том, что оставили крышку рядом с полным стаканом, а потом отвлекли меня странными разговорами. И тем не менее люди склонны винить кошек в том, в чем на самом деле кошки не виноваты. Никто из них не подхватывает меня на руки, не целует в макушку, как это делала Сара, когда я перевернула полный стакан в Нижнем Ист-Сайде, но по крайней мере на меня и не кричат. Они только вытирают стол и выбрасывают грязные бумажные полотенца в мусорное ведро, которое живет на кухне. К тому времени, когда они вновь усаживаются на диван, я вижу, что Лаура решила сменить тему.
— Ну и как вам «Альфавилль»? — спрашивает она. Должно быть, таинственная тема, которую перед этим поднял Джош, действительно казалась ей опасной, потому что я-то видела, как ей было неприятно слушать рассказы Джоша об этом «Альфавилль». — Детям понравилось?
Джош не торопится с ответом, бросает на жену быстрый взгляд. Затем произносит:
— Понравилось. Хотя из рассказа знакомого я понял, что студии недолго осталось. Хозяин дома пытается продать здание. Жители расположенных выше квартир всячески этому противятся.
— Обидно, — говорит Лаура, причем в ее голосе слышна искренняя досада. — Но так иногда случается.
— Не знаю, — задумчиво протягивает Джош. — Такое чувство, что там что-то нечисто. Я решил завтра порыться в Интернете, может быть, что-то найду.
— Что ж тут странного? Недвижимое имущество частенько меняет хозяина. С этим ничего не поделаешь.
— Не знаю, — повторяет Джош. — Если сделка сомнительная, внимание прессы будет только на руку жителям. Кто, как не я, знаком с сотнями музыкальных журналистов! В любом случае, с чего-то нужно начинать.
— Но если там действительно какие-то «темные» делишки, — возражает Лаура, и я вижу, как усиленно она пытается придумать причину, по которой Джошу не стоит туда ввязываться, — неужели музыкальная пресса об этом еще не проведала?
— Вполне возможно, — отвечает Джош. — За последние лет десять «Альфавилль» редко попадала в поле зрения журналистов. Студия уже давно не выпускала ни одного значительного альбома. Теперь там по большей части записываются непрофессиональные и молодые группы, которые еще не заключили контракт со студиями звукозаписи. — Джош вытягивает руки над головой и зевает. — Устал как собака. Сегодняшняя прогулка по жаре меня доконала. Думаю, мне стоит принять душ.
Лаура улыбается и кивает, но, как только Джош отворачивается, улыбка сползает с ее лица. Потом она вздыхает и прочесывает пальцами волосы, как поступала Сара, когда думала о том, что было ей не по душе.
Я слышу, как в спальне Джоша и Лауры в душе льется вода, пока сама истово пробираюсь между коробками Сары. Понимаю, что не в силах остановить Джоша и Лауру, если они все-таки решат убрать их, но ведь как-то я должна этому помешать. Я запрыгиваю в коробки и начинаю там вертеться, переходя от одной к другой, выталкивая их содержимое на пол своим упитанным животом. Обычно я не приемлю даже мысли о том, чтобы доставать вещи из коробок, где им самое место, но сейчас особый, непредвиденный случай. Сейчас нужно волноваться о более важных вещах.
Неожиданно краем левого глаза я замечаю на полу крысу! Крысу! Огромную черную крысу с горящими красными глазами и длинным, тощим хвостом! Я не видела крыс (только в кошмарах) с того самого дня, когда потеряла своих братьев и сестер и когда мы с Сарой нашли друг друга. Я знаю, как легко я могу убить мышь, но крыса — совершенно другое дело! К тому же эта крыса — просто гигантская! Я поворачиваюсь к ней мордочкой, шерсть моя вздыблена, отталкиваюсь задними лапами и прыгаю, сбивая набок одну из Сариных коробок. Раздается ужасающий хруст. Сердце мое колотится, в комнате неожиданно становится очень светло, и я чувствую, что черные центры моих глаз сузились до невозможности.
Крыса не шевелится. Она просто сидит, совершенно неподвижно, даже усы не дергаются. Я подкрадываюсь к ней — спина моя все еще изогнута, а шерсть топорщится — и бью ее правой лапой по голове, тут же отскакивая назад. Но крыса продолжает сидеть неподвижно. Я опять медленно подкрадываюсь к ней, бью по голове, но та не шелохнется. На этот раз, когда бью, я на секунду задерживаю лапу. Крыса странная на ощупь. Моя шерсть начинает успокаиваться. Это не настоящая крыса. Подделка из чего-то мягкого и упругого.
Я слышу, как по лестнице поднимается Лаура.
— Пруденс, у тебя все хорошо? — окликает она. — Что здесь за шум? — Если я испугалась, когда увидела фальшивую крысу, что уж говорить о Лауре! Когда она входит и видит сидящую посреди комнаты крысу, ее лицо становится абсолютно белым и она кричит!
Я знаю, что фальшивка ничего ей не сделает, но все равно бросаюсь на защиту Лауры, давая ей понять, что ни одна крыса — живая или нет — к ней и близко не подойдет, пока я здесь!
Лаура так пронзительно визжит от ужаса, что ее слышит находящийся в душе Джош. Вот он, видимо, отдергивает занавеску, а потом топает по коридору.
— Лаура! — кричит он. — Лаура, что произошло? Что?
Джош вбегает в мою комнату и останавливается. С него продолжает капать вода, одной рукой он придерживает на талии полотенце. В другой сжимает бейсбольную биту, которую обычно держит у себя под кроватью. Но Лаура уже смеется, хотя и дышит тяжело, прижимая руку к месту, расположенному прямо над сердцем, которое, по-видимому, колотится, как у меня.
— Господи боже! — восклицает она. — Я подумала, что увидела крысу! — Она опускается на корточки, одной рукой поглаживает меня по голове, другой берет фальшивую тварь, чей резиновый хвост свисает у нее с руки.
— Что это? — спрашивает Джош.
Лаура вертит крысу в руке.
— Мама приносила из студии грамзаписи много добра. Чаще всего какую-нибудь ерунду — гелевые свечки, цепочки для ключей — и дарила ее мне. Это «чудо», — Лаура берет крысу за хвост, — она, наверное,получила, когда на компакт-дисках выпустили альбом «Горячие крысы».
— Фрэнка Заппы, — улыбается Джош, поворачивается и прислоняет бейсбольную биту к стене, потом убирает упавшие на глаза мокрые волосы. — Великий был альбом.
Лаура встает и смеется.
— Только не для меня. Эта вещь провела в моей комнате один-единственный день. Среди ночи я проснулась в полной уверенности, что вижу на комоде крысу. Маме пришлось несколько часов успокаивать меня, чтобы я опять смогла уснуть. На следующее утро она отнесла ее назад в магазин.
Я глаз не свожу с фальшивой крысы, свисающей с рук Лауры, когда Джош свободной рукой — не той, которой придерживает полотенце, — обнимает жену за плечи.
— Отдай ее Пруденс, — советует он. — По-моему, она хочет с нею поиграть.
Лаура кладет голову ему на плечо и поднимает на него глаза.
— Думаешь? — Теперь и Джош смотрит Лауре в лицо. Не отрывая взгляда от мужа, она бросает в мою сторону фальшивую крысу. — Держи, Пруденс, — бормочет она.
Джош продолжает обнимать Лауру за плечи, когда они выходят из комнаты. Я несколько раз вонзаю когти в фальшивую крысу. Но сейчас меня интересуют вовсе не глупые игрушки.
Глава 10
Лаура
В метро всем бросалась в глаза странного вида женщина средних лет. Невысокая, но крепко сбитая, с волосами цвета карамели и красными ногтями, настолько длинными, что они немного загибались где-то через сантиметр от кончика пальца. Она что-то горячо говорила стоящему перед ней мужчине. Он тоже был средних лет, высокий и худощавый, голова его казалась слишком большой для такого тщедушного тела. И она немного клонилась к женщине, как начинающий поникать на стебле цветок. «La gente cambia[18], — сказала женщина, тыкая ему в лицо красным ногтем. — La gente cambia». А потом добавила на английском с ужасным акцентом: «Ты меня не знаешь. Ты меня совсем не знаешь». Мужчина в ответ только время от времени печально качал головой. То ли потому, что ее реплики имели непосредственное отношение к нему (неужели эта зрелая пара ругается прямо в вагоне метро?), то ли просто задумавшись о переменчивой тайне человеческого сердца. Этого Лаура, сидящая в другом конце вагона, понять не могла.
Они держались за стальной поручень над головой, временами немного раскачивались, теряя равновесие, в такт движениям поезда, но больше их разговору ничего не мешало. Всех окружающих Лауру людей, и тех, кто сидел, и тех, кто стоял, знобило из-за слишком прохладного кондиционированного воздуха. Все они что-либо набирали на своих смартфонах (Лауре тоже бы следовало заняться телефоном, но она его не доставала) или вертели в руках медиаплееры «Эпл». Многие бездумно таращились перед собой. Поезд остановился, и горячий, зловонный воздух станции со свистом ворвался в открытые двери вместе с черноволосым мужчиной в форме официанта. Стоял удушливый июльский день, и у него под мышками белого пиджака выступили расплывчатые желтые круги. Он вкатил в вагон тележку, покрытую льняной салфеткой, под которой стояли завернутые в полиэтилен блюда с фруктами и выпечкой, салатами из макарон, бутербродами. «Кто-то еще обслуживает встречи в нерабочее время, — подумала Лаура. — И у кого-то еще хватает денег на подобные изыски». Люди, которым пришлось потесниться, чтобы влезла тележка, поглядывают на официанта с глухим раздражением, а он отвечает им неопределенным извиняющимся выражением на блестящем от пота лице: «Прошу прощения, но мне тоже нужно работать». Потом все возвращаются к прерванным занятиям, женщина с длинными красными ногтями продолжает беседовать с тощим мужчиной, даже когда угол тачки вонзается ей в бедро.
Лаура признает: женщина права. Люди меняются. Или, может быть, с течением времени просто начинаешь обращать внимание на другие вещи. Она размышляла о том, как разительно за последние несколько недель изменился Джош, — с тех пор, как занялся спасением студии звукозаписи «Альфавилль» и всего многоквартирного дома на Авеню «А». Кроме того, Лаура вынуждена была признать с неохотой человека, который раньше намеренно закрывал глаза на неприятную правду и которому теперь пришлось столкнуться с этой правдой лицом к лицу, что эти изменения происходили медленно, в течение нескольких месяцев. Раньше она считала, что Джош защищен от тех превратностей судьбы, которые преследуют таких людей, как она. Чьи жизни сложились не так удачно. Теперь она понимала, что по различным мелочам, незначительным жестам, оброненным мимоходом словам должна была раньше заметить — ее муж очень расстроен. А Джош, которого она видит последние пару недель, — это вновь тот уверенный, энергичный, занятый любимым делом парень, с которым она познакомилась полтора года назад.
Она была убеждена, что его интерес к этому зданию через пару дней ослабеет. Но Джош, напротив, всего себя посвятил этому делу: он бесконечно кому-то звонил, создал блог и завел страничку на «Фейсбуке», беспрестанно отсылал куда-то электронные письма. Он и племянников приобщил к этому делу: раз в неделю он привозил их домой, чтобы скрепить вместе газетные вырезки и информационные листы, которые потом они упаковывали и отправляли по почте репортерам, музыкальным журналистам, членам городского совета, конгрессменам — всем тем, кого это могло касаться. Даже Пруденс принимала участие в этой бурной деятельности: она неожиданно запрыгивала на небольшой складной столик, который Джош поставил в своем и без того тесном кабинете (для этого ему пришлось убрать несколько ящиков в свободную спальню), и разбрасывала в разные стороны аккуратно сложенные стопки бумаг.
— Смотрите, Пруденс тоже помогает! — кричал Роберт, и они с Эбби заливались безудержным смехом — особенно когда к подушечке кошачьей лапки случайно прилипала почтовая марка, и кошка шла, энергично тряся лапой с видом оскорбленного достоинства, не подпуская к себе желающих помочь ей отлепить марку.
— Это одно из зданий Митчелла—Лама, — сказал Джош Лауре через несколько дней после того, как впервые отвел туда детей. — Из тех многоквартирных домов для семей низкого и среднего уровня достатка, которые начали возводить в пятидесятых годах.
Лаура об этом знала. Они с Сарой переехали в новый комплекс Митчелла—Лама в нескольких кварталах от их старой квартиры в Нижнем Ист-Сайде в девяностых.
— Как бы там ни было, сейчас владелец этого здания пытается исключить его из программы, чтобы продать застройщику, который установит арендную плату в соответствии с рыночными ценами. Что в четыре, а то и в пять раз больше того, что платят жильцы сейчас. А большинство из них — это пожилые люди с ограниченным доходом или ветераны войны. В этом доме живет полицейский, и новая арендная плата будет в два раза выше его месячного заработка!
Лаура слушала вполуха. Она недоумевала, почему из всех зданий на Манхэттене Джош решил опекать именно это? Она вспомнила Сару, день, когда они ходили на студию «Альфавилль». Мама прилаживала наушники на голове Лауры и говорила: «Так мы сможем слышать себя, чтобы понимать, как это будет звучать». Лаура поинтересовалась: «Но разве нельзя понять, как это звучит, слушая самих себя?» Сара объяснила, что то, как мы звучим для себя, и то, как мы звучим для окружающих, — большая разница.
— Здание оценили в семь с половиной миллионов, — продолжал Джош. — Ассоциация квартиросъемщиков «выбила» десять миллионов городских субсидий плюс частные денежные пожертвования. Они хотят выкупить здание, чтобы избежать повышения арендной платы. Но застройщик предложил владельцу здания пятнадцать миллионов и не намерен сбивать цену.
Лаура, слушая мужа, пыталась подавить начинающуюся панику.
— Это ужасно, — произнесла она. — Но, Джош, такая картина наблюдается сплошь и рядом. Нет смысла бороться. Как ни крути, а застройщик всегда выигрывает.
— А музыкальная студия! — воскликнул Джош, как будто не слыша Лауру. — Тебе известно, сколько великих исполнителей там репетировало и записывалось? «Evil Sugar», Диззи Гиллеспи, Том Уэйтс, «Ramones», Ричард Хелл. И студия до сих пор работает! Это не просто выселение малоимущих, а «выживание» искусства из Нью-Йорка. — От волнения он расхаживал по комнате. — Кларенс Клемонс, Найл Роджерс, Дилан… А все эти сессионные музыканты, которые выступают «на разогреве» у именитых и играют в клубах по всему городу! И список можно продолжать бесконечно!
Лаура подумала, что жутковато слышать из уст мужа те же слова, которые произнесла бы ее покойная мать.
— Но, Джош, — попыталась она вразумить его еще раз. — Это проигрышное дело. И, разумеется, ты это понимаешь. А у нас с тобой — у нас — еще не все потеряно. Нам тоже нужно как-то жить. Мы не можем вечно существовать на одну мою зарплату. Через два месяца тебе выплатят пособие в последний раз.
— Лаура, — ответил Джош, и по интонации было слышно, как он разочарован. — Я себе все пальцы стер, нажимая на кнопки телефона и рассылая резюме. И до сентября никто ничего не обещает. Возможно, так я мог бы завести новые знакомства. Может быть, это приведет еще к чему-нибудь. — Джош замолчал, чтобы отдать Пруденс, которая вертелась у ног, кусочек тунца со своего недоеденного бутерброда. — А сидеть и ничего не делать… Под лежачий камень вода не течет.
— Может быть, опять попробуешь писать? — посоветовала Лаура. — Разве ты не этим занимался, когда только переехал в Нью-Йорк? Ты стольких журналистов знаешь в разных изданиях…
— Лаура, прошу тебя. Я не мог заработать писательством тогда, когда люди нанимали писателей. Кому я нужен сейчас, когда все сокращают рабочие места? — Он взял ее за руку и сказал: — Послушай, я не хочу, чтобы ты думала, что я все собираюсь взвалить на тебя. Клянусь, я обязательно найду себе что-нибудь. Понимаю, что времена непростые, но пока мы можем жить на твою зарплату и то, что осталось от наших сбережений. Как там говорят? «Как за каменной стеной»? Разве ты в своей конторе не как за каменной стеной?
— Да, — протягивает Лаура. — Это точно.
Такие респектабельные конторы, как у Лауры, традиционно никогда не прибегали к массовым увольнениям подобно другим фирмам. Отчасти этим гордились — конторе удавалось сохранять доверие окружающих и свое лицо, а отчасти дело было в практичности: вскоре должны грянуть большие дела, и тогда нужны будут компаньоны и помощники, на чьи профессиональные умения можно положиться. Иногда фирма настолько разрасталась, что обваливалась под собственным весом, засасывая всех, как в черную дыру. Однако такие должности, как у Лауры — даже во время спада и кризиса, — обычно не сокращались.
Но сейчас по конторе поползли слухи, что и в больших организациях начали увольнять помощников. Лаура не могла с точностью сказать, когда перестали поступать звонки из кадровых агентств, но однажды утром (телефоны подозрительно молчали) она с содроганием поняла, что ей уже давно не звонили, чтобы узнать, не хочет ли она поменять рабочее место. В «Ньюман Дайнс» новые помощники, которые раньше начинали работать с сентября того года, когда оканчивали юридический, теперь могли приступить к работе не раньше весны следующего года. Нескольким помощникам, которые оказались в самом конце ведомости по зарплате за отработанные за месяц часы, вежливо посоветовали подыскать себе другое место, скажем, в течение следующих двух месяцев. Пэрри нельзя было назвать общительным человеком, но в их взаимоотношениях за последнее время Лаура уловила некое скрытое напряжение. Она не знала, имеет ли оно отношение лично к ней или связано с финансовыми перспективами конторы в целом — в чем бы ни крылась причина, такое положение вещей настораживало.
Все изменилось с тех пор, как в компании Джоша прошли повальные сокращения. Как только Лаура увидела в руках мужа договор о выходном пособии, она тут же поняла, что произошло. Вокруг нее в конторе выросла «Китайская стена». Ее намеренно отгораживали от всего, что каким-либо образом было связано с компанией Джоша. Лаура понимала, что глупо принимать все так близко к сердцу. Приди ей в голову подойти к Пэрри и в лоб спросить: «Как вы могли меня не предупредить?», он бы однозначно ответил: «Ты прекрасно знала, во что это выльется, когда начинала встречаться с клиентом». И еще добавил бы: «Ты не могла не понимать, что возможны осложнения». И вероятно, привел бы какое-нибудь содержательное изречение из Талмуда о выборе и его последствиях. И конечно, был бы прав. Она стала бы выглядеть в глазах Пэрри слишком наивной и эмоциональной — вот единственное, чего бы она добилась, затронув эту тему. Очередная женщина-юрист, которая не может отделить личное от профессионального.
И все равно было обидно. Лаура смотрела на своих коллег и гадала, кто и когда узнал. Как давно они были в курсе, что личная жизнь Лауры перевернется с ног на голову? Что говорили о ней, когда упоминалось ее имя? В детстве Лаура особенно остро чувствовала, что она не такая, как все, — слишком высокая и белокожая. Бóльшую часть своей сознательной жизни она провела, учась приспосабливаться, а после замужества с Джошем практически убедила себя, что больше о таких вещах думать не стоит. Однако, как оказалось, хватило незначительной мелочи, чтобы чувство это тут же вернулось. Чтобы она вновь и вновь думала о том, что темой каждого приглушенного разговора, который обрывался, когда она входила в комнату, была ее персона. Неужели она такая странная? Настолько не похожая на других? Женщина, работающая помощником адвоката и по глупости вышедшая замуж за клиента, — такого «Ньюман Дайнс» за всю свою столетнюю историю еще не видела?
Лаура вспомнила, как шутила ее мать, замечая что-то вроде: «Если весь мир против тебя, это не значит, что ты параноик». Лаура не хотела быть параноиком, но не могла не заметить, что если обычно в месяц ей оплачивали от двухсот до двухсот сорока часов, то за последние два ей еле удавалось набрать сто шестьдесят. Фактически это не отразилось на ее зарплате, но премия ее будет несомненно меньше, чем в минувшие годы. А ведь премия составляла чуть ли не половину заработанного.
И дело было не в том, что Лаура бездельничала или ленилась. Ей не давали поручений. Возможно, было не так много дел, как в былые времена. Она подозревала, что другие помощники «запаслись» работой для себя, хотя выяснить это или доказать, не выставляя себя еще бóльшим параноиком, не могла. Может быть, Пэрри уже не так нуждается в ее помощи, как раньше. Возможно, он взял под свое крыло кого-то другого, хотя она не могла быть настолько «не в курсе», чтобы не заметить этого.
Разве что, как мрачно думала Лаура, она действительно слепая.
У нее вошло в привычку поздно ложиться спать — она снова и снова думала о происшедшем, хотя Джоша уверяла, что, как обычно, допоздна засиживается за работой. Часто она ловила себя на том, что приглашает Пруденс составить себе компанию — кладет небольшой кусочек тунца или сыра на диван, чтобы соблазнить ее устроиться рядышком. Как только кошка засыпала, Лаура нежно гладила кончиками пальцев шерстку на ее спине, хотя вообще-то для этого предназначалась специальная щетка (ее Лаура, повинуясь порыву, купила сегодня, возвращаясь домой). Всего несколько месяцев назад (неужели прошло всего несколько месяцев?) вот так, должно быть, гладила Пруденс по шерстке Сара. Лаура смотрела на свои длинные пальцы — на пальцы, которые могли бы с легкостью порхать над проигрывателем или музыкальным инструментом, или над печатной машинкой — и думала: «У меня мамины руки».
В жаркие июльские дни, будучи на каникулах, Лаура, чья мама была слишком занята в магазине, бóльшую часть времени проводила на стульях с дощатой спинкой на кухне Мандельбаумов с Хани на коленях. Миссис Мандельбаум крошила в тарелку замороженный банан, посыпала ложечкой сахара, потом перемешивала со сметаной из морозильника, который, к изумлению Лауры, настойчиво называла «ледником». Пока миссис Мандельбаум готовила ужин, а ее супруг отдыхал в гостиной в паре метров от них и слушал записи больших оркестров, которые Сара нашла для него в своем магазине, Хани шершавым языком слизывала с пальцев Лауры сметану с сахаром.
Однажды, слушая оркестр Каунта Бейси, мистер Мандельбаум прикрыл глаза и сказал:
— Как будто в прошлое вернулся. — И крикнул в сторону кухни: — Ида, ты помнишь эту композицию?
— Конечно, помню, — ответила миссис Мандельбаум. Она воткнула огромный нож в куриную грудку. — В 1937-м мы с Нормом Цукерманом танцевали под эту мелодию в дансинге «Роузхолл».
Мистер Мандельбаум пробормотал себе под нос: «Норм Цукерман…» и добавил какое-то ругательство на идиш. Но миссис Мандельбаум оставалась невозмутимой, она, ловко втирая в курицу специи, улыбнулась и сказала Лауре:
— Господин Начальник в те времена не очень-то обращал на меня внимание, но зато многие другие парни имели на меня виды. Можешь мне поверить.
— И неудивительно! — воскликнул мистер Мандельбаум. — У тебя была самая короткая юбка и самые длинные ноги во всем Нижнем Ист-Сайде.
— Макс, перестань! Рассказываешь девочке всякую чепуху. — Миссис Мандельбаум засунула курицу в духовку и вымыла под краном руки. — Все, что мы не съедим, я положу в ледник и подам позже, когда твоя мама вернется домой, — сказала она Лауре. — Нет ничего вкуснее холодной курицы в конце жаркого дня. — Она вытерла руки о фартук. — Не слушай его. Моя мама измеряла мне юбку линейкой, прежде чем выпустить гулять. Если она была короче, чем на пять сантиметров выше колена, мне приходилось идти наверх переодеваться.
— Но какие это были колени! — улыбался мистер Мандельбаум из своего кресла. — Знаешь, они до сих пор ничего. Ни у кого нет таких коленок, как у моей жены. — Миссис Мандельбаум сделала вид, что не слышит его, но ее морщинистые щеки покраснели от удовольствия.
Лаура нежно почесала костяшками пальцев у Хани за ухом, размышляя над услышанным, не в силах представить себе, как можно жить с такой строгой матерью. Сара никогда не была приверженкой суровой дисциплины, ни разу не подняла на Лауру руку и вообще никогда ее не наказывала.
— У вас не сохранилось снимков платьев тех лет?
— А у нас вообще есть фотографии? — В голосе мистера Мандельбаума всегда звучала мощь. Иногда Лаура слышала, как он разговаривает, находясь в прихожей у себя в квартире этажом ниже. Но сейчас даже Хани распахнула глаза от его громогласного вопроса. — Ида, принеси наши альбомы с фотографиями.
Миссис Мандельбаум отправилась к шкафу с бельем в прихожей, достала оттуда несколько толстых альбомов. Разложила их на покрытом клеенкой кухонном столе, и мистер Мандельбаум присоединился к ним. Лаура восхищалась крошечными шляпками и длинными бусами, которые в то время носили женщины, а Мандельбаумы рассказывали истории о родственниках и знакомых. В какой-то момент Хани перебралась с коленей Лауры на стол и шлепнулась посреди открытого альбома, потерлась головой о щеку мистера Мандельбаума, ударила хвостом по руке Лауры.
— Хани в своей безграничной свободе находится здесь, чтобы напомнить нам, что все хорошее когда-нибудь заканчивается, — заявил старик. Потом миссис Мандельбаум убрала альбомы назад в платяной шкаф и стала готовить штрудель, а Лаура ей помогала (старушка любила повторять: «Для девочки учиться готовить никогда не рано»). Мистер Мандельбаум вернулся в гостиную, где в ожидании ужина продолжил слушать оркестр Каунта Бейси.
Поужинав, Лаура обычно засыпала в обнимку с довольно урчащей Хани в кровати, которая когда-то принадлежала сыну Мандельбаумов. Это у Хани Лаура научилась фокусу засыпать, несколько раз медленно прикрывая глаза, как засыпают кошки. Позже Сара закрывала магазин, возвращалась домой, переносила дочь на ее кровать — к тому времени Лаура так глубоко спала, что не чувствовала этого. Она всегда крепко спала, когда рядом тихонько урчала Хани.
Сейчас, если зажмуриться, сидя на диване с Пруденс, можно было представить, что рядом с ней опять спит Хани. Кошки в чем-то схожи, обе худые, коричневые (хотя Пруденс в последнее время, кажется, потолстела — или Лауре привиделось?) с черными, как у тигра, полосками. У Пруденс даже есть что-то похожее на черное пятнышко на белой шерстке на подбородке — мистер Мандельбаум называл его у Хани «мушкой».
Конечно, они очень разные. Пруденс раз в десять забавнее Хани: у нее такой смешно важный, даже высокомерный вид, когда она требует еду (Хани никогда себе такого не позволяла). Да, Пруденс намного надменнее. Хани была такой ласковой, поднимала на тебя свои огромные зеленые глаза, полные обожания, в ту же секунду, как ты наклонялась погладить ее по голове. «Сладкая, как кусок медового пирога», — говаривал про нее мистер Мандельбаум. Сейчас Лаура с неожиданным изумлением вспомнила — как она могла забыть! — что он еще всегда напевал Хани песню «Дейзи Белл» и, разумеется, он пел ей «Хани, Хани, ответь же мне, ответь».
И Хани, и мистер Мандельбаум, и все, что она любила, пали жертвой той же безжалостной силы, с которой сейчас пытается бороться Джош. Мистер Мандельбаум сам рассказывал о друзьях, которых выселили из их жилищ в 1959 году, когда здания сровняли с землей, чтобы возвести Линкольн-центр. Таков неминуемый жизненный цикл большого города. Несколько мягкосердечных людей заламывают руки и пишут жалобные статьи в местные газеты, и какой-нибудь недоумок позирует перед камерой, рассказывая историю своих бед для вечерних новостей. Но в конечном итоге дома сносят, арендная плата взлетает, и рано или поздно все предается забвению. У городов нет воспоминаний. Помнить могут только люди, но и люди в конце концов забывают.
И на ЭТОМ, выбрав из всех возможных событий, сейчас зациклился Джош. СЮДА Джош направил всю свою энергию и время, вместо того чтобы сосредоточиться на главном — на них с Лаурой, на их совместном будущем. Лаура хотела, чтобы ее жизнь текла в одном направлении — вперед. А Джош тянул ее назад в прошлое.
Все мысли спутались у нее в голове, когда утром она постучала в дверь кабинета Пэрри. Лаура уже не была уверена, пришла ли сюда из-за Джоша, под предлогом обсудить с Пэрри кое-какие детали, или для очистки собственной совести (она ведь скептически относилась к стараниям мужа). Она убеждала себя, что, вероятно, причин было несколько — всего понемногу.
Сидя на своем обычном месте напротив Пэрри, Лаура видела семейную фотографию: Пэрри с женой и двумя дочерьми. Снимок сделали два года назад в день совершеннолетия старшей дочери — на бат-мицве, как называют этот день евреи. Лаура пришла на праздник одна и сидела рядом с несколькими своими коллегами из конторы, которых пригласил Пэрри. Она тогда работала только третий год. В следующем году она будет присутствовать на совершеннолетии младшей уже с Джошем. «Если пригласят…»
— Что вы можете рассказать мне об уставах и законодательных актах по зданиям Митчелла—Лама? — спросила она после обмена любезностями.
Кустистые брови Пэрри поползли вверх.
— Ты работаешь над аудиторским отчетом клиента?
Лаура терпеть не могла врать, знала, что у нее плохо получается.
— Что-то вроде того, — уклонилась она от прямого ответа и почувствовала, как запылали щеки.
Пэрри кивнул и откинулся в кожаном кресле.
— Что ж… — Он сложил руки на животе с умным видом, который раздражал помощников помоложе, но Лаура втайне любила его именно таким. — Проект Митчелла—Лама — это государственная программа жилищного строительства, предложенная сенатором Макнейлом Митчеллом и членом местного законодательного собрания Альфредом Лама. Утверждена в 1955 году, получила название «Закон о предоставлении налоговых льгот компаниям-застройщикам». В Нью-Йорке в то время проживало большое количество рабочих, которым необходимо было жилье. Тогда на Манхэттене было многолюдно, — в улыбке Пэрри скользнула ирония, — было мало доступного жилья, например, для учителей или сезонных рабочих, продавцов. Чиновники всех уровней хотели найти способ предоставить этим людям доступное жилье. Руководствовались идеей, что наличие только очень богатых и очень бедных жителей — не в интересах Сити. Хотели, чтобы здесь поселился стабильный средний класс, который стал бы инвестировать в близлежащие районы, чтобы увеличились доходы в казну, снизился уровень преступности и так далее.
— Звучит логично, — согласилась Лаура.
— Так и было, — ответил Пэрри. — Проблема в том, что застройщики заявили: «Мы не хотим построить дом, а потом получить от комитета по регулированию арендной платы запрет на поднятие аренды. Зачем вкладывать деньги в убыточное предприятие?» Проект Митчелла—Лама решил вопрос. Город инвестирует девяносто пять процентов средств в постройку зданий. Оставшиеся пять привлекаются из частного сектора под смешной процент в рассрочку на тридцать пять или пятьдесят лет, сюда же входит стоимость земли, возведение на ней прочного дома и так далее. В ответ на такое щедрое предложение города застройщики рассчитывали арендную плату, исходя из того, сколько денег понадобится на содержание дома, сколько на погашение кредита, и начиналось строительство с минимальным ежегодным возвратом инвесторам. Я забыл точные цифры — что-то около семи процентов. Застройщики получали какую-то прибыль, но ограниченную, чтобы арендная плата для жильцов оставалась доступной. Застройщики понимали, что этим закончится, — именно поэтому им изначально предложили такие выгодные условия. В то время все оказались в выигрыше.
— В то время? — мимоходом заметила Лаура, когда Пэрри замолчал, чтобы глотнуть кофе из чашки. — А сейчас нет?
— Ты же знаешь, времена меняются. — (Как понимать его взгляд? Он посмотрел на нее многозначительно? Или просто посмотрел? Лаура не могла решить, как ни старалась). — Последние лет пятнадцать муниципальное жилье строят редко. Многие жильцы уже возведенных домов, особенно тех, которые строили еще в самом начале программы, давно выплатили заем. Цены на недвижимость и рыночная арендная плата взлетели до заоблачных высот. Поэтому сейчас многие владельцы и подрядные организации хотят выйти из программы и придать зданиям другой статус или по крайней мере существенно повысить арендную плату. Разумеется, все не так просто. Следует перед началом приватизации получить разрешение в ОШЖОР. — Видя недоуменный взгляд Лауры, Пэрри пояснил: — Отдел штата по жилищному и общественному ремонту. Однако обычно это всего лишь формальность. Существует обязательная процедура, по которой все жильцы дома должны быть уведомлены о возможной приватизации, им предоставляется возможность опротестовать передачу недвижимости в собственность или изложить все вопросы, связанные с содержанием или ремонтом здания, которые необходимо решить до продажи дома. Вопросы, связанные с муниципальным жильем по программе Митчелла—Лама, регулируют несколько агентств. Некоторые дома находятся в ведении нескольких агентств, уставы которых не совпадают. На то, чтобы разобраться в бюрократических лабиринтах, понадобятся сотни рабочих часов и десятки тысяч долларов, которые застройщик отдаст юридической конторе. Сейчас в суде слушается несколько дел, предлагаются поправки к основному действующему ныне уставу. Любая поправка и любое решение суда могут значительно изменить правила игры. Мы следим за развитием событий от имени некоторых наших клиентов.
— Однако обычно владельцам удается продать здания. — Слова Лауры прозвучали скорее утвердительно, нежели вопросительно.
— Почти всегда, — ответил Пэрри, кивая. — Была одна ситуация в 2007 году в Бронксе, когда взбунтовались все жители дома, и им удалось добиться большого политического резонанса, а закончилось тем, что ОШЖОР стал отрицать, что к ним вообще поступала заявка на отчуждение. Хотя подобное, на моей памяти, случилось лишь однажды за четверть века с тех пор, как эти дома начали приватизировать.
— Спасибо, Пэрри. — Лаура встала, чтобы уйти.
— Как я понимаю, клиент, для которого ты готовишь отчет, заинтересован в приватизации недвижимости? — Лаура кивнула, чувствуя, как краска стыда второй раз заливает ее лицо. Пэрри жестом предложил ей снова занять кресло напротив. — Ты должна знать: иногда, если жильцы должным образом организованы, если они способны представить владельца здания в негативном свете и если им удается найти адвоката — настоящего профессионала, который сможет «разнюхать» все о недостатках здания, найти противоречия в уставах и заставить владельцев и застройщиков погрязнуть в бумажной волоките, чем сделает весь процесс еще более болезненным и дорогостоящим, — так вот, при условии, что сообщество жильцов имеет интеллектуальные и финансовые ресурсы, чтобы организовать подобное широкомасштабное сопротивление — в интересах собственника найти с жильцами компромисс. Людям не нравится, когда окружающая местность меняется слишком быстро, и они изо всех сил этому сопротивляются. В Талмуде написано: «Привычки сильнее законов».
Лаура еще раз поблагодарила Пэрри и встала. Она на что-то надеялась — на слово или жест, который дал бы ей понять, что между ней и Пэрри все осталось по-прежнему. Во время этого разговора ничто не подтвердило ее подозрений, но и не опровергло их. Ее рука уже лежала на ручке двери, когда Пэрри задумчиво протянул:
— Да… юристам обеих сторон подобное дело обещает много оплачиваемых часов. — Он смерил Лауру загадочным взглядом. На долю секунды он напомнил ей Пруденс.
Пэрри зачастую знал то, чего никто ему не говорил. Лаура задавалась вопросом: то ли его последнее замечание было направлено на то, чтобы подтолкнуть ее к «выкачке» дополнительных часов из этого перспективного клиента, на которого она намекала, то ли внутренний голос нашептывал ему, что мотивы ее интереса не те, в которых она хотела его убедить? Вероятно, он предупреждал ее, чтобы она не позволила отвлечь себя от первоочередных своих задач.
Но Лауре не было нужды напоминать, в чем заключаются ее первоочередные задачи. «По крайней мере у жителей дома начнется судебное разбирательство, — подумала она. — По крайней мере у них будет шанс».
У них с Сарой такого шанса не было.
Последние шестнадцать лет своей жизни Лаура постоянно волновалась о деньгах. В тот день, когда их с Сарой вышвырнули из дома — вместе с Мандельбаумами, ее лучшей подружкой Марией-Еленой и остальными жильцами, — она слышала, как люди говорили, что с теми, у кого есть деньги, ничего подобного случиться не могло. Если бы они все жили на Парк-Авеню, а не на Стэнтон-стрит, такого бы с ними никогда не произошло.
В старших классах она как-то пошла с подружкой навестить отца последней, который был компаньоном в большой юридической конторе, очень похожей на ту, где сейчас работала Лаура. Она никогда не забудет, как впервые вошла в один из этих огромных шикарных небоскребов Мидтауна. В вестибюле росли деревья метров по шесть высотой — Лауру они просто поразили. Неужели в помещении могут вырасти такие большие деревья?! Само здание было таким огромным, таким нарочито богатым, настолько уверенным в собственной стабильности, что владелец мог себе позволить тратить время и деньги на то, чтобы посадить в этих стенах деревья и ждать, когда они вырастут. Конечно же, люди, которые работают в таком здании, могут каждый день входить и выходить из своих кабинетов в абсолютной уверенности, что у них будет дом, когда они вернутся туда вечером. И с того самого дня Лауре больше всего на свете захотелось стать одной из избранных, счастливчиком, который принимает такое постоянство как должное. Она представляла, как однажды чудесным утром откроет глаза и поймет, что отныне ее не терзают тревожные мысли о том, что может случиться при отсутствии денег.
У Лауры была простая жизненная философия. Самое важное — деньги, деньги, надежно хранящиеся в банке, деньги, которых достаточно, чтобы оплатить счета. Деньги лучше и важнее, чем молодость, слава, радость, красота… Важнее денег — Лаура вынуждена была это признать — только здоровье. Может быть, любовь тоже важнее денег, но даже любовь не может вынести настоящей нищеты. «Когда нищета стучится в дверь, любовь выпархивает в окно», — однажды услышала Лаура от Пэрри, который процитировал свою бабушку. И Лаура знала, что он прав, она помнила те ужасные дни, когда они с Сарой потеряли свой дом.
С другой стороны, Мандельбаумы всегда с трудом сводили концы с концами, особенно после того, как старика отправили из службы такси на пенсию, поскольку он не смог пройти осмотр у окулиста. «Мы справимся, — утешала миссис Мандельбаум. — Не забывай, мы должны благодарить Бога за наши беды так же, как и за радости». А мистер Мандельбаум отвечал: «Ида, если я буду каждый раз благодарить Бога, когда у меня беда, у меня не будет времени, чтобы затылок почесать». И в его голосе слышалась смесь раздражения и искреннего благодушия.
Люди, которые стремились приобрести множество дорогих «безделушек», или те, кто чувствовал потребность «быть удовлетворенным» своей работой, упивались роскошью, которую Лаура никогда не могла себе позволить. Безделушки — это хорошо, чувствовать себя реализованным — вероятно, еще приятнее, но деньги важнее всего. Без денег можно закончить, как мистер Мандельбаум. Без денег будешь гнить на улице или в одном из тех жалких бараков, и всем будет наплевать. У Лауры не было ни малейшего желания «прожигать» жизнь. Ей хватало на расходы меньше половины того, что она получала на руки, и ей удалось расплатиться за учебу за месяц до их с Джошем свадьбы. Теперь единственное, что она просила у небес, — не заставлять ее волноваться о том, чтобы хватало денег на достойную жизнь и своевременную оплату счетов.
Но в последнее время она только и делает, что беспокоится о деньгах. Она расхаживала по кабинету, предварительно закрыв дверь и прикидывая, сколько заработает в этом году, учитывая снижение премий. Пытаясь продумать бюджет, который позволил бы им с Джошем оплатить накладные расходы и скопить еще на следующий год, если Джошу так и не удастся найти работу.
В какой-то момент Лаура осознала, что все эти тревоги о деньгах приводят к обратным результатам и отвлекают ее от основной работы. Но от этого прозрения она начала еще больше волноваться и даже задалась вопросом: а не служат ли тревожные мысли о тревожных мыслях симптомом какого-нибудь психического расстройства?
Она вспомнила свою мать, которую постоянно одолевали навязчивые идеи, однако мысли Сары носили более приятный характер. Иногда она целый день слушала одну и ту же композицию — например, «Baba Jinde» в исполнении Бабатунде Оланутджи или «Ten Percent» в исполнении «Double Exposure», — если настроение было соответствующим. В детстве Лаура восторгалась сосредоточенностью, которой требовало подобное поведение. Сейчас, повзрослев, она кое-что поняла.
Когда Лаура вошла в квартиру после изнурительной прогулки по удушающей жаре от метро домой, в квартире стояла тишина. Пруденс свернулась в коробке, в которой раньше лежала пачка бумаги. Теперь коробка ждала у двери, пока кто-нибудь («Я, например», — с досадой подумала Лаура) ее выбросит. Джоша нигде не было видно, вероятно, он ушел на встречу с объединением жильцов дома на Авеню «А» или налаживает деловые связи, что за последние месяцы делал все реже и реже, поскольку никаких предложений о работе не поступало. Может быть, он даже предупреждал ее утром, только она забыла. Ничего удивительного, учитывая, чем последнее время заняты ее мысли.
Она поднялась наверх в спальню, сняла часы и серьги, сложила все в деревянную шкатулку для драгоценностей, которую подарил ей Джош, когда они еще только начали встречаться. Она залюбовалась ею в одной антикварной лавке, куда они заглянули во время прогулки. Та напомнила ей шкатулку с драгоценностями миссис Мандельбаум, которая стояла у той в спальне, на комоде с зеркалом, среди фотографий. Там были свадебные фото Мандельбаумов и снимки, сделанные во время их медового месяца в Майами; семейное фото с сыном, светловолосым мальчуганом в костюме пилигрима на День благодарения, и более поздний снимок уже улыбающегося юноши в костюме на выпускном балу; фотографии мистера Мандельбаума в форме летчика-истребителя во время Второй мировой войны. В самой шкатулке хранились изделия в стиле модерн, которые мистер Мандельбаум всю жизнь дарил жене. Ни одно украшение не было дорогим, однако в юных глазах Лауры они были прекрасны.
Однажды, когда Лауре было лет десять, миссис Мандельбаум вложила ей в руку тяжелую серебряную брошь с ониксом. Лаура попыталась ее вернуть, полагая, что невежливо принимать такие подарки, но миссис Мандельбаум сказала: «Мы с Максом любим тебя как собственную внучку. Поэтому я хочу, чтобы у тебя осталось что-то на память о нас». Затем она приколола брошь Лауре на платье и расчесала ей волосы перед пыльным старым зеркалом в спальне. «Посмотри, как тебе идет!» Обе вернулись в гостиную, держась за руки. Мистер Мандельбаум уже ждал их с тортом и чаем. За его спиной на спинке дивана лежала Хани, свесив одну лапку ему на плечо. «Ничего себе! — воскликнул он. — Я и понятия не имел, что ко мне на чай придут две такие элегантные дамы». Лаура зарделась от удовольствия.
Броши уже давно нет, но Лаура и без нее вспоминает Мандельбаумов столько лет спустя. Несмотря на то, что в конечном итоге она не оправдала их доверия.
В детстве Лаура больше всего любила собственную спальню, а потом уже квартиру Мандельбаумов, которая находилась прямо над их квартирой. Любила просвечивающие кружевные занавески, которые сшила миссис Мандельбаум, когда Лаура была еще слишком маленькой, чтобы помнить подобные вещи; чудесные обои, которые выбрала Сара: расписанные акварелью в глубокие синие, кремовые и пурпурные тона — красивые, но ненавязчивые. Идеальные для комнаты юной девочки. В те дни Лаура была не такой аккуратисткой, как сейчас. Она сваливала кукол, вещи и книги в огромные кучи, что изредка вызывало у Сары вспышки раздражения. «Если ты не уберешь в комнате, я…» Но Лауре нравилось погрязнуть в беспорядке, пока он не начинал раздражать ее саму, потому что тогда она испытывала ни с чем не сравнимую радость, занимаясь уборкой. Вскоре повсюду воцарялся идеальный порядок, косые лучи янтарного послеполуденного солнца проникали в комнату через тончайшие кружевные занавески (очень важно правильно рассчитать время уборки, нельзя начинать ее слишком рано или чересчур поздно, чтобы не пропустить это время дня), и Лаура расхаживала по комнате, прикасалась к вещам и думала: «Как же мне повезло! Я — девочка, которая здесь живет!»
Спускаясь в гостиную, Лаура прошла мимо комнаты, которую они с Джошем намеревались отвести под детскую и которая сейчас была завалена коробками Сары. Пруденс, по непонятным Лауре причинам (приходила на ум только одна: «Кошка ведь!») приобрела привычку выбрасывать вещи из коробок на пол. Вчера вечером она разбросала часть коллекции смешных музыкальных инструментов: губную гармонику, варган, миниатюрные барабанные палочки с крошечными деревянными шариками, соединенные с барабаном веревками, — все это Сара хранила под прилавком своего магазина грампластинок, чтобы Лаура могла там поиграть.
Губная гармоника была любимым инструментом Лауры, хотя она так и не научилась на ней играть. Сара, имеющая абсолютный слух, улыбалась и ни разу не поморщилась, когда Лаура носилась по магазину, извлекая из гармоники беспорядочные звуки, которые сама считала «мелодиями». Вчера Лаура ради смеха сыграла на гармонике несколько нот, а Пруденс смотрела на нее с серьезным и задумчивым видом. Сначала звук ее испугал, но через несколько секунд она вернулась и подняла одну лапу вверх, как будто пыталась потрогать выдуваемый Лаурой воздух или затолкать его назад в инструмент.
Сегодня Пруденс каким-то образом удалось раскопать старую записную книжку Сары, ту самую… Лаура сама себя уверяла, что ей никогда не найти ее среди пожитков мамы, когда встал вопрос о том, как сообщить о смерти Сары Анис, которая постоянно гастролировала по Азии. В конце концов она отправила письмо в продюсерское агентство Анис. Если честно, у Лауры не было ни малейшего желания разговаривать с последней. Ведь именно Анис подтолкнула Сару к существованию в Нижнем Ист-Сайде. И это она бросила Сару (и Лауру), когда прежняя жизнь разрушилась.
Однако, просматривая с Пруденс старые вещи матери, Лаура ловила себя на том, что вспоминает свое детство, когда мама еще владела магазином грампластинок и они обитали в старом многоквартирном доме, который, казалось, жил своей особой магической жизнью. Когда она говорила о Саре вслух, а Пруденс при этом серьезно смотрела на нее (хотя явно не понимала человеческую речь), воспоминания Лауры о детстве оживали, чего не случалось уже много-много лет.
Пруденс последовала за Лаурой наверх и теперь стояла в свободной спальне рядом с телефонной книжкой Сары, ожидая, когда Лаура положит ее назад в коробку, чтобы можно было снова начать игру «Разбросай вещи». Но вновь обретенная Лаурой способность к счастливым воспоминаниям казалась вещью хрупкой, и мысли об Анис грозили ее разрушить.
— Не сейчас, — сказала Лаура, минуя комнату и возвращаясь назад в гостиную. Пруденс продолжала ждать с терпеливым видом святой мученицы, и Лаура невольно улыбнулась. — Пошли же, — произнесла она более мягким голосом. — Неужели ты не хочешь поужинать?
Казалось, Пруденс на несколько секунд задумалась над предложением. Потом встала, изогнула спину, вальяжно потянулась (как предполагала Лаура, чтобы не подать виду, что очень хочет есть) и порысила в коридор, обогнав хозяйку. Веселое позвякивание бирочки на ее красном ошейнике звучало все приглушеннее — она завернула за угол в сторону лестницы.
Несколько недель назад Джош извинялся, когда перетащил из кабинета и поставил рядом с коробками Сары несколько своих вещей.
— Пока я не смог придумать места получше, — сказал он. — Мы всегда сможем отвезти эти вещи на склад, если…
Предложения он не закончил, и Лаура продолжать не стала. В прошлый раз, когда вновь зашел разговор о детях, Джош сказал, что в мировой истории люди заводили детей и в более сложных жизненных ситуациях. Уж Лауре ли этого не знать! Как будто Сара забеременела ею не так! Хотя что такое она говорит? Что, им с Сарой обеим было бы лучше, если бы она не родилась?
В детстве Лаура думала, что самое печальное в жизни — когда у ребенка нет мамы. В ее классе училась девочка, чья мама умерла от СПИДа, и Лаура однажды лежала ночью в кровати и плакала об этой девочке, с которой они даже не были подругами, о той бедняжке, которой всю оставшуюся жизнь придется провести без мамы. В квадрате света, который падал из коридора на пол ее спальни, появилась тень Сары, а потом уже сама Сара села на постель дочери, прижала ее к себе и заговорила: «Тихо, тихо… Все хорошо, малышка, все хорошо… Я всегда буду рядом с тобой… Я никуда не уйду». Лаура зарылась лицом в мамину шею, вдохнула цветочный запах ее волос, тех самых, которые намного красивее, чем волосы остальных знакомых ей мам; она цеплялась за свою добрую, красивую, любящую мамочку, которая не допустит, чтобы с ними случилось что-нибудь плохое. Только после этого обычного маленького ритуала она поверила, что все будет хорошо, и смогла заснуть.
Она никогда не задумывалась над тем, что значит быть матерью без ребенка. Никогда не думала, как легко потерять человека. Она так долго негодовала из-за того, что Сара не бросила музыку, не отказалась от той жизни, которую любила, чтобы обеспечить Лауре более безоблачное детство. А потом, наоборот, стала ненавидеть себя за то, что хотела, чтобы Сара бросила все, чем дорожила. Она злилась на мать и ее упрямство, даже после того, как та сдалась. И ненавидела себя за то, что счастливый огонек год за годом гас у Сары в глазах, пока она устало тащилась на работу и с работы, где за скучным письменным столом печатала бесконечные документы для тех, у кого находились дела поважнее.
Теперь Лаура выросла и ей пора завести собственных детей, но она боится неспособности предвидеть все то, что может отнять ее и ее ребенка друг у друга. Она боится нехватки денег, необходимых, чтобы ребенок не нуждался, боится, что за ту стабильность, которую эти деньги обеспечивают, придется платить чем-то еще.
Иногда она смотрит на фотографию Сары, которую они забрали из ее квартиры, и гадает, а что чувствовала ее мать, когда узнала, что беременна? Обрадовалась? Думала, что впереди у них с мужем и ребенком долгая-долгая жизнь, наполненная смехом и солнечными днями? Поступила бы она иначе, если бы знала, как все сложится?
Но улыбающееся лицо Сары не отвечает. Она явно была счастлива в тот момент, когда делался снимок: брови изогнуты, в глазах смешинка, предназначенная тому, кто держит фотоаппарат. И это все, что можно сказать.
Пруденс встретила Лауру у подножия лестницы. Она трижды ударила хвостом, а потом подняла его вверх, и Лаура подумала, что никогда не видела, чтобы у кошки был такой выразительный хвост, как у Пруденс. Он со свистом рассекает воздух, демонстрируя досаду, становится «трубой», когда она чего-то боится, или распушается у основания и трясется, как у гремучей змеи, когда она исполнена любви. (Лаура видела такое только в присутствии Сары). А еще сворачивается на кончике, когда Пруденс чувствует себя счастливой и довольной.
Эта поза — с поднятым вверх хвостом вкупе с несколькими настойчивыми «мяу» — говорила: «Дайте мне мой ужин немедленно!» Лаура уступила ее требованиям, а затем аккуратно убрала кусочки еды, которые просыпались из банки на безупречно чистый кухонный стол. Джош, вероятно, сегодня обедал не дома.
В последние дни Лаура много времени провела среди вещей Сары — среди музыки, фотографий и безделушек, и теперь наступило практически болезненное осознание того, насколько пуст ее дом в сравнении с маминым. Она очень не хотела привязываться к квартире и находящимся в ней вещам — не именно к этой квартире и не именно к этим вещам, но к дому и вещам в целом. Сейчас глядя на груду всего того, что мама накопила за эти годы, Лаура восхищалась храбростью (разве это не чудо храбрости?), которая требовалась от Сары, чтобы извлекать и перебирать старые сокровища и даже добавлять к ним новые.
Возможно, она почувствует себя увереннее, если они с Джошем наконец распакуют свадебные подарки и как-то украсят эту квартиру, которую подыскивали вместе в течение нескольких недель. («Квартира, которую можно было бы расширить», — говорил Джош с сияющими глазами). Может, если они расставят на полках старые книги с потрепанными обложками и книги о музыке в блестящих твердых переплетах, которые так любит Джош, развесят на стенах картины и репродукции, то потом смогут отдохнуть, восхититься своей работой и подумать: «Как нам повезло, что мы здесь живем!»
Только на этот раз никто не укажет им, сколько еще они здесь проживут. Лаура знала: если в конечном итоге им придется переехать, теперь все будет по-другому. На сей раз они смогут все аккуратно упаковать в ящики, надписать и забрать с собой. И все же она надеялась, что ее больше никогда не заставят покинуть дом, и внутренне восставала против жестокости окружающего мира, который ничему не позволяет длиться вечно. И при этом ему не важно, чем лично ты готов пожертвовать ради стабильности.
В квартире царила духота, как обычно бывает летом, когда никого нет дома и некому включить вентиляцию. В такие знойные летние вечера, как этот, пришедший на смену угасающему дню, они с Сарой, бывало, дремали на улице у пожарной лестницы под звуки машинных сигнализаций, музыку, смех и злобные крики, доносившиеся снизу. Знаменательным стал день, когда они наконец-то смогли позволить себе небольшой подержанный кондиционер, хотя им пришлось подтыкать под него старые журналы, чтобы он прочно вошел в грубо выбитую дыру в стене.
Лаура отправилась в гостиную, чтобы открыть верхнюю половину высокого окна и впустить в дом свежий воздух. Она увидела, как люди в соседних квартирах на разных этажах смотрят телевизор, многие из них, сами того не подозревая, — одну и ту же программу. На улице внизу группа подростков гоняла мяч, и Лаура вспомнила мальчишек, которые в том районе, где она выросла, мастерили баскетбольные кольца из молочных ящиков и наспех приматывали их клейкой лентой к столбам и уличным фонарям. На противоположной стороне улицы мирно сидели желто-белые голуби. В последнее время их численность возросла, и Лаура задавалась вопросом, когда же у голубей брачный сезон. Неужели их небольшая стайка разрослась (она тщательно подсчитала) до тридцати с небольшим особей благодаря птенцам, которых она раньше не видела, хотя наблюдала за голубями каждый день?
Она продолжала смотреть на птиц, когда открылась дверь черного хода, ведущего на крышу, где спали голуби. Появилась метла, а за ней темноволосый мужчина в белой футболке. Он что-то закричал, замахиваясь метлой на голубей. Испуганные птицы стали летать кругами, которые становились шире и шире, по мере того как все большее количество птиц присоединялось к этому паническому полету.
Лаура не знала, что на нее накатило. Какая-то ее часть наблюдала за происходящим с приводящей в замешательство отстраненностью, даже когда она просунула голову в открытое окно и закричала: «Оставьте их в покое!» Должно быть, мужчина ее услышал, даже если и не мог разобрать, что она говорит, — он смотрел прямо на нее (безумная дама в квартире напротив), продолжая кричать и размахивать метлой. Лаура затрясла в воздухе кулаками и заорала громче: «Оставьте их в покое! Оставьте их в покое!» Она снова и снова вопила: «Оставьте их в покое!», пока не заболело горло, а мужчина не устал от своего занятия и не исчез в проеме черного хода. Голубиные круги стали сужаться, пока в конце концов пара самых храбрых птиц не приземлилась на крышу. Вскоре голуби вновь обосновались на любимом месте, как будто ничего не тревожило их покой.
Лаура втянула голову назад и закрыла окно. Она увидела маленькие красные полукруги в том месте, где ногти впились в ладонь. Руки дрожали, она взъерошила волосы и сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Пруденс сидела перед ней на задних лапах, пристально наблюдая.
— Чего смотришь? — хрипло спросила женщина, подозревая, что сходит с ума. — Мама никогда не кричала?
К удивлению Лауры, Пруденс заурчала и нежно ткнулась головой в ее щиколотку. Потом повернулась и обвила хвостом ее ногу.
Глава 11
Пруденс
Целый день льет дождь. Внизу на тротуарах люди борются с ветром, вырывающим из рук зонты. Некоторые в конечном итоге уступают стихии и с отвращением выбрасывают зонты в мусорную корзину. В Нижнем Ист-Сайде наша квартира находилась довольно близко к улице, поэтому, выглянув в окно, я видела, идет ли домой Сара. Однако с этой высоты мне не разглядеть среди идущих по тротуару людей ни Лауры, ни Джоша. Не знаю, возникли ли у Лауры трудности с маленьким черным зонтом, который она прихватила сегодня утром, но домой она возвращается совершенно мокрая.
— Подожди минутку, Пруденс, — говорит она, когда видит, что я жду у двери. — Дай мне сначала снять мокрую одежду.
По дороге к лестнице она оставляет за собой маленькие мокрые следы.
Сегодня утром кто-то оставил открытым окно в моей комнате, и дождевая вода намочила занавески и натекла внутрь. Однако с удовольствием должна отметить, что в ящики Джоша немного воды попало, а все коробки Сары — сухие, хотя живут в этой комнате намного дольше. Сейчас здесь не так просторно, как раньше, но все равно места достаточно, чтобы я могла разбрасывать из коробок Сары безделушки, а Лаура — находить их и рассказывать мне истории.
Уличный воздух пахнет так, как «колбаска» с новыми четвертаками, которую приносят домой, чтобы кормить стиральные машины в Подвале, а это означает, что скоро ударит молния. Еще это значит, что в комнате осталось слишком мало нашего с Сарой запаха, но это уже не страшно. Слушать, как Лаура говорит о Саре, почти так же приятно, как вдыхать ее запах, — мои собственные воспоминания о Саре оживают, когда о ней рассказывает Лаура.
Временами она говорит совсем мало. Как-то мы нашли маленький полиэтиленовый пакет со старыми булавками — круглыми разноцветными штуками, которые люди временами прикрепляют к одежде. Лаура вытащила одну из кучи и сказала: «Как я умоляла маму купить мне этот значок с “Menudo”, после того как увидела такой у своей лучшей подруги Марии-Елены. — Она засмеялась. — По-моему, я носила его на рюкзаке целых две недели, пока он мне не надоел и тогда я оставила его в магазине». Вот и все, что она рассказала о булавках, прежде чем вновь спрятать их. Но в следующий раз она обязательно расскажет историю подлиннее. Чаще всего в рассказах Лаура упоминает Сару — и это лучшие минуты в моей жизни.
Сперва я волновалась, когда разбрасывала старые вещи из коробок, ведь Сара всегда говорила, что очень важно тщательно систематизировать прошлое. Разбрасывать вещи по полу — не значит систематизировать их. Но если я не буду показывать эти вещи Лауре, чтобы та поделилась своими воспоминаниями, у Сары вообще не будет прошлого.
Сегодня, когда искала, что бы показать Лауре, я обнаружила две белых коробки — одна поменьше, другая побольше, — похожие на те, в которые упаковывают вещи, когда один человек преподносит другому подарок. Когда рядом со мной на полу устраивается Лаура в тренировочном костюме, первой она открывает коробочку поменьше.
— Посмотрим, что ты сегодня нашла, — произносит она. Голос ее, который хрипел еще несколько дней после того, как она наорала на мужчину, разгонявшего голубей, опять стал нормальным. Джош настолько озабочен своими собственными делами, что даже не щурился, как делал обычно, когда видел, что Лаура говорит неправду. Может быть, он даже не заметил, как покраснели ее щеки. Не знаю, почему Лаура не рассказала ему о своем поступке, потому что ведь даже таким глупым созданиям, как голуби, нужно где-то жить — они так много времени проводят на этой крыше, что, должно быть, уже окутали ее своим запахом. Кто тот незнакомый человек, который пытался их прогнать? Я гордилась Лаурой, которая встала на их защиту, несмотря на то что и без ее помощи они бы вернулись на свои насиженные места.
Внутри маленькая коробочка была выложена пушком. В такой же пух был завернут предмет из гладкого потемневшего белого материала, который, как сказала Лаура, называется слоновая кость. Нижняя часть представляла собой пять длинных пальцев, верхняя — напоминала резной веер в завитушках.
— Это гребень, — объяснила Лаура. — Мама собирала волосы наверх и закалывала их гребнем. Она выглядела так изысканно и чарующе, я с трудом могла поверить, что это моя мама.
Раньше лицо Лауры при упоминании Сары всегда напрягалось, но сейчас ее губы расплываются в подобие улыбки. И голос нежен. Она поднимает штучку к свету и продолжает:
— Однако я не помню, чтобы видела у нее этот гребень.
Я, конечно же, не могу рассказать этого Лауре, но я-то как раз видела этот гребень. Однажды Сара показывала его Анис. Она рассказала подруге, что давным-давно этот гребень дала ей миссис Мандельбаум, с тем чтобы она подарила его Лауре на свадьбу. «Она надевала его на свою свадьбу, — сказала Сара. — Говорила, что это единственная подходящая “старинная” вещь, которую она может подарить Лауре». Сара призналась Анис, что собиралась отдать гребень дочери в день свадьбы, но ей не хватило духу, потому что Лаура всегда злится, когда упоминается имя Мандельбаумов. Анис было жаль Сару, она сказала: «Ты не можешь всю оставшуюся жизнь ждать, когда наступит подходящий момент, чтобы сказать все, что хочешь сказать. Нужно постараться и использовать возможности, которые уже предоставлены». Чуднó сравнивать Сару, которую знаю я, с Сарой из воспоминаний Лауры. Я вижу перед собой ту Сару, которая всегда знала, что именно и когда мне сказать. Лаура же помнит Сару, которая безостановочно говорила, но так и не сказала то, что хотела услышать ее дочь.
Теперь она кладет гребень в маленькую коробочку, а ее прячет в одну из больших коробок с вещами Сары, хотя и не в ту, где я изначально ее нашла. Дни идут за днями, и Лаура, похоже, «систематизирует» то, что мы просматриваем вместе. Что-то кладется в коробку, содержимое которой, вероятно, она хочет сохранить, как, например, этот гребень; остальное — в коробки, которые однажды она отнесет на мусорку, например, старые бланки заказов из магазина грампластинок или смешной барабанчик на палочке с прицепленными веревочками.
Белая коробка побольше, найденная мной, обмотана прозрачной липкой лентой, и Лауре приходится поддеть ее ногтем. Внутри коробочки много смятых бумажных салфеток и крошечные наряды, слишком маленькие даже для детенышей — вязаные свитерочки и шляпки, крошечные джинсовые пиджачки, украшенные серебристыми английскими булавками и неоновой краской из баллончика, малюсенькие юбочки и платья, порезанные футболки под стать пиджачкам… От одежек едва уловимо пахнет другой кошкой, чуть-чуть Сарой и еще кем-то, вероятно, Лаурой, когда та была маленькой.
— Бог мой! — На лице Лауры написано неприкрытое изумление. — Миссис Мандельбаум связала эти свитера для моей малышки Кэббидж Пэтч[19]. А Анис смастерила для нее наряды рок-звезды. — Когда она произносит имя Анис, я замечаю, как в ее глазах на секунду вспыхивает гнев, но так же быстро тухнет. — Я сказала маме, чтобы она выбросила все это, когда мне исполнилось одиннадцать. — Она смеется. — Я даже требовала. Хотела, чтобы она поняла — я больше не ребенок. — Губы, растянутые в улыбке, начинают дрожать. — Поверить не могу, что она хранила их все эти годы.
Я осторожно касаюсь лапкой ноги Лауры, ожидая резких движений в попытке меня прогнать, а потом забираюсь к ней на колени, чтобы оказаться поближе к крошечным нарядам. Я так усердно трусь о них щеками и головой, пытаясь избавиться от запаха другой кошки, а еще — вобрать в себя немножко запаха Сары, что цепляюсь застежкой своего красного ошейника за нитки, и Лауре приходится меня выпутывать. Почувствовав свободу, я вновь трусь головой о крошечные свитера, пытаясь воссоздать тот чудесный запах, когда мы с Сарой вместе. Лаура начинает нежно почесывать меня за ушком. Я закрываю глаза, кладу голову ей на ладонь и начинаю урчать. Она делает руку «ковшиком» и решительно-ласково проводит ею от самого кончика моего носа по голове и дальше, по спине, так, что у меня начинает приятно пощипывать кожу под шерстью.
Неожиданно мы слышим звон ключей у двери — это вернулся Джош. Если он возвращается домой так поздно, то, скорее всего, встречался с людьми, которые живут в том доме над студией звукозаписи, — по его словам, «собирает их рассказы». Мы слышим звук приближающихся шагов, Лаура отодвигает белую коробочку с крошечными нарядами. Через секунду в дверях возникает Джош — все его джинсы в дождевых каплях — и приветствует:
— Здравствуйте, дамы.
Джош продолжает иногда заглядывать в эту комнату и рыться в черных дисках Сары. Когда он так поступает, я больше не тревожусь, потому что перед этим он всегда тщательно моет руки и вообще относится к дискам с должным почтением. Я слышала, как он говорил Лауре, что ищет музыку, которую записывали в той студии звукозаписи. У Сары сотни черных дисков, поэтому ему необходимо время, чтобы просмотреть все. Однако он никогда не прикасается к вещам в Сариных коробках — если в них нет черных дисков, — в отличие от нас с Лаурой.
Но сейчас он нигде не роется. Он улыбается, как всегда, когда видит меня и Лауру среди вещей Сары. Он говорит:
— Я взял в «Дефонте» тунца. Хочешь половину?
— Откуда ты узнал? Я как раз думала о том, чтобы поужинать бутербродом с холодным тунцом! — улыбается в ответ Лаура.
Джош опирается плечом о дверной косяк.
— Ты помнишь, что через пару недель у нас годовщина свадьбы? Нужно устроить что-то грандиозное.
— Только не слишком дорогое, — отвечает Лаура.
— Как по-твоему, сколько первых годовщин свадьбы у нас будет? — удивляется Джош. — Я говорю о том, чтобы отпраздновать в ресторане, а не о неделе в Париже. — Он с надеждой смотрит на жену. — Соглашайся. Мы уже давным-давно не ходили в ресторан, а у меня еще осталось несколько оплаченных недель.
Он преподносит это как хорошие новости, однако по хмурому лицу Лауры понятно, что она не разделяет его энтузиазма. Она отвечает:
— Через минутку я спущусь ужинать.
Джош направляется в их спальню, а Лаура бросает крошечные одежки в белую коробку. А потом засовывает все в одну из Сариных коробок.
— Ты, наверное, тоже хочешь есть, — обращается она ко мне. И, почесав меня под подбородком, добавляет: — А позже тебя нужно хорошенько вычесать.
Секунду я смотрю на коробки Сары. Но потом, вспомнив о тунце и долгом приятном процессе вычесывания, следую вниз по лестнице за Лаурой.
Раньше Джош никогда не распространялся о своей работе, но теперь он готов говорить о ней, как только находит «свободные уши». Лаура обычно морщит лоб и меняет тему разговора. Или говорит что-то вроде: «М-да» или «Неужели?», и становится понятно, что она не хочет, чтобы Джош развивал эту тему. Но детеныши засыпают его вопросами. Джош приводит их в квартиру раз в неделю, чтобы рассортировать документы и разложить их по конвертам. Я обычно тоже помогаю: разбрасываю бумаги по полу, чтобы убедиться, что под ними нет крыс, — с тех пор как мы нашли у Сары в коробке крысу, я проявляю крайнюю осторожность, несмотря на то что крыса та оказалась ненастоящей. Тем не менее Джош не всегда бывает благодарен мне, как следовало бы ожидать. Часто он злится и говорит:
— Пруденс, ну зачем ты так со мной поступаешь? — И вновь складывает бумаги в аккуратную стопку. Но сразу видно, как радуются и веселятся детеныши, когда смеются и хвалят меня за помощь. Время от времени Джош, как будто делая одолжение, комкает лист бумаги и бросает мне, чтобы я тренировалась. И хотя детеныши придумали досадную игру под названием «Не отдавай Пруденс ее бумажный мячик» — они бросают друг другу скомканную бумагу над моей головой и вопят: «Не поймаешь! Не поймаешь!», — я подпрыгиваю достаточно высоко, выбиваю у них «мячик» и прячу его под диван.
Один день с детенышами намного разрушительнее, чем пятидневное сидение дома Джоша. Им трудно поступать благоразумно, как это делают кошки (и люди постарше), например, сидеть на одном месте несколько часов кряду, размышлять о важных вещах и наблюдать через окно за жизнью Верхнего Вест-Сайда. От постоянного движения вокруг волнуется воздух и у меня подрагивают усы. И кроме того, мы постоянно воюем за мое любимое место отдыха на диване. Джош с Лаурой уже выучили, что кошка предпочитает спать на одном и том же месте и это желание следует уважать. Но детеныши плюхаются на мое место, даже если я уже там сплю! А это означает, что мне приходится пробуждаться от удивительных снов о зеленой травке и пении Сары и удирать с дивана, пока меня не раздавили их зады. И даже когда я шиплю на них, они не обращают на меня внимания. Вы думаете, что эти юные люди чувствуют благодарность к кошке, которая учит их хорошим манерам? Но они ни разу не сказали мне: «Спасибо, Пруденс, за то что пытаешься научить нас вежливости». Если бы не соблазнительный шелест бумаги в Домашнем кабинете, я бы держалась от них подальше, когда они приходят в гости.
Хотя с Джошем они вели себя намного лучше. Вероятно, потому что он был с ними нежен и терпелив, как Сара была со мной. (Однако я больше заслуживаю нежности и терпения, чем детеныши). Если они сидели за маленьким столиком в кабинете Джоша, то даже поднимали вверх руку, чтобы задать вопрос. По-моему, хорошая идея учить подобным проявлениям вежливости юных людей. Хотя меня и удивляет, что детеныши смогли усвоить что-то из хороших манер. Странно, я никогда не видела, чтобы взрослые люди поднимали вверх руки, прежде чем что-то спросить, хотя кто-то же явно научил этому детенышей.
— Дядя Джош, — спрашивает Роберт, поднимая руку вверх, — а как получается, что люди должны переехать из дома, в котором живут?
— Они не должны… пока, — отвечает Джош. — Есть правила, которые говорят, сколько денег владельцы здания могут потребовать у людей за то, чтобы те могли там жить. И сейчас они хотят изменить правила и сделать дом таким дорогим, что живущие там люди больше не смогут позволить себе этого.
— Так и с нами случилось, — важно заметила Эбби. — Когда мама с папой развелись, мы больше не могли позволить себе жить в доме возле бабули и дедули. Нам пришлось переехать в квартиру, потому что папа перестал давать маме деньги.
Джош как раз кладет какие-то бумаги в кремового цвета папку, но его руки замирают, как замирает кошка, когда видит жертву, на которую собирается напасть. Он выглядит таким напряженным, что мне кажется, будто в тех бумагах удалось-таки спрятаться мыши, и я выглядываю со своего места рядом со стулом Роберта, чтобы убедиться, что не пропустила угрозу.
— Кто сказал тебе такое о твоем отце? — негромко спрашивает Джош у Эбби.
Детеныши переглядываются. Потом девочка отвечает:
— Иногда мы слышим, как мама говорит по телефону, хотя она и закрывает дверь в свою комнату. — Глаза у Роберта расширяются и округляются, как будто он испугался того, что сказала Эбби. — Мы не подслушиваем, — быстро добавляет та. — Просто иногда мама слишком громко говорит.
Глаза Джоша становятся грустными и еще злыми. Но голос его остается добрым, когда он отвечает племяннице:
— Вам с Робертом повезло, что маме удалось найти хорошую работу, что у вас есть бабуля и дедуля, и тетя Лаура и я в помощь. Вам больше не придется никуда переезжать. Но у людей, которые живут в этом доме, так мало денег, что они не смогут найти себе достойное жилье, если будут вынуждены переехать. А ведь они так давно живут в своих квартирах. Некоторые поселились там еще до моего рождения. — Глаза у Эбби и Роберта стали еще больше, как будто они даже представить не могли, что возможно так долго жить.
— А у тех людей, что там живут, есть такие кошки, как Пруденс? — хотелось знать Роберту.
— У некоторых есть, — улыбнулся Джош. — Они боятся, что, если придется переезжать, им не удастся найти новое жилье, где разрешили бы держать кошку.
Ничего себе! Только представьте! Какие безумцы не захотели бы держать кошек в многоквартирном доме? А кто будет защищать их от мышей и крыс? Разве найдется собака, способная справляться с этой работой так же аккуратно и ловко, как кошка? Я думала, что слышала и видела уже все людские нелепицы, но сейчас убеждаюсь, что человеческой глупости предела нет.
В следующий визит детенышей из Нью-Джерси на машине к нам на обед приезжает отец Джоша. Я бросаюсь наверх — вздремнуть на кошачьей кровати в Домашнем кабинете, но, когда слышу, что все возвращаются туда, спрыгиваю вниз и сворачиваюсь клубочком под письменным столом Джоша, пытаясь сделать вид, что там все время и спала. К тому времени, как они поднимаются наверх, я уже вылизываю свою правую переднюю лапу, потом неспешно вымываю ею мордочку, чтобы убедиться, что мне удалось полностью их одурачить.
— Ничего себе! — выдыхает отец Джоша, устраиваясь на одном из стульев, где обычно сидят Эбби или Роберт. Его лицо бледнее, чем было в минувший раз, на лбу выступили капли пота. — Переносить жару здесь, в городе, намного тяжелее, чем у нас. Старику в жару тяжело.
— Пап, ты как себя чувствуешь? — в голосе Джоша звучит тревога. — Принести воды?
— Я в порядке, в порядке. — Его отец машет рукой перед лицом. — Не рассказывай маме, что у меня закружилась голова, — решительно добавляет он. — Она очень волнуется за мое сердце. Мне семьдесят пять лет, а она до сих пор думает, что я не могу о себе позаботиться.
— Я принесу тебе водички, дедуля, — предлагает Эбби. — Мы с Робертом тоже хотим пить.
Оба выбегают из комнаты (похоже, детеныши вообще не умеют ходить). Я слышу топот их лап по лестнице.
— Ну… расскажи мне о том, чем ты сейчас занимаешься, — просит отец Джоша. — Дети только об этом и говорят.
— Я лишь выполняю малую толику. — Впервые Джош, кажется, стыдится говорить о своей работе. — Есть организации, которые занимаются исключительно сохранением домов Митчелла—Лама. Я просто помогаю чем могу.
— Покажи, — велит отец. — Мне интересно.
— Ну… — Джош собирает несколько листов бумаги, которые обычно дает Эбби и Роберту для раскладки по конвертам. — Я пишу пресс-релизы и рассылаю журналистам и на различные интернет-сайты, чтобы все знали, что происходит. Еще я переговорил с жильцами дома, собрал их воспоминания. Сейчас я их подробно записываю и свожу вместе, иллюстрирую старыми фотографиями, которыми меня снабдили. Мне кажется, если представить это дело с такой стороны — возможно, что-то и получится.
Он протягивает бумаги отцу, и тот начинает их неспешно перелистывать.
— Еще я собираю воедино историю студии звукозаписи, которая располагается в полуподвальном этаже здания. За годы существования она стала по-настоящему важной достопримечательностью района. Я пытаюсь помочь им переоформить студию как некоммерческую организацию, чтобы у них появился законный статус, если мы сможем добиться слушания в суде.
Джош направляется в мою комнату, возвращается со стопкой черных дисков. За ними следует слабый запах Сары. На меня внезапно накатывают, как живые, воспоминания о Саре в нашей старой квартире: она стоит в длинном, тонком сарафане перед полками, где хранит свои диски, и говорит: «Сегодня, похоже, у меня настроение послушать Бетти Райт. Как думаешь, Пруденс?» Но так же быстро, как нахлынуло, воспоминание исчезает туда, где я не могу его достать.
— Если посмотреть на выходные данные, — Джош протягивает диски отцу и указывает на крошечные буквы на картонных обложках, — видишь, как много больших альбомов было выпущено на этой студии. Поэтому я все скрупулезно выписываю, прилагаю снимки некоторых групп. Отправляю редакторам моего старого журнала и некоторым нашим… то есть их конкурентам. Еще я создал посвященный этому дому веб-сайт и страничку в «Фейсбуке», и мы побуждаем жителей района и собственников близлежащих семейных лавочек, которым, в конечном счете, будут грозить те же проблемы, делиться собственными историями и воспоминаниями. Мы собираем все ходатайства, присланные по электронной почте. Пока собрали пять тысяч подписей.
— Некоторые из этих снимков переносят меня в прошлое, — признается отец Джоша. — Мы с мамой купили дом, в котором вырастили вас с сестрой, приблизительно в то же время, когда возвели этот.
— Возможно, — Джош улыбается. — Остались люди, которые живут там еще с шестидесятых.
Его отец прикрывает глаза.
— Если человек больше пятидесяти лет живет на одном и том же месте, — говорит он, — где выросли его дети, он не захочет покидать этот дом, разве что вперед ногами.
— Я бы не захотел, — негромко говорит Джош.
Его отец открывает глаза.
— Ты много труда вложил в это дело. Должно быть, уйма времени ушла на то, чтобы со всеми переговорить, все записать, провести расследование.
Лицо Джоша немного розовеет.
— Что-что, а время у меня есть.
Его отец вздыхает, потом кладет бумаги и фотографии на маленький столик.
— Никогда, если честно, не понимал, чем ты занимаешься. Я видел, что это приносит тебе деньги, но мне твоя работа казалась какой-то ненастоящей. А вот это дело я понимаю. Помогать людям, которые хотят сохранить свои дома, — это я понимаю. И вся эта работа, которую ты делаешь… — он жестом указывает на бумаги, — на это можно в конце дня посмотреть, к этому можно прикоснуться, подержать в руках. Я уверен, что все эти люди, которым ты звонишь, сейчас думают о тебе по-другому, потому что ты обращаешься к ним не в поисках работы, а выполняя свою работу.
— Хорошо бы так, — улыбка Джоша выходит несколько кривой.
— Можешь мне поверить, — заверяет его отец. — Люди всегда уважают тех, кто усердно трудится и экономит деньги.
— Сложно экономить, когда ничего не зарабатываешь.
— Деньги будут. — Голос Эйба звучит твердо. — Знаешь, для нас с мамой жизнь не всегда была легкой. Ей пришлось встать за прилавок ювелирного магазина, чтобы мы смогли послать тебя и твою сестру учиться в колледж. Но мы тяжело работали, и так или иначе деньги появлялись.
Эбби с Робертом вбегают в кабинет со стаканом воды для деда. Когда он отпивает немного, Роберт говорит:
— Дядя Джош, а где Пруденс?
— Кажется, она прячется под столом, — говорит Джош, наклоняясь, чтобы проверить. Он скашивает глаза и встречается со мной взглядом. — Пруденс, не соблаговолишь ли ты выйти и поздороваться с моим отцом?
Если честно, я не хочу. Но Джош (наконец-то!) пытается познакомить нас должным образом, и, если я не выйду, это будет считаться признаком дурного воспитания.
— Что ж, здравствуй, Пруденс. — Отец Джоша неловко гладит меня по голове, и я облегченно вздыхаю, когда понимаю, что этим он и намерен ограничиться. — Помнишь Сэмми? — спрашивает он у Джоша. — Вы с Эрикой с ума сходили от этого пса. Он мог целыми днями гонять кошек.
Я продолжаю стоять на месте, позволяя старику гладить меня по голове, несмотря на то что он начинает нравиться мне значительно меньше, когда упоминает одну из этих никчемных зверушек, которые не придумывают ничего умнее, чем гонять кошек ради забавы. Отец Джоша явно не знает о кошках столько, сколько я знаю о людях, потому что произносит: — Кажется, Пруденс любит своего дедулю.
Джош громко смеется.
— Значит, Пруденс теперь твоя внучка?
— Она — самое живое, что вы с Лаурой подарили мне… пока. — Голос старика опять звучит сурово.
Улыбка Джоша меркнет.
— Мы работаем над этим, папа.
— Может быть, я и старик, — говорит отец Джошу, — но хорошо помню: если относишься к этому как к работе, значит, отношение у тебя неправильное.
После отъезда отца Джош пребывает в хорошем настроении. Он ходит по квартире, что-то напевая себе под нос и щелкая пальцами. Он заходит в Домашний кабинет и какое-то время барабанит по кошачьей кровати, но я вижу, что в нем кипит энергия, не давая долго усидеть на месте. Очень скоро я слышу звуки, которые говорят о том, что в кабинете передвигают тяжелые вещи, а потом в мою комнату входит Джош с большой стопкой черных дисков. Я по запаху чувствую, что они никогда не принадлежали Саре. Должно быть, у него больше черных дисков, чем я предполагала, и все это время они жили в глубине шкафа в его кабинете.
Джош садится, скрестив ноги, и начинает раскладывать их на полу, сортируя таким образом, который имеет для него смысл, хотя я не понимаю, в чем он заключается. Я запрыгиваю на одну из коробок Сары, чтобы не путаться у него под ногами, и вскоре уже весь пол пестреет обложками черных дисков. Джош присаживается к коробкам с дисками Сары и начинает доставать и тоже раскладывать их на полу, изучая значки на каждом из них, а потом решая, куда их положить.
Иногда так поступала и Сара: доставала все свои черные диски и раскладывала их на полу. Она всегда придумывала, как по-новому расставить их на полках — по году выпуска, или, как она называла, по «жанрам», или по «воздействию». Однажды, когда Сара раскладывала их при мне в последний раз, то сделала это, как она сказала, в алфавитном порядке. Я понимаю желание Джоша сделать то же самое со своими дисками, но начинаю нервничать, когда он так же поступает с сокровищами Сары без ее присмотра. Я осторожно выбираюсь из коробки, в которой пряталась, и пытаюсь ступать между картонными обложками, но ступать негде. Сара никогда бы не позволила мне наступить на свои черные диски! Обложки гладкие и скользкие под подушечками моих лапок, но я боюсь выпускать когти, чтобы лапки не разъезжались.
Пока я стараюсь найти проход, слышу, как домой возвращается Лаура.
— Джош! — зовет она.
— Наверху, — откликается он.
На деревянной лестнице раздается щелкающий звук туфель, которые Лаура носит на работу. Такое впечатление, что у нее лицо втянуто внутрь, когда она появляется в дверях моей комнаты и видит, чем занят Джош.
— И что все это означает? — негромко интересуется она.
— Не волнуйся, — отвечает ей Джош, поднимая голову и улыбаясь. — Я знаю, какие мои, а какие твоей мамы.
— Чем ты занимаешься? — вновь спрашивает она.
— Пытаюсь по виду определить, какие пластинки были записаны в «Альфавилль», на какие из них повлияли исполнители, работавшие с «Альфавилль», и какие использовали сессионные музыканты, когда записывали в этой студии другие альбомы. — Он отклоняется назад, усаживаясь на пятки, и любуется своей работой. — Впечатляющая история для разорившейся звукозаписывающей студии, что скажешь?
— Такое впечатление, что здесь магазин грампластинок, — тихо произносит Лаура.
По-моему, она с ним не совсем согласна, но Джош, должно быть, понимает жену, потому что опять улыбается в ответ.
— Знаешь, некоторые из этих пластинок стоят хороших денег.
— Возможно. — Лаура поджимает губы.
Джош снова поднимает голову и наконец замечает выражение ее лица.
— Я не говорю, что мы должны их продать. Прости, если ляпнул бестактность. Просто я сам не свой от волнения, когда смотрю на все это добро.
— А я и не знала. — Мне кажется, она не шутит, губы ее остаются поджатыми.
Джош решает сменить тему разговора, потому что произносит следующее:
— Сегодня заезжал папа. Мы сходили с детьми пообедать, а потом я показал ему все, чем занимаюсь. Больше всего его задела личная сторона всей этой истории — тронули люди, живущие в этом доме, которые теперь вынуждены срываться с насиженных мест. По-моему, я еще недостаточно поработал над этой стороной дела. И подумал, может быть, ты сможешь мне помочь?
— Я? — Лаура выглядит совершенно обескураженной. — Чем я-то могу помочь?
— Ты даже понятия не имеешь, — отвечает Джош, — насколько трогательной была в день нашего знакомства, когда рассказывала о доме, где выросла, о людях, с которыми там познакомилась. Знаю, вам всем пришлось переехать, когда дом был признан непригодным к эксплуатации. Ты лучше меня можешь понять чувства, которые одолевают сейчас этих людей.
Лицо Лауры еще больше съеживается. На кончиках туфель появляются маленькие бугорки. Когда она заговаривает, ее голос звучит забавно.
— И что ты хочешь услышать?
— Не знаю, — Джош пожимает плечами. — Как ты узнала, что вы должны съехать? Как к этому отнеслись твоя мама и соседи? Каково уезжать от своих друзей и людей, которых ты знала много лет? Воспоминания необязательно должны быть плохими, — негромко добавляет он. — Знаю, вы с Пруденс в последнее время пересматривали вещи твоей мамы. Они должны были оживить какие-то воспоминания.
Слушать рассказы Лауры о Саре стало моим любимым занятием. Запрыгиваю на ближайшую коробку, вежливо выпихиваю носом и лапами кое-что из содержимого. Это поможет Лауре начать рассказ. В полиэтиленовом пакете, который я вывалила на пол, лежат крошечные бело-голубые керамические чашки, которые называются «набор для саке». Анис привезла их для Сары из места под названием Япония. Сара хранила их в магазине грампластинок. Они со звоном катятся по разложенным на полу картонным обложкам. Пол сейчас такой разноцветный, что трудно разглядеть, куда закатились чашечки из сервиза.
— Видишь? — улыбается Джош. — Пруденс тоже считает, что это хорошая мысль. — Улыбка его становится задумчивой. — Ты часто видишь меня в кругу моей семьи. А я мало что знаю о том, как жили вы с мамой. Мне просто нравится слушать твои рассказы.
Они долго и пристально смотрят друг на друга. Потом Лаура говорит:
— Мне нужно переодеться. — Ее туфли цокают вниз по лестнице, а голос кричит нам: — Скажите, когда будете готовы ужинать!
Глава 12
Пруденс
В конце августа бывает несколько выходных подряд, и называется все это Днем труда. Людям для того, чтобы подсказать вещи, которые кошки и так знают, нужны выходные и календари. Лето заканчивается, когда в воздухе пахнет дымком, а сам он становится прохладнее. После Дня труда детеныши возвращаются в школу и потому перестают к нам приходить.
Приблизительно в это же время Лауру начинает тошнить по утрам. А последние две недели ее тошнит каждое утро. Иногда у меня тоже случаются расстройства желудка (и я всегда пытаюсь скрыть происшедшее в труднодоступном месте, потому что мне стыдно, когда людям приходится за мной убирать), но Лауру желудок подводит каждый божий день. После того как Джош спускается вниз сделать кофе, Лауру рвет в унитаз в ванной — я слышу это из-под двери. Потом она умывается, чистит зубы, и мы вдвоем спускаемся на кухню, чтобы она покормила меня. Когда она открывает банки с моей едой, у нее порой такое выражение лица, как будто ее вот-вот опять вырвет. Даже пахнет она по-другому — сильнее и более сладко, с тех пор как ее начало тошнить, в общем, уже три недели.
Однако мне кажется, что Джош понятия не имеет о том, насколько ей плохо, а если бы знал, уверена, настоял бы на том, чтобы она отправилась в человеческий вариант Ужасного места. Наверное, Лаура, так же, как и я, терпеть не может Ужасное место и поэтому ничего мужу не говорит.
И все же я жалею, что Джош не замечает этого, потому что от недомогания у нее портится настроение. С того вечера, как Джош разложил на полу моей комнаты все черные диски, Лаура, похоже, утратила интерес к визитам сюда. И я продолжаю придумывать, как подтолкнуть ее к тому, чтобы она снова пришла и порылась со мной в вещах Сары. Например, сегодня утром. Я нахожу одну из обувных коробок со спичечными коробкáми и выталкиваю ее из большой коричневой, чтобы мы с Лаурой могли их пересмотреть и она рассказала мне о Саре. Как только из большой коробки высыпается несколько спичечных коробков, я начинаю играть с ними — и вот уже они разбросаны по всему полу, а некоторые забились под большие коробки. Но я абсолютно уверена, что, когда Лаура увидит, как это весело — гонять по комнате эти штучки, она сразу захочет ко мне присоединиться.
Однако происходит по-другому. Лаура быстро проходит мимо моей комнаты, но, когда видит разбросанные по полу спичечные коробки, останавливается. Я с надеждой подталкиваю парочку в ее направлении, но по ее решительным тяжелым шагам понимаю, что она злится.
— Нет! — кричит она. — Нет, Пруденс! Перестань вываливать вещи из коробок! Почему ты просто не можешь оставить их в покое? — Она забрасывает мои игрушки на место, а потом начинает подходить ко всем коробкам и по очереди закрывать их. Потом Лаура ставит их друг на друга, пока не образовываются две большие стопки, настолько высокие, что я не могу допрыгнуть до вершины. Она даже запыхалась от усилия, на лбу выступили капли пота. Что плохого я сделала? Почему Лаура накричала на меня и сложила все наши с Сарой старые вещи туда, где я даже не могу их достать? Как же я заставлю Сару вернуться и остаться со мной навсегда, если мне не с чем ее вспоминать?
Я вытягиваю передние лапы, выпускаю когти и царапаю пол, оставляя злые длинные полосы на темном дереве, о котором так печется Лаура. Я уж было подумала, что мы с ней сблизились и я стала почти частью семьи, которую создали они с Джошем. Вот что я получаю за свою забывчивость. Я действительно забыла, что я здесь чужая и моим единственным Самым Главным Человеком остается Сара.
Джош уже давно не готовил для Лауры яичницу, но сегодня утром — годовщина их свадьбы, и я чувствую аромат омлета. Еще я чувствую запах жареного бекона и апельсинового сока — всего того, что Лаура так любит есть по утрам в воскресенье.
Но когда она приближается к кухне и тоже чувствует запах жареного омлета, ей тут же приходится повернуть назад и бежать наверх. Джош насвистывает себе под нос, пока готовит, поэтому, мне кажется, ничего не замечает. Он раскладывает омлет по тарелкам, потом кладет немного в Миску Пруденс и ставит ее на пол. Когда Лаура возвращается на кухню и садится за стол, ее лицо выглядит бледнее обычного.
Джош уже давно все приготовил, он подходит к жене с тарелкой омлета и беконом.
— С годовщиной! — поздравляет Джош и целует ее в губы.
— С годовщиной! — отвечает Лаура и улыбается, отчего ее лицо кажется еще бледнее. Она ковыряет вилкой в омлете.
— Ты хорошо себя чувствуешь? — спрашивает Джош. На его лбу пролегает тревожная морщинка.
Лаура вновь пытается выдавить улыбку.
— Со мной все в порядке, — успокаивает она. — Наверное, просто есть не хочу.
— Надеюсь, к вечеру у тебя аппетит разыграется. Ресторан заказан на восемь, поэтому, если задержишься на работе, мы сможем встретиться прямо там.
— Я подумала… — Скрипучий звук, который производит Лаура, царапая вилкой по тарелке, слишком высок для человеческого уха, но мое левое ухо от этого мучительного скрипа складывается почти пополам. — «Дель Посто» для нас сейчас немного… не по карману. Может быть, стоит отменить мероприятие?
— Хорошо, — медленно произносит Джош. Его голос звучит озадаченно. — Ты хотела пойти в другое место?
— Не знаю. — Она сглатывает пару раз. Наверное, от запаха омлета ее опять тошнит. — Мы могли бы обсудить это позже?
— Как хочешь, — отвечает он. Лаура сидит, опустив взгляд в тарелку, а Джош не сводит глаз с ее лица, как будто впервые заметил, что с ней что-то не так. Оба молчат, пока Джош не произносит: — Слушай, я тут хотел спросить тебя об Анис Пирс. Ты не могла бы с ней связаться?
Лаура поднимает удивленный взгляд.
— Анис Пирс? Зачем мне связываться с Анис Пирс?
— Она записала пару альбомов на студии «Альфавилль». Мы собрали десять тысяч подписей под петицией, я привлек нескольких журналистов. Подумал, если на сцену выйдет личность ее масштаба, наш успех закрепится.
— Я не хочу звонить Анис. — Лаура берет с коленей сложенную бумажную салфетку и бросает ее на нетронутую тарелку с омлетом. Я уже вижу, что она намерена выплеснуть свое плохое настроение на Джоша, как недавно выплеснула на меня, и думаю, что Джошу повезло больше, чем мне, потому что он может ей ответить.
Он опять выглядит смущенным.
— Я считаю, что нам это на самом деле поможет, если…
— Я уже сказала тебе, что не хочу, — перебивает его Лаура. — По-моему, сейчас тебя дом на Авеню «А» должен волновать в последнюю очередь. Нам нужно о другом волноваться.
— О чем это? На что ты намекаешь?
— Если хочешь волноваться о тех, кому скоро будет негде жить, — говорит она ему, — может, стоит побеспокоиться и о том, где нам жить, когда на следующей неделе у тебя закончатся деньги от выходного пособия и мы больше не сможем оплачивать эту квартиру.
Теперь уже мой желудок расстроен — такое впечатление, что внутри все сжалось в комок. Нам придется покинуть эту квартиру? Как такое возможно? Почему меня никто не предупредил о том, что такое может случиться? Если Сара не будет знать, где отыскать Лауру, как же она узнает, где найти меня?
— Да перестань ты, Лаура! — восклицает Джош. — Я знаю, что мы потеряли часть наших сбережений, но до потери этой квартиры нам еще далеко.
— Это ты, Джош, перестань! — Лаура повышает голос. — Я отказываюсь быть единственной, кого заботит работа. Ты когда-нибудь задумывался о том, что произойдет, если я неожиданно потеряю свое место? Ты хотя бы представляешь себе, как плохи дела в конторе в последнее время?
— А откуда же мне, черт побери, знать?! — Джош тоже повышает голос. — Ты же не рассказываешь мне, как у тебя дела. Ты вообще со мной не разговариваешь. Несколько месяцев я изо всех сил пытаюсь вызвать тебя на откровенность — о твоей матери, о работе, хотя бы о чем-нибудь, но ты только закрываешься от меня. Я что, умею читать мысли?
— Я и не подозревала, что нужно уметь читать мысли, чтобы сложить два и два, — отвечает Лаура. В ее голосе звучит даже больше злости, чем в те моменты, когда она злилась на Сару. — Я и не подозревала, что нужно уметь читать мысли, чтобы прибавить ноль долларов, которые ты будешь зарабатывать, к нашему ежемесячному бюджету и в итоге получить ноль долларов арендной платы! — Теперь Лаура уже кричит. Она встает и так сильно хлопает о кухонный стол стулом, что он отскакивает рикошетом и падает на бок. Громкий звук и крики сильно пугают меня, я прячусь под диван. Я продолжаю видеть и слышать Лауру и Джоша, но здесь чувствую себя в большей безопасности, хотя шерсть у меня на спине подергивается все быстрее. Лаура смеется, но смех этот совершенно не похож на тот смех, которым заливаются люди, когда им смешно. — И по-настоящему удивительное во всей этой ситуации то, что лично я никогда не хотела снимать такую большую и дорогую квартиру!
— Хватит с меня твоих дурацких подсчетов! — орет Джош. — Мы вместе выбирали эту квартиру. Мы несколько недель искали место, где могли бы свить семейное гнездышко. Ты ни разу не возразила, но сейчас тебя воротит всякий раз, когда поднимается тема детей. Может быть, я и не умею читать мысли, может быть, не могу сложить два плюс два, но я же не слепой, Лаура.
— Как мы можем даже думать о детях, если у нас нет денег!
— Когда ты забеременела первый раз, ты была такой взволнованной, трепетной. — Сейчас его голос звучит неприятно. — На твоем лице были написаны неприкрытая радость и абсолютное счастье. По-твоему, я дурак?
— Не смешивай все в одну кучу! То было тогда, а это сейчас! Сейчас мы не можем заводить детей и при этом не волноваться о том, чем будем за все платить.
— Все! Довольно! — ревет Джош. — Ты все сводишь к деньгам! Хватит о деньгах! У нас есть деньги!
— Недостаточно! — кричит в ответ Лаура. — Ты понятия не имеешь, как это страшно, когда у тебя вообще нет денег! Ты понятия не имеешь, каково это, когда… — Внезапно Лаура перестает кричать. Замолкает.
— Когда что? — требует ответа Джош. — Когда что, Лаура? Что такого ужасного с тобой произошло, если ты даже говорить об этом боишься?
Лаура молчит. Когда она заговаривает вновь, ее голос звучит уже тише, но холодно.
— Случилось то, что мой муж начал больше заботиться о чужих людях и об игре в няню для своих племянников, чем о собственном будущем.
Голос Джоша тоже звучит тише, но от этого его слова кажутся еще более жестокими.
— Не тебе давать мне советы о том, как вести себя с родными. Ты бросила свою мать одну в той ужасной квартире, которую через силу посещала раз в месяц. Ты даже не взяла на работе выходной, когда умерла твоя мама. Подумай над этим, Лаура. И не рассказывай мне о семье.
Дыхание Лауры становится громким и тяжелым, как у меня, когда я балуюсь.
— Что, черт побери, ты об этом знаешь! — От ее крика вся шерсть у меня на спине встает дыбом, и, сколько бы я ни трясла ею, она все продолжает вздыматься. — Что ты знаешь обо мне, моей матери, вообще о жизни?! Ты, со своей нормальной, счастливой, идеальной семьей, где все поддерживают друг друга, помогают друг другу и просто безумно друг друга любят!
— Ты вообще слышишь, что говоришь? — Джош вновь заводится. — Вот, значит, как ты думаешь? Неужели ты считаешь, что идеальная семья существует? Иногда мой отец — лучший человек на земле, а иногда он злит меня до безумия, так, что хочется его задушить, но я не стану до конца своих дней винить его за все ошибки, совершенные им в этой жизни. — Я слышу, как туфли Джоша шлепают по кафельному полу кухни. — Как бы ужасно, по-твоему, ни поступила твоя мама, прости ее! Я практически слышу, как в твоей голове идет борьба, как будто она до сих пор жива, а тебе все еще четырнадцать. Лаура, твоя мать умерла! Пора уже вырасти!
Теперь я все понимаю — да, Джош сказал о том, что Лаура не брала на работе выходной. Сара умерла. Сара умерла, а мне никто не сказал. Сара умерла, и я больше никогда ее не увижу. Больше никогда она меня не накормит, не возьмет на руки, не погладит мою шерстку. Никогда, никогда, никогда, никогда. И сколько бы я ни сидела с ее коробками, сколько бы ни вспоминала, ничто мне Сару не вернет. Боль в груди оттого, что Сары больше нет, кольнула так неожиданно, что я не могу дышать. Я сворачиваюсь тугим клубочком под диваном, пытаясь удержать свое разрывающееся на куски сердце.
— Во-первых, я не так уж и скорблю! — кричит Лаура. — И до сих пор не могу простить. А что из этого следует?
— Прекратите ваши логические игры, госпожа адвокат. Я не твой клиент, и мы оба это знаем.
— Может быть, это тебе нужно повзрослеть! Перестань быть предводителем активистов и найди работу! Милосердие начинается с дома!
— А ты хотя бы представляешь, как сейчас трудно найти работу? — кричит Джош. — Ты хотя бы представляешь, каково это смотреть, как твоя профессия превращается в прах? Когда тебе изо дня в день повторяют, что единственное дело, которое ты знаешь, больше не существует? Когда тебе почти сорок? Разве тебе приходило в голову за все те пятнадцать часов в сутки, что тебя не бывает дома, задуматься о том, каково мне? Или твоя голова забита подсчетами, сколько зарабатываешь ты и сколько зарабатываю я?
— И кто это из нас запамятовал, Джош?! — орет Лаура в ответ. — Когда в последний раз я работала по пятнадцать часов?! А тебе не приходило в голову подумать о том, что происходит с моей работой?!
— Нет, мне твоя работа неинтересна! — Звук такой, как будто Джош бьет кулаком по столу. Я съеживаюсь под диваном в гостиной еще сильнее и думаю: «Пожалуйста, прекратите, пожалуйста, прекратите, пожалуйста, прекратите. Сара умерла. Мне тоже тяжело». — Равно как и ты, сидя целый день у себя в конторе, не задумываешься о том, как дела у меня. Знаешь, что меня удивляет? Удивляет то, что я ни разу не подумал сходить в ресторан, или встретиться-прогуляться с друзьями, или заговорить об отпуске. Удивляюсь, почему я каждый вечер сижу тут один. Вспоминаю день нашего знакомства — мы танцевали, разговаривали, веселились. А сколько у нас было таких вечеров! Когда мы в последний раз так проводили время? Мне кажется, не следует отмечать годовщину свадьбы, потому что очередной вечер дома выльется в такой скандал! Если бы ты хоть раз, вернувшись домой, предложила куда-нибудь сходить или чем-нибудь заняться — у меня бы удар случился. — Я слышу, как часто дышит Лаура, когда Джош произносит «случился удар». Когда он заговаривает вновь, голос его звучит тише: — Я знаю, как важно для тебя стать компаньоном. Но что происходит у нас здесь?
— Так нечестно. — В голосе Лауры слышны слезы. — Ты же знал, какая у меня ответственная работа. Ты же уверял, что трудолюбие нравится тебе во мне больше всего. А теперь, когда моя работа — единственный способ принести деньги в этот дом, ты думаешь по-другому. Как мы можем куда-то ходить и развлекаться, если у нас нет на это средств?
Голос Джоша сейчас звучит тише:
— Какой смысл иметь все деньги в мире, Лаура, если мы несчастны?
Когда вновь раздается голос Лауры, он звучит хрипло:
— Я и не подозревала, что делаю тебя несчастным, — говорит она.
— Лаура, я… — начинает Джош, но та не дает ему закончить.
— Мне пора, — перебивает она. — Мне пора на работу, пока она еще у меня есть. — Лаура подходит к шкафу, я слышу, как она его открывает и достает свою сумочку и тяжелую наплечную сумку. Потом она выходит из квартиры и захлопывает за собой дверь.
После ухода Лауры в квартире воцаряется тишина. Единственные звуки, которые доносятся до меня, это шаги Джоша и дождь, барабанящий в окна. Джош ходит туда-сюда по кухне и гостиной, потом поднимается по лестнице, вновь спускается, опять поднимается. Слышу, как он открывает выдвижные ящики, со стуком закрывает их, один раз доносится такой звук, как будто он что-то ударил ногой. Постоянно слышно, как он повторяет себе под нос: «Черт! Черт!» Не думаю, что он ищет что-то определенное, когда ходит по комнатам и открывает ящики. По-моему, он пытается как-то унять тревогу. Еще бы ему не чувствовать тревогу — я сама еще никогда не чувствовала себя настолько расстроенной. Я не слышала, чтобы люди так кричали друга на друга с тех пор, как жила с братьями и сестрами на улице. Вдруг раздается звонок в дверь, слышу, как Джош открывает ее и коротко произносит: «Спасибо». Он заходит на кухню и что-то ставит на стол. Потом хватает зонтик из специальной подставки у входной двери, так, как будто злится на него, и выходит на улицу. В квартире опять воцаряется тишина.
Сара умерла. Сара никогда больше не вернется. Я больше никогда ее не увижу. Может, мы и были лишь соседями по квартире, но мы любили друг друга. Все это время Лаура рассказывала мне о Саре, как она могла не сказать мне об этом? И потом меня посещает еще более ужасная мысль. А если Лаура с Джошем больше не хотят быть семьей из-за всех сказанных друг другу злых слов? А если они больше не хотят жить вместе? А если никто из них не захочет жить и со мной тоже? Возможно, они любят меня не так, как любила меня Сара, но, если Сара на самом деле ушла навсегда, в целом мире не останется ни одного человека, который хоть немного тревожился бы о том, где я буду жить и что со мной будет.
Сейчас мне следует закончить свой завтрак, как я делаю каждый день. Если я буду поступать так, как поступаю обычно, Лаура с Джошем вернутся и вновь будут счастливы, как раньше. Только сейчас у меня это не очень получается. Болит в груди, а еще в животе. Дыра в моей груди оттого, что Сары здесь нет, переместилась в живот. И теперь у меня пустота в обоих местах.
Наконец новый запах, доносящийся из кухни, заставляет меня выползти из-под дивана. На столе в стеклянной вазе стоит букет цветов. На лепестках блестят маленькие дождевые капли, и пряный запах земли заполняет весь первый этаж нашей квартиры.
Я знаю, что это за цветы. Это те же цветы, которые держит Лаура на их с Джошем свадебном фото.
Запах цветов заставляет меня собраться. Я еще не успеваю принять решение, а уже сижу на столе рядом с вазой. Я помню, что Сара, когда мы жили вместе, держала для меня специальную кошачью траву. Когда у меня было расстройство желудка, как сейчас, кошачья трава помогала его успокоить.
Джош, должно быть, понял, как я расстроена, и поэтому человек за дверью принес мне цветов. Джош ведь знает, как я люблю есть то, что он оставляет на кухонном столе.
Поэтому я засовываю свою мордочку в середину букета и вдыхаю тонкий аромат цветов. Потом начинаю есть. Жую листья, стебли, мягкую часть самих цветков. Ем и ем, ем и жду, когда мой живот перестанет так сильно крутить, а поскольку моему животу лучше не становится, я ем еще…
…и по-прежнему ничего не чувствую, кроме Боли. Я чувствую Боль во всем теле. Мой желудок пучит и крутит — он хочет избавиться от Боли, но ничего не помогает. Меня рвет, я затаиваю дыхание, и меня снова рвет, но я все равно не могу избавиться от Боли. Хочется пить, я пытаюсь напиться из мисочки с водой, но Боль подступает к горлу и выталкивает всю воду из моего рта, как только я ее выпиваю. Становится смешно. Маленькие предметы кажутся слишком большими, далекие — становятся слишком близкими, лапы меня не держат, а рот не прекращает изрыгать воду. Я натыкаюсь на предметы, потому что ничего не вижу, а они меня дразнят, подкрадываются все ближе, пока я не смотрю… Я спотыкаюсь о собственные лапы. Но, несмотря на все происходящее, ничто не может прогнать Боль.
Я пытаюсь мяукнуть, чтобы позвать на помощь, чтобы меня кто-нибудь услышал, как в тот день, когда мы с Сарой познакомились. Но когда я открываю рот, меня опять рвет и еще больше кружится голова. Пытаюсь спрятаться в более прохладном углу комнаты, но лапы не держат. Я падаю раз, потом еще два, и понимаю, что ни на шаг не приблизилась к тому месту, куда пытаюсь попасть, потому что хожу кругами.
Когда я жила с Сарой и у меня расстраивался желудок, она гладила меня по голове и приговаривала: «Тихо-тихо, девочка. Не волнуйся. Все будет хорошо. Все будет просто отлично…»
Но ничего отлично уже не будет, потому что на помощь Боли спешит Темнота. Как будто тебе на голову натянули черный мешок. Только через пару секунд я замечаю, что тело становится легче, как будто я ничего не вешу. Чем ближе подкрадывается Темнота, тем дальше отступает Боль.
А потом происходит странное: Сара здесь! Я не вижу и не слышу ее, но чувствую ее присутствие в комнате, как негромкое жужжание телевизора, когда он работает при выключенном звуке. Сара… Но сейчас Темнота отступит, и я каким-то образом понимаю, что Сара тоже уйдет. Я стараюсь не открывать глаза, остаться внутри Темноты, где мы с Сарой найдем друг друга.
«Сара! — думаю я. — Не оставляй меня, Сара… Я знала, что ты за мной вернешься. Знала, что ты меня найдешь. Знала…»
А потом все погружается в Темноту и Тишину.
Часть третья
Глава 13
Сара
Весной 1994 года Лауре исполнилось четырнадцать, она пошла в девятый класс в школу Стайвесент в Бэттери-Парк-Сити. Впервые она каждый день самостоятельно пользовалась автобусом и метро. Раньше это меня бы испугало. Но к власти пришел мэр Джулиани и начал бороться с такими явлениями, как граффити, уличные преступления, проделки бездомных, которые подходят к окну твоей машины со скребком, пока ты стоишь на перекрестке. Он избавился от коррумпированных полицейских, которые много лет брали взятки и позволяли продавать наркотики прямо на улицах. Без сомнения, и Нью-Йорк в целом, и Нижний Ист-Сайд в частности, с каждым днем становились все чище и безопаснее.
В Нижнем Ист-Сайде, впрочем, по этому поводу царили противоречивые настроения. Конечно, преступников никто не любил, но своими граффити мы гордились. Такие люди, как Кортес и Кейт Харинг, считались признанными художниками, которые занимались законным видом живописи. Находились те, кто ворчал, что Джулиани — фашист. Я бы ответила так: «Может, и фашист, но знаете что? Наркоторговцы тоже фашисты. Теперь ничто не грозит моей дочери и ее подружкам, когда они идут по улицам. Никто не указывает ей, на каком углу стоять, а на каком не задерживаться».
«Качество жизни» — называлась кампания Джулиани. Вначале мы все думали, что это пойдет нам исключительно на пользу. Но в конечном счете мы осознали, насколько «расплывчатым» является выражение «качество жизни». Ведь трактовать его можно как угодно.
Позже, когда пыль улеглась, адвокаты и журналисты пытались воссоздать хронологию того, что произошло 3 июня 1995 года. Нам удалось выяснить некоторые факты — все началось со звонка одного встревоженного жителя, который набрал «911» и сообщил, что с заднего фасада нашего дома отвалилось несколько кирпичей. Никто не спорил, что владельцы наших домов несколько лет отмахивались от необходимого ремонта. Маргарита Лопес, член городского совета от нашего округа, позже поставила власти в известность о девяноста восьми нарушениях: класса Б (достаточно серьезных, чтобы начать судебное разбирательство) и класса В (должны быть ликвидированы в течение двадцати четырех часов). Мы, жители дома, сплотились, выбрали представителей, подали властям официальную жалобу. Но власти для нас ничего не сделали. Все жильцы — в основном старики, иммигранты или просто бедняки. Мы работали. Ежемесячно платили аренду и ежегодно — налоги. Но долго не протянули.
Нам предлагали деньги, адвокаты настаивали. Кто-то должен был заплатить за случившееся. Я поприсутствовала на нескольких собраниях, но сердце к этому не лежало. Разве можно что-то изменить? И в итоге мы остались ни с чем, или почти ни с чем. Я не удивилась и даже не расстроилась. К тому времени уже все сломались. Мы были развалившейся группкой Шалтай-Болтаев, и не хватило бы никакой конницы, никакой королевской рати во всем Нью-Йорке, чтобы собрать нас воедино снова.
Субботнее утро. Лаура порывисто носится по квартире в ночнушке с рисунком, на котором изображена девочка, стоящая у окна многоквартирного дома, очень похожего на наш. Эта девочка выбросила в окно часы. «Джейн хотела посмотреть, как летит время», — гласила надпись. Несмотря на то что за последний год Лаура очень вытянулась, рубашку она носила детскую. Я с трудом узнавала в этом подростке свою дочь. Я в ее возрасте никогда не надела бы такую ночную рубашку. Я тогда уже пыталась быть взрослее. Всего через пять месяцев Лауре исполнится пятнадцать. Мне было пятнадцать, когда я познакомилась с Анис. Случайная встреча целую вечность назад, в комиссионном магазине, куда я даже не собиралась заходить. И почему-то с того самого дня события стали развиваться одно за другим, и я оказалась здесь. У меня дочь-подросток и эта квартира.
В «Ушной сере» до обеда мне делать нечего. Тем не менее я встала рано, потому что рано проснулась Лаура. Я пою на кухне, пока жарю тосты и насыпаю хлопья для нас обеих. Лаура ждет, когда из старинной тесной синагоги через два дома от нашего вернется мистер Мандельбаум. Последние пятьдесят лет он каждую субботу ходит туда молиться. Однако сегодня все по-другому. Сегодня шавуот, праздник, который знаменует тот день, когда Бог даровал еврейскому народу Тору. Изкор — еврейская поминальная молитва — повторяется за год четыре раза. Один из них приходится на шавуот, и мистер Мандельбаум произносил сегодня изкор за любимую супругу, которая умерла во сне прошлой зимой.
С тех пор мистер Мандельбаум очень изменился. Он шарил взглядом по комнате, а не смотрел в лицо собеседника во время разговора. Голос, который раньше гремел в коридорах и был слышен даже у нас в квартире, ослаб до шепота. Он забывал вовремя принимать лекарства. Казалось, даже Хани почувствовала разницу. Они всегда были близки, она всегда была «его» кошкой — его и Лауры, — но сейчас она буквально не отходила от него. Когда бы мы ни заглянули к нему, Хани сидела у него на коленях или рядом на подлокотнике кресла. В ее нежных глазах читалась тревога, когда она следила за малейшим движением хозяина. Если бы Хани не нуждалась в индейке из магазинчика на углу, которую она так любила, мистер Мандельбаум вообще не ходил бы в магазин.
Мы с Лаурой старались проводить с ним как можно больше времени. Но, учитывая то, что нужно было ходить на работу и в школу, свободного времени оставалось немного, и слишком долго мистер Мандельбаум сидел в одиночестве в квартире, наполненной фотографиями жены и сына, которых он потерял. Слишком много времени единственным его собеседником была кошка. Книга, которую читала миссис Мандельбаум перед сном в ту ночь, когда умерла, так и лежала лицом вниз на кофейном столике, где она ее оставила, прежде чем лечь спать. Лаура только вчера к нему заглядывала, сердце разрывалось от скорби при взгляде на пустую кухню, где Ида каждый год готовила на праздник блинчики с сыром. Сегодня Лаура решила вывести мистера Мандельбаума на прогулку, возможно, угостить блинчиками «У Катца». Что угодно, лишь бы не пришлось ему остаток дня просидеть одному в квартире.
Но на улице лило как из ведра. Лаура всегда боялась выводить старика на улицу в такую погоду и теперь волновалась, не забыл ли он зонтик, когда утром отправлялся в синагогу. В последнее время он стал забывать такие вещи.
Часов в девять раздался стук в дверь. Уже одетая, Лаура, в надежде, что пришел мистер Мандельбаум, помчалась открывать. Я была в спальне, переодевалась. Услышала незнакомый голос, а затем высокий голосок дочери, в котором звучал вопрос.
— Мам! — крикнула она. — Можешь подойти?
Руки никак не могли справиться с пуговицами на рубашке.
— Иду, — отозвалась я.
Я застегнула ее не на ту пуговицу, и рубашку перекосило. У нашей двери стояли двое пожарных. Один из них, помоложе, казалось, заметил, что рубашка застегнута неправильно, но сдержался от замечания.
— В квартире еще кто-нибудь есть, мэм? — спросил он. Их желто-черные плащи блестели от дождя, и, помню, я еще подумала, что они натопчут грязными ботинками в коридоре.
— А в чем дело? — захотела я знать. — Что происходит?
— Мы эвакуируем жителей дома, — ответил второй мужчина. — Часть заднего фасада размыло дождем. Есть опасность, что обвалится все здание.
Я слышала его слова, но мой мозг отказывался поверить в услышанное.
— Не поняла… — произнесла я.
— Мы эвакуируем жителей дома, — терпеливо повторил пожарный постарше. — Существует опасность внезапного обвала здания, мэм.
— Боже мой! — Я чувствовала, как на шее запульсировала вена. В голове шумело, мысли подпрыгивали, как иголка граммофона, которая пытается попасть в нужный желобок. Неожиданно перед моим взором предстала невыносимая картина: моя дочь погибает под обломками дома, ее тело раздавлено грудой кирпичей и балок. Однако я понимаю, что нельзя поддаваться панике, нельзя позволять резкой боли, сжимающей грудь, диктовать мне, что делать. Необходимо на секунду отогнать видение. Нужно остановиться и подумать.
Невозможно ответить на этот вопрос абстрактно: что надо взять с собой, когда кто-то постучит в дверь и скажет, что твой дом и все, что в нем находится, через несколько минут может рухнуть. Невозможно ответить, когда время настает. Это всегда неожиданность, и человек не может ни о чем думать. Только позже вспоминаются такие вещи, как любимые пластинки или бабушкино обручальное кольцо, или металлическая коробка с личными сокровищами, которую ты хранишь на верхней полке шкафа. Если ты мать, твои первые мысли всегда об одном — как позаботиться о ребенке. Еда, одежда, крыша над головой… Деньги, страховка, чтобы обеспечить все перечисленное выше без всяких загвоздок. Поэтому, когда мои мысли перестали метаться, я подумала именно об этом. «Вели Лауре взять вещей на несколько дней, — говорил внутренний голос, — пока сама будешь собирать сумочку, найдешь телефонную книгу, страховые полисы».
— Быстро, — говорю я Лауре, слыша, как дождь барабанит в окна. — На верхней полке шкафа — чемодан. Сними его, мы…
— Нет времени, мэм, — перебивает пожарный помоложе. — Здание может рухнуть в любую секунду.
Лаура поднимает на меня глаза, в них читаются страх и замешательство, но еще доверие. Она ни на секунду не сомневается, что ее мама знает, как поступить.
Именно лицо Лауры подтолкнуло меня к решительным действиям.
— Обувай туфли, — велела я. — Поторапливайся! — Она молча побежала в спальню. Повернувшись к пожарным, я спрашиваю: — Действительно нет времени, чтобы собрать вещи?
— Мы скоро его починим, — заверяет меня один из них. — Через пару часов вы, вероятно, вернетесь. Эвакуация — мера предосторожности. Возьмите только то, что понадобится прямо сейчас.
Его слова немного ослабили комок паники в моей груди. Но видения с Лаурой, погребенной под обломками здания, слишком мучительны, чтобы прогнать их совсем.
— Мам, — говорит Лаура, поспешно шнуруя кроссовки, — а как же…
— Все будет хорошо. — Я стараюсь, чтобы голос мой звучал спокойно. — Сейчас нам нужно идти.
— Но…
— Немедленно, Лаура. Не обсуждается!
Дочь не привыкла к такому резкому обращению. Она бросает на меня удивленный взгляд, но заканчивает завязывать кроссовки уже быстрее.
Сегодня я чуть не смеюсь, вспоминая, как в тот день мы с Лаурой хватали ключи, кошельки, зонтики. Под мои крики («Поторапливайся! — велю я дочери и тяну ее за руку. — Бегом!») мы бросаемся вниз по лестнице, будто вокруг уже все рушится.
Выбежав на улицу, мы перевели дух. Большинство наших соседей уже были там. Мы перешептывались, бродя под дождем.
— Несколько кирпичей упало с тыльной стороны здания, — сказал мне один художник с первого этажа. — Из-за дождя. Кто-то вызвал «911». Они должны довольно быстро все починить.
Мысль утешала. Потом приехала полиция. Оцепила все желтой лентой и никого не пускала. Вена на моей шее вновь запульсировала. Все это из-за того, что упало несколько кирпичей? Начала собираться толпа — человек двадцать пять жителей нашего дома.
Лаура заметила мистера Мандельбаума в костюме тридцатилетней давности, который он надевал на похороны жены. Старик сжимал в руке небольшой полиэтиленовый пакет.
— Мы здесь! — позвала она его и помахала рукой. Мы с Лаурой наклонили наши зонты таким образом, чтобы все трое могли спрятаться от дождя, который отрывисто стучал по материи над нашими головами. Лицо Лауры, побледневшее и заострившееся, в присутствии мистера Мандельбаума разгладилось, пока она быстро объясняла, что происходит.
Старик скользнул взглядом по полицейским, которые как раз оцепляли здание. Заграждение поставили на углу, потом повели вокруг тыльной стороны здания по узкому переулку между нашим домом и соседним. И тут мистер Мандельбаум посмотрел вверх. Стена из красного кирпича на фоне плачущего неба казалась вполне прочной.
На мгновение я обрадовалась, заметив в его взгляде сосредоточенность, которой не было там уже несколько месяцев. Было приятно, даже при таких обстоятельствах, видеть, как в его взгляде зажглась жизнь. А потом я поняла, что мысль в его глазах вызвана не интересом к происходящему. А страхом.
— Хани, — произнес он.
Интересно поразмышлять на тему рождения слухов. Откуда толпа узнает о том, что каждый по отдельности объяснить не может? Когда это происходит? Когда наступает момент уверенности? И откуда мы черпаем эту уверенность?
Нам сообщили, что здание может рухнуть в любую секунду, но за два часа не упал ни один кирпич, не появилось ни одной видимой трещины. Они сказали, что «скоро» позволят нам вернуться, но и после обеда никому вернуться в квартиру не дали. Полицейские и представители Министерства чрезвычайных ситуаций свободно бродили вокруг и внутри здания, и, похоже, их нисколько не волновали те опасности, о которых нас предупреждали. Многие даже не побеспокоились о том, чтобы надеть каски. Люди перешептывались:
— Тебе это не кажется странным?
Среди нас, ожидающих под дождем развития событий, поползли слухи. Люди рассказывали о муниципальных домах, где жителей среди ночи вытаскивали из кроватей и, как тараканов, выгоняли на улицу. А сами здания сносили на следующее же утро, чтобы на их месте возвести новые дорогие кооперативные дома и рестораны. Бывали случаи, когда люди незаконно занимали квартиры, которые номинально принадлежали городу, потому что владельцы не в состоянии были оплатить налоги и сделать ремонт. Здания, о которых город забыл, становились наркопритонами. Жильцы домов отваживали наркодилеров и наркоманов, проводили электричество, чинили стены и крышу, садили сады — и дома, а иногда даже целые кварталы вновь оживали. И уже несколько месяцев спустя было видно играющих в мяч детей на улицах, где совсем недавно ни один ребенок не мог пройти спокойно. Но однажды приезжала полиция, выгоняла всех нелегалов, не позволяя им даже собрать вещи. Город «заявлял свои права» на здание и продавал его с большой выгодой.
Но те люди не такие, как мы. Нелегалы не имели официального договора, они платили за ночь или, может быть, за неделю. Юридически они не имели оснований проживать там, где проживали. У нас же были подписаны договора аренды на наши имена. Мы ежемесячно вносили арендную плату — имели такие же права, как и любой миллионер, снимающий жилье на Парк-Авеню. То, что произошло с нелегалами, не могло произойти с нами.
Возможно, все решилось, когда к нам подъехал в своем автомобиле представительского класса мэр Джулиани. К тому времени у дома собралась огромная толпа. Сперва собравшиеся радовались тому, что видят мэра, уверенно направляющегося в здание. Но он тоже не надел каску. Насколько же опасным может быть здание, если в него входит сам мэр?
Все опять начали перешептываться. Зачем приехал мэр? С чего бы это он озаботился нашей судьбой? Одним нашим маленьким домом. Может быть, это попытка заручиться в нашем квартале голосами тех, кто не поддержал его на прошлых выборах?
Но в таком случае… почему он избегает смотреть людям в глаза, почему даже не махнул на прощание — просто вышел из здания и вновь скрылся в машине?
Один из членов нашего сообщества, архитектор, ходил по кругу.
— Не волнуйтесь, — успокаивал он людей. — Я обошел здание и посмотрел на повреждения, о которых они говорили. Два, может быть, три кирпича, а толщина этой тыльной стены метра два с половиной. Это здание никак не может упасть.
Мало кого успокоили эти заверения. Я это заметила. А еще люди начали терять веру в то, что все происходящее сегодня — спасательная операция. Поднялся ветерок, я поежилась, теснее прижимая к себе Лауру.
Все события того дня я помню неясно. Возможно, просто не хочу вспоминать. А может, слишком многое из моих воспоминаний встало не на свои места. В любом случае лучше всего я помню то, что больше всего на свете хотела бы забыть. Остальное — фрагментарно.
Толпа вздыхала, волновалась. Дождь пошел сильнее, люди скучились под зонтами, стояли неподвижно, мокли, а потом дождь вроде затих… Лица вокруг мелькали, становились размытыми, как будто я стояла перед каруселью. Супружеская пара из Бенгала с четвертого этажа смешалась с толпой, их трое детей следовали за ними, как утята за уткой. Полька-швея, которая жила на одной лестничной площадке с нами, что-то бормотала себе под нос, ни к кому конкретно не обращаясь, о вещах, которые хранила у себя в гостиной.
— У меня в квартире осталось пять тысяч долларов, — сказала мне Консуэла Вердес, мать Марии-Елены. Двое младших из пятерых ее детей цеплялись за мать под гигантским цветастым зонтом — они все еще были в пижамах. На круглом лице женщины боролись гнев и страдание. — Мы с мужем всю жизнь работали, чтобы заработать эти деньги. Это все, что у нас есть. Мы не доверяем банкам. А сейчас эти… hijos de la gran puta[20], — она сплюнула на тротуар, — теперь они у нас все заберут. Вот увидишь.
Прошло еще несколько часов. Лужи стали глубже, превратились в небольшие ручейки. Они бежали у наших ног, унося танцующие в водоворотах листья к дренажным канавам. Меня мутило в такт движениям толпы, ее тревожным кругам. Внутри росло чувство чего-то неправильного, непоправимого. Прошло несколько часов с тех пор, как я съела утром пару тостов и горстку хлопьев. Кто-то сунул мне в руку бумажный стаканчик с горячим кофе. Мой желудок восстал от одной мысли о кофе, поэтому я осторожно поставила стаканчик на асфальт.
Ничто не указывало на то, что в нашем здании будут проводиться хоть какие-то работы. И почему нас заставляют ждать под дождем? Почему нам не разрешают войти и собрать вещи?
От продолжительного стояния затекли ноги. Я вяло поворачивала зонт в том направлении, откуда дул ветер. И все равно промокла до нитки. Я попыталась одной рукой заново застегнуть свою кривобокую рубашку, но она стала сидеть еще более криво. Сумочка оттянула мне правое плечо, поэтому я перевесила ее на левое. Вдруг пришло в голову, что я уже давно опоздала в магазин, и Ноэль будет волноваться обо мне. Но мысль тут же исчезла. Время от времени я считала, сколько человек в толпе имеют светлые волосы, сколько — рыжие, сколько — каштановые. Это просто, когда видишь макушки людей. Я оставалась в толпе, поэтому слышала все, что происходит, и приглядывала за Лаурой, которая стояла с мистером Мандельбаумом на противоположной стороне улицы.
Моя дочь не отходила от старика. Он сидел на перевернутом оранжевом ящике, и Лаура держала свой зонт над его головой, чтобы он не промок. Несколько часов она оберегала его — самая высокая женщина в толпе, не считая меня. Гладкая бледная рука Лауры на черной пластмассовой ручке зонта. Мистер Мандельбаум сжимал в руках полиэтиленовый пакет. Время от времени к ним подходила Мария-Елена. Я думаю, она пыталась убедить Лауру куда-то с ней пойти. Я видела это по ее жестикуляции. Но Лаура печально улыбалась и отрицательно качала головой, кивая на мистера Мандельбаума. Мария-Елена вновь исчезала в толпе.
Я нависла над заграждениями, со всех сторон подпираемая толпой. Жильцы из нашего дома продолжали подходить к желтой ленте, по другую сторону которой стояла полиция. Они умоляли, злились, спорили, рыдали. Те, кто не говорил по-английски или говорил плохо, привлекали в качестве переводчиков своих детей. Я тоже попыталась договориться с полицией. Напряжение обернулось болью в груди, но я заставила себя успокоиться. Годы работы за прилавком научили меня разговаривать с людьми спокойно, улыбаясь неразумным. У меня дочь, говорила я им. Ей нужна одежда. Нужны учебники. Целый день в дом входили и абсолютно невредимыми выходили люди. Если бы мне дали пару минут, всего пару минут…
— Мы вас впустим, — снова и снова повторяли полицейские. — Как только дом признают безопасным, мы тут же вас впустим. Не о чем волноваться.
Приблизительно каждые полчаса я провожала сквозь толпу к заграждениям мистера Мандельбаума. Я забирала его из-под опеки Лауры, как будто мы были родителями, передающими ребенка на попечение друг друга. Одной рукой я держала над его головой зонт, а другой обнимала его, чтобы никто не толкнул старика. Нельзя было допустить, чтобы он поскользнулся и упал. Мне приходилось напоминать себе не спешить, приноравливая свои длинные шаги к его шаркающей походке.
Весь облик мистера Мандельбаума молил непреклонных полицейских по ту сторону заграждения. Но они даже взглядом не удосуживались ему ответить.
— Прошу вас, — повторял старик. — Пожалуйста, позвольте мне забрать кошку. Она осталась в квартире одна. Пожалуйста, позвольте мне зайти.
Не один раз я пыталась вступиться за мистера Мандельбаума. Ходила вдоль заграждений, вглядывалась в незнакомые лица, пытаясь найти тех полицейских, с которыми еще не разговаривала.
— Он же старик, — говорила я. — Он принимает лекарства, ему необходимо их забрать.
Ничего. Никто не отвечал.
— Послушайте, — молила я, понижая голос до конфиденциального шепота. Как будто мы были союзниками, партнерами одной стороны в переговорах. — Жена этого человека умерла. Он прожил с ней пятьдесят лет. Эта кошка для него все. Просто позвольте ему забрать кошку. Она тоже живое существо. — Я часто повторяла эти слова, как будто они были волшебными. Неопровержимый аргумент. Живое существо. — Неужели никто не может вынести ему кошку? Я могла бы дать ключи. Я же вижу, что в дом постоянно входят люди…
Наконец один из полицейских закатил глаза.
— Дамочка, — раздраженно бросил он, — у нас есть дела поважнее, чем беспокойство о кошке какого-то старика.
Толпа продолжала увеличиваться. С течением времени в ней росло напряжение — члены городского совета, друзья, родственники, жители близлежащих многоквартирных домов пополнили наши ряды. Нас было уже человек двести, и по Стэнтон-стрит не могли проехать машины. В толпе началась давка. Шепот перерос в крики. Люди стали скандировать. Кто ими дирижировал? Как люди знали, что и когда кричать? «Дайте нам пятнадцать минут!» — как один взревела толпа, вздымая вверх кулаки. «Мистер Мориарти, прекратите этот балаган!» — это было обращением к заместителю начальника МЧС Джону Мориарти, который в тот день выехал сюда.
Я пыталась заставить Лауру уйти. В нескольких кварталах от нашего дома Красный крест организовал центр помощи — я хотела отослать ее туда.
— Нет, — ответила мне дочь. Одну руку она положила мистеру Мандельбауму на плечо. — Мы никуда не уйдем, пока не убедимся, что Хани в безопасности.
— Лаура…
— Нет! — в ее голосе звучали истеричные нотки. — Я никуда не пойду! Ты меня не заставишь!
«Ты меня не заставишь». Детский аргумент. Но мы с Лаурой никогда не спорили. Мы же с ней как два пальчика на одной руке.
В конечном итоге кто-то подошел ко мне с ходатайством. Кто-то с письменным показанием. Я подписала оба документа. Мне сказали, что документы готовятся и заверяются нотариусом в близлежащей средней школе. Нашли судью, который согласился, чтобы документы принесли ему на дом в субботу. Впервые за девять часов с той минуты, как всех эвакуировали из здания, я позволила себе почувствовать надежду.
Неожиданно рядом со мной оказалась Лаура. За руку она держала мистера Мандельбаума. Что она делает здесь, рядом с заграждением? Мне казалось… да я была уверена, что мы обе понимаем условия нашей негласной договоренности! Она должна была оставаться на безопасном расстоянии на той стороне улицы, рядом со стариком. Если он вновь захочет поговорить с полицейскими, я его сама подведу. Лауре незачем здесь находиться. Абсолютно незачем.
И все же она стояла здесь.
— Я прожил в этом доме пятьдесят лет, — говорил сейчас мистер Мандельбаум. В его голосе звучала уже не тихая просьба. Голос набрал силу, в нем слышалось волнение. — Все, что у меня есть, осталось в этой квартире, но мне плевать. Мне плевать! Позвольте забрать только кошку. Умоляю вас! — Он утер лицо мокрым рукавом пиджака.
Полицейские продолжали игнорировать его. Ведь он всего лишь старик. Ради него они и с места не сдвинутся. Они взглядами следили только за Лаурой, вверх-вниз: высокая, стройная, красивая девушка, в джинсах и красной футболке, которая из-за дождя прилипла к телу.
Я видела напряженное лицо дочери, слишком глубокую для девочки ее возраста морщинку между бровями. Видела, как она пытается сдержать слезы. Слезы из-за человека, которого она любит, из-за кошки, которую любит не меньше, чем этого старика. Ее слов я не слышала, но понимала, что она мягко и тихо добавляет просьбу и от себя.
Поднялся ветер. Его порывом распахнуло пиджак мистера Мандельбаума, еще сильнее натянуло на груди Лауры футболку. Полицейские опустили глаза. На их лицах вспыхнули мерзкие улыбки.
Внутри меня разжалась пружина. Я стиснула кулаки, сердце заколотилось так громко, что я слышала его биение собственными ушами. Мое тело затопила неприкрытая пронзительная ярость, и в первый момент ее практически невозможно было отличить от радости.
Толпа вновь пришла в волнение, на сей раз хаотичное. На меня стали сильно давить со всех сторон. Я изо всех сил боролась, чтобы не упасть. Меня посетила дикая мысль: я сама вызвала это волнение, моя ярость выплеснулась наружу и проникла в души окружающих меня людей.
Но, конечно, ко мне это не имело никакого отношения. На миг я отвлеклась, и в эту секунду глас толпы достиг единодушия, которое оставалось для меня загадкой.
Приехал кран.
Он прогрохотал по Клинтон-стрит. Чудовище с желтой шеей. Постепенно шея вытягивалась, пока не достигла уровня крыши. С конца ее свисал коричневато-серый хобот с рядом толстых металлических зубов, каждый — длиннее ноги человека. К нижней половине хобота крепилась плита. На нее падали куски, оторванные зубами.
На место прибыли большие металлические контейнеры и осветительные приборы. При такой мрачной погоде трудно было определить время суток, но я с изумлением поняла, что скоро начнет смеркаться. Послышался характерный звук включаемых и выключаемых машин. А потом — только размеренное гудение дизельного двигателя крана.
Чудовище раскрыло пасть и в ожидании зависло над крышей.
Толпа взвыла, всколыхнулась и бросилась на полицейские заграждения. Но в ее волнах, где-то на глубине, возникли подводные течения. Они были вызваны движением толпы, но не поддавались ее влиянию.
Пополз слух. Судья намерен наложить временный судебный запрет на проведение работ. Решение суда вот-вот подвезут! Эта весть молниеносно передавалась из уст в уста. Кто-то крикнул об этом Джону Мориарти из МЧС. Он достал мобильный телефон и сделал звонок. Кивнул несколько раз в ответ своему невидимому собеседнику. Потом нажал отбой и приказал по рации:
— Начинайте.
Шум двигателя утонул в новом звуке — громком непрекращающемся гуле. Люди кричали и всхлипывали. Я слышала детский плач. Казалось, впервые за день полиция изумилась силе толпы, которая пыталась прорваться через ограждения.
— Моя кошка! — воскликнул мистер Мандельбаум. Слезы ручьями текли по его морщинистому лицу. — Она же живое существо! Она в квартире! Пожалуйста! Она все, что у меня есть! — Он конвульсивно сжал свой пакет, падая на тротуар. — Она все, что у меня есть!
— Лаура! — закричала я, наклоняясь к нему. — Лаура, помоги мне! — Я подняла голову и запнулась.
Дочери рядом не было.
— Лаура? — я выпрямилась в полный рост, встала на цыпочки. Мы ведь с ней обе высокие. Даже в такой толпе я могла бы разглядеть ее макушку. Почему же я ее не вижу? Оставляю старика с Хьюго Верде, отцом Марии-Елены. Шепчу что-то одними губами, скосив глаза на мистера Мандельбаума. Хьюго кивает, нагибается, чтобы помочь старому соседу, который продолжает заливаться слезами, встать на подкашивающиеся ноги. Я врезаюсь в толпу, поворачиваюсь из стороны в сторону, пытаясь проскользнуть в узкие пространства между телами, отталкивая локтями стоящих на пути.
Я уже не ощущала себя отдельной личностью. Я была частью толпы, ее ужаса и безумия.
— Лаура! — звала я. — Лаура, ты где? Лаура, ответь мне! — Я вспомнила, как она убежала от меня на одной из уличных вечеринок, когда ей было всего три. В тот раз я ее нашла, но с того дня меня постоянно мучают кошмары. Такие, как этот. Лаура теряется в толпе, и я не могу ее найти. С ней может произойти все что угодно. А если она упала? А если толпа ее растопчет? — Лаура! — Резкая боль в груди становится черной панической пустотой. — Это мама! Ответь мне, черт побери!
Кран, сейчас уже обретший полную силу, качнулся назад, чтобы набрать ускорение, и нанес первый удар по крыше дома. Оглушающий лязг металла о кирпич эхом пронесся над головами собравшихся.
А потом в открытом окне третьего этажа мелькнула фигурка девочки. Белокожей девочки с длинными каштановыми волосами. В красной футболке. Небо стало черным. Все вокруг — девочку, дом, металлические контейнеры, ожидающие внизу, чтобы все поглотить, — залило слепящим светом фонарей. Они казались такими ненастоящими на фоне черного неба. Как будто во сне.
Девочка яростно размахивала руками.
— Подождите! — кричала она. — Подождите, я здесь!
— Лаура! — я бросилась через толпу, на этот раз настолько решительно, что попáдали стоявшие у меня на пути люди. Господи Всемогущий, а если я не успею вовремя добраться до заграждения? Кран уже замахивался, готовясь нанести очередной удар. Страшные челюсти разжались, озаренные искусственным белым светом.
— Остановите их! — кричала я. Все кричала и кричала. — Остановите их! Кто-нибудь! Остановите! — Но крик мой тонул в толпе. Наконец я добралась до заграждения и вцепилась в руку ближайшего полицейского. — В здании моя дочь!
Тот посмотрел на меня и что-то отрывисто бросил стоящему рядом коллеге, который, услышав новость, закатил глаза. Они попросили третьего товарища присмотреть за оцеплением, развернулись и побежали в здание. Сотрудник МЧС что-то пролаял в свою рацию, и кран замер.
Тонкие, как иголки, серебристые капли дождя пронизывали луч света от фонарей. Толпа, взбодрившись очередной остановкой крана, с удвоенным бешенством набросилась на полицейские заграждения. Мои пальцы непроизвольно сжимались и разжимались в такт безумной тревоге. Упало еще несколько капель, прошло несколько секунд, минут, вечность — и Лаура вновь оказалась в моих надежных руках.
В дверях показались полицейские, которые вели за собой упирающуюся девочку. Они надели на нее наручники — металл звенел на ее нежных запястьях. Сердце мое сжалось.
— Доченька! Доченька!
Когда они подошли к ограждению, один из полицейских расстегнул наручники и подтолкнул Лауру ко мне. Я споткнулась от неожиданности, когда ее тело неловко упало на меня. Руки автоматически обхватили дочь. Я гладила ее волосы, плечи. Чтобы убедиться, что ничего не сломано, что она не поранилась.
— Мы могли бы задержать ее за нарушение порядка, — сказал мне полицейский. — Приглядывайте за своей дочерью, договорились, мамаша?
Я плотно, до боли стиснула зубы.
— Руки прочь от моей дочери. — Я вытолкнула слова сквозь сцепленные зубы с невероятной силой — даже слюна потекла на подбородок. Полицейский взглянул на мое лицо и попятился.
— Мам, — захлебывалась Лаура, — мам, я нашла ее! Я нашла Хани! Эти полицейские напугали ее, она выпрыгнула у меня из рук, когда они пришли за мной. Она спряталась под кровать. Я знаю точно, где она сидит! Скажи им! Скажи, где она прячется, пусть пойдут и заберут ее!
Моя рука взлетела в воздух, ладонь раскрылась. И я наотмашь ударила Лауру по лицу. Громкий шлепок. От удара голова ее дернулась назад и в сторону. Она покачнулась, инстинктивно схватившись за рубашку стоящего позади человека, чтобы не упасть.
И без того бледная кожа Лауры стала белой. Белой как мел, за исключением красного следа в форме моей пятерни. Глаза ее расширились. На волосах скопились дождевые капли и сейчас стекали по щекам.
— Ты с ума сошла?! — завопила я. Хотя именно я выглядела как безумная. Но даже когда я кричала, даже когда первый и единственный раз в жизни ударила ее, даже тогда в глубине души я думала: «Моя девочка, доченька моя! Стоило ли жить для того, чтобы встретить такой день!» Я схватила ее за плечи и трясла до тех пор, пока у нее зубы не застучали. — Кошка?! — визжала я. — Ты жизнью рисковала, чтобы спасти кошку? Кому нужна эта кошка! Черт с ней, с этой глупой кошкой!
Я говорила не то. Конечно, я говорила не то. На самом деле я хотела сказать: «Да, мы любим кошек, но ты важнее любой кошки». Я хотела сказать: «Если ты любишь меня, больше никогда так не поступай. Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится». Но я этого не сказала. Тогда не сказала. Разве я могла? Разве я могла спокойно говорить, когда не хватало воздуха? Когда подо мной дрожали ноги? Когда сердце в груди колотилось так сильно, что боль отдавалась во всем теле.
Единственное, чего я хотела, — чтобы Лаура ушла. Каждая клеточка моего тела кричала о том, чтобы она ушла, убежала отсюда подальше, прочь, прочь, прочь. Прочь от жуткой машины с ее ненасытными металлическими челюстями, которые хотят убивать. Уже чуть не убили. Прочь от толпы, которая тоже сейчас жаждет крови.
Но Лаура никуда не собирается уходить. Она стоит с широко открытыми глазами, полными слез, и смотрит на меня так, будто не узнает. Не узнает меня. Абсолютное доверие, которое лучилось в ее глазах еще утром, исчезло. И я поняла, когда стояла там, что больше никогда его не увижу. Между нами что-то изменилось. Я это знала, но не понимала почему. Как могла моя дочь, моя плоть и кровь, разувериться во мне, когда я единственный человек — единственный человек из всей толпы, — который пытается ее защитить? Я чувствовала, что со мной вот-вот случится истерика. Схватив дочь за руку, я потащила ее к тому месту, где толпа редела. Увидела Хьюго Верде, который помогал своим детям и мистеру Мандельбауму сесть в автобус Красного креста. Позже я узнала, что автобус отвез людей из нашего дома в Куинс, в мотель, расположенный возле аэропорта Ла-Гуардия.
И вот рядом со мной уже стоит Ноэль.
— Я встревожился: ты не пришла сегодня и не отвечала на звонки. Пришел, как только закончил смену. — Он посмотрел на меня — мое лицо было перекошено, я тяжело дышала — и умолк. — Я могу чем-то помочь? — неуверенно предложил он.
Я схватила Лауру за плечо и с силой толкнула ее в сторону Ноэля.
— Забери ее, — стиснув зубы, попросила я. — Отведи к себе домой. Куда угодно. Только уведи ее отсюда.
Может быть, если бы Лаура заплакала, все осталось бы хорошо. Если бы она разревелась, если бы ее лицо стало мягче, конечно, я обняла бы ее. Заключила бы ее в объятия и прошептала: «Прости меня, прости меня, малышка. Я испугалась, вот и все. Я люблю тебя. Я так тебя люблю». И Лаура обняла бы меня в ответ, поплакала бы у меня на плече, а я бы утешила ее по мере сил.
Но Лаура не заплакала. Слезы в ее глазах высохли, так и не пролившись. Губы сжались в тонкую линию. Ноэль попытался обнять ее за плечи, но она встряхнула ими.
— Со мной все в порядке, — заявила она ему.
Ноэль окинул меня взглядом, который молил о снисходительности. «Дай ребенку время», — говорил этот взгляд.
— Пошли, — мягко сказал он девочке. — Все будет хорошо. Твоя мама останется здесь и удостоверится, что все в порядке. — Он положил руку ей между лопаток и, легонько подталкивая, повел прочь.
Я смотрела на их удаляющиеся спины. Когда они отошли на полквартала, Лаура обернулась и глянула на меня. «Я тебя ненавижу!» — прокричала она, вложив в эти слова все свои силы.
Лаура закрыла лицо руками, уткнулась Ноэлю в плечо. Тот обнял ее. И эти двое продолжили путь, пока не исчезли из виду.
Им понадобилось тринадцать часов, чтобы разорвать наш дом на части, кусок за куском, и сравнять его с землей. Целых тринадцать часов металлические челюсти крана вгрызались в дом и отрывали часть за частью. Здание так и не рухнуло. Те из нас, кто остался наблюдать за происходящим, кто жил в этом доме и знал его как свои пять пальцев, ничуть не удивились. Этот дом простоял бы еще сто лет.
Когда рушили стены, взору открывались внутренности жилых квартир. Из первого громадного, оторванного краном куска вылетела большая Библия. То была квартира семьи Вердес. Как-то Лаура рассказывала мне об этой Библии. На форзаце они написали имена всех членов семьи вплоть до четвертого колена.
В свете фонарей мебель выглядела нагой и уязвимой, как люди, которых застали за переодеванием. Ковры соскальзывали в щели, образовавшиеся в полу, увлекая за собой диваны и столы, пока все не накренилось и не стало раскачиваться под безумными углами, как в комнате смеха. Челюсти машины так сжимали кухонные шкафы, что их «рвало» овсяными хлопьями и столовым серебром, свадебными сервизами и пластмассовыми детскими мисками. Время от времени белый свет выхватывал из тьмы какое-то украшение или кусок битого стекла и неожиданно ослеплял меня. В какой-то момент в зубах крана застрял крошечный голубой свитер и провисел абсурдно долго, как будто кто-то неистово цеплялся за эту вещь, отчаянно пытаясь остановить кошмар. Только крану было наплевать, он продолжал свою работу всю ночь.
Я стояла и беспомощно наблюдала. И только когда монстр добрался до третьего этажа, где жил мистер Мандельбаум, я была вынуждена уйти. Я заверила себя, что голодна, ведь я не ела целый день. Направилась в закусочную на Первой авеню и два часа просидела там над чашкой кофе и бутербродом. Я откусила бутерброд, но следы от зубов слишком сильно напоминали дыры в нашем доме. Голова гудела, лицо пылало, я наклонилась, чтобы приложиться щекой к прохладной поверхности стола.
— Мисс, с вами все в порядке?
Подошел официант и навис надо мной, его лицо выражало тревогу.
— Я в порядке. — Голос прозвучал глухо. Я откашлялась. — У вас есть телефон?
— В глубине зала. Рядом с туалетом. — Он махнул в сторону кухни. — Вы уверены, что все хорошо?
Я нагнулась над бумажником, чтобы найти пару банкнот и мелочь для телефона, и волосы упали мне на лицо. Когда я подняла глаза, официант продолжал смотреть на меня с тревогой. Я слабо улыбнулась.
— Просто не так голодна, как думала.
Кто-то нацарапал на металлическом корпусе платного телефона «Чти Господа». Аппарат съел два четвертака, и только после третьего раздался гудок соединения. Ноэль снял трубку мгновенно.
— Как она? — спросила я.
— Спит, — ответил Ноэль. — Отрубилась сразу же, как только переоделась в сухое. Я хотел ее разбудить и заставить поесть, но решил, что сон для нее сейчас важнее.
— Спасибо, Ноэль. — Как бы я ни откашливалась, кажется, так и не смогла избавиться от хрипотцы. В моем голосе не было благодарности. Хотя я была очень благодарна. Да и сам голос не походил на мой собственный. — Утром я за ней зайду.
— А где ты будешь спать?
Я засмеялась — хриплым, лающим смехом.
— Нигде.
Делать мне там было нечего, но я все равно возвратилась на Стэнтон-стрит. Кран продолжал работать — добрался уже до второго этажа. Я видела, как его челюсти пронзают стены спальни Лауры, пожирая кукол и настольные игры, которые навсегда поселились у нее в шкафу, когда она выросла. Занавески, которые сшила ей миссис Мандельбаум. Обои, которые мы выбирали не один день, а потом несколько часов клеили в комнате, до этого оклеенной нотными листами. Все это кран сожрал и не подавился.
Несколько лет я ждала, что Лаура спросит меня о том дне. Я ждала, что дочь засыпет меня вопросами, но она так ничего и не спросила. Хотя я всегда думала, что, если бы она спросила, почему я вернулась, почему стояла там до самого утра в мокрой, мятой одежде, которую не снимала весь день, — такая практичная девочка, как Лаура, не получила бы вразумительного ответа. Я не смогла бы объяснить ей, почему осталась, почему должна была увидеть, как все — всю нашу общую жизнь — разрывают на куски. Почему-то я решила, что разрушению тоже нужен свидетель. Свидетель не в том смысле, в каком его употребляют адвокаты. Не совсем.
Я осталась по той же причине, по которой человек целую ночь просидел бы у кровати умирающего друга. Потому что этого требует дружба. Потому что никто не должен умирать в одиночестве.
Тот же автобус, который отвез людей в мотель у аэропорта, на следующее утро приволок всех назад. Полиция попыталась найти некоторые личные вещи в обломках разрушенного здания. Раскисшая от воды мебель, одежда, мокрые подушки, порванные фотографии, горшки с раздробленными растениями, старинная серебряная щетка для волос, метры спутанной пленки из видеокассеты, гитара с треснувшим грифом, скрученный провод от утюга, щетка для кошачьей шерсти, бесчисленные осколки фарфора, треснувшая памятная тарелка в честь свадьбы принца Чарльза и леди Дианы… Все добытые вещи полицейские складывали во влажную кучу на том месте, где еще вчера стоял наш дом.
Ноэль привел Лауру назад, когда я топталась в грязи, разглядывая все, что осталось, но я опять попросила увести ее. Не хотела, чтобы она это видела, чтобы видела, как я роюсь в куче разбитых вещей прямо на улице, как нищая на мусорке.
Мне понадобилось пять часов, чтобы найти ее. Опять пошел дождь. Мои руки были расцарапаны и кровоточили. Не знаю, то ли от пыли, то ли от душивших меня слез, но дышать было трудно, глаза слезились. Мои бывшие соседи — те, кто снизошел до того, чтобы так же ковыряться в грязи, — давно разошлись. К тому времени, как нашла то, что искала, я осталась одна. И сразу пошла за Лаурой.
В конечном итоге все жильцы нашего дома получили компенсацию за три дня, проведенных в мотеле, и подарочный сертификат на двести пятьдесят долларов, чтобы купить одежду в «Сирс», — спасибо Красному кресту. И все. Двести пятьдесят долларов за дом. Двести пятьдесят долларов за жизнь. Жильцы с детьми спрашивали: «Но куда мне вести ребенка? Куда мы пойдем?» Им отвечали, что они должны отправиться в одну из городских ночлежек, где могут оставаться сорок дней, пока их официально не признают бездомными и они не получат помощь от государства. Не думаю, что кто-нибудь согласился на это предложение. Не уверена. Я больше не видела большинство из них, только мистера Мандельбаума — и когда я его нашла, то сразу поняла, что он ни у кого помощи не примет.
Если владельцы здания не могли компенсировать его снос, право собственности переходило к городу за невыполнение обязательств. Они продали место застройщикам за миллионы. В итоге там возвели кооперативный дом, стоимость однокомнатной квартиры в котором начиналась с цифры 1,2 миллиона долларов.
Но стройка началась не сразу. Она долго-долго не начиналась.
Пару дней мы жили у Ноэля с женой и двумя детьми, но невозможно бесконечно пользоваться чужой добротой. Их квартира в Ист-Виллидже и без того была тесной. Несколько недель мы ночевали на гостевых диванах у друзей, в спальных мешках, в то время как я пыталась управлять магазином и ждала, когда страховая компания пришлет мне чек. Лаура почти все время пребывала в полубессознательном состоянии, забывалась беспокойным сном, в котором металась, вертелась и звала Хани или мистера Мандельбаума. А когда не молчала и не спала, выплескивала на меня свою злость, требуя вернуть ее любимое одеяло и заветную ночную рубашку, без которых не могла спать.
Иногда я злилась в ответ, думая, что дочь намеренно мучает меня, потому что она наверняка знала, что нельзя вернуть все то, что мы потеряли. Как много я отдала бы за возможность все вернуть. Сейчас я понимаю, что ей нужен был кто-то для вымещения злости, чтобы обрести силы бороться и пережить те непростые времена. Однако по большей части она пользовалась своей детской прерогативой (поскольку все еще была ребенком, хоть и начинала взрослеть) и требовала от матери того, чего ждут от любой мамы, — все изменить к лучшему.
Но я была не в силах. Я ничего не могла изменить к лучшему. Чувство обиды росло с каждым днем, хотя о чувствах Лауры я могла только догадываться. Если мы не кричали друг на друга, значит, вообще не разговаривали, но я каждый день рассказывала ей, что пытаюсь связаться с Анис, что та сумеет как-то нам помочь, что это может случиться в любой день. Анис колесила по Европе. В то время у людей не было мобильных телефонов. Ни у кого не было электронных адресов. Я оставляла сообщения у ее менеджеров, которые заверяли меня, что сделают все, чтобы дозвониться до нее в каждом городе, где она останавливается. Однако складывалось такое впечатление, что она всегда выезжала из гостиницы и мчалась в следующий город до того, как они успевали с ней связаться. Вероятно, они посчитали меня докучливой поклонницей и решили не тревожить Анис.
Через пять недель я узнала от страховой компании, что моя страховка не покрывает случаи аварийного сноса здания городскими властями. К тому времени мы с Лаурой стали жить в дешевых гостиницах в Нижнем Ист-Сайде, и мой счет в банке практически исчерпался. Я устроила «окончательную распродажу» в «Ушной сере» — продавала все, что могла, за цену, предложенную увлеченными коллекционерами, которые всегда были моими лучшими покупателями. В конечном итоге я вручила ключ и договор об аренде Ноэлю. У меня все еще оставались сотни пластинок — либо поцарапанных, либо поврежденных, либо не представляющих интереса для коллекционеров, и пара десятков тех, с которыми я сама не могла расстаться. В любом случае они не имели особой ценности (хотя, по-моему, Лаура этому не поверила, когда увидела, сколько пластинок остались непроданными), но тем не менее их можно было неплохо продать просто потому, что они старые. Все пластинки вместе с моими личными вещами из магазина отправились на хранение на тот самый склад, который я сняла, когда только родилась Лаура. Очередная страница моей жизни была сложена в коробки, убрана в темную комнату и оставлена там покрываться плесенью и пылью.
Мы жили в коммунальном доме в Гарлеме — единственное, что я могла себе в то время позволить, и, кроме того, оттуда легко можно было добраться на метро в кадровые агентства Мидтауна, куда я обращалась, — когда наконец-то в начале августа объявилась Анис. Я брала Лауру с собой на все собеседования и экзамены на скорость печати — а как я могла ее оставить? — и это, равно как и отсутствие «настоящего» места проживания, не помогало мне в поисках работы. Бóльшая часть из того, что сказала Анис о своей дирекции — которая, как я и подозревала, даже пальцем не пошевелила, чтобы передать ей мои сообщения, — нецензурная брань. Через несколько дней она их всех уволила, и новость о том, что в разгар международного турне Анис Пирс «по творческим разногласиям» уволила своего директора, даже попала в газеты. Новая управляющая компания, с которой она быстро подписала контракт, предоставила нам с Лаурой квартиру. Анис предлагала нам намного больше, но я отказалась принимать ее помощь. Знала, что никогда не смогу расплатиться.
Как только у меня появилось постоянное жилье, я смогла устроиться машинисткой в небольшую юридическую контору, занимающуюся недвижимостью. Они предоставили хорошую почасовую оплату, а работая сверхурочно — до поздней ночи, например, — можно было заработать в два раза больше. Я привыкла к сдвинутому графику в магазине, поэтому мне это было удобно.
Постоянная работа означала, что я наконец могу заполнить документы на квартиру с двумя спальнями в доме Митчелла—Лама в Ист-Твентис. Всего в тринадцати кварталах от формальной границы моего старого района, но все равно — будто в другом мире. Когда начался учебный год, мы уже как-то немного обустроились, хотя только к Рождеству я смогла купить что-то из мебели плюс к тем двум матрасам, на которые потратила последние деньги, когда мы сюда переехали.
Лаура в то время мало со мной общалась. Когда я перестала слышать голос дочери, перестала слышать и музыку в своей голове. Скорее всего, голос дочери и был этой музыкой. Лаура была моей музыкой. Я как будто опять вернулась в ту жизнь с моими родителями, только на этот раз винить, кроме себя, было некого. Я понимала: единственный способ что-то исправить — найти мистера Мандельбаума, спасти то, что осталось от прежней жизни.
Я ходила в те края, где стоял наш старый дом, каждое утро и каждый вечер после работы. У меня в кошельке лежала фотография Лауры и мистера Мандельбаума, ее я показывала людям. Всем шлюхам, нелегалам, бездомным, с которыми познакомилась за эти годы. Только мало кто здесь остался. Как я раньше не заметила? Я даже сходила к патрульным, к тем, с которыми познакомилась в магазине. К полицейским, которые не стояли по ту сторону заграждений в тот ужасный день. В итоге бродяга Боб оторвался от своего обычного времяпрепровождения у магазина со сладостями на Авеню «А» и, после того как двадцать минут горячо обвинял правительство и ЦРУ в том, что они убивают бедняков, и случившееся с нашим домом — лишнее тому доказательство, направил меня в убогий дом на Бауэри.
Я подумала (теперь я понимаю, какая это была глупость!), что, если приду к мистеру Мандельбауму с предложением забрать его из этого места, все опять станет хорошо. Я продолжала себя уговаривать, мол, не случилось ничего, чего нельзя было бы поправить временем и размеренной жизнью в чистом новом доме. В обеденный перерыв я звонила в городские конторы, пытаясь выяснить, куда можно его переселить. Меня постоянно куда-то перенаправляли. В конечном счете мне посоветовали обратиться в еврейский дом для престарелых, где мистеру Мандельбауму помогут найти квартиру всего на сто долларов в месяц дороже, чем он платил за свое старое жилье. Конечно, сто долларов — целое состояние для человека, живущего на одну пенсию. Но теперь я зарабатывала больше, чем получала в магазине грампластинок. Мой выросший доход, наша квартира — чище и больше предыдущей — висели между мной и Лаурой как невысказанное обвинение. Я должна была что-то сделать. Должна была исправить ситуацию.
Мужчина за конторкой в муниципальном доме назвал мне комнату на пятом этаже. Как мистеру Мандельбауму удается каждый день спускаться с пятого этажа и взбираться обратно? Его комната находилась в конце темного коридора, рядом с большим мусорным ящиком под голой лампочкой. Когда-то пол был покрыт кафелем, а теперь больше напоминал твердые лужи красного, синего и коричневого цвета.
В комнате мистера Мандельбаума стояли только кровать и древний деревянный комод. Фанерная перегородка отделяла это помещение от соседнего. Сам мистер Мандельбаум лежал на кровати все в том же коричневом костюме, который надел в синагогу в тот день, когда мы потеряли свой дом. На комоде стояла переполненная пепельница. В комнате воняло дымом, нестиранными вещами, мусором из коридора. Я представила, как обрадуется Лаура, когда вновь встретится с мистером Мандельбаумом. За эти месяцы это была единственная по-настоящему радужная перспектива, которая мне рисовалась. Но, оглядываясь вокруг, я понимала, что никогда не смогу привести сюда дочь.
— Я ждал тебя, — безрадостно произнес он. Потом с трудом принял полусидячее положение. — Хотел кое-что тебе отдать. — Рукой нащупал что-то на комоде, придвинутом вплотную к кровати. — Я купил это для Хани, но так и не смог… — Он протянул мне полиэтиленовый пакет. — Нужно это кому-то отдать.
Я взяла пакет, присела рядом с ним на кровать, пытаясь придумать, как начать.
— Не знала, что вы курите, — наконец произнесла я. Не хотела, чтобы это звучало как обвинение, но почему-то фраза прозвучала именно так. Не стоило с этого начинать.
— Я не курю. — Он выглядел смущенным. — Ида заставила меня бросить тридцать лет назад. Она убила бы меня, если бы увидела, что я опять закурил.
Так, сменим тему.
— Нужно поговорить о том, что вы намерены делать. — Я пыталась придать голосу веселость, говорить со знанием дела. «Все в порядке, — настаивал мой внутренний голос. — Это лишь вопрос переезда и обеспечения». — Через еврейский дом для престарелых я нашла вам квартиру. Она немного дороже той, за которую вы платили, но теперь у меня есть хорошая работа. Мы с Лаурой поможем вам с арендой. С радостью.
Он продолжал смотреть в стену.
— Я уже потерял один дом, — ответил он. — Не стоит обзаводиться новым. Не в моем возрасте.
— Но вы не можете оставаться в таком месте!
— Какая разница, где умереть?
— Мистер Мандельбаум… — Я взяла его за руку. — Макс… Есть те, кто вас любит, кому вы нужны. Я. Лаура. Для нее вы как… — «Как отец, которого у нее не было», — подумала я. — … как семья.
— Всякий раз при взгляде на меня Лаура будет вспоминать тот день, — ответил мистер Мандельбаум. — Лучше ей забыть. Она еще очень юна и сможет забыть.
Что-то острое кольнуло меня в грудь. «Если бы она могла!»
— Вы ошибаетесь. Сейчас вы нужны Лауре как никогда. Вы нужны друг другу. Неужели она вам безразлична? — В моем голосе слышалась настойчивость. — Мир все тот же, что и три месяца назад. Вокруг по-прежнему есть вещи, ради которых стоит жить.
Он повернул ко мне лицо.
— Ох, Сара. — В его глазах стояли слезы, и еще в них читалось сострадание. Как будто в этот момент не ему, а мне требовалось понимание. — Ты же знаешь, что я не хочу жить с тех пор, как Ида умерла.
В горле встал твердый болезненный ком. Я не могла произнести ни слова.
Он легонько пожал мою руку, которой я стискивала его ладонь. Теперь я почувствовала, как она дрожит — холодная, тонкая, вся во вздувшихся венах. Кожа на костяшках сморщилась, как будто между суставами отсутствовали соединения.
— Пока у меня была Хани и мои воспоминания… — Он поднес руку к глазам. — Вы с Лаурой и без меня не пропадете, — продолжал он. — Когда они похоронили мою кошку и все, что напоминало мне о жене, — они и меня похоронили. — Он опять отвернулся к окну. — Будто меня никогда и не было.
Лаура всегда хорошо училась. Но теперь она занималась исключительно учебой. На ее лице была написала мрачная решимость преступника, который пытается ногтями прорыть твердую землю. Хотя, возможно, все было не так, как я думаю. Может быть, Лаура сплетничала с подружками, бегала на свидания с парнями и думала обо всей той ерунде, о которой положено думать красивой юной девушке. Но откуда мне было знать? Я работала до поздней ночи, зарабатывала как можно больше, чтобы мы смогли отложить на ее обучение в колледже. Мы мало виделись друг с другом. Жили скорее как соседи по квартире, чем как семья. Двое людей, которые делят жилое пространство, потому что так удобнее и выгоднее с экономической точки зрения.
В некотором роде это было похоже на мою жизнь с родителями. В нашем доме всегда стояла тишина — ни разговоров, ни музыки. Я знала: Лаура негодует из-за моей музыки, винит меня за то, что я любила музыку так сильно, что воспитала дочь в таких условиях.
Однажды она на меня накричала. Это произошло через месяц после моего визита к мистеру Мандельбауму в трущобы, когда мне пришлось сообщить Лауре, что он умер. Я стала навещать его каждый день, приносила еду, мыло, необходимые мелочи. Мне удалось уговорить его переодеться в чистое. Но я не могла заставить его покинуть это жилище.
Дело не в том, что Лаура винила меня в смерти старика. Она винила меня во всем — в том, что мы вообще жили в том доме. В том районе.
— Все из-за твоей музыки! — кричала она. — Потому что музыка для тебя важнее, чем я. Ты могла бы найти работу, могла бы обратиться за помощью к своей матери, могла бы сделать все, чтобы вытащить меня оттуда. Но ты ничего не сделала!
И что я могла ответить? Что я ради нее бросила музыку? Что перестала работать диджеем, перестала выступать и стала заниматься бизнесом? Только теперь, только теперь, когда все закончилось, я увидела свою ошибку. Мне хотелось сказать: «Мне было всего девятнадцать! Лишь на четыре года больше, чем тебе сейчас. Музыка — единственное, что я тогда знала. Я не хотела быть одной из тех мамаш-одиночек, которые весь день проводят в конторе и никогда не видят своих детей. Я хотела быть с тобой каждую секунду. Хотела, чтобы мы жили полной жизнью. Я сделала все, что могла, все-все, что могла в то время…»
Мне хотелось сказать все это, но я не смогла. Самое сложное в этом мире — признать свои ошибки. Не потому, что тяжело признавать свою вину (я бы признала, извинилась, сделала все что угодно, лишь бы вновь завоевать Лаурину любовь). Просто в свете собственной глупости все оправдания будут звучать как отговорки. К тому же довольно слабые.
Несколько лет я думала, что обижаюсь на Лауру за то, что она во всем обвинила меня. Как будто с меня не достаточно пережитого. Я и так чувствовала вину за решения, которые приняла давным-давно (и из лучших побуждений!), и мне казалось нечестным быть наказанной за них еще и сейчас. Впервые в жизни я страстно желала тишины, в которой выросла. Я стала лучше понимать свою мать, понимать, как женщина может решить, что не хочет разговаривать со своим ребенком. Временами я видела на лице Лауры такое выражение, как будто она намеревалась сказать что-то более существенное вместо обычных коротких фраз: «Пошла в библиотеку. Вернусь позже». Может быть, если бы я ее поддержала… но… Я никогда ее не ободряла. Не хотела слышать, как она обвиняет меня в том, за что я сама корю себя каждый день. Иногда мне казалось, что внутри меня ничего, кроме слез, не осталось, и, если Лаура говорила что-то неприятное, я просто опускала голову и выплакивала все эти слезы, пока во мне не начинала зиять пустота.
Возможно, все это было не важно. Лауре нужно было на кого-то злиться. А на кого же, если не на меня? На городские власти? На жадных застройщиков, которые хотели захватить побольше земли? Но ведь они всего лишь безликие организации. Так что за то, что я не предвидела наихудшие варианты развития событий, Лаура винила меня. Со временем злость и тишина стали привычными. Однажды проходит так много времени с момента последнего разговора, что уже невозможно сказать все то, что должно было быть сказано много лет назад.
Наверное, именно поэтому сейчас, когда меня приходит навещать Лаура, я без умолку трещу. Слишком поздно я поняла, какой коварной может быть тишина. Иногда я думаю, что, возможно, чисто случайно смогу подобрать нужные слова, те самые, которые заставят Лауру посмотреть на меня так, как она смотрела раньше.
После окончания университета Лаура переехала и юридически больше не находилась у меня на иждивении, поэтому мне пришлось покинуть муниципальное жилье. Мне было безразлично. Все равно эта квартира так и не стала для меня настоящим домом.
Я опять переехала в Нижний Ист-Сайд, хотя раньше даже подумать об этом было страшно. Новое жилье оказалось не совсем таким, как прежнее на Стэнтон-стрит (как говорится, нельзя вступить в одну и ту же реку дважды), — даже отдаленно его не напоминало, если честно. Но это было единственное место, где я могла найти отголоски былого, того, что могло бы существовать до сих пор, если бы не один дождливый день и несколько упавших кирпичей.
Я все еще не могу заставить себя слушать музыку. Но и в тишине больше не могу оставаться. Поэтому стала много смотреть телевизор. И ходить на длинные бесцельные прогулки. Чувствую себя привидением, обитающим по соседству. Странно видеть, как многое изменилось за восемь лет. Дом, где раньше жили мы с Анис, теперь стал роскошным небоскребом, где ежемесячная аренда однокомнатной квартиры площадью в сорок шесть квадратных метров стоит от четырех тысяч долларов. Высокий серебристый ящик, разделенный на десятки ящичков поменьше — ни один ничем не отличается от других. Чердак, размером с тот, где жили мы с Анис, продали за три миллиона долларов, что, казалось мне, граничит с безумием. На месте трущобы, где в конце концов умер мистер Мандельбаум, теперь располагался современный роскошный бутик-отель. В вестибюле по вечерам толпились молодые девушки — красивые и очень дорого одетые.
Но кое-где все еще оставались следы того района, который я знала. «Умри яппи-отребье!» — граффити на кирпичной стене…Настенная живопись в пуэрториканском стиле на Авеню «С»…
Бродить по этим хорошо знакомым улицам — все равно что случайно встретиться с девчонкой, с которой когда-то была знакома, на двадцатилетии своего университетского выпуска. Только вот девочка эта перенесла несколько пластических операций. Она выглядит и старше, и в то же время моложе. И похожа на себя, и совершенно другой человек, не тот, с которым ты была знакома.
Однажды я забрела на Стэнтон-стрит, где когда-то жили мы с Лаурой. Шел дождь, и возможно поэтому ноги сами меня туда понесли. На том месте, где когда-то стоял наш дом, сейчас велась стройка — все было завалено бетонными плитами, горами строительных лесов, стальными балками. Над всем высился молчаливый кран. Я почувствовала, как в груди что-то кольнуло. Веселые полосатые плакаты возвещали о том, что здесь возводят кооперативные дома.
Я стояла там под дождем и некоторое время смотрела на стройку, так же, как в ту ночь, когда наблюдала, как рушат наш дом. Я уже не помнила, как звали кошку мистера Мандельбаума, ту самую кошку, которую Лаура любила настолько, что готова была ради нее рисковать собственной жизнью. Я постоянно уверяю себя, что еще слишком молода, чтобы оправдывать свою забывчивость, хотя у меня уже взрослая дочь. Мне и пятидесяти еще нет. Но в памяти моей образовалось много пробелов.
Сегодня дождь шел не так долго, как в тот день. После сильного, будто тропического ливня тучи рассеялись и вновь выглянуло солнце. Я как раз собиралась уходить, когда уловила какое-то движение у одной из лежащих на земле бетонных плит.
Котенок. Крошечный котенок. Всего нескольких недель от роду. Он прятался за чем-то твердым и, казалось, промок до нитки. Котенок изо всех сил пытался оставаться незаметным, и на секунду мне захотелось оставить его в одиночестве. И все же это было какое-то чудо. То, что на этом самом месте я нашла котенка, точнее кошечку, которая так походила на кошку Мандельбаумов, какой она мне запомнилась. У нее были такие же зеленые глаза, те же черные тигровые полоски и маленькие белые «носочки» на лапках. Мне явно предоставлялся второй шанс спасти то, что много лет назад я не смогла спасти ради Лауры.
А разве меня саму не нужно спасать? Разве мне не нужен кто-то, кого я могла бы любить? «Это судьба, — шепчет голос у меня в голове. — Ваша встреча была предопределена».
Я опускаюсь на корточки, протягиваю руку.
— Привет, киса, — шепчу я. — Ты потерялась? — Котенок испуганно пятится.
«Бедняжка!» — подумала я, и ледяной ком, который я носила в груди несколько лет, начал таять. Я опять протянула руку, но она вся съежилась в тугой комочек настороженного пушка, до которого так и не смогли дотянуться мои пальцы. «Наверное, разумно, — подумала я, — со стороны такого маленького котенка опасаться незнакомых людей». Когда мне пришла в голову эта мысль, я вспомнила кошек Анис, каждая из которых была названа в честь какой-либо песни «Битлз», и улыбнулась.
— Пруденс! — окликнула я. — Тебя зовут Пруденс?
Котенок смотрел на меня огромными испуганными изумрудными глазами. А потом, не думая ни о чем, я начала петь. Впервые за четырнадцать лет я пела.
— «Милая Пруденс, выходи погулять…»
Вначале котенок, похоже, был сбит с толку. И неудивительно. Мой голос был каким-то колючим и намного более низким, чем раньше. Он вообще не походил на мой голос. Но я продолжала петь, голос набирал силу, и я вновь начала его узнавать.
— «Солнце взошло, небо голубое…так красиво вокруг, и ты такая красивая…»
Робко, осторожно кошечка выползла из-под бетонной плиты. Она понюхала мои пальцы, медленно подалась вперед, позволила взять себя на руки. Она насквозь промокла, я сунула ее к себе за пазуху. Спрятала на своей теплой груди. Одну лапку она робко прижала к моей щеке. Я заметила у нее смешной лишний маленький коготок.
— Пошли домой, Пруденс, — прошептала я. Кошечка ответила попискиванием, как будто пыталась мне подпевать.
Однажды Лаура приехала ко мне в гости с новостями о том, что она обручилась. Я была рада за нее, разумеется, я действительно обрадовалась, однако еще я подумала: «Моя единственная дочь выходит замуж за человека, которого я никогда в жизни не видела!» Лаура так мало рассказывает мне о своей жизни. Но счастье и мягкость, которыми, казалось, помимо ее воли лучились синие-пресиние глаза Лауры, так похожие на глаза ее отца, сказали мне много. Я слишком хорошо знаю свою дочь, чтобы понять, когда она счастлива. А потом она пригласила меня пообедать с ней и ее женихом, и я наконец поняла, почему она счастлива.
После нашего знакомства я как-то раз совершенно неожиданно наткнулась на Джоша. Поздно вечером, часов в одиннадцать, во время одной из своих бесконечных прогулок. В маленьком клубе, мимо которого я проходила, звучала живая музыка, и, повинуясь порыву, я вошла внутрь. Группа из трех человек играла на акустических инструментах, исполняя композицию «Blind Faith» «Не найду дорогу домой».
Бывают моменты, когда песня действует на человека определенным образом. Ты знаешь, что она сентиментальная, но все равно не в силах остановить слезы. Неожиданно я почувствовала такую усталость! Да, в последнее время я была выжата до капли. Я села за стойку бара, мне нужно было время, чтобы собраться с силами.
И вдруг как из ниоткуда рядом со мной появился Джош.
— Вот так сюрприз! — воскликнул он, целуя меня в щеку. — Я заглянул сюда с несколькими авторами из моего журнала, мы прослушиваем эту группу. Пойдемте, я вас познакомлю. Уверен, вы трое можете часами говорить о музыке.
Джош был всего лет на девять-десять моложе меня. И тем не менее складывалось впечатление, что он свой в этом баре. Оглядываясь на молодые лица, я неожиданно понимаю, сколько мне лет — уже слишком стара для дешевых ресторанчиков Нижнего Ист-Сайда, где в надежде быть замеченными выступают молодые артисты. Однажды оглядываешься вокруг и понимаешь, что все в Нью-Йорке моложе тебя.
— Не стоит, — ответила я Джошу. — Я быстро выпью бокальчик и пойду домой.
— Тогда я составлю вам компанию. — Он уселся рядом и заказал бармену виски «Мэйкерс Марк».
— Как твои родители? — ляпнула я, не зная, о чем еще спросить. — С нетерпением жду нашего знакомства.
— Хорошо, — ответил Джош. — Так и живут в пригороде, в Парсиппани, в доме, где я вырос. Отец собирается выходить на пенсию. У сестры дом рядом с родительским, но она ищет квартиру в городе, поближе к работе. — Его лицо немного посуровело. — Они с мужем разошлись, он… мало помогает детям. Можно сказать, она растит их сама. — Потом Джош вздохнул. — Может быть, это сблизит ее с детьми, когда они станут взрослыми.
— Да, — негромко ответила я. — Иногда так случается.
За стойкой бара висит зеркало. Сидящий рядом со мной Джош смотрит в него. Но Джош, отражающийся в этом зеркале, смотрит прямо на меня. Я опускаю глаза и несколько раз вращаю соломинкой в стакане.
— А вы знаете, как мы познакомились с Лаурой? — поинтересовался он.
— Нет. — Я попыталась улыбнуться. Лучше не думать о том, что я уже давным-давно перестала быть частью жизни Лауры. — Не думаю.
— Как-то она пришла к нам в контору. Ее фирма представляет интересы нашей компании, и у них была намечена встреча. Как бы там ни было, я направлялся на встречу с кем-то, когда увидел у лифта эту красивую женщину. У нее такие глаза, вы же знаете… И она тащила эти два огромных портфеля. — Он засмеялся. — Я хочу сказать, они казались такими тяжелыми! Тяжелее, чем она сама. Поэтому, естественно, я подошел ей помочь, но она отказалась от моей помощи. Просто сказала: «Нет, спасибо, все в порядке. Я справлюсь». Она на самом деле не хотела, чтобы я помогал ей нести портфели. Я видел, что она смутилась. Ей очень важно было самой нести их. Несколько дней она не выходила у меня из головы. Почему человека волнуют такие мелочи? Это было не простое упрямство, я видел. Тут что-то другое. Я все время думал об этом, пытаясь понять причину. В конечном итоге я позвонил ей в контору и пригласил на свидание.
Он замолчал, глотнул виски.
— Позже она сказала мне, что это была ее первая встреча с клиентом. Видимо, для помощника адвоката привычное дело носить за самим адвокатом портфель во время переговоров. Я сказал ей: «Но тот парень, с которым ты пришла, к тому моменту уже давно скрылся в конференц-зале. Он бы не увидел, что я тебе помог». А она повторяла: «Но ведь помощники адвокатов должны носить портфели. Это их обязанность. Это моя работа». И тогда я подумал, что никогда еще не встречал человека, который бы так заботился о том, чтобы все было правильно, поступал как должно, даже в мелочах.
Джош опять помолчал немного.
— Глядя на нее, сразу и не скажешь. Но каким-то образом я это почувствовал, понимаете? Иногда смотришь человеку в лицо и не понимаешь, что именно на нем написано, но ощущаешь, что это очень важно. Лаура думает, что по ее лицу ничего прочесть нельзя. — Он засмеялся. — Я вижу, как сильно она старается убедить себя, что все контролирует. Но при этом сразу видно, что для нее важно на самом деле. Это у нее на лице написано. — Наши взгляды в зеркале встретились. — Я видел, как она смотрела на вас за обедом, — негромко продолжал он. — Не знаю, может быть, вам обеим кажется, что вы не настолько близки, как хотелось бы. Лаура мало говорит о ваших отношениях. У меня старшая сестра. Знаю, иногда между матерью и дочерью возникают трения. Моя сестра любит мать, они обе постоянно разговаривают. Но я никогда не замечал между ними того, что увидел в глазах Лауры, когда она смотрела на вас.
Мне пришлось отвернуться и откашляться: стыдно было расплакаться перед Джошем. Он молчал, пока я доставала из сумочки бумажную салфетку и сморкалась. Потом он улыбнулся мне в зеркале одними глазами.
— Давайте еще по бокальчику, — предложил он. — Хочу поднять тост за свою тещу.
На прошлой неделе у меня так заболело в груди, что пришлось обратиться к врачу. Получив результаты множества анализов, врачи пришли к выводу: ангина. А еще высокое давление. Кто бы мог подумать. Говорят, что для женщины моего возраста это нетипичное явление, но мой отец умер очень рано от сердечного приступа, поэтому я попадаю в зону риска. Иногда так случается. Теперь мне придется всячески заботиться о состоянии своего здоровья. Врачи уверяют, что при соблюдении диеты, выполнении упражнений и нахождении под медицинским наблюдением, я проживу долгую жизнь.
Я постоянно возвращаюсь к нашему с Джошем разговору. Я почему-то понимаю, что врачи ошибаются. Мне мало осталось. Я говорю не о том, что чувствую себя плохо. Бóльшую часть времени я чувствую себя хорошо. Но, как сказал Джош, иногда хватает одного взгляда, чтобы понять.
Вчера ночью я порылась в шкафу, в вещах, которые забрала со склада после того, как Пруденс вернула мне мою музыку. Достала пакет «Любовь спасет день», куда скидывала старые газеты и журналы, и в самом низу нашла побитую металлическую коробку, которую мне удалось отыскать на развалинах нашего дома. Я не сразу ее открыла. Старые сломанные вещи неохотно делятся своими секретами. В недрах этого маленького «сейфа» лежал красный ошейник, который мистер Мандельбаум купил для Хани утром того дня, когда снесли наш дом. Я повязала его на шею Пруденс и пообещала ей:
— Завтра я куплю тебе бирочку, где будет написано «Пруденс». И, наверное, попрошу Шейлу, которая живет ниже, чтобы она нас сфотографировала вместе. Что скажешь, малышка? — Я зарылась пальцами в ее загривок, а Пруденс прижалась головой к моей руке и заурчала.
Теперь я понимаю то, что Лаура поняла, когда, рискуя жизнью, спасала кошку: любовь есть любовь, и неважно, ходит она на двух ногах или на четырех лапах. Когда-нибудь Пруденс полюбит Лауру. Пруденс будет любить ее тогда, когда ей будет казаться, что больше никто ее не любит. Она заставит Лауру смеяться, когда никто другой не сможет вызвать у нее даже улыбку. Пруденс принесет мою любовь к Лауре в ее новый дом, в ее новую жизнь. Она принесет Лауре и мои воспоминания — воспоминания о четырнадцати годах любви, музыки и жизни, слишком хороших, чтобы разрушить их за один день, пусть даже поистине ужасный. Она поможет Лауре опять найти дорогу к этим воспоминаниям — о нас, о Хани, о Мандельбаумах, тоже любивших ее, о днях, проведенных в пыльном магазине грампластинок, когда в жизни не было ничего важнее, чем мать и дочь, — мы чувствовали себя самыми счастливыми, будучи вместе. Она принесет с собой любовь, которая никогда не умрет, хотя и приобретет другие формы.
Мне судьбой было предназначено найти в тот день Пруденс. Теперь я это знаю, хотя, мне кажется, я знала это всегда.
Всегда знала, что берегу ее для Лауры.
Глава 14
Лаура
В половине одиннадцатого Лаура сидела на собрании в кабинете Клейтона Ньювелла, как вдруг ей позвонили. Они пересматривали контракт в двести пятьдесят страниц для одного из своих самых крупных клиентов, а тот требовал результатов уже к концу дня. Дело было настолько срочным, что в работу включился сам Клейтон.
Зазвонил телефон на столе, помощница Клея по внутренней связи передала:
— Мистер Ньювелл, звонят миссис Бродер.
— По какому вопросу? — поинтересовался Клей, даже не дав Лауре возможности ответить.
— Звонит ее муж, — ответила помощница. — Уверяет, что срочно.
— Я оставила мобильный у себя в кабинете, — пояснила Лаура. После утренней ссоры с мужем ее немного отпустило, когда она занялась знакомой рутиной, но сейчас внутри опять все похолодело. — Он не стал бы звонить сюда по пустякам.
Клей кивнул.
— Диана, соедините. — Лаура вспомнила, как ей позвонили с маминой работы всего полгода назад. Она встала с дивана, на котором сидела с Клеем и Пэрри, и прошла в другой конец комнаты к звонящему телефону. Когда она взяла трубку, ее руки дрожали.
— Джош, — сказала она. — Джош, что случилось?
— Пруденс. — От злости, которая насквозь пропитывала его голос еще два часа назад, не осталось и следа. Сейчас в нем слышалось плохо скрываемое беспокойство. — Я пошел прогуляться, а когда вернулся домой, она лежала без сознания. Кажется, ее стошнило в квартире.
Лауре, которая меньше всего ожидала услышать подобную новость, понадобилось время, чтобы собраться с мыслями.
— Она дышит?
— По-моему, да, — ответил Джош. — В какую ветклинику ее отвезти?
— В клинику Святого Марка на пересечении Девятой и Первой, — тут же ответила Лаура, пытаясь унять панику, которая поднималась у нее внутри. — Мама всегда возила ее туда.
— Это же в центре города. Может, отвезти ее куда-то поближе?
— А если у нее есть какие-то противопоказания, о которых там знают? Мы-то не знаем… — «Как знала мама», — подумала она. — Скажи таксисту, что заплатишь по двойному тарифу, если он довезет вас за четверть часа. По тройному, если доедет за десять минут.
— Лаура, я…
— Просто поезжай, — перебила его Лаура. — Прямо сейчас. Я уже еду туда. — Она повесила трубку и повернулась к старшим коллегам, которые сидели в противоположном конце комнаты и пристально за ней наблюдали.
— Все в порядке? — спросил Пэрри.
— Моей… — Лаура запнулась, мысленно услышав слова, которые готовы были сорваться у нее с языка, и понимая, как на них отреагирует Клей. Да и Пэрри. Она расправила плечи и все равно их произнесла: — Моей кошке плохо.
Сперва Клей, кажется, удивился.
— Что? — переспросил он.
— Моей кошке плохо, — повторила Лаура. — Она без сознания, ее везут в ветклинику. Я должна быть с ней.
Произнеся эти слова, Лаура на секунду почувствовала себя глупо. Не из-за смысла сказанного или своего желания немедленно бежать в ветклинику. Нет, она просто не знала, как покинуть этот кабинет. Если бы у нее был ребенок, и она сказала: «Моей дочери плохо, она без сознания», — то могла бы уйти без промедлений. Другого от нее и не ожидали бы. Но кошка — совсем другое дело. Инстинктивно Лаура ждала либо разрешения, как послушный исполнитель, либо возмущения, когда разрешение стало бы неуместным и она могла бы уйти.
— Вы шутите, да? — Клей взглянул на Пэрри. Затем опять повернулся к Лауре и переспросил: — Что вы сказали?
Ничего, утром Лаура уже крепко повздорила с мужем. Она также повздорила с Пруденс, которая (сердце женщины сжалось от чувства вины и страха) сейчас ехала в больницу. «Заодно и “чистку” кадров проведете», — мрачно подумала она. А вслух сказала Клею:
— Мне кажется, вы отлично меня услышали.
— А мне кажется, не услышал, — ответил Клей. — Потому что прозвучало следующее: вы, помощник адвоката, уходите с переговоров по многомиллионному контракту с двумя старшими компаньонами, потому что вашей кошке стало плохо.
— Вот видите, — Лаура собирала записи и документы, — вы прекрасно меня расслышали.
Секунду Клей смотрел на нее, открыв рот. Немыслимо, чтобы кто-нибудь, какой-то помощник адвоката, осмелился подобным образом разговаривать с Клейтоном Ньювеллом в его собственном кабинете. Потом его взгляд посуровел.
— Разумеется, я вас расслышал. — В голосе сквозил холод. Не было ни одного помощника в этой юридической конторе, который бы не трепетал, когда Клей говорил таким голосом. — Только мне в голову не приходило, что вы это серьезно.
Лаура вспомнила свою службу до позднего вечера, все те дни, когда работала по двенадцать, тринадцать и даже четырнадцать часов в сутки, оставляя Джоша дома одного, потому что Клей бросал ей на стол самый последний вариант проекта, требуя немедленно его переделать, хотя сам отлично знал — так же, как и сама Лаура, — что появится в конторе намного позже установленного им крайнего срока.
— Клей. — Лаура повернулась к нему лицом. — Вам прекрасно известно, как я предана этой конторе. Я не брала выходной даже в тот день, когда умерла моя мать. — Она слышала, как собственные слова эхом звучат в ее голове. «Я не брала выходной, когда умерла моя мать. Моя мать умерла, а я вернулась на работу. Как будто ничего не произошло». — Я всегда ставила работу на первое место. И вам это известно. За все годы, что я здесь, работа всегда была для меня приоритетом. Но сейчас я должна, я просто обязана идти.
— Не козыряйте своей преданностью, будто вы все это время делали нам огромное одолжение. — Сейчас Клей по-настоящему злился. — Вы были преданным сотрудником и тяжело работали потому, что это обязательное условие работы в такой конторе, как наша, и вам это прекрасно известно.
— Клей… — вступил Пэрри, но Лаура его перебила:
— Нет, Пэрри, он прав. Я вернулась на работу через час после похорон матери. Не хотела, чтобы кто-нибудь подумал, что у меня не хватит сил с этим справиться.
— Ты могла бы взять столько выходных, сколько тебе необходимо, — возразил Пэрри. — Мы обязательно предоставили бы тебе выходные. Я предоставил бы тебе выходные. Тебе стоило только попросить.
— Знаю. — Лаура прерывисто вздохнула. — Я знаю. Я никого не виню. Но я все равно вернулась сюда. И я так же вернулась сюда, когда мой муж потерял работу, хотя осознавала, что все в конторе знали о том, что это произойдет, но ни слова мне не сказали. Я думала, что знаю, кому должна быть верна. Я сделала выбор.
Она вспомнила тот день, когда снесли их с матерью дом. «Ты не можешь меня заставить!» — кричала она, когда Сара попыталась принудить ее уйти. Еще Лаура подумала о Джоше, который только сегодня утром кричал на нее, утверждал, что они никуда не ходят, практически не бывают вместе из-за ее работы. Она разозлилась, не в силах поверить, что Джош может быть таким несправедливым и вести себя так, будто у нее сейчас есть выбор, будто она сама может решать, как долго ей сидеть на работе.
Только выбор у нее действительно был. Выбор есть всегда.
— Я сделала свой выбор, — повторила Лаура. — И сейчас делаю.
Она направилась к двери.
— Только не думайте, что вас будут ждать с распростертыми объятиями, если завтра вы вдруг решите вернуться, — рявкнул ей в спину Клей. — У меня лежит по меньшей мере сотня резюме таких же хороших специалистов, как и вы, которые готовы землю рыть, чтобы только получить ваше место.
— Клей, — негромко произнес Пэрри — голос разума. — Не говори того, о чем потом пожалеешь.
Лаура задержалась у двери, но оборачиваться не стала. Что она ожидала услышать в этом кабинете? Неужели она думала, что Пэрри ей как отец? У Пэрри своя семья, свои собственные дети. Если она потеряет Джоша, если они не смогут простить друг другу того, что наговорили сегодня утром, если она потеряет ребенка, как уже однажды потеряла… Неужели эта контора — все, что у нее останется, все, чего она на самом деле заслуживает? Деньги. Немного призрачной уверенности в завтрашнем дне — пока ведешь себя послушно, в нужное время говоря «да» и «нет». Поздние возвращения домой, затуманенные глаза, пустая квартира и телефон, который никогда не звонит по выходным.
Она вспомнила тот день, когда получила официальное приглашение от «Ньюман Дайнс». Как она гордилась! Позвонила Саре, чтобы сообщить ей новость, но не так, как дочь звонит матери, чтобы разделить с ней радость своего успеха. Просто поставила перед фактом. «Здесь я буду работать. Сюда ты можешь звонить, если я тебе понадоблюсь». Если только она была нужна Саре. Ей Сара была нужна. И отдаляли их друг от друга отнюдь не сложности с телефонными номерами.
— Это кошка моей матери, Клей. — Она понимала, что это звучит странно. — Она все, что осталось у меня от мамы.
Она не стала ждать, что ей ответят Клей и Пэрри. Просто вышла.
На заднем сиденье такси, которое неслось по скользкой после дождя Парк-авеню, Лаура нетерпеливо вжимала правую ногу в пол, как будто под ней находилась воображаемая педаль газа — хотела, чтобы машина ехала быстрее. Когда шофер притормозил за другим такси, которое как раз поворачивало, Лаура подалась вперед и в отчаянии сказала ему:
— Объезжай его, объезжай. — Она вдруг поняла, что сама виновата. Только утром она накричала на Пруденс. «Почему ты просто не оставишь меня в покое!» Желудок Лауры сжался от боли, и она прижала прохладную от дождя руку ко лбу. Если это была ее ошибка, если в происшедшем с Пруденс есть ее вина, она, конечно же, сможет все исправить. Надо только добраться туда достаточно быстро.
Когда это произошло? Как давно Пруденс нашла путь к ее сердцу, которое когда-то принадлежало Хани, к сердцу, которое она столько лет держала на замке? Пруденс с ее черными тигровыми полосками и изящными белыми лапками. Пруденс терпеливо ждала ее у двери ванной, когда ее тошнило по утрам, потом следовала за ней по пятам, энергично бегая кругами, пока Лаура готовила ей завтрак. Пруденс сидела с ней каждую ночь, мелодично урча рядом на диване. Ее единственное утешение — и единственное средство, которое помогало ей заснуть, — за последние пару месяцев. Лаура вспоминала настойчивое, гортанное мяуканье, когда Пруденс требовала угостить ее тунцом или сыром. Почему она не баловала ими это существо с первого дня его появления у них в доме? Почему ее нужно было упрашивать? Она же знала, что любят кошки, что дарит им радость. И еще она знала, каково это — потерять Сару.
Такси миновало многоквартирный дом с зеленым навесом, под которым женщина держала за ручку пухлого малыша в подгузнике — ребенок только-только учился ходить на кривых ножках. Лаура вспомнила, как Пруденс, будучи еще котенком, вперевалку передвигалась по маминой кухне. Как вставала на пушистые нетвердые лапки, чтобы взять угощение с протянутой Сарой руки. Теперь такси ехало по Второй авеню, мимо бара «Бейби Бо». Сара очень любила здешние пирожки с начинкой. Они были частью ее воскресного ритуала, как и жареные бананы, которые обожала Лаура. Сара всегда покупала их к приходу дочери. Лаура заметила, когда Сара перестала приносить домой пирожки и начала отдавать Пруденс всю сметану и куриную грудку. Но она даже не подумала о том, чтобы спросить почему.
Из-за угла показался мусоровоз и остановился прямо перед ними. Водитель ударил по тормозам, Лаура, которая сидела, подавшись вперед, стукнулась о перегородку из оргстекла, которая отделяла сиденье водителя от заднего. Она нетерпеливо потерла лоб, собираясь опять просить его объехать этот чертов мусоровоз, но шофер уже оглянулся через левое плечо и свернул в следующий переулок. После этого им стало везти: они попали в «зеленый коридор» и несколько раз в самую последнюю секунду пролетели на желтый. Церковь Святого Марка, куда они с Сарой ходили в канун Нового года, чтобы послушать всенощную службу, так, поворот направо. На Второй и Девятой они пролетели «Веселку», где они с мамой, бывало, баловали себя летом борщом, а зимой — перловой похлебкой с грибами. Ресторан и церковь стояли на месте, но Лаура с тех самых пор не ходила туда.
Она поняла: когда теряешь что-то одно, потери будто множатся. Неожиданно она так отчаянно захотела, чтобы мама была рядом, что желание это стиснуло ей грудь, мешая дышать. Хотелось почувствовать на себе ее руки, зарыться лицом в изящный изгиб ее шеи, вдохнуть успокаивающий аромат маминых волос. Но больше всего ей хотелось услышать мамино пение. Она целых шестнадцать лет не слышала, как Сара поет, с того июньского дня, когда Лауре было всего четырнадцать.
Но она больше никогда этого не услышит. Впервые с момента смерти Сары Лаура по-настоящему поняла — прочувствовала до самой глубины души — ужасающую законченность слова «никогда». Она больше никогда не услышит Сарин голос. Мама больше никогда ее не приголубит. Она не чувствовала эту потерю так глубоко только потому, что рядом была Пруденс, живая частичка ее матери, которая все еще оставалась с ней.
А теперь она не знала, сумеет ли Пруденс пережить этот день.
Несколько месяцев Лаура не могла оплакать смерть матери. На одно чудовищное мгновение она почувствовала, что вот-вот сломается, прямо здесь, на заднем сиденье такси. Она наклонилась, ткнулась головой в колени — только бы сдержаться!
Раздался визг резиновых шин на мокром асфальте, и такси резко остановилось.
— Двенадцать долларов, мисс, — сказал ей водитель. Лаура протянула ему двадцатку и поспешно пробормотала:
— Сдачи не надо.
Натянула пиджак от костюма на голову, чтобы уберечься от дождя, и побежала по короткой металлической лестнице в полуподвал ко входу в ветклинику.
Приемный покой оказался крошечным. Белый деревянный пол и утопленные светильники создавали то, что должно было считаться теплой, уютной атмосферой. Но в такой серый дождливый день даже включенный свет, казалось, сгущал сумрак, а не рассеивал его.
Когда Лаура стряхнула дождевые капли с волос, то увидела Джоша, меряющего шагами маленькую комнатушку. Сегодня утром он показался ей совершенно незнакомым человеком. Это напомнило ей тот момент много лет назад, когда мама повернулась к ней с чужим лицом и залепила пощечину. Это было страшнее, чем наблюдать, как рушат твой дом, страшнее, чем потерять Хани и мистера Мандельбаума, — увидеть совершенно незнакомого человека в лице своей матери. Казалось невозможным, что после всего сказанного утром они с Джошем смогут опять говорить друг с другом по-доброму, с любовью в голосе.
Но Лаура сразу увидела, что все обиды отошли на второй план, по крайней мере на время. Лицо Джоша было таким же напряженным, как и ее собственное, глаза покраснели.
— Джош! — Она быстро подошла к нему и, не думая, положила руку на плечо мужа. Почувствовала тепло его тела под рубашкой. — Джош, что произошло?
— Это были лилии, — ответил он, и сердце Лауры перевернулось — настолько измученным он казался.
— Какие лилии? Что произошло?
Джош опустился на одну из скамеек в приемном покое — деревянную уличную скамью, на которой в плетеных корзинах лежали журналы «Кошачьи капризы» и «Лучший друг», предназначенные для тех, кто приводил сюда своих питомцев.
— В честь нашей годовщины я ходил к флористу. Заказал ему такой же букет, какой был у тебя на свадьбе. Цветы должны были принести до твоего ухода на работу. — Он безрадостно засмеялся. — Все в это утро пошло не так, как планировалось.
Лаура почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы.
— Джош… — прошептала она и опустилась на скамью рядом с мужем.
— Пруденс съела лилии. — Казалось, Джош рассказывал все это висевшей на противоположной стене доске, где помещались объявления о потерянных любимцах и о животных, которых хотели бы отдать «в хорошие руки». Он не желал или не в силах был смотреть в глаза жене.
— Ничего. — Лаура была сбита с толку. — Кошки иногда едят растения.
— Да, — ответил Джош. — Но лилии — яд для кошек. В лилиях есть что-то такое, от чего отказывают почки.
— Но с ней все будет хорошо, да? — Лауре хотелось, чтобы Джош посмотрел ей в глаза, но он продолжал сверлить взглядом стену. — Ты быстро привез Пруденс к врачу, они смогут помочь ей… так ведь?
Джош закрыл лицо рукой.
— Не знаю. Они продолжают делать ей промывание. Пока никто ничего не может сказать. — Джош встал и опять начал мерить шагами приемную. Когда он наконец повернулся к Лауре, его глаза метали молнии. — Почему никто о таком не предупреждает? Должно быть какое-то… не знаю, руководство или предупреждающий знак, который рассылали бы в каждый дом, где живет кошка, — в большом красном круге перечеркнутая лилия. Я не знал. — В его голосе слышалась усталость. — Я понятия не имел. Я бы никогда не оставил эти цветы в доме, если бы… если бы я…
— Откуда ты мог знать, Джош, — негромко произнесла Лаура. — В детстве у меня была кошка, но я тоже этого не знала. Ты поступил правильно. Ты привез ее сюда, и это самое лучшее, что ты мог для нее сделать.
Джош кивнул, хотя все еще нерешительно, и опять присел рядом с Лаурой.
Шли минуты, которые отмеряли огромные настенные часы над конторкой дежурной. Лауру настолько напрягало это «тик-так», что ей показалось, она вот-вот закричит и метнет какой-нибудь предмет в эти часы. Дважды она подходила к дежурной и спрашивала приглушенным голосом, нет ли новостей о Пруденс Бродер? В первый раз темноволосая женщина — в голубом костюме и с кольцом в носу — сжала руку Лауры и сказала:
— Примите мои соболезнования по случаю смерти вашей мамы, мэм. — Лаура в ответ смогла только кивнуть и на мгновение задержала свою руку в ее ладони. Когда она вернулась на свое место, чернокожий мужчина в белой рубашке вошел в приемную с огромным зеленым попугаем на плече.
— Привет, это Оливер! Привет, это Оливер! — закричал попугай.
— Привет, Оливер, — поприветствовала дежурная веселым, взволнованным голосом. И все трое — мужчина, женщина и птица — исчезли за вращающимися дверями смотровой. Дежурная вернулась как раз вовремя, чтобы встретить крупную женщину с крошечной собачкой неопределенной породы в розовом свитере и на поводке, украшенном фальшивыми камнями.
— Доктор Люк ждет вас с Блинчиком в смотровой, — сказала дежурная посетительнице. — Можете проходить.
Лаура встала и подошла к конторке дежурной. Неужели она ничего не может им сообщить? Неужели нет вообще никаких новостей о Пруденс?
— Сейчас с ней доктор Демеола. — В голосе дежурной прозвучало такое сочувствие, что сердце Лауры сжалось, будто она была уверена, что новостей можно ждать только плохих. — Как только появятся новости, она тут же выйдет и сообщит вам. — Лаура кивнула и вновь вернулась на свое место рядом с Джошем. Она попыталась листать какой-то журнал, который нашла в корзине, но глянцевые страницы пестрели фотографиями чужих счастливых, здоровых кошек, и от этого все внутри только сильнее сжималось. Наконец она сдалась и швырнула журнал назад в корзину.
— Ты никогда не говорила мне, что у тебя в детстве была кошка, — неожиданно произнес Джош.
— Это была кошка наших соседей. — Лаура грустно улыбнулась. — Но мы очень дружили. Она… погибла. Когда мне было четырнадцать.
Джош вытянул перед собой свои длинные ноги, и Лаура посмотрела на его джинсы. Однажды в воскресенье они пришли домой и обнаружили, что Пруденс уютно устроилась на джинсах, которые он бросил на кровать. Джош тогда не решился ее разбудить. На штанинах осталась пара дырочек в тех местах, куда Пруденс вонзила свои коготки.
— У меня тоже когда-то был кот, — помолчав, сказал Джош. — Минут пять.
— Ты это о чем?
— Мне было пятнадцать. Я нашел свою первую работу в одном из ресторанов «Сиззлер» недалеко от дома, но пока у меня не было водительского удостоверения. Поэтому отец заезжал за мной в конце смены. Как-то вечером мы нашли этого кота сидящим прямо посреди дороги. Его сбила машина. Знаешь, он как-то странно тряс головой. Люди сигналили и сигналили ему, но кот не двигался. Я вышел из машины, завернул его в одеяло, которое мы возили в багажнике. Отец насколько мог быстро поехал в ближайшую ветклинику неотложной помощи.
Джош заерзал на месте, откинул голову назад, уперся затылком в стену.
— Я помню, как держал этого кота, его глаза были широко открыты и неотрывно смотрели на меня, он так тяжело дышал. Наверное, находился в шоковом состоянии. Пока отец вел машину, я все время думал: «Не умирай. Не умирай. Только не умирай». Когда мы доехали до клиники, дежурный ветеринар осмотрел беднягу и сказал, что может его спасти, но потребуется много денег, а после операции для полного выздоровления понадобится уход. Отец объяснил, что это не наш кот, что мы не можем забрать его домой, ведь у нас собака. И ветеринар сказал, что самое гуманное в таком случае — усыпить кота, по крайней мере тогда он больше не будет страдать.
Джош умолк. Лаура не знала, отчего стал ком в горле — было ей жалко того кота или мальчика Джоша, мальчика, который уже стал мужчиной, но так и не понял, почему в этом мире существуют страдания.
— Но я подумал: нет. Я подумал, что надо съездить домой, позвонить друзьям, кто-нибудь из них обязательно возьмет кота. У меня была подружка, Синди, она держала кошек. Я подумал, что ее родители, может быть, согласятся взять еще одного. Отец хотел усыпить кота, пока мы не уехали. Но я уговорил его отвезти меня домой и позволить попытаться что-нибудь сделать. По крайней мере попытаться.
Помолчав, Джош продолжил:
— Конечно, я так и не нашел никого, кто взвалил бы на себя финансовые заботы о коте, которого даже не знал и которому мог понадобиться длительный уход. Я позвонил кому только мог, но все отказались. Наверное, глупо с моей стороны было думать, что кто-то согласится. Мне было всего пятнадцать, что я понимал? Отец позвонил в ветклинику и сказал, что можно усыплять кота. Но они не могли сделать это, пока отец не приедет и не подпишет какие-то бумаги. И отец, который целый день был на работе, разозлился. Вот тебе на! — скоро полночь, а ему придется тащиться в ветклинику. Я сидел у себя в спальне, говорил по телефону с Синди, а отец вошел и накричал на меня за то, что я навлек на его голову неприятности и доставил массу неудобств. А еще он упрекнул меня в эгоизме.
Синди слышала, как он орал, и, по-моему, я еще никогда не чувствовал себя так ужасно. Коту суждено было умереть. Я сделал все, что должен был сделать отец, а он на меня накричал. И моя подруга слышала, как он на меня кричал. Ты же знаешь, что самое постыдное для подростка, когда твои друзья слышат, как на тебя орут родители.
Лаура, на которую Сара накричала один раз в жизни и ни разу не сделала этого перед подругами дочери, тем не менее кивнула.
— Когда он вышел, Синди сказала: «Послушай меня, Джош. Послушай меня. Ты хороший парень. Ты чудесный. Джош, ты все правильно сделал. Не слушай, что сказал тебе отец». — Он покачал головой. — Не думаю, что еще когда-либо так ненавидел отца, как в ту ночь.
— Я понимаю, — негромко произнесла Лаура.
Джош резко поднял голову и посмотрел на жену.
— Тогда у моих родителей были финансовые трудности, хотя они нам ничего не говорили. Именно поэтому отец так много работал, именно поэтому так сильно уставал к концу дня. Он заботился обо мне, чтобы у меня была возможность беспокоиться о бездомном коте. — Джош не сводил с Лауры глаз. — Ты, наверное, думаешь обо мне то же самое: заставляю тебя заботиться о деньгах, чтобы сам мог волноваться о чем-то другом. Я занимаюсь не этим, но понимаю, как это выглядит со стороны.
Лаура немного помолчала, потом сказала:
— Ты никогда мне об этом не рассказывал.
— Не рассказывал, — согласился Джош. — Мне кажется, я стараюсь рассказывать тебе только приятное. — Левой рукой он теребил складки свитера. Лаура заметила, как блеснуло на пальце обручальное кольцо, когда на него упал свет. — Ты мне тоже о многом не рассказывала. И я жалею об этом.
В ее груди и горле стояло столько слез, но они не выплескивались наружу. Лаура едва могла говорить.
— А если мои истории только печальные? — прошептала она.
Он засмеялся — неуместный звук в сыроватом помещении приемного покоя.
— А ты думала, я женился, чтобы до конца жизни слышать только приятные истории?
Лаура подняла глаза на мужа и увидела, что он действительно смеется.
Джош придвинулся к ней ближе, обхватил ее рукой за плечи и прижал к себе. Она положила голову ему на грудь и вдохнула такой знакомый аромат его лосьона после бритья, их дома.
— С ней все будет в порядке, Лаура, — сказал Джош, и та не знала, кого он хочет убедить — ее или себя. — Пруденс крепче, чем мы думаем. Мы заберем ее домой, она опять будет разбрасывать по полу вещи, наводить свой «порядок». — Лаура попыталась засмеяться, но смех вышел каким-то приглушенным. Она почувствовала, как муж погладил ее по голове. — Мы слишком сильно ее любим, чтобы позволить чему-то плохому случиться с ней.
— Этого не всегда достаточно. — Голос Лауры все еще звучал глухо. — Иногда одной любви недостаточно.
— Это не наш случай. — Джош поцеловал ее в макушку и прошептал ей в волосы: — Вот увидишь.
Дверь позади конторки дежурной распахнулась, и оттуда вышла молодая женщина с вьющимися каштановыми волосами. На ней был белый халат.
— Мистер и миссис Бродер?
— Да, — ответила Лаура, вскакивая со скамьи.
Джош тоже вскочил.
— Как Пруденс? С ней все будет хорошо?
— Мы сделали все возможное. Прочистили желудок. — Увидев испуг на их лицах, врач мягко добавила: — Процедура очень неприятная для кошки, но необходимая для того, чтобы токсины лилий прекратили попадать ей в организм и разрушать почки. Сейчас ей поставили капельницу, чтобы вывести токсины и поддержать почки. Еще мы поставим ей очистительную клизму с активированным углем, чтобы прочистить внутренности и не допустить всасывания оставшихся токсинов. Мы отправили ее кровь на анализ, но результат будет готов только завтра утром. — Женщина умолкла, нахмурила брови. — Сейчас Пруденс без сознания, что необычно. Мы не знаем, чем это вызвано. Я была бы намного спокойнее за ее судьбу, если бы она проснулась. — Доктор поколебалась, потом взглянула на взволнованную пару. — Обычно при потенциальной угрозе для почек мы предпочитаем оставить пациента у себя дня на три. Мы бы хотели провести дополнительное обследование, а это может вылиться в копеечку. Если деньги — проблема…
— Деньги — совершенно не проблема, — быстро ответила Лаура. — Делайте все, что необходимо. Мы можем ее увидеть?
— Обычно мы не пускаем посетителей в служебные помещения. — Ветеринар взглянула на Лауру и Джоша, и Лаура понимала, какую тревогу она видит в их глазах. — Однако я чувствовала бы себя намного увереннее, если бы Пруденс пришла в сознание. Ее жизненно важные органы намного слабее, чем должны бы быть после обычного отравления лилиями. В общем, мне кажется, не случится ничего страшного, если один из вас пройдет к ней. Иногда их «мамочки» могут сделать больше, чем врачи. — Она тронула Лауру за рукав и добавила: — Мы все вам сочувствуем в связи со смертью вашей мамы, миссис Бродер. Сара была доброй душой. Ее все по-настоящему любили.
— Спасибо, — пробормотала Лаура. Последний раз сжала руку Джоша и последовала за доктором Демеолой через вращающиеся двери вверх по узкой лестнице. Наверху располагалась большая белая комната с прозрачными боксами. Пруденс неподвижно лежала в одном из них, как будто умерла. Лаура едва разглядела, но животик кошки все же вздымался, она дышала. Передние лапки побрили, чтобы поставить капельницу, и оказалось, что под беленькими «носочками» они розовые и хрупкие на вид. Лаура не помнила, когда последний раз видела Пруденс без маленького красного ошейника. Теперь без него шерсть на ее шейке казалась голой.
— Оставлю вас одних на несколько минут, — сказала доктор Демеола, открывая задвижку на боксе Пруденс, и тихо ушла.
Лаура наклонилась, чтобы ее лицо оказалось поближе к любимице. И тихо сказала:
— Привет, Пруденс. Привет, моя сладкая. — Слезы наворачивались на глаза при взгляде на неподвижную, молчаливую кошку. — Врачи говорят, что через пару дней все будет в порядке и ты сможешь вернуться домой. Но всем стало бы легче, если бы ты очнулась и сказала нам «привет». — Она ждала, что Пруденс подаст знак, мол, слышу тебя, как-то мяукнет, дернет лапой, — что угодно. Но Пруденс оставалась совершенно неподвижной.
Лаура зарылась лицом в шерсть на шее кошки, прошептала в нее:
— Прости, Пруденс. Прости, что я сегодня утром накричала на тебя. Если честно, я не хотела, чтобы ты оставила меня в покое. — Лаура стала гладить ее по спинке, прочесывая шерсть пальцами так, как нравилось Пруденс. — Я не вынесу, если ты меня оставишь. Пожалуйста, Пруденс. Ради меня, попытайся открыть глаза. Хоть немножко. Мы с Джошем так тебя любим. Не оставляй нас, Пруденс, пожалуйста. Ты даже не представляешь себе, какую огромную часть меня ты заберешь с собой, если уйдешь.
Лаура продолжала смотреть на неподвижную Пруденс, молчаливое создание, и вспоминала маму, вспоминала, как Пруденс сидела у Сары на коленях, дарила ей ту любовь, которую всегда чувствовала и Лаура, даже после того, как перестала говорить об этом маме. Ей всегда хотелось пробиться сквозь стену пустых слов, которую Сара возвела между ними. Она отчаянно хотела сказать что-нибудь «настоящее». Но что бы она ни говорила маме, все выходило не так. Почему кошки так легко и открыто проявляют любовь и доверие? Может, потому, что они способны любить тебя за то лучшее, что в тебе есть, за того тебя, которым ты хочешь быть и обязательно стал бы, если бы не бесконечные сложности человеческих отношений?
«Их мамочки», — сказал ветеринар. А она — мамочка? Сможет ли она быть мамочкой для ребенка, которого носит под сердцем? Теперь она поняла, что хочет этого ребенка, даже если забеременела только потому, что два-три раза забыла принять противозачаточные таблетки пару месяцев назад. Она хочет этого ребенка, ей нужен Джош, даже если он больше никогда в жизни ни дня не будет работать. И ей нужна Пруденс. Она потеряла Мандельбаумов, потеряла Хани, потеряла свою маму. Лаура больше не в силах терять тех, кого любит.
Сара была матерью для них с Пруденс — и могла бы стать бабушкой для этого еще не рожденного ребенка. Сара сейчас должна была находиться здесь, ради них всех. Так нечестно… Так совсем нечестно…
В детстве (до того, как у них с мамой испортились отношения), в ее маленьком мирке больше всего успокаивало Лауру мамино пение. Она потянулась погладить Пруденс по голове и неожиданно услышала голос, так похожий на голос матери, но льющийся изо рта самой Лауры.
— Милая Пруденс, — негромко пела женщина. — Открой глазки… — Она замолчала, боясь, что слезы вот-вот задушат ее. Представила, что рядом с ней стоит мама, держит ее за руку и подпевает, так же как тогда в студии звукозаписи, когда Лаура была еще ребенком. Сейчас она пела и готова была поклясться, что слышит в этой комнате голос своей матери. «Ветер стих, птички поют… ты часть всего…» Потом Лаура наклонилась, поцеловала Пруденс в лоб, в то место, где тигровые полоски над глазами образовали маленькую букву «м».
— Милая, милая Пруденс, — прошептала она. — Открой глазки! — Голос Лауры опять звучал как ее собственный. В отчаянии она прижалась губами к уху Пруденс и пробормотала: — Ну же, малышка. Моя любимая. Открой глазки.
И Пруденс открыла глаза.
Глава 15
Пруденс
В гостиной, рядом с окном, ведущим на пожарную лестницу, живет высокое зеленое растение. Солнечный свет, льющийся в окно, сегодня ярче обычного, такой яркий, что мне приходится жмуриться. Однако играть от этого не менее весело. Это наша с Сарой любимая игра.
Сара идет из спальни на кухню. Проходит мимо места, где я прячусь в зарослях цветка, и на шорох листьев, когда я пытаюсь еще сильнее вжаться в пол, начинает поворачивать голову. Движение настолько неуловимое, что только кошка может его заметить. Я знаю, что она знает, где я, но Сара продолжает идти.
В тот момент, когда она минует цветок, я прыгаю ей прямо на ногу. Сара делает вид, что очень удивлена. Она думает, я не знаю, что она понимала, что я вот-вот прыгну на нее, но в притворстве и заключается суть игры, которая веселит нас обеих. Сейчас мои лапы обхватывают ее правую лодыжку, зубы впиваются ей в пятку (хотя я не прикусываю по-настоящему).
— Ой, нет! — восклицает она. — Какая меткая кошка-охотница! — Я прыгаю на ее левую ногу. Но Сара знала, что я прыгну, потому что уже стоит, наклонившись влево, и подхватывает меня на руки. — Кто эта злая кошка? — спрашивает она голосом, каким разговаривает только со мной. — Кто эта храбрая маленькая охотница? — Она подносит мою мордочку к своему лицу, прижимается лбом к моему лбу. Она знает, что я не люблю слишком долго находиться в воздухе, поэтому опять ставит меня на лапки, стряхивает с ладоней несколько моих шерстинок и говорит: — Похоже, кого-то нужно хорошо вычесать. Что скажешь? — Из ящика на кухне она достает специальную щетку, которую использует только для того, чтобы чесать меня, и мы усаживаемся на диван, я — к Саре на колени.
Так приятно чувствовать, как щетка почесывает мне кожу, а ощущать руку Сары, когда она после щетки поглаживает меня по спине, еще приятнее. Пахнет от Сары даже приятнее, чем обычно. «Я знала, ты не по-настоящему умерла! — думаю я. — Знала, что ты вернешься за мной!» Хотя я не понимаю, почему такие мысли приходят мне в голову. Разве кто-то говорил о том, что Сара умерла?
— Не уходи, — говорит Сара. — Пожалуйста, не бросай нас. — Голос ее звучит по-другому, немного ниже, чем всегда, и я не могу понять, почему она просит меня остаться. Куда мне идти? И почему она говорит «нас»? Она здесь одна. Я смотрю на нее, вижу ее печальные глаза. Кожа между бровями немного сморщилась. Но мне так приятно от прикосновений, а от Сары веет таким теплом, такой надежностью, что глаза начинают закрываться до того, как я успеваю подумать о чем-либо еще. Я чувствую, как из горла вырывается урчание, а по груди растекается тепло.
И тут Сара начинает петь. Когда она поет, ее голос тоже звучит иначе. Голос человека, чью речь я уже слышала раньше, но никогда не слышала, чтобы этот человек пел. Странно, потому что практически самое первое, что я услышала от Сары, — ее пение. Голос Сары и одновременно не ее. И тем не менее я знаю, что этот голос могла бы слушать вечно, слушать и радоваться. В нем звучит любовь.
— Милая Пруденс, — поет она, — открой глазки. — Но я не хочу их открывать. Мне так уютно, так хочется спать. Но голос все продолжает повторять: — Милая, милая Пруденс… открой, пожалуйста, глазки! Моя малышка!
Голос звучит так настойчиво, что у меня нет выбора. Мне приходится побороться с ресницами, которые стали тяжелыми и упрямыми. Над головой мощная лампа, которая слепит меня и заставляет ресницы смыкаться. Наконец я распахиваю глаза, но не сразу могу сфокусировать взгляд и все отчетливо видеть.
Когда я поднимаю глаза, вижу не Сарино лицо. Это Лаура.
— Доктор Демеола! — кричит Лаура. — Она очнулась! — Перед глазами откуда-то из-за спины Лауры появляется размытое женское лицо со знакомыми чертами. Лаура улыбается, в ее глазах стоят слезы. Я не понимаю, что лежу на боку, пока она не начинает чесать меня за правым ушком, за тем, которое не прижато к тому, на чем я лежу. В этом месте плохо пахнет — пугающие запахи, — но запах Лауры сильнее, она продолжает гладить меня за ушком и вдоль всего тела.
Лаура наклоняется ко мне и шепчет:
— Больше никогда нас так не пугай, малышка. Мы хотим, чтобы ты осталась с нами. Ты останешься, Пруденс? — Она смотрит мне прямо в глаза, я узнаю это выражение. Именно оно было в ее глазах, когда Лаура смотрела на Сару. Раньше я недоумевала, что означает этот взгляд, но теперь знаю. Ее глаза исполнены любовью.
Во рту все пересохло. Такое впечатление, что там происходило что-то ужасное. Но я все равно смогла ответить негромким «мяу».
— Отлично, — бормочет Лаура и целует меня в лоб.
Из вольера, в котором меня заставляют спать (это я-то должна спать в клетке!), чувствую запах других нервничающих котов. Они расхаживают по клеткам в надежде найти новый теплый уголок или новый способ выбраться отсюда. Их движения сотрясают воздух и заставляют трепетать мои усы. Ночью, когда большинство людей, работающих здесь, уходят, некоторые из котов начинают кричать, требуя, чтобы их хозяева вернулись и забрали их домой. Но я кричать не стану. Сара больше никогда за мной не вернется.
На моих передних лапах, там, где раньше была прекрасная белая шерсть, видны островки розовой кожи. Шерсть сбрил один из людей с иголками, чтобы приладить трубки. Сара первой сказала, что мои белые лапки похожи на человеческие носочки. Теперь, когда шерсть сбрили, они совсем на носочки не похожи. Я все лижу и лижу эти места, где должна быть шерсть, и думаю: «Вот что происходит, когда умирают люди, которых любишь. Исчезает часть тебя».
Но за мной обязательно вернется Лаура. Я видела это в ее глазах, когда она мне пела, пытаясь разбудить. Когда я вспоминаю, как Лаура пела мне «милая Пруденс», пустота в моей груди оттого, что рядом нет Сары, начинает затягиваться. Что-то там растет. И скоро заполнит собой все пространство.
Меня заставили прожить здесь три дня, и каждый день меня навещали Лаура с Джошем. Однажды женщина с вьющимися волосами оторвала от передних лап ленту с трубочками, а потом завернула меня в незнакомое одеяло, которое совсем мною не пахнет, и потащила в комнату поменьше, куда Сара приносила меня раз в год, чтобы меня кололи иглами. Комната пахла высоким железным столом, на котором в кошек вонзали иглы. Еще в комнате стоял запах улицы, который принесли сюда Лаура и Джош. Они немного вспотели под халатами, им пришлось стоять слишком долго, пока делающая уколы медсестра не вошла в смотровую, чтобы сообщить, как у меня дела. Она говорит, что я на самом деле не больна, просто они оставляют меня здесь «перестраховаться». Перестраховаться от чего? Я все время заперта в комнате с больными кошками, вдалеке от моей еды, специальных мисок с надписью «Пруденс», — от этого мне станет только хуже. Я пытаюсь показать Джошу с Лаурой, что они не должны доверять этой колющей уколы даме, начинаю шипеть всякий раз, когда она подходит ко мне, но они только смеются и говорят:
— Посмотрите, какая Пруденс смелая! Она скоро поправится, верно, малышка?
Я узнаю эту колющую уколы даму — это она когда-то согласилась с Сарой, что мои передние лапки похожи на носочки. Джош продолжает стоять, но Лаура садится, скрестив ноги, на пол рядом со мной, гладит меня по спинке, пока я вылизываю лапы.
— Шерсть отрастет, Пруденс, — негромко успокаивает она. — Все отрастет. — Она напевает песню «Милая Пруденс», когда ласкает меня. Ее «мурлыканье» себе под нос так напоминает напевание Сары, что я прекращаю вылизываться и усаживаюсь ей на колени, всей щекой прижимаясь к ее груди. Она обхватывает меня руками и легонько почесывает под подбородком. Я начинаю урчать.
— Ласковая девочка, — бормочет она. — Кто моя маленькая любимица?
В моем сне у Сары были грустные глаза, потому что она знала, что должна в нем остаться без меня, так же, как и мне придется остаться без нее. Но глаза Лауры улыбаются, когда она смотрит на меня.
— Завтра ты сможешь поехать с нами домой, — говорит она, а пальцами продолжает почесывать меня под подбородком.
Теперь я знаю — дом там, где живет Лаура.
Я еще никогда в жизни не радовалась тому, что сажусь в переноску, так, как на следующее утро, когда Джош с Лаурой приехали меня забрать. Люди из Ужасного места не забыли перед моим уходом повязать назад красный ошейник и бирочку с именем, и на передней лапе уже нет лейкопластыря. Только легкий белый пушок на розовой коже. Несмотря на то что я сижу в переноске, зарывшись в старую Сарину рубашку, которую положила туда для меня Лаура, на улице прохладно — холодный воздух царапает лысые пятна на лапах. С тех пор как я заболела, дождя больше не было, но небольшие островки грязи вокруг деревьев, растущих на тротуаре, все еще пахнут влагой. В это время года листья начинают желтеть и опадать. Иногда Сара приходила домой с красными и оранжевыми листьями, застрявшими у нее в волосах или в куртке, и бросала их на пол, чтобы я могла погонять их по комнате. Они хрустели и рассыпались на куски. У меня опять колет в животе, когда я думаю о Саре, но потом я смотрю сквозь прутья моей переноски и вижу Лауру с Джошем, держащихся за руки.
Я так долго жила высоко в Верхнем Вест-Сайде, что практически забыла, как выглядят и пахнут предметы внизу, на улице. Должно быть, Лаура, которая несет меня, ступает туда, где сидел голубь, потому что он взлетает вверх мимо моей переноски с булькающим воркованием. Я слышу писк мышей, зарывающихся в мягкую грязь, — звук слишком высокий для того, чтобы его могло услышать человеческое ухо. Рев несущихся по улице машин. Мимо быстро проходит женщина, разговаривая по крошечному телефону. Она повышает голос в конце каждого предложения, даже если это предложение и не было вопросом. «И что я ему сказала?! Я была, как… Ты думаешь, что можешь так ко мне относиться?! Ты не ту девушку выбрал!»
Кирпичи зданий пахнут старее, чем прежде, я не могу решить, то ли это потому, что я так давно не была в Нижнем Ист-Сайде, то ли потому, что привыкла к более новым и большим зданиям Верхнего Вест-Сайда. Я понимаю, что я больше не иммигрантка: теперь Верхний Вест-Сайд — страна, где я живу. Лаура останавливается перед одним зданием и говорит Джошу:
— Здесь раньше был магазин грампластинок моей мамы. — Вибрации ее голоса, когда она это произносит, идут вниз по руке, и от этого начинают дрожать стенки переноски. В витрине магазина, на который она показывает, выставлена крошечная одежда, наверное, для человеческих детенышей.
— Красивый дом, — говорит Джош.
— Здесь всегда было красиво. Парень, которому принадлежало это место, продавал самодельные шахматы, — Лаура указывает на другую витрину: — А рядом был свечной магазин. — Она машет рукой назад, влево. — А там дальше, на Второй авеню, был магазин «Любовь спасет день». — Она на минуту замолкает. — Кажется, я слышала, что там сейчас торгуют готовой лапшой.
Джош обнимает ее за плечи, отчего моя переноска прижимается к ее ноге.
— Хочешь купить там что-нибудь на обед?
— Нет, — отвечает она. — Давай купим то, что любит Пруденс. Может, бутерброды с тунцом?
Они идут в конец квартала, Джош поднимает вверх руку, пока рядом с нами не останавливается желтая машина. Все втроем мы садимся на заднее сиденье, Лаура ставит мою переноску себе на колени. Всю дорогу домой я думаю о бутербродах с тунцом.
Удивительно, что место, которое тебе так хорошо знакомо, кажется совершенно другим после длительного отсутствия. Отчасти потому, что я понимаю, как плохо пахну (Ужасным местом), понюхав все вещи в доме, имеющие мой обычный запах. Запах Пруденс. Квартира в одних местах кажется больше, в других меньше — что само по себе странно. Может быть, после того как я во сне побывала в нашей старой квартире, все вокруг кажется не таким, как раньше, как будто меня не было намного дольше. И все же как приятно оказаться дома! Сперва я много времени провожу, помечая свою когтеточку (в Ужасном месте даже когти не обо что было поточить). Моя миска полна еды и стоит там, где я ее оставила. Я даже обрадовалась (всего лишь на секунду), когда увидела тот ужасный голубой коврик с притворно счастливыми кошками на нем. Если я толкаю миску с водой, то потому, что могу пить только движущуюся воду, а не потому, что злюсь на коврик.
Наверное, Лаура с Джошем ходили в магазин, пока я находилась в Ужасном месте, потому что теперь гостиная завалена игрушками для кошек. Здесь есть и маленькие пищалки, похожие на мышей — с шерстью и всем остальным. Я кусаю мячики с крошечными звоночками, катящиеся во все стороны и напоминающие мне побрякушки, которые Сара приносила домой, когда я только поселилась у нее. Джош с Лаурой не забыли сохранить большой бумажный пакет, где лежали игрушки, и я ползаю позади него с мышью в зубах и бью их передними лапами по ногам, когда они проходят мимо. Есть еще одна игрушка, похожая на длинную палку с перьями — как те, что были на птичьих нарядах Сары, — которые свисают с веревки, привязанной на конце. Лаура держит палку за кончик над моей головой и отдергивает ее, когда я пытаюсь схватить перо. Она смеется, когда я встаю на задние лапы и пытаюсь схватить перья передними, а потом начинаю недоумевать: кто должен играть этой палочкой — она или я?
Еще они принесли домой что-то под названием «кошачья мята». Это немного похоже на съедобные травы, которые Сара добавляла в еду, но пахнет намного вкуснее. Джош бросил несколько листочков на пол в гостиной, и сперва я просто вдыхала их аромат и думала о том, какой он удивительный. А в следующий момент я уже валялась на спине и думала только об одном: «Как же это прия-я-я-я-ятно». Так, разумеется, благородная кошка себя не ведет. Но мне удалось отчасти сохранить достоинство: когда Лаура шла мимо, пока я каталась по полу, я прыгнула ей на ногу. Похоже, она так же обрадовалась такому проявлению охотничьего мастерства, как радовалась Сара. Она даже на руки подхватила меня так же и спросила:
— Кто моя счастливая девочка? — Я потерлась лбом о ее лоб, как мы делали с Сарой, когда жили в Нижнем Ист-Сайде.
Идут дни, не знаю, сколько их прошло. Лаура днем не ходит на работу, а по ночам не читает документов. Сейчас она много времени спит, и я вместе с ней. Иногда мы спим на большой кровати на втором этаже, а иногда засыпаем прямо на диване, пока не приходит Джош, чтобы укрыть нас одеялом. Он всегда ступает очень тихо, чтобы нас не потревожить. Кажется, он беспокоится о том, чтобы Лаура как следует отдыхала, несмотря на то что по утрам ее больше не тошнит.
Они с Джошем много разговаривают, смотрят фильмы, ходят в кафе днем и не только по воскресеньям. Вчера вечером они пошли вместе отметить какую-то публикацию о здании на Авеню «А».
— У нас уже есть своя история! — повторяет Джош. — Публикация в «Нью-Йорк Таймс»!
Но он не говорит, сколько раз[21] или чего, поэтому трудно понять, почему это такое большое событие. Должно быть, для Лауры его слова имеют куда больший смысл, потому что она обнимает Джоша и говорит:
— Я горжусь тобой. — И кожа на ее лбу не морщится, как это бывало раньше, когда Джош упоминал это здание.
Позже вечером, когда они вернулись домой, Лаура рассказала Джошу историю о том, что, когда ей было четырнадцать, многоквартирный дом, где они жили с Сарой, снесли. Я сидела на спинке дивана, у Лауры за головой, она протянула руку назад, прижала мою мордочку к себе, рассказывая о том, что случилось с кошкой Хани.
Джош сидел на другом краю дивана. Он не сводил глаз с лица жены, потом придвинулся ближе, а когда она дошла до рассказа о Хани и мистере Мандельбауме, взял ее за руку и крепко пожал.
— Мне очень жаль, — сказал он, когда она закончила говорить, и ткнулся лбом ей в плечо. — Лаура, мне очень жаль. Ты должна знать, — он еще сильнее сжал ее руку, — просто обязана знать, что с нами подобного никогда не случится.
— Откуда ты знаешь? — в голосе Лауры слышались слезы, хотя она не плакала. — Откуда ты можешь знать, что с нами будет?
Джош громко втянул носом воздух, отпустил руку жены, провел ладонью по волосам.
— Ты права. Я не знаю точно. Может случиться пожар или наводнение. Или капризный торнадо сровняет Нью-Йорк с землей. Но мы что-нибудь придумаем. Мы есть друг у друга. — Лаура не поднимала глаз, и он замолчал, дожидаясь ее взгляда. — С нами никогда ничего подобного не произойдет. Ни с нами, ни с нашим ребенком.
Лаура ничего не ответила. Она отбросила голову назад, ее волосы коснулись моих усов, а Джош опять обнял ее. Обнимал до тех пор, пока она не закрыла глаза и мы с ней вдвоем не погрузились в безмятежный сон.
Через два дня за завтраком Джош морщит лоб, как будто о чем-то тяжело размышляет. Он играет веревкой от пакета с хлебом, из которого приготовил тосты, а когда я протягиваю за ней лапу, Джош бросает веревку так, чтобы я могла поднять ее и подбросить в воздух. Я гонюсь за ней в угол за кухонным столом, куда она пытается от меня спрятаться. Лаура с Джошем наблюдают.
— Я должен тебе кое-что сказать, — наконец решается Джош.
Тело Лауры едва заметно напрягается.
— Хорошо. — Голос ее звучит ниже, чем обычно. Так говорят люди, которые очень нервничают, но пытаются это скрыть.
— Нам часто звонят с тех пор, как в «Таймс» вышла статья, — говорит он. — Из журналов и газет, которые хотят следить за развитием этой истории. Еще мне звонят многие музыканты, которые записывались в этой студии все эти годы. Некоторые из них стали довольно знаменитыми. — Он запинается. — Вчера вечером, когда ты заснула, звонила Анис Пирс. Она тоже прочла статью. Она хочет приехать и помочь.
Левая рука Лауры, которая до этого лежала у мужа на колене, ложится на стол. Она барабанит двумя пальцами по его поверхности. Из-под стола, где сижу со своей веревкой, я слышу негромкое постукивание ее пальцев по дереву.
— Анис, — повторяет она. — Анис Пирс хочет приехать сюда из Азии, чтобы помочь спасти студию звукозаписи, куда она и носа не казала целых тридцать лет. — Мне кажется, что Лаура задает вопрос, хотя не могу сказать с уверенностью.
— Она сейчас в Калифорнии, — сообщает Джош Лауре. — Вернулась пару недель назад. Если честно, по-моему, она хочет приехать сюда, чтобы увидеться с тобой, а не поговорить об «Aльфавилль».
Лаура ничего не отвечает, хотя я вижу, как она подгибает большие пальцы ног. Наконец она произносит:
— Ты же говорил, что после публикации статьи в «Таймс» к тебе обращаются многие. Неужели тебе действительно нужна помощь Анис?
— Может быть, тебе пойдет на пользу встреча с ней, — отвечает Джош. — Кто еще знал твою мать так хорошо, как она?
— Давай поговорим об этом позже. — Лаура отпихивает стул и встает. — Сейчас я хочу сходить в магазин, но не уверена, что у меня есть что надеть. Мне уже ничего не подходит.
В последнее время Лаура потолстела — наверное, потому, что много спит и перестала пить кофе. Она останавливается в проеме двери и, не оборачиваясь, негромко произносит:
— Можешь позвонить Анис и пригласить ее, если она захочет.
Лаура поднимается наверх, я за ней. Если она не знает, что надеть, захочет спросить у меня, как это всегда делала Сара.
Несколько дней Лаура атакует нашу квартиру. Она все переставляет на столах, чтобы протереть самые дальние уголки, отодвигает ковры, чтобы вытереть пылинки, которые могли под ними прятаться, становится на лестницу, чтобы вытереть полки и верх мебели, слишком высокой, чтобы человек, стоящий на полу, мог увидеть, что там творится. Когда она моет окно, от голубой шипучей жидкости в солнечном свете появляется радуга, но жидкость пахнет приторной сладостью, и капля падает мне на шерсть, когда я подхожу слишком близко. Из отдельного шкафа достали Чудовище. Я прячусь в Домашнем кабинете — единственной комнате, в которой Джош запретил убирать, — пока его не прячут назад в его пещеру.
— Может быть, нанять человека для уборки? — предлагает Джош.
Лаура лежит на животе на полу их спальни, наполовину скрывшись под кроватью, и пытается избавиться от «комьев пыли». Я вижу небольшие клубы шерсти и человеческих волос, но никаких комьев не видно.
— Не нужно никого нанимать, — отвечает Лаура. — В последние дни у меня не слишком много дел.
Джош стоит в дверях спальни, наблюдая, как Лаура гоняет невидимые «комья». Сейчас он поворачивается, чтобы уйти.
— Анис Пирс не будет заглядывать под кровать, — бросает он через плечо.
— Правда? Спасибо, что сказал, — отвечает она сухим голосом.
К тому времени, как раздается звонок в дверь, квартира уже невероятно чистая и пахнет так, будто в ней никто не живет. Пока Джош открывает, я втираю Запах Пруденс в диван в гостиной. Лаура сидит на диване с прямой спиной и руки держит сложенными на коленях. Проведя кучу времени в поисках решения, что надеть, в конечном итоге она надевает джинсы и мягкий голубой свитер, довольно большой, чтобы скрыть ее растущий живот. По-моему, цвет свитера прекрасно подходит к ее глазам.
Раздаются приветственные слова Джоша и знакомый голос Анис, низкий и скрипучий. Потом следом за Джошем она входит в комнату. Когда я опять вижу ее лицо, вдыхаю знакомый запах, в душе тут же оживают воспоминания о Саре и нашей старой квартире. Мне на секунду приходится лечь и почувствовать животом прохладный деревянный пол. Я вижу, как Сара с Анис подпевают черным дискам, обсуждают Былые времена, Сара рассказывает подруге о Лауре и Джоше… Все это происходит до того, как я узнаю, что однажды Лаура станет Моим Самым Важным Человеком в Жизни. Я помню, как Сара держала меня на коленях, пока рассказывала Анис про какие-то проблемы с сердцем, а та отвечала: «Ты должна сказать Лауре, Сара. Она бы хотела знать. Она любит тебя больше, чем вы обе себе представляете».
Сейчас Лаура встает, и они с Анис долго-долго смотрят друг на друга. По расширившимся глазам Лауры я вижу, что на нее тоже нахлынули воспоминания.
— Боже мой, — наконец произносит Анис. — Как ты на нее похожа! Я уже и забыла.
— Только глаза другие, — отвечает Лаура. — Она всегда говорила, что у меня папины глаза.
Смех у Анис громкий, напоминает лошадиное ржание.
— Ты в этом не виновата. — Она тремя большими шагами пересекает комнату и обвивает Лауру руками. Такое впечатление, что Лаура стала выше, ей приходится нагибаться, чтобы обнять Анис в ответ.
— Мне так жаль, малышка. Мне так жаль. Ужасно потерять мать, особенно, когда она еще так молода. — Глаза Анис поверх плеча Лауры наполняются водой. — Я до сих пор не могу поверить, что ее нет. — Она отстраняется и смотрит на Лауру. — Прости, что не смогла приехать на похороны.
Лаура отступает.
— Я знаю, как трудно дозвониться до тебя, когда ты за океаном.
— Сейчас у меня есть мобильный, — негромко произносит Анис. — Не думаю, что тебе было бы сложно дозвониться до меня, если бы ты действительно захотела.
Анис смотрит на Лауру, которая под ее взглядом будто съеживается до тех пор, пока они с Анис не становятся одного размера. Слова гостьи звучат как обвинение, но она улыбается и добавляет:
— Наверное, упрямство ты тоже унаследовала от отца.
Кажется, Лаура не знает что сказать. Джош, который стоит рядом и наблюдает за происходящим, спрашивает:
— Анис, что будете пить?
— Чай с лимоном, если есть, — отвечает та, и Джош исчезает в кухне.
— Присаживайся, — приглашает Лаура, и Анис присаживается на диван. Сейчас, когда она так близко от меня, я понимаю, насколько знаком мне этот запах. Почти так же пахли «птичьи наряды», которые Сара хранила в глубине шкафа.
Анис замечает, что я нюхаю ее ноги. И улыбается.
— Пруденс! — Подставив одну руку мне под нос, она говорит: — Как давно я тебя не видела, куколка. — Она начинает ласкать меня еще до того, как я понимаю, что происходит, но ее пальцы такие умелые — они находят заветные места за моими ушами и под подбородком, и я не могу протестовать. Я падаю на пол и переворачиваюсь на спину, и огорчаюсь, когда Анис слишком быстро убирает руку. — Ты только посмотри на эту квартиру! — восклицает она, ее яркие глаза мечутся по комнате. Потом она улыбается. — Сара, должно быть, ненавидела это место.
Лаура тоже смеется, так легкомысленно, что сама удивляется.
— Ты права, — соглашается она с Анис. — Мама говорила, что такие квартиры больше напоминают гостиницы, чем дома. Но потом, — добавляет она, — я помню, как она жаловалась, что, когда шел дождь, ее коленям тяжело было перенести подъем по ступенькам.
— Старость — это мерзость, — весело поддакивает Анис. Когда она улыбается, небольшие морщинки вокруг ее глаз углубляются. — Ты еще слишком юна, и тебе знакома только молодость. Ты знаешь только это. Все, что тебе говорят люди вокруг, начинается со слов «ты молода». «Ты слишком молода, поэтому другим лучше знать. Ты слишком юна, чтобы понимать, что значит усталость». А однажды тебе перестают это говорить. И ты понимаешь, что уже несколько лет никто не называл тебя юной. Сейчас все, что говорят мне люди, начинается словами «в твоем возрасте». «У кого в твоем возрасте хватит сил бегать по Азии с рок-группой?»
Джош возвращается с двумя чашками чая, одну протягивает Анис, вторую — Лауре. Анис отпивает из своей чашки и говорит:
— Не думаю, что я когда-нибудь повзрослею, как повзрослела твоя мама в девятнадцать лет. Но, ты знаешь, при этом у нее был дар оставаться молодой. А это непросто. С каждым днем я ценю это все больше.
Лаура тоже отпивает из своей чашки, но на слова Анис не отвечает. Джош пересекает комнату, с чем-то возится у телевизора, и пространство наполняет музыка. Анис тоже несколько секунд молчит, потом произносит:
— Это же Сарин экземпляр «Country Life»?
Джош удивлен.
— Да, — отвечает он. — А как вы догадались?
— Потому что я сама ей его подарила. — Она ставит свою чашку на кофейный столик. — До того как переехала в Калифорнию. Я всегда узнаю потрескивание своей пластинки.
— У нас наверху куча ее пластинок и вещей, — говорит Джош. — Вам следует их просмотреть.
Лицо Лауры напряжено. Но Анис радуется:
— С удовольствием, если вы не против.
Она смотрит на Лауру, которая, поколебавшись, кивает и ставит свою чашку на стол рядом с чашкой Анис. Потом встает и приглашает:
— Пойдем. Я покажу тебе, что где лежит.
Под шерстью покалывает, когда я следую за всеми в комнату с коробками Сары. Я не бывала там с тех пор, как заболела. Даже сейчас, когда уже не важно, останется ли все на своих местах, потому что все равно ничто не вернет Сару, мне тяжело видеть, как Анис достает ее вещи.
И все же приятно слушать, как она говорит о Саре. Ее воспоминания отличаются от тех, что имеются у нас с Лаурой. Над ящичком со спичечными коробками Анис восклицает: «Поверить не могу, что она все эти годы хранила эти коробк´и!» и рассказывает о тех местах, куда они захаживали с Сарой, о том, что с ними приключалось там. Еще она рассказывает Лауре истории, которые та не помнит, потому что, когда они происходили, была слишком маленькой.
— Твои четыре года мы праздновали в «Ушной сере». Ты все время пыталась разорвать обложки пластинок, и мама твоя очень злилась. Однако она всегда была терпелива с тобой. Намного терпеливее, чем была бы я. — Анис просматривает собрание черных дисков Сары, как будто обнимает старых друзей. — Я помню тебя! — несколько раз восклицает она. Со смехом достает что-то из плотной картонной обложки. Это не черный диск, а разноцветный, очень похожий на саму Анис, только меньше! На нем профиль Анис с гитарой, с отброшенной назад головой, с развевающимися волосами. Посередине диска дыра, позволяющая пристроить его на специальный стол, который был у Сары, точно так же, как черные диски. — Я всегда говорила твоей маме, что эти диски с картинками не будут стоить ничего, — говорит она Лауре. — Но она настаивала на том, чтобы их сохранить.
— Бóльшую часть этих вещей она отправила на хранение, когда мы переехали в квартиру на Стэнтон-стрит. — Лаура качает головой. — Я никогда не понимала, зачем она их хранила.
Анис прищуривает глаза.
— А зачем вообще хранить? Чтобы помочь человеку вспомнить. — Потом она обводит взглядом комнату, в которой, кроме Сариных коробок, ничего нет, и молчит, пока не натыкается взглядом на черный мусорный пакет с птичьими нарядами. — Быть не может! — радостно восклицает она. — Только посмотрите на это! Знаешь, бóльшую часть этой красоты шила для твоей мамы я. Для походов в клубы мы наряжались в стиле диско, — Анис гримасничает, — а все эти одежки в стиле панк-рок она надевала, когда приходила в те места, где выступала я. — Она поднимает вверх рубашку, сколотую серебряными английскими булавками. — Ты знала, что твоя мама могла за полминуты стать мужчинкой?
Лаура сидит на полу, скрестив ноги, я у нее на коленях. Она наблюдает за тем, как Анис просматривает вещи, но сама ничего не говорит. Сейчас я чувствую ее удивление по неожиданному, едва уловимому движению рук и плеч.
— Подожди, что-что?
Анис смеется.
— В те времена никто не желал давать шанс девушке-диджею. Меня просто убивало, когда я видела, сколько времени Сара проводит в «Aльфавилль», записывая кассеты, которые никто не слушал. Поэтому однажды мне в голову пришла идея переодеть ее парнем. Ни у одной из нас не было толком груди, — Анис оглядывает свои по-прежнему костлявые формы, — и она была такой высокой… В общем, пара стежков иголкой — и готово. В сшитых мною вещах, с забранными под кепку волосами, она была похожа на очень красивого парня. — Анис нежно улыбается. — Я никогда никого красивее твоей мамы не видела, а она абсолютно не понимала, насколько красива. Как будто красота — ерунда. Когда мы с твоей мамой познакомились в магазине, где она примеряла платья, она вышла из примерочной, похожая на топ-модель, но по одному взгляду на нее было видно, что, глядя в зеркало, она этого не понимает. — Анис корчит смешную рожицу и высовывает язык. — Я думаю, кто-то должен был сказать ей, что она потрясающая.
Лаура спрашивает в нерешительности:
— А почему она перестала? Работать диджеем, я хочу сказать, — добавляет она, поскольку Анис выглядит сбитой с толку. — Иногда мама заговаривала об этом, и, даже будучи маленькой, я видела, как она любила свою работу. Почему она перестала этим заниматься?
Глаза Анис расширились.
— Из-за тебя, — говорит она. — Потому что ты родилась, и важнее ничего не было. Даже музыка была уже не так важна. Сара говорила, что ты — ее музыка.
Лаура гладит мою шерсть, и давление пальцев становится чуть сильнее, как будто она сжала их. Я начинаю урчать, надеясь, что это снимет напряжение.
— Но тогда зачем она открыла этот магазин грампластинок? Почему растила меня в том районе? Почему мы жили так, как жили, если важнее меня у нее ничего не было?
— Иди спой эту песенку своему мужу, красавица. «Мама недостаточно меня любила». — Впервые Анис, кажется, злится. — Ты забыла — я свидетель. Разве был на свете ребенок счастливее тебя? Чья мать так обожала свое дитя, как твоя обожала тебя? — Анис вскидывает руки вверх и начинает ими размахивать. — Твоя мать подарила тебе семью, — настаивает она. — Она подарила тебе жизнь. Разве не об этом мечтают все родители: дать своим детям то, чего у них самих никогда не было? Неужели ты думаешь, что я, глядя на твою квартиру, не вижу, чего ты хочешь для своих детей?
— Ты не видела меня пятнадцать лет. — Голос Лауры низок и резок. — Ты ничего не знаешь ни обо мне, ни о том, к чему я стремлюсь.
— Неужели? — Анис не повышает голос, но он почему-то звучит мощнее. — Я знаю, что ты позволила одному ужасному дню бродить в твоей голове, как больному чудовищу, которому ты не можешь позволить умереть. Да, я знаю, каким скверным был для тебя тот день, — добавляет она, когда Лаура делает вдох, как будто хочет ее перебить. — Скверные вещи иногда происходят, и люди месяцами, годами пытаются очухаться, потому что не получают дружеской поддержки, как твоя мать. Она никогда не получала поддержки от твоих дедушки с бабушкой, которых ты даже не помнишь, потому что они не удосужились познакомиться с тобой. Вместо них у тебя были Мандельбаумы, а вместо сестры — живущая наверху девочка (как ее звали? Мария… как дальше?), а еще Ноэль из магазина и все в округе, с кем мама познакомилась ради тебя — чтобы за тобой приглядывали. Твоя мама каждый день забирала тебя из школы и всю свою жизнь выстраивала так, чтобы иметь возможность больше времени проводить с тобой. И ей повезло, потому что не каждому выпадает шанс, не у каждого есть возможность поступать так.
Лаура ничего не говорит, пока поток слов Анис не иссякает. Я поднимаю глаза и вижу, как натягивается кожа у нее на шее, как в те времена, когда она хотела что-то сказать Саре, но не могла.
— Послушай, — продолжает Анис, — не мне тебя учить, что думать о твоей матери, Лаура. Но даже не смей считать, что она сделала недостаточно. Сара отдала тебе все. Она дала тебе семью. И вот ты сидишь тут — умная, успешная, замужняя, счастливая, следовательно, она все сделала правильно. Не думаю, что ты когда-нибудь поймешь, — Анис подается вперед и касается руки Лауры, — как она тобой гордилась.
Лаура кончиками пальцев прикасается к Анис, потом продолжает гладить мою шерсть. Я прижимаюсь лбом к ее руке и думаю над тем, что сказала Анис о Лауре, о Джоше, о Саре, которая дала дочери семью.
Когда Лаура заговаривает, ее голос звучит почти так же хрипло, как и смех Анис.
— Я так о ней и не поплакала. — Она поднимает одну руку и проводит по волосам, совсем как Сара. — Не знаю, что со мной не так. Но я не могу. Не могла.
Брови Анис ползут вверх домиком, отчего ее лицо смягчается.
— Сара гордилась бы тем, что вы с Джошем делаете для «Альфавилль» и людей, которые живут в том доме.
— Это все Джош. — Лаура откашливается. — Моей заслуги здесь нет. Я ничего не сделала.
Анис улыбается и склоняет голову набок. Иногда она смотрела так на Сару.
— Еще сделаешь.
Позже ночью, после ухода Анис, мы с Лаурой и Джошем вместе сидим в гостиной, и Лаура говорит мужу:
— Я бы хотела помочь тебе в твоем деле со зданием на Авеню «А».
В уголках его глаз появляется улыбка.
— Серьезно?
Лаура тоже начинает улыбаться, голос ее звучит легкомысленно, но глаза остаются серьезными.
— А почему нет? — удивляется она. — Спать по двенадцать часов в сутки — это слишком.
Только мне показалось, что я наконец поняла, кто такие люди, — и вот я вновь осознаю, какие они все-таки загадочные создания.
Глава 16
Пруденс
Телефон коротко звонит два раза, вместо одного длинного, как обычно звонит человек, живущий внизу в парадном, чтобы сказать, что к нам поднимается визитер. Лаура, сидящая на диване в окружении меня и стопки бумаг, которая намного больше меня, удивленно поднимает глаза. На кофейном столике много толстых книг, которые Лаура как-то вечером принесла с работы. Джош сейчас на каком-то собрании, в квартире мы с Лаурой одни.
— Да? — произносит Лаура, снимая трубку. После паузы говорит: — Разумеется, впустите его.
Потом она бежит в маленькую ванную комнату в коротком коридоре у входной двери, где проводит по волосам расческой и брызгает в лицо холодной водой. Я потягиваюсь и не спеша направляюсь туда же, чтобы помочь Лауре, если ее ожидает неприятный сюрприз. Когда звонят в дверь, она как раз вытирает лицо.
— Пэрри! — восклицает Лаура, открывая дверь. — Какой сюрприз! — На ее лице улыбка, она протягивает руку и на мгновение задерживает ладонь незнакомца в своей, но глаза смотрят настороженно.
Глаза Пэрри помимо его воли тоже пристально смотрят на нее. Он произносит:
— Хорошо выглядишь. Больше, чем просто хорошо. — Лицо Лауры становится розовым. Визитер на секунду едва заметно прикрывает глаза, как будто заливающееся румянцем лицо Лауры подтвердило его догадки. — Я могу войти? — спрашивает он.
— Конечно. — Она ведет его в гостиную, где он садится в одно из кресел напротив дивана. — Принести что-нибудь?
— Стакан воды был бы в самый раз, — отвечает он, и Лаура идет на кухню за водой. Я стою у второй двери на кухню — которая ведет в столовую и гостиную, — отсюда я внимательно наблюдаю за Пэрри. Некоторые люди, когда видят кошку, тут же стремятся ее погладить или сказать что-нибудь вроде: «Кис-кис, кошечка. Иди сюда». Некоторые выглядят раздраженными (особенно если у них аллергия), а некоторые вообще не замечают кошек. Пэрри не подпадает ни под одну из перечисленных категорий. Он сидит в кресле прямо, развернув плечи, — поза одновременно и собранная, и абсолютно расслабленная. Такое самообладание бывает у кошек, но у людей — почти никогда. Своими темно-карими глазами он смотрит прямо на меня, и в них я вижу намек на изумление.
Я обращаю внимание на его наряд: пиджак в тон брюк, обе вещи сделаны из материала, который кажется невероятно мягким и тем не менее нигде не сбивается в кучу и не морщится, как обычно бывает с человеческой одеждой, когда люди сидят. Вокруг шеи — лоскут темно-желтого материала (похожие я видела у некоторых мужчин по телевизору, хотя никогда — у Джоша). Туфли у него черные и абсолютно чистые, Сара бы сказала «безукоризненные». Я понимаю, почему раньше для Лауры было так важно угодить Пэрри на работе, и неожиданно радуюсь, что шерсть у меня на лапках практически полностью отросла.
Лаура входит в комнату с двумя стаканами и один протягивает Пэрри. Они некоторое время беседуют. Лаура называет имена людей, которые работают в их конторе, и интересуется, как у них дела. Оба, попивая водичку, прекрасно понимают, что Пэрри не стал бы приходить к Лауре, чтобы рассказать ей, что ее помощница слишком коротко постриглась, а человек по имени Грег продолжает заставлять всех смотреть снимки своего новорожденного ребенка. Но Пэрри кажется расслабленным и не спешит сообщить ей истинную причину своего визита.
— Как Джош? — интересуется он. — Похоже, мы не виделись со дня вашей свадьбы. Я надеялся, что смогу и его повидать. — У него сильный голос, однако не слишком громкий. Такой низкий, что от его звучания в моей груди поднимается негромкое «м-р-р».
— Его еще пару часов не будет, — отвечает Лаура. — Он работает над одним проектом и сейчас должен присутствовать на встрече.
— Ах да. Здание Митчелла—Лама на Авеню «А». Читал об этом в «Таймс».
Лаура смеется.
— Я уже позабыла, что вы всегда и все знаете, — произносит она. — Да, он на встрече с владельцами студии звукозаписи, расположенной в полуподвальном помещении здания. Она зарегистрирована как 501(с)(3)[22], поэтому их претензии имеют более веские законные основания, если дело дойдет до судебного слушания. Джош помогает им с документами.
Пэрри кивает.
— Прости старого друга за любопытство, но чем Джош намерен заниматься, когда все закончится?
— Если все сложится в нашу пользу… — Брови Пэрри ползут вверх, когда она произносит «в нашу», — … мы надеемся, что он сможет помочь им собрать достаточно денег для общепрофилактических программ и доказать, что ситуация была проплачена. Если нет… — Лаура вытягивает перед собой руки. — Кто знает? Пока все непросто. Мы стараемся жить одним днем.
Пэрри наклоняет набок голову и смотрит на нее.
— Ты говоришь, я все знаю, но я понятия не имею, почему ты вот уже месяц не появляешься на работе.
— Я на больничном, — медленно отвечает Лаура. — Если спросите в отделе кадров, увидите, что все документы должным образом оформлены и подписаны.
Пэрри подается вперед.
— Брось, Лаура. Я всегда думал, что мы можем разговаривать друг с другом по-человечески. Разумеется, все документы в порядке. Я тебя не об этом спрашиваю.
Лаура расправляет плечи и выпрямляет спину.
— Честно говоря, я удивлена, что вы хотите моего возвращения. Я думала, Клей совершенно ясно высказался по этому поводу во время нашей последней встречи.
— Клей так же хорошо, как и я, знает, какой ты отличный работник, — отвечает ей Пэрри. — Иногда, когда люди устают, они показывают свой норов. Мы все знаем, как непросто в нашем деле. Все в фирме хотят, чтобы ты вернулась. Откровенно говоря, — Пэрри улыбается, — ты стала у нас легендой. Как человек, который поднял Знамя Свободы. Ты единственная помощница, которая осмелилась отчитать Клея в его собственном кабинете.
Лаура лукаво улыбается.
— Я поняла. Вы хотите, чтобы я вернулась в доказательство того, что Клей не утопил мое тело в Ист-Ривер?
Он смотрит ей в глаза.
— Мы хотим, чтобы ты вернулась, потому что считаем, что у нас с тобой большое будущее.
— А это светлое будущее подразумевает повышение зарплаты? — Улыбка Лауры становится шире, а глаза, когда она смотрит на Пэрри, наоборот, становятся ýже.
— Повышение — конечно, — теперь Пэрри тоже улыбается. — Повышение достаточно ощутимое, чтобы оправдать эту улыбку Чеширского кота? Наверное, нет.
— Увеличение средств на представительские расходы может заставить меня отчасти согласиться. — Голос Лауры все еще звучит задиристо.
— Значит, мы уже ведем переговоры? Открывается новый филиал. Обычно мы бережем место для нового компаньона, но… — Пэрри смеется. — Мы могли бы что-нибудь придумать. Если ты говоришь серьезно.
Выражение лица Лауры остается приветливым, но улыбка исчезает.
— Не знаю, Пэрри. И дело тут не в Клее и не в зарплате, и не в организации, где я работаю. Мне нужно было время, чтобы подумать о том, куда идет моя жизнь. Не уверена, что мне хочется того же, чего хотелось несколько лет назад. Прямо сейчас я хочу помочь своему мужу спасти это здание. Знаете, — добавляет она, — это ведь была ваша идея.
Пэрри впервые за все время удивляется.
— Моя идея?
— Неужели не помните? — Поза Лауры становится немного расслабленнее, она откидывает корпус назад. — Когда я приходила и спрашивала у вас о домах Митчелла—Лама, именно вы сказали, что, если найдется адвокат-ас в своем деле и сможет «вынюхать» обо всех противоречиях в уставах и проблемах с содержанием здания, можно заставить владельцев сесть за стол переговоров.
— Понятно. — Пэрри качает головой. — Сражен собственным оружием.
— Как бы там ни было, — продолжает Лаура, — сейчас мне это кажется самым правильным. А после этого, если честно, я не знаю. Кое-что… изменится в моей личной жизни. Должность в конторе поскромнее мне подошла бы больше.
— Я так и подозревал, — отвечает он. — Еще слишком рано, чтобы поздравлять?
Лицо Лауры опять становится красным, хотя мне трудно понять, почему она смущается. Обычно люди любят принимать поздравления.
— Мы еще пару недель не хотим никому сообщать. — В ее голосе звучит неуверенность. Потом она улыбается и кладет руку на свой вздувшийся живот. — Хотя нет, уже не рано.
— Обо всем можно договориться, — уверяет Пэрри. — Свободный график, сокращенный рабочий день. Мы всегда так поступали. — Лаура открывает рот, чтобы возразить, но он настаивает: — Я просто хочу, чтобы ты подумала, от чего отказываешься. Ты никогда не заработаешь в маленькой конторе столько, сколько сможешь зарабатывать у нас через пару лет, когда вернешься к прежней работе.
Один уголок рта Лауры ползет вверх в полуулыбке.
— Знаю, — отвечает она. — Но не все меряется деньгами.
Пэрри опять кивает, едва заметно. Он допивает воду, потом встает, проводит рукой по груди и животу, разглаживая костюм. Лаура тоже встает.
— Мне нужно возвращаться, — вздыхает он. — Сейчас конец месяца, а мне кажется, еще никто в нашей группе не представил на подпись ведомости отработанного времени. Увы, не все такие, как ты.
Они уже доходят до входной двери, когда Пэрри останавливается и произносит:
— Чуть не забыл. Я надеялся познакомиться с той знаменитой кошкой, которая подняла весь этот шум.
Лаура оглядывается, видит меня сидящей на задних лапах у входа на кухню.
— Пруденс, — зовет она. В последнее время она иногда разговаривает со мной таким же особым голосом, каким общалась со мной Сара. Именно так она сейчас произносит мое имя. — Ты не могла бы подойти сюда и познакомиться с моим другом Пэрри?
И только приблизившись, я понимаю, что Лаура выше Пэрри, хотя никто из них не ведет себя так, будто знает об этом. И еще впервые я замечаю запах одеколона Пэрри. Обычно я не люблю искусственных человеческих запахов, но у Пэрри он особенный. От него пахнет глубоко и сильно — землей, другими животными и цветами, которые отдают свой аромат в ночное небо. От него так приятно пахнет, что я ловлю себя на том, что трусь головой о его ноги, не дожидаясь, пока он протянет мне руку.
— Ух ты! — изумляется Лаура. — Никогда не видела, чтобы Пруденс была так дружелюбна с незнакомым человеком. — Она улыбается так, что я понимаю — она шутит, и добавляет: — Может быть, она хочет поехать с вами.
Пэрри тоже улыбается, опускает глаза и замечает, что несколько белых волосков с моей грудки остались у него на брюках. Он смеется и говорит:
— Такое впечатление, что по крайней мере часть ее точно отправится со мной. — Он наклоняется, подносит руку к моему носу, я тыкаюсь в нее мордочкой. — Она красавица, — говорит он.
— Само совершенство, — подтверждает Лаура и серьезно добавляет: — Мы едва ее не потеряли. Кто-то на небесах нас оберегает.
— Не сомневаюсь. — Пэрри выпрямляется, потом опять смотрит на Лауру. — «У каждой травинки есть ангел, который наклоняется к ней и шепчет: “Расти, расти…”»
Глаза Лауры блестят, и без предупреждения она обнимает этого мужчину.
— Спасибо, Пэрри, — произносит она приглушенным голосом. — За все спасибо.
Он обнимает ее в ответ.
— Ты всегда можешь мне позвонить. Если передумаешь и захочешь к нам вернуться или если тебе что-нибудь понадобится. Ты же знаешь, да?
Лаура отстраняется и кивает. Пэрри целует ее в лоб и уходит.
По утрам Лаура выглядит более вялой, чем обычно, потому что больше не пьет кофе. Но сегодня за завтраком она кажется оживленной, когда говорит Джошу:
— Сегодня днем я встречаюсь с адвокатами, представляющими разные стороны в этом деле. Надеюсь, мы сможем начать официальные переговоры.
Джош тоже кажется встревоженным, когда ставит свою чашку с кофе на стол.
— Неужели мы уже до переговоров добрались?
— Ну… — Она кладет руку на стопку газет, которые читала, пока Джош готовил тосты. — У меня есть полный список нарушений при эксплуатации и пунктов, требующих ремонта. Если точно — их около двухсот. — Она гримасничает. — Я отметила все нарушения установленных положений, которые повлечет за собой предлагаемый договор между домовладельцем и застройщиком, который хочет купить данную недвижимость. В основном потому, что эти положения такие противоречивые, что никто не смог бы согласиться с ними всеми. — Она трет большим и указательным пальцем правой руки уголки глаз, приподняв очки. — Если честно, я не знаю, кто пишет все эти уставы. Однако, к нашему счастью, эти противоречия играют нам на руку. Ты сказал, что здание оценили в семь с половиной миллионов долларов и что жителям дома удалось собрать десять через займы и гранты? — Джош кивает. — Компания-застройщик предлагает пятнадцать. Мы предложим восемь и постараемся убедить, что длительная судебная война будет мучительной и более дорогостоящей, чем сама недвижимость.
Джош отодвигает свою тарелку в сторону, потом кладет кусочек тоста на пол, чтобы я могла слизать масло.
— Ты хочешь сказать, что мы все можем решить уже сегодня?
Лаура фыркает.
— Нет. Мы только запустим механизм, покажем им, насколько серьезно настроены на борьбу. Мы позволим домовладельцу уговорить нас на десять миллионов. Будем надеяться, что либо компания-застройщик снизит цену, либо владелец решит, что лучше взять десять миллионов сейчас, чем провести несколько месяцев или лет в борьбе за предложенные застройщиком пятнадцать.
На лице Джоша написано сомнение.
— А как же слушание в Отделе восстановления жилищного фонда микрорайона? Город выплатил девяносто пять процентов стоимости этого здания. Формально власти имеют право высказаться «за» или «против» вывода этого здания из программы Митчелла—Лама.
— Право-то у них есть, и, в принципе, власти должны бы пользоваться этим правом почаще, — соглашается Лаура. — Но обычно на практике они им не пользуются. Проблема слушания в том, что тут или да или нет. Если одна из сторон получает отрицательный ответ — игра окончена. — Лаура умолкает, отпивает из стакана апельсиновый сок. Когда она вновь начинает говорить, ее голос звучит мягче: — Знаю, ты лелеешь романтические мечты о большом процессе, о ликующей толпе, но в действительности компромисс — самое лучшее решение вопроса. Владелец получает больше официальной стоимости недвижимости, жильцы получают все привилегии прáва собственности, а общество сохраняет доступное жилье вместе с программами и услугами, которые предоставляет студия звукозаписи. Так будет лучше для всех.
Джош встает, выбрасывает остатки тоста в мусорку и дает мне из упаковки, лежащей на кухонном столе, кусочек сыра.
— Ты права, — говорит он Лауре. — За последние месяцы я так много занимался этим делом — теперь мне тяжело представить, что все закончилось.
Лаура выглядит удивленной.
— Но это не так! Сейчас как никогда важно сохранить давление со стороны средств массовой информации. Это убедит владельца, что он может проиграть суд, если отвергнет наше предложение и выйдет из-за стола переговоров. Каждое появление в новостях, каждая новая статья в газете — еще одна причина для него задуматься о надежности своих позиций.
Я никогда не думала, что человек, с которым ты в действительности знаком, может оказаться в телевизоре. Но через неделю после визита Анис к нам ее показали по телевизору в компании еще нескольких людей, по словам Джоша, известных музыкантов. Они сидели в комнате без окон в окружении множества музыкальных инструментов, и Джош с Лаурой тоже были там! Они держались позади, пока человек с микрофоном общался с Анис и другими гостями. Лаура с Джошем уже вернулись домой, когда началась передача, и было странно видеть их рядом со мной в комнате и одновременно их уменьшенную копию на экране телевизора.
После этой передачи телефон не переставая трезвонил несколько недель. Джошу звонили люди, чтобы договориться о новых телепрограммах, о написании статей в газеты. Люди, которым принадлежало здание, звонили Лауре, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. За последние пару недель Лаура редко бывала дома, потому что постоянно встречалась с людьми, которые там живут, и с их адвокатами. И вот однажды она принесла домой новости о том, что переговоры завершены. Она сняла пальто и как раз вешала его в шкаф в прихожей, когда по лестнице с встревоженным лицом спустился Джош.
— Ну? — спросил он.
— Все кончено. — Голос Лауры был таким серьезным, что Джош побледнел. — Владелец готов взять у объединения жильцов девять миллионов. Застройщик снизил цену. Мы с адвокатами из объединения жильцов должны подготовить документы, чтобы официально закрепить все на бумаге, но… — Я еще никогда не видела на лице Лауры такой широкой улыбки. — Все закончилось!
Джош громко вскрикнул и заключил жену в объятия, такие крепкие, что чуть не оторвал ее от земли. Мне кажется, что Лауре не больше моего нравится, когда ее поднимают вверх, потому что она едва не упала и хлопнула Джоша по плечу пару раз, пока он не опустил ее на пол.
— У нас получилось! — кричал Джош.
— У тебя получилось, — ответила Лаура. — У объединения жильцов получилось. Я только в самом конце подключилась. — Я представила ее подключенную шнуром к розетке. Мне кажется, она что-то другое имела в виду.
В тот вечер они вдвоем отправились на праздник, который устраивали жители этого дома, и продолжили праздновать через неделю, когда на очередной ужин приехали родители Джоша и его сестра с детенышами. Джош целых два дня готовил огромную индейку, и к тому времени, когда все собрались, мне казалось, я с ума сойду, если мне немедленно не дадут кусочек. Невыносимо смотреть, как Лаура с Джошем со всеми разговаривают, наливают выпить, приносят маленькие тарелки с маленькой едой, как будто в духовке у них не томится целая индейка, которая только и ждет, чтобы ее съели! Я твердо решаю стоять перед духовкой и мяукать, пока они не вспомнят о самом важном событии дня. Наконец все усаживаются и по кругу говорят, за что они благодарны. Я лично благодарна за то, что они положили на мою тарелочку индейки и другой еды до того, как сами сели за стол.
И тут Джош сообщает, что Лаура ждет ребенка. Наверное, это объясняет, почему она становится все больше. Я удивлена тому, как обрадовались родители Джоша, потому что прозвучало, что у Лауры будет только один ребенок. Если бы она родила сразу пять или шесть — тогда другой разговор! Но иметь одного ребенка в помете — типичный пример того, как нерационально поступают люди в большинстве случаев. Хотя, наверное, для меня лучше, чтобы в помете у Лауры был только один ребенок, потому что мне проще обучить манерам одного детеныша, а не целую кучу.
— Можно кое о чем спросить? — говорит мама Джоша. (Она любит начинать предложение с этой фразы: «А можно спросить?») — Вы уже знаете, кто будет: мальчик или девочка?
Лаура с Джошем улыбаются друг другу.
— Мы хотим, чтобы был сюрприз, — отвечает Лаура. — Иногда сюрпризы — это приятно.
— Да пусть хоть марсианин, главное, чтобы был здоров, — перебивает отец Джоша. — Мы с тобой узнавали пол детей только в родзале, — напоминает он жене.
— Однако вы подумали над именем? — допытывается мама Джоша.
— Подумали, — отвечает Лаура. — Если родится девочка, мы хотели бы назвать ее Сарой.
— Правильно! — кивает отец Джоша. — А если мальчик, все равно можно назвать его в честь твоей мамы. Сэмюель — прекрасное имя, сейчас редко услышишь такое.
— Пап, — одергивает отца сестра Джоша. — Уверена, они сами выберут имя.
— Сегодня вечером нужно перелистать нашу телефонную книжку, — говорит мама Джоша мужу. — Если родится мальчик, нужно устроить брит-мила[23]. Следует подумать, кого пригласить.
— До этого еще много времени, Зельда, — успокаивает ее отец Джоша. Подмигивает сыну и добавляет: — Твоя мать только и ищет повод, чтобы всем позвонить и сообщить новость.
— Просто я так рада! — Та встает и обходит стол, чтобы обнять Лауру. — Послушай меня, если возникнут вопросы, если что-то будет беспокоить, если не захочешь одна идти к врачу — тут же звони мне или Эрике. Мы на двоих вырастили четверых.
— А как думаете, Пруденс полюбит малыша? — задает вопрос Роберт, поднимая руку вверх.
Эбби добавляет:
— Полюбит, дядя Джош? Она не очень-то нам обрадовалась, когда мы познакомились.
— Это правда, — говорит мама Джоша. — Иногда кошки и дети не ладят.
Джош смеется.
— По-моему, Пруденс обязательно полюбит ребенка, ведь его можно учить уму-разуму.
— Что скажешь, Пруденс? — спрашивает Лаура.
Я сижу у пустой миски и жду, пока кто-нибудь обратит на меня внимание. За семейным обедом считается вежливым вновь наполнять тарелки едой, когда они становятся пустыми. Лаура смотрит в мою сторону. Я гордо шагаю на кухню и сажусь перед столом, на котором ждут меня остатки индейки. Я буду волноваться о том, полюблю или не полюблю ребенка, когда он здесь появится, но любимое лакомство следует съедать сразу же, пока оно еще стоит перед тобой.
Людям, живущим в Нижнем Ист-Сайде, в доме, который спасали Джош с Лаурой, переезжать не приходится, в отличие от нас. Лаура с Джошем говорят, что эта квартира слишком дорогая для нас, пока Джош не нашел работу, особенно сейчас, когда Лаура намерена служить в небольшой юридической конторе, где платят меньше. Когда-то у Лауры напрягались лицо и плечи, случись им заговорить об этом с Джошем. Однако теперь она кажется счастливой. Мы переезжаем в место под названием Гринпойнт, которое расположено в стране под названием Бруклин, и Лаура говорит, что теперь каждый вечер будет успевать домой на ужин. Наша новая квартира тоже двухуровневая, но она расположена на первом этаже, там нет парадного входа, и у дверей не сидит человек. Лаура с Джошем даже говорят, что там есть небольшой задний дворик с высоким забором, где я иногда смогу гулять! Слишком много перемен сразу… Это никогда к хорошему не приводит, но от мысли о том, что я остаюсь с Лаурой и Джошем, к тому же иногда смогу нежиться на солнышке, лежа на травке, я постановляю, что этот переезд — хорошая вещь.
Однако пока мы живем в бардаке, как говорит Лаура, выбрасывая многие вещи и упаковывая все, что осталось, в коробки. Иметь вокруг себя столько всего — пока это самая веселая часть переезда. Коробки — лучшее место для сна, потому что они небольшие и надежные, и, когда сидишь внутри, замечаешь приближающегося человека еще до того, как он увидит тебя. Моя новая любимая забава — прижаться к дну коробки, лежа внутри, и ждать, пока мимо пройдут Лаура или Джош, а потом прыгнуть на них. Сара давным-давно делала вид, что удивлена, когда я пряталась в листьях большого цветка, а потом прыгала на нее, но, мне кажется, Лаура с Джошем изумляются по-настоящему, когда я сейчас выпрыгиваю на них из своего укрытия. Это лишний раз доказывает, что коробка — идеальное место для игры в прятки.
— Как будет хорошо, когда мы распакуем все вещи на новом месте и раз и навсегда избавимся от всего этого, — сказал Джош вчера вечером, когда я повисла на его левой ноге двумя лапами. Я вспоминаю, сколько времени провела в коробках: я просидела среди них все это время, что живу в Верхнем Вест-Сайде. Если они исчезнут, я буду по ним скучать. Но иногда нужно отодвинуть свои коробки с воспоминаниями в сторону, чтобы начать жить будущим.
Сейчас на улице холодно, и сидящие на крыше дома напротив голуби практически сливаются со снегом. Интересно, а Лаура будет по ним скучать? Она говорит, что Новый год мы будем встречать уже в новом доме.
Новый год — еще одна вещь (как часы и минуты), которую придумали себе люди. Год не начинается и не заканчивается только потому, что все в одно и то же время собираются вместе и уверяют, что наступил Новый год. Год по-настоящему начинается тогда, когда с тобой происходит что-нибудь важное. Когда рождаешься. Когда находишь человека, с которым будешь жить всю жизнь. Жизнь начинается, когда обретает смысл. В моем случае это произошло в тот день, когда меня нашла Сара. С тех пор я считаю свои года.
Лаура с Джошем спустили все Сарины коробки вниз в гостиную, чтобы мы могли их перебрать и решить, что брать с собой, а что оставить, когда переедем. Запах Сары наполняет мой нос и достигает той части души, которая продолжает о ней иногда мечтать. Лаура с Джошем все делят на три кучи: куча «да», куча «нет» и куча «может быть». Джош тут же кладет все черные Сарины диски в кучу «да». Лаура кладет записную книжку Сары и небольшой сдвоенный барабан в кучу «нет». Спичечные коробки и «птичьи» наряды отправляются в кучу «может быть».
— Не хочу их выбрасывать, — признается Лаура, — но это ужасно — столько вещей тащить с собой.
— Мы могли бы отправить все на хранение, — отвечает Джош.
На лице Лауры написано сомнение.
— Наверное. Да, нужно снять камеру хранения. Почему каждый раз, когда переезжаешь, у тебя оказывается все больше и больше вещей?
— По-моему, это закон физики: количество вещей в шкафах и коробках со временем увеличивается. — Голос его звучит очень серьезно, когда он это произносит, но на лице сияет улыбка.
— Если уж говорить об увеличении… — произносит Лаура, доставая меня из коробки, — кто-то в последнее время значительно поправился.
По-моему, нечестно со стороны Лауры говорить о моем весе, когда она сама с каждым днем становится все больше и больше. Но глаза ее сейчас блестят, как обычно, когда она думает о чем-то смешном, следовательно, вполне возможно, что она не пытается меня обидеть. Она опускает меня на стопку с черными дисками, что не может не удивлять, потому что Сара никогда не позволяла мне прикасаться к ним. На лице Джоша тоже написано изумление. Но Лаура только смеется и говорит:
— Ведь Пруденс тоже едет с нами, разве нет?
У меня под животом плотные картонные обложки, в которых хранятся черные диски, прохладные и гладкие, и я счастлива, что могу полежать на них хотя бы немножко. Неожиданно Джош вскакивает и восклицает:
— Чуть не забыл! — Я слышу его шаги на лестнице, потом он возвращается с пакетом «Любовь спасет день». — Я спрятал его у себя в комнате, когда однажды застал Пруденс за тем, что она разрывала все на куски.
«Разрывала!» Отлично помню тот день. Один из первых дней после моего переезда сюда, и я просто хотела найти удобное место, чтобы заснуть рядом со своими воспоминаниями о Саре!
Я смеряю Джоша самым негодующим своим взглядом, но он уже сидит на полу, сунув руку в пакет.
— Кажется, это всего лишь старые газеты и тому подобный хлам, — говорит он Лауре и кладет пакет на кучу «нет». Но я вспоминаю, что в пакете с надписью «Любовь спасет день» нашла кое-что еще. Спрыгиваю со стопки черных дисков, ныряю головой в пакет и начинаю доставать старые газеты. (Вот тут-то и пригодился один «лишний» коготь). Лаура с Джошем смеются тем сильнее, чем глубже я лезу в пакет. Вскоре я добираюсь до металлической коробки на дне — именно отсюда Сара достала красный ошейник в тот день, когда подарила его мне, — но она слишком тяжелая. Я снова и снова дергаю ее, моя спина так сильно напрягается, что выгибается дугой, едва не разрывая плотный бумажный пакет.
Лаура в конце концов замечает мои усилия и сует руку в пакет, чтобы помочь мне. Когда моя голова вылезает наружу, я вижу, что Лаура держит в руках коробку. Она вся поцарапанная, во вмятинах, и я вспоминаю, что Сара тогда с трудом ее открыла. Я не вижу выражения лица Лауры, потому что она смотрит вниз, но, кажется, она вертит эту коробку в руках слишком долго.
— Что это? — спрашивает Джош.
— Это из нашей старой квартиры, — негромко отвечает Лаура. — Всегда думала, что она потерялась в тот день, когда дом снесли.
— Ты знаешь, что в ней? — На лице Джоша написано любопытство. Потом появляется тревога, поскольку Лаура не сразу отвечает на его вопрос.
— Не уверена, — она продолжает вертеть коробку в руках, пытаясь ее открыть. — Как ей удалось ее найти?
— Такое впечатление, что она на войне побывала, — говорит Джош. — Давай молоток принесу, посмотрим, сможем ли открыть.
— Мне кажется, у меня получится. — Лаура просовывает палец в крошечное углубление между помятой крышкой коробки и ее основой и пытается отщелкнуть замок. Пару секунд она там ковыряется, и, когда Джош уже протягивает руки, чтобы помочь, коробка открывается. Руки Лауры дрожат, когда она начинает доставать содержимое. Там лежат какие-то красные атласные ленты, старая скомканная футболка. На ней смешная картинка — фальшивое ухо, с которого свешиваются черные диски, — и какая-то надпись сверху. Лаура говорит, что надпись гласит: «МАГАЗИН ГРАМПЛАСТИНОК “УШНАЯ СЕРА”». Еще лежат фотографии совсем юной Сары, которая стоит рядом с мужчиной, немного похожим на Лауру. Сара держит на руках ребенка и улыбается. На другой фотографии загиб, как будто ее складывали пополам. На ней совсем юная Лаура обнимает древнего старика.
Джош пересел к Лауре и смотрит поверх ее плеча, а она достает маленькую бархатную сумочку, где лежит простое золотое кольцо.
— Это обручальное кольцо моей мамы. — Лаура поднимает глаза. — Думаю, она так и не смогла разлюбить отца. Она никогда ни с кем не встречалась. А каждый год в день их свадьбы доставала старые пластинки и слушала «их песни».
Джош заключает жену в объятия.
— В этом беда неисправимых романтиков. Если уж влюбляются, то на всю жизнь. — Но в действительности он, похоже, не считает, что это «беда», когда целует Лауру в макушку.
На дне коробки оказывается небольшой пластмассовый прямоугольник с двумя пробитыми насквозь дырками.
— Кассета, — удивляется Джош. — Что на ней?
— Я… не знаю. — Лаура достает кассету из коробки и вертит ее в руках, но никаких надписей на ней нет. — Она записывала столько сборников, когда работала диджеем. Наверное, это один из них или…
Она не заканчивает предложение, поэтому Джош предлагает:
— Давай прослушаем ее на моем старом кассетнике. Он у меня в кабинете. — Джош взбегает по лестнице, я слышу, как над нашими головами в Домашнем кабинете что-то передвигается, а потом Джош прибегает назад. В руках у него какой-то предмет, похожий на черное радио с окошком спереди. Это «радио» все в пыли, как будто им долго никто не пользовался. Джош нажимает кнопку, окно открывается, он берет у Лауры из рук кассету и засовывает ее внутрь.
Сперва раздается только шипение: «ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш». Потом начинает играть музыка. Потом голос, очень похожий на голос Сары, только немного выше, произносит: «Готова?», а голос маленькой девочки отвечает: «Но я не умею петь так хорошо, как ты». А голос Сары предлагает: «Тогда давай споем вместе. Просто попробуем».
— Боже мой… — Сейчас голос Лауры — скорее шепот, она подносит руку ко рту. — Мы вместе записали эту песню на студии «Альфавилль». Мне было всего шесть или семь.
Голос Сары что-то напевает, как будто пытается показать маленькой Лауре, как звучит мелодия. Потом обе поют:
Услышать сейчас голос Сары — все равно что вернуться в тот день, когда мы обрели друг друга. Пение Сары стало моей первой любимой в жизни вещью, из которой произошли все остальные прекрасные вещи. Ее пение — это холодные ночи, когда мы лежали вместе, свернувшись под одеялом, и льющийся в окна солнечный свет, от которого волосы Сары казались мягким золотом. Это рука, которая гладила меня по спине, когда мне было страшно. Цокот каблуков по лестнице в то время дня, когда я точно знала, что Сара должна вернуться домой, и ждала ее в керамической чаше у двери. Это звук Сариного голоса, который спрашивает: «Кто моя любовь? Кто моя маленькая любовь?» И пусть я не могу ответить ей на языке людей, хозяйка голоса и сама знает ответ.
Моя первая прекрасная вещь. Здесь, в чужой квартире, в совершенно чужой стране.
Теперь я понимаю, что имела в виду Сара, когда говорила: если помнишь кого-то, он останется с тобой навсегда. Сейчас Сара здесь, с нами. Когда я слушаю ее песню, понимаю, что она никогда не уходила.
От воды, которой наполняются глаза Лауры, они темнеют, пока не становятся такого же цвета, какого были глаза Сары. Когда она закрывает руками лицо и плечи ее начинают трястись, я знаю: она чувствует все то же, что и я. Голос Сары и для Лауры был самой первой прекрасной вещью.
Заслышав всхлипывания Лауры, мы с Джошем одновременно бросаемся к ней. Джош опять обнимает жену, я забираюсь к ней на колени. Из-за ее растущего живота мне сделать это сложнее, чем раньше, но я все равно прижимаюсь лбом к ее груди и неистово урчу.
— Смотри, — шепчет Джош. — Пруденс тоже вспоминает.
И мы все трое сидим так, пока плечи Лауры не перестают дрожать, а одна рука не опускается мне на голову. При дневном свете, льющемся из окна, я вновь думаю о том, как похожи руки у них с Сарой. На улице, на крыше соседнего дома бело-янтарные голуби жмутся друг к другу на холодном ветру. А потом один за другим они взлетают в небо. Но лишь для того, чтобы вскоре вернуться в то место, которое считают домом.
От автора
24 января 1998 года столетнее здание, расположенное по адресу: Стэнтон-стрит, 172 и находившееся в жилом состоянии, снесли городские власти, после того как в службу «911» поступил звонок, в котором сообщалось о том, что во время дождя обрушилась тыльная сторона фасада. Рано утром около двух десятков жителей этого дома были эвакуированы, людям не позволили даже собрать личные вещи. Пожарные и городские власти уверяли их, что через несколько часов они смогут вернуться в свои квартиры. Мэр города Рудольф Джулиани в 11.00 вошел в здание, даже не надев каску, а жильцам, разумеется, никто не позволил вернуться в квартиры. Через восемь часов дом начали сносить.
До сих пор ведутся жаркие споры о том, являлось ли здание аварийным. Свидетели утверждают, что понадобилось целых тринадцать часов, чтобы сровнять его с землей, а самостоятельно оно так и не рухнуло. Сегодня на этом месте возведены роскошные апартаменты.
События, описанные в тринадцатой главе этой книги, хотя и были навеяны рассказами очевидцев и газетными статьями, — являются выдумкой и не призваны в точности описывать реальные события. Главные герои этой книги тоже являются плодом воображения автора.
А вот кошка Хани существовала (а может, существует до сих пор?) в действительности. Хани — одна из двух кошек, которые в компании с попугаем жили в здании на тот момент, когда его снесли. Хозяевам не позволили забрать своих питомцев. Больше ни кошек, ни попугая никто не видел.
Слова благодарности
Создание этой книги было бы невозможно без следующих книг:
«Город-алфавит» Джеффри Биддла;
«Прошлой ночью диджей спас мне жизнь» Билла Брюстера и Фрэнка Бротона;
«Альфавилль — 1988: преступление, наказание и борьба за Нижний Ист-Сайд в Нью-Йорке» Майкла Коделла и Брюса Беннетта;
«Уличные игры» Марты Купер;
«Скрытое мародерство!» Роберта Кервина и Брюса Портера;
«Горячие штучки: диско и перекраивание американской культуры» Эйлис Эколс;
«Все вскочили и готовы отправиться в путь: музыка на улицах Нью-Йорка, 1927-1977 гг.» Тони Флетчера;
«Оставляя следы: рождение Блонди» Дебби Хэрри, Криса Стейна, Виктора Бокриса;
«Любовь спасет день: история американской танцевальной культуры, 1970-1979 гг.» Тима Лоуренса;
«Пожалуйста, убей меня: история панка без купюр» Легса Макнейла и Джиллиан МакКейн;
«Сопротивление: радикальная социально-политическая история Нижнего Ист-Сайда» Клейтона Паттерсона и Джеффа Феррелла;
«Томпкинс-сквер-парк» К. Сакамаки;
«Нью-Йоркский рокер» Гэри Валентайна;
«Обнаженный город: смерть и жизнь аутентичных городских кварталов» Шарона Зукина.
А также без газетной статьи:
«The Angry Urban Refugees», опубликованной в «Нью-Йорк Таймс» 10 мая 1998 г.
Эта книга не увидела бы свет без следующих людей, которые позволили мне взять у них интервью о материнских чувствах, музыке, магазинах грамзаписи, токсичности лилий и ее влиянии на кошек, жизни в юридической фирме, программе Митчелла—Лама и повседневной жизни в окрестностях Нижнего Ист-Сайда в 70-80-х годах. Итак, спасибо:
Доктору Трейси Демеоле, Ричарду Финкельштейну, Джиму Киику, Джону Киуссиса, Андреа Клайн, Мэнни Марису, Доркате Отвеа, Клейтону Паттерсону, Бинки Филипсу, Ди Попу, Тони Сачсу, Джею Уилсону и нескольким женщинам-юристам, которые пожелали остаться неизвестными.
Хочу выразить свою глубочайшую признательность не менее важным персонам:
Мишелю Рубену, суперагенту и чуткому советчику. Моим редакторам: Кейтлин Александер (первый человек, который влюбился в Пруденс) и Кейт Мисиак, которая была со мною более терпелива, чем я того заслуживала, поскольку спешила дописать последнюю страницу. Их проницательность и сотрудничество сделали эту книгу значительно лучше, чем можно было бы предположить.
А также отдельное спасибо:
«Анис-очнись» Лабрум — за десять лет искренней дружбы и безумных историй, лучше которых я никогда не смогла бы придумать, за то, что прилетела из Напы в Нью-Йорк за неделю до моей свадьбы — со сломанной рукой! — чтобы сшить мне свадебное платье. За то, что позволила так бесстыдно пользоваться своим именем, талантами и образом.
Пери Стедман, женщине на чьем тридцатилетии меня познакомили с Лоренсом Лерманом. Обещаю тебе использовать твое имя и в следующей написанной мною книге!
Дэвиду и Клэр Беркович, моим бабушке и дедушке, за то, что вдохновили меня на создание образа Мандельбаумов. Мне так повезло, что целых двенадцать лет в детстве с нами жила бабушка и рассказывала мне сказки, которые, наверное, думала, я забуду. Бог был так милостив ко мне, подарив двух матерей.
Дэвиду и Барбаре Купер, моим родителям и самым лучшим почитателям, о которых только может мечтать дочь, решившая стать писательницей.
Лоренсу Лерману, лучшему в мире мужу и моему первому редактору, который прочел (а потом прочел еще раз, и еще) каждое слово в этой книге. Его меткие замечания временами заставляли меня задуматься, а не стоит ли взвалить весь писательский труд на него. Он мирился со мной так много-много месяцев, когда я была совершенно невыносима. И разумеется, спасибо Бэну и Сандре Лерман. Ни у кого не было таких прекрасных свекра со свекровью.
Мелани Парадайз, отличной подруге и еще лучшей опекунше для кошек, которая после моего мужа и редакторов первой прочла эту книгу.
Роде Палметиер, вечная память. Любовь Роды сохранила жизнь сотням кошек и котят, которые в противном случае погибли бы на улицах или умерли в приютах. Нам всегда будет не хватать твоего громадного сердца.
Все, кто прочел «Одиссею Гомера», связались со мной по электронной почте, общались со мной и Гомером на Фейсбуке и Твиттере, и эта ежедневная поддержка помогала мне двигаться дальше, когда я уже думала, что не смогу дописать эту книгу.
И наконец, хочу поблагодарить Клейтона и Фанни Купер-Лерман — самых изумительных котят (не считая, разумеется, Гомера, Вашти и Скарлетт) — за частые и такие необходимые в последние недели работы над книгой перерывы с возможностью посмеяться.