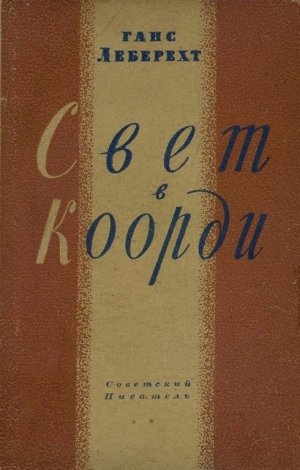
ГЛАВА ПЕРВАЯ
В просторной кухне хутора Вао только что сытно позавтракали. Три рослых дочери Йоханнеса Вао, встав из-за стола, сразу же разошлись по работам. Младшая, пятнадцатилетняя Линда, занялась мытьем полов в комнатах, — была суббота.
Жена Йоханнеса, Лийна, могучего сложения женщина, хлопотала в кухне; все, к чему ни прикасались ее большие, белые, по локоть обнаженные руки, приходило в стремительное движение. С шумом низверглась вода в чугунный котел — сварить картофель свиньям, охваченная пламенем затрещала вязанка хвороста в плите, со стуком полетела посуда в таз с теплой водой; мучнистая пыльца поднялась над деревянным чаном для теста, — сегодня на хуторе Вао будут печь хлеб… Лийна плеснула воды на цементный пол, носивший на себе немало царапин от подков тяжелых крестьянских сапог, и в одну минуту насухо вытерла его.
Только сам хозяин Йоханнес Вао, среднего роста кряжистый крестьянин с большой головой, прочно посаженной на короткой воловьей шее, остался сидеть за обеденным столом. Он сидел спокойно, опустив широкие плечи, чуть ссутулившись, с ленивым и благосклонным вниманием следя за бурной деятельностью жены; взглядом проводил струйку грязной воды, подтекшей от размашистой метлы Лийны к его ногам, однако ног не отодвинул. По тому, как он медлительно и обстоятельно разложил перед собой жестяную коробку с доморощенным табаком, зажигалку и взял в рот прокуренную трубкус медным колечком на мундштуке, Лийна поняла, что Йоханнес не скоро намерен сдвинуться с места.
— Петер Татрик своего жеребца ведет — к кузнецу, наверное… — крикливым голосом сказала она, выглянув из окна на дорогу.
— Гм… к кузнецу? — раздумывая, отозвался муж. — Как будто не собирался…
— Подковывать… — безоговорочно решила жена. — Сейчас у кузнеца работы мало; Татрик пользуется случаем.
В голосе Лийны Йоханнес не мог не почувствовать скрытой иронии, относящейся, несомненно, к нему, но он только выпустил синий клуб дыма и не пошевелил даже бровью. Ему было покойно. Да и чего особенно беспокоиться человеку, который в своих хозяйственных работах нисколько не отстал от соседей, а кое в чем и обогнал их: разве у него не был обмолочен хлеб, не поднята зябь под яровые? Даже картофель, как в колыбели, уложен в куче. Правда, он мог бы съездить в лес привезти воза два хвороста или сходить к тому же кузнецу, чтоб отковать полозья для саней, о чем уже было договорено, мог бы, наконец, найти еще какую-нибудь другую работу, но стоит ли ее делать именно сегодня, в субботний день, когда на дворе моросит мелкий дождь, а дома так тепло и уютно, и приятно смотреть, как кипит работа в руках дочерей и жены. Надо человеку иногда и спокойно посидеть, подумать и покурить… Ведь для того и табак посажен, чтоб получать от него удовольствие. Он, Йоханнес, жил не спеша, и разве это плохо? Он — глава большой трудолюбивой и крепкой семьи, в его закромах хлеба хватает от урожая до урожая. Кто может сказать, что слово старого Йоханнеса не ценится в деревне Коорди? Оно очень уважается. Лучшим доказательством уважения служит то, что Йоханнес Вао избран членом землеустроительной комиссии, — некоторым образом он человек государственный…
Дождь пройдет, и он сходит к кузнецу, а хворост лучше привезет санным путем. Хорошо жить не спеша, осторожно — сто раз подумав как и когда лучше заколоть овцу, чтоб успеть получить с нее побольше шерсти и ягнят и чтоб притом мясо не было жесткое…
Так думал Йоханнес Вао, покойно раскуривая хрипящую трубку, когда Лийна своим резким голосом оборвала плавную нить его мыслей:
— Сааму идет… К нам.
— Гм… — с оттенком интереса в голосе отозвался Йоханнес, слегка пододвинувшись на своем месте.
Из соседнего хутора, мокрая оцинкованная крыша которого тускло поблескивала над елями, полевой межой шел человек в заячьей зимней шапке с болтающимися наушниками. Что-то странное и тревожное было в его походке, в том, как он, мелко семеня, переставлял ноги и высоко, словно прислушиваясь, нес голову.
— С Анной Курвест что-нибудь… — сказала Лийна и вздохнула. — Несчастная судьба… Сыновья бог знает где. И где этот Курвест сам теперь, почему он не вернулся?
— Ну… вернулся… — Йоханнес усмехнулся не без презрения к наивности жены. — Мало ли у него на совести… — Махнув рукой, Йоханнес пробормотал: — Нет, он не вернется, если и жив. Его, говорят, последний раз на острове Сааремаа видели, но уже без жеребца, без телеги и барахла.
— Мне старого Курвеста и сыновей его не жалко, — запальчиво сказала Лийна, — я о Сааму думаю, — куда он денется, если сестра умрет? Да и хутора жаль. Смотри, что делается, какие-то родственники объявились, коров, свиней растащили…
— Тащат, — охотно согласился Йоханнес, кивнув головой, — это ясно: Анна больна, а Сааму — что ему… не его и богатство-то. Там у них я телегу видел, новая телега, а стоит без дела. Я еще подумал: наша уж стара, — покупать надо… И вот увидишь, телега тоже кому-нибудь понравится…
Йоханнес, неодобрительно посмотрев на жену, с негодованием сплюнул табачную горечь и решительно докончил:
— Нет, это я посмотрю еще…
Тем временем человек приближался. Межа закончилась, он секунду постоял, а затем еще медленнее пошел целиной.
— Он слишком вправо взял, — заволновалась Лийна, — он в наш пруд попадет…
Секунду спустя пронзительный голос ее кричал на пороге:
— Сааму, ты левее, левее бери! К сараю держи… Сюда, Сааму!
Сааму осторожно ступил на порог, и теперь, когда на миг тускло блеснули белесые глаза на высоко поднятом прислушивающемся лице его, стало видно, что он слеп.
Опрятностью веяло от Сааму, начиная с воротника чисто отстиранной рубашки и кончая аккуратно зашнурованными кожаными лаптями.
— Здравствуйте, — высоким тенором сказал Сааму, — нет ли у вас чужих?
Он застенчиво и вопросительно повел слепыми глазами.
— Никого нет, мы с хозяином, — сказала Лийна, подводя Сааму к столу.
По тому, как хозяева радушно усаживали Сааму, было видно, что его принимают здесь как приятного гостя.
Но на этот раз от Сааму не услышали обычных его шуток. Он как сел, так и замолчал, чинно положив заячью шапку на колени и перебирая мех ее длинными подвижными пальцами с панцырно-крепкими ногтями.
— Все ли дома в порядке, Сааму? — спросила Лийна.
— Нет, не в порядке, нет, — тихо сказал Сааму. — И вот поэтому я и пришел… Йоханнес и ты, Лийна, я сегодня пришел с просьбой, чтоб ваши девки запрягли нашего белого мерина и поехали в город за доктором. К кому пойти, думаю? Пойду к Йоханнесу и Лийне, попрошу…
Йоханнес принялся набивать трубку и делал это так старательно, что ему некогда было ответить.
— Хуже Анне? — нарушила молчание Лийна.
— Анна… теперь отгоняет ее, — подумав и понизив голос, сказал Сааму.
— Кого отгоняет? — испуганно спросила Лийна.
— А — рукой от себя, вот так…
Сааму, несколько запрокинув голову, сделал равнодушное отсутствующее лицо, медленно поднес руку к глазам и затем с усилием отвел ее от себя, словно разрывая невидимую паутину, окутывающую лицо. Должно быть, вышло так похоже, что стало тихо, и Лийна широко раскрыла глаза.
Ощущая на себе вопросительные взгляды, Сааму пояснил:
— Рукой по стенке шаркает… Надо ехать за доктором.
— Сегодня ехать? — густо спросил Йоханнес и покосился на окно.
— Сегодня, — вместо Сааму решительно ответила Лийна, и Сааму, как эхо, тихо повторил:
— Сегодня лучше бы…
— Ну что ж, если такое дело — наша Вильма поедет, успеет она капусту засолить, — решил Йоханнес. — Вильма сейчас пойдет с тобой и запряжет вашего старого мерина, и привезет доктора.
Однако Йоханнес тут же передумал. Мысль о хорошей новой телеге на хуторе Курвеста, не дававшая покоя, придала ему великодушия.
— Да нет, постой, Вильма — женщина, ей не справиться с таким делом. Тут дело спешное, да и доктора надо уговорить… Да и мерин ваш Анту стар, он к вечеру не обернется. Я поеду сам и лошадь впрягу свою, только телегу возьмем вашу. Вот и болтовне конец! Я иду с тобой.
И Йоханнес стал собираться, чтоб пойти с Сааму и запрячь свою лошадь в телегу Курвеста.
Было уже за полдень, когда Йоханнес Вао остановил лоснящуюся от дождя лошадь на дворе хутора Курвеста, и доктор Тынисберг, небольшого роста пожилой человек в старомодной широкополой шляпе, закрыл зонт, под которым ехал всю дорогу. Он довольно ловко спрыгнул с телеги и, энергично шлепая галошами по лужам, направился к дверям, в которых стоял Сааму и кланялся.
Это был славный доктор Тынисберг, жизнерадостный крепыш. С несокрушимым здоровьем его ничего не могло поделать время. Многие пожилые крестьяне, в том числе и Йоханнес, помнили, что у Тынисберга уже седина пробивалась в висках, когда они еще были безусыми парнями. Теперь же, когда у Йоханнеса самого посеребрились густые жесткие волосы, голос доктора звучал попрежнему энергично и бодро и румянец во всю ширь покрывал крепкие щеки. Румянец на щеках Тынисберга, кажется, больше всего вселял в окрестных крестьян уважение к способностям доктора и к его науке.
— Здравствуй, Сааму, здравствуй, ну, ты тоже не стареешь, да, да… — благосклонно и громко зазвучал голос доктора на кухне и словно спугнул тишину, поселившуюся здесь: серая кошка спрыгнула со стула и спряталась, а остроухий белый шпиц вскочил с места и звонко залаял.
— Ну, где больная, где Анна Курвест? Посмотрим, да, да… Сюда? — и он открывал уже дверь в комнату.
Йоханнес, сняв коробившийся брезентовый плащ, с которого сразу же стекла на пол лужица, но не снимая пальто, — предстояло ехать отвозить доктора, — уселся к столу и стал вытаскивать табак.
Он слышал голос Тынисберга, гремевший в комнатах.
— Ну, где моя Анна, где моя красавица, посмотрим, что же с ней сделали?.. Я слышал вас, слышал, как же, помню… Вы пели в хоре у старого Шютса в народном доме Марди. Да, да… У вас был, мало сказать прекрасный, — ангельский голос, да, да… Но я вас сейчас плохо узнаю, очень плохо… Ну, послушаем, послушаем…
Выкрики доктора мало-помалу перешли в невнятное бормотание; ему отвечал слабый женский голос; услышав его, Йоханнес покачал головой.
Поливая над тазом на маленькие белые и волосатые руки доктора, Сааму напряженно прислушивался к его словам, однако доктор говорил самые обыденные и незначительные слова, и по ним трудно было понять что-нибудь.
— А у вас еще с лета мухи сохранились, — громко бормотал он, мимоходом уловив звонкий полет одинокой мухи, до пены намыливая руки и разбрызгивая воду.
Рецептов Тынисберг написал несколько; поставив под последним закорючку подписи, он, понизив голос, внушительно и с укоризной сказал Сааму:
— Друг мой, есть люди, которые сразу лишают себя жизни, а есть такие, которые — годами…
Не поняв слов доктора, но чувствуя, что они относятся к сестре Анне, Сааму спросил:
— Что у нее болит?
— Что? И ничего и все… Сердце, конечно, плохое… Я прописал что нужно, да, да…
Затем доктор поднялся и стал одеваться. В сенях, когда Тынисберг уже шагал к повозке, Йоханнес, густо сказав ему вслед: «Подождите, доктор…», взял Сааму за рукав и забормотал:
— Я вот давно уже смотрю… У вас, скажем, две телеги… И куда вам две? Ваше дело такое: что завтра, послезавтра будет — неизвестно, а мне телегу покупать надо. А зачем мне на базаре брать, раз мы соседи?
— Телеги не мои, — равнодушно сказал Сааму.
— Вот, вот… не твои, а Курвеста. Но где Курвест? — обрадованно загудел Йоханнес, почти вплотную приперев могучей своей грудью Сааму к дощатой стене сеней и жарко дыша ему в шею. — Фюйть — нет Курвеста!.. Ты скажи Анне. Тут мало ли что с ней случится, все растащат. А мы все же соседи. Да и заплатить я могу немножко, или мукой, скажем…
— Я скажу… — так же равнодушно обещал Сааму.
На дворе с телеги послышалось нетерпеливое покашливание доктора.
— Тебе что… ты человек несвязанный, — продолжал бормотать Йоханнес, косолапо ступая по двору за Сааму, — одна душа легкая в чистой рубашке. Телега — Курвеста, но Курвест — фюйть! А телега — это добро.
Сааму певучим голосом благодарил доктора, который ради них, простых людей, пустился в такой длинный путь из города. Пусть доктор не рассердится, Сааму положил ему на воз кусок бекону и мешочек белой муки под брезентом, вот здесь… Хотел было положить еще яичек, да не находит он их что-то последнее время, — прячут их куры, или хорек… Пусть доктор не обидится…
— Ну, ну, лишнее, — поморщился Тынисберг; потрогав изрядный кус, завернутый в мешковину, подумал: «Э, да он тут целый бок завернул…»
Пока Йоханнес возился у лошади, доктор, обращаясь к высоко поднятому строгому лицу Сааму, наскоро повторил все свои наставления и, вздохнув, пожал холодную руку слепого.
— Ну, ну, ничего, старик… Да, да…
Телега, мягко шурша и кое-где выстукивая на камнях, покатила со двора.
— Ты скажи Анне! — обернувшись, крикнул Йоханнес. — А телегу я пока оставлю у себя.
Звуки колес смолкли, и стало слышно, как ветер шарит по углам построек и шумит в живой еловой изгороди, окружающей дом. С пасмурного октябрьского неба сыпал мелким бисером дождь.
Сааму, опустив по бокам руки, постоял немного, прислушиваясь к ветру, потом вошел в дом, где после громко звучавшего голоса доктора стало особенно тихо. Быстро наступали осенние сумерки.
Сааму продолжал свой прерванный трудовой день. Он зажег фонарь и поставил его на скамью. Казалось бы, для слепого свет не имел значения, но это было не так. Сааму был не совсем слеп. Он, как говорили в народе, «видел тень». Глазами, подернутыми безжизненной поволокой, смутно ощущал сияние дня, видел свет в окнах и лампу темными вечерами и даже время мог определить по солнцу.
Работы в доме находилось много, ведь уже год как он был единственным работником на хуторе Курвеста, на хуторе, когда-то богатейшем в деревне. И хотя за этот год хозяйство пришло в упадок и незаметно уплыла большая часть добра, работы все же было слишком много для одного человека, тем более для такого, как Сааму.
Он разжег огонь в очаге, натаскал в чугун воды, поставил греться, накрошил в большие чаны картофеля коровам и свиньям, насыпал муки, залил кипятком. Приготовив корм, взял фонарь и отправился в хлев.
Со скрипом открылась широкая дверь сарая. Просторная темнота встретила Сааму тихими шорохами, запахами мякины и соломы. Почувствовав близкое присутствие человека, призывно заржала лошадь, закукарекал петух, отрывисто захрюкала свинья.
Если бы кто-нибудь увидел здесь в хлеву, при неверном свете фонаря. Сааму, он долго бы, пораженный, следил, как бережно и умело тот опускал коровам сено в кормушки, каждой из них почесал мягкую вислую шею, отыскал в принесенной охапке клок клевера и поднес к губам старого Анту; перебрав пальцами жесткую челку его, вытащил оттуда несколько головок цепкого репея. Всех бы удивила широкая добродушная улыбка, появившаяся на лице Сааму, когда он обратился к мерину:
— Ну что, Анту, мой свадебный конь, что же делать нам?
И скребком стал оглаживать Анту. Умиротворенное и спокойное выражение было на его лице, словно не на проклятом хуторе он жил, словно не тяжело больна была Анна… А ведь он любил Анну!
Никого не забыл Сааму; меся ногами грязь, покрывающую двор, он натаскал ведрами пойло свиньям, накормил и напоил овец. Потом подоил коров, нацедил молоко на кухне и налил его в блюдечко серой кошке и белому шпицу Микки. Все это отняло у него добрых несколько часов, и уже совсем стемнело, когда, убрав кухню и вымыв руки, Сааму вошел в комнату к больной сестре и певуче сказал в темноту:
— А вот сейчас и свет будет…
Зажег лампу на маленьком столе у изголовья кровати.
Из темноты выступило бледное и нездоровое женское лицо. Теперь, когда болезнь подточила Анну, трудно было определить ее возраст, но, должно, быть, она была еще не стара и когда-то хороша собой.
— Мне свет не нужен, — тихо, не пошевелившись, ответила Анна.
Свет тускло отразился в полированных округлостях мебели. В этой комнате не было плохих и бедных вещей, если не считать изношенного пиджака и лаптей на ногах Сааму; сам он здесь казался не на своем месте, хотя ни Анна, ни эта мебель, как и весь хутор, не могли без Сааму, — нет, не могли обойтись…
— Я тебе теплое молоко поставил… — сказал Сааму.
— Нет, не надо… — слабым голосом отозвалась Анна. Отвечала она помедлив, словно с затруднением.
Но, не слушая ее, Сааму уже накрывал столик у изголовья; поставил белый кувшин с молоком, мед на блюдечке и свежую булку. Потом, несмотря на то что здесь стояли диван и несколько мягких кресел, принес из кухни скрипучий табурет и молча уселся на нем в ногах у больной.
Стало тихо, только острый слух Сааму мог уловить звуки жизни. Что-то скрипнуло неизвестно где, — Сааму знал, что это флюгер на крыше повернулся; глухо топнуло на кухне, — серая кошка прыгнула за мышью, а вот кто-то царапнул по стеклу, и Сааму догадывался, что это кленовые ветки, раскачиваемые ветром, коснулись, окна. Потом в самой комнате послышался шаркающий звук. С некоторых пор у Анны появилось странное движение, которое так верно изобразил Сааму у Йоханнеса Вао. Она подносила к глазам нечеловечески исхудалую руку, долго разглядывала ее, а потом с усилием отбрасывала от лица, словно разрывала паутину. Падая и задевая за стену, рука производила шаркающий звук.
— Возьми, поешь, — тихо сказал Сааму.
Звякнуло блюдечко, Анна с усилием выпила несколько глотков и с отвращением отставила стакан.
Снова молчание. Снова звуки. Что-то равномерно застучало, словно в комнату просился кто-то робкий за десятью дверями, — Микки чесался от блох, и хвост его бил по полу.
— Сааму, — сказала Анна, и Сааму уловил что-то новое и не совсем понятное ему в ее голосе. — Сааму. Мое погребальное платье в шкафу, в картонке…
Сааму открыл было рот, чтоб ответить, но не нашел слов. Он хотел было сказать, что доктор прописал верные лекарства и обещал вылечить Анну, — славный доктор Тынисберг, — не зря же Сааму положил ему в телегу кус шпигу с полпуда. Но Сааму, всю жизнь привыкший относиться к событиям прямо, во всей их обнаженной мудрой правде, не смог этого сказать. Тем более родной сестре, которая готовилась уйти из этого дома.
— Сааму, — сказала Анна, — пока я жива, ты возьмешь себе черное драповое пальто Марта, оно совсем крепкое и хорошее, и его сапоги из коричневой кожи возьмешь себе. Ты в них десять лет проходишь.
То, что услышал Сааму, было до того неожиданно и дико, что он не поверил ушам своим. Подумать только — роскошное драповое пальто Курвеста, ворс которого мягче, чем бархатные губы старого мерина Анту, лучше этого пальто нет во всей деревне! А чудесные коричневые сапоги с двойными подметками из проспиртованной кожи, с твердыми голенищами! Хорош бы он выглядел в этих баронских нарядах, он, старый Сааму, — вся деревня смеялась бы над ним…
И, несмотря на торжественность момента, смех стал распирать его скулы; он заслонился ладонью.
— Сааму, — тихим голосом сказала Анна, — ты возьмешь это, я приказываю. Ты двадцать лет работал на Марта — сле… слепой…
Она задохнулась.
— Ну, ну… — примирительно забормотал Сааму, — ну, ну… не сердись…
Опять молчание, на этот раз долгое. Анна не замечала, что лампа начала чадить, стекло закоптилось, а Сааму уж подавно не заметить было этого.
— Сааму, — с тоской заговорила Анна, — знаешь, плохо мы прожили на этом хуторе, — бедно… Думала — лучше, а вот, — сам видишь…
Сааму наморщил лоб и беспокойно пошевелился. Ему непонятен был ход мыслей сестры. Он не любил жалобных разговоров. Посидев еще немного, встал.
— Потуши лампу, — уже погасшим голосом сказала Анна. — Молоко тоже возьми.
Сааму убрал стол и погасил лампу.
ГЛАВА ВТОРАЯ
…И Анна Курвест осталась одна со своими мыслями в темной густой октябрьской ночи, опустившейся над хутором. Лежала она не шевелясь, долгими часами глядя широко раскрытыми глазами во тьму, и думала, и думала до самого рассвета, пока тревожный сон на короткое время не сомкнул ее глаз.
Болела она уже около года, и трудно было сказать, что с ней, — какое-то общее медленное угасание: полное отсутствие аппетита, каких бы то ни было желаний, слабость, временами сердечные припадки, когда она с ужасом ощущала, как сердце останавливается в груди, спирается дыхание и все со звоном плывет в глазах. К тому же — бессонница и вечная отвратительная сухость во рту.
Впервые слегла она от нервного потрясения, вызванного бурными событиями сентябрьской ночи год тому назад, когда поблизости шли бои, гремели выстрелы и панически отступали немцы. Они взяли из конюшни двух коней, а третьего, хорошего жеребца, запряг Март для себя. С отвисшей челюстью, трясущимися руками он впопыхах совал в чемоданы все, что попадалось: костюмы, настольные часы, белье и зачем-то шубу, хотя было тепло, и умчался вслед за немцами. Самый сильный человек в волости уехал той бурной ночью как вор, на прощание сказав жене:
— Ты мне ответишь за целость всего.
Это было так страшно, словно рушились стены хутора Курвеста — той крепости, в силу которой Анна поверила в детстве, когда босиком шлепала по плотно убитому холодному земляному полу в доме отца, Каарела Ломпа. В народе его звали Банным Каарелом, потому что жил он в баньке на чужой земле и на чужих лошадях работал на чужих людей. Большинство крестьян из деревни нанимали пастушатами детей Банного Каарела.
И она, Анна, ходила в пастушках десять лет, пока ей не исполнилось восемнадцать. Как ни голодны и холодны бывали эти годы, но все же они были, может быть, лучшими в ее жизни. Так казалось Анне теперь. Но не так думала она тогда, мечтая о богатстве.
Будь у Каарела деньги, пол в их комнате был бы не земляной, а теплый, деревянный.
Если бы в отчем доме были деньги, брату Сааму, который стал слепнуть с семи лет, врачи в университетском городе Тарту удалили бы бельма. И он бы видел свет — Сааму.
Если бы у Петера Сарапика, тихого и старательного соседа отчего дома, в нужный момент оказались деньги, — и не так уж много — сто крон, — он бы спас свой хутор. Но у него не было их, он просрочил платежи, и дом и землю его продали с аукциона, а он сам сошел с ума. «Велика сила богатства, если ценой ста крон можно спасти жизнь человека», — думала Анна.
Девятнадцати лет у Анны открылся голос. Послушав ее, регент церковного хора, старый дьячок Нордаль, прослезился и заявил:
— Поистине ты флейтой церковной можешь стать…
Она стала петь в церковном хоре и, позже, в хоре народного дома у сельского учителя Шютса, и по дальним деревням среди любителей пения Анна прославилась своим голосом.
В эти годы распустилась красота Анны. Как ни удивительно — на убогой пастушьей краюхе, но распустилась. Деревенские парни на вечеринках стали оказывать ей всякие знаки внимания. Тогда-то Анну заметил Март Курвест, к которому после смерти отца перешел богатейший в Коорди хутор. Март Курвест не нравился Анне. Своим неприятным пронзительным голосом не нравился, излишней суетливостью и назойливостью. Где бы, с кем бы и о чем бы Март ни говорил, он всегда говорил о себе, так же, как, рассуждая о видах на урожай, имел в виду пшеницу только на своих полях.
Собой Март был не хорош: какой-то растопыренный, как небрежно сложенный плотничий складной метр; впечатление это создавалось его несколько выгнутыми ногами и руками, Которые он держал на отлете. Но… каждая из его породистых коров стоила дороже всего хозяйства Банного Каарела. Таких, как Банный Каарел, на его хуторе работало три человека да две девки… В то время как Каарел все не мог подвести под крышу хлев, к постройке которого приступил уже давно, Март строил дом. И какой дом! Вот этот самый, в котором Анна умирает сейчас. Когда ей было двадцать лет, возводились стены из первосортного леса, крыша покрывалась не дранкой и не черепицей, а оцинкованным железом, ставились в комнатах печи, облицованные не железом и не глиняными изразцами, а белыми настоящими шведскими плитками. Четыре комнаты в доме, обширный подвал, ветряк с динамо, крепкий амбар и хлев, способные выстоять сто лет. Два десятка коров и пять лошадей в хлевах… Вот это — дом, вот это — хутор, вот это — богатство! Разве оно не покрывало все недостатки Марта? Анне казалось, что покрывает…
Пришел миг, когда Март, сильно сжав ее руку и засопев, сказал:
— Анна, не положим ли мы наши хлебы на одну полку?
Тогда она побледнела, стала серьезной, но руки не отняла.
Какой хлеб она, дочь последнего бедняка, Банного Каарела, могла положить на полку хутора Курвеста рядом с пышным пшеничным караваем Марта? Только свою красоту и молодость… Если ста крон было достаточно, чтобы спасти жизнь человека, то чего же стоила ее красота по сравнению с ценой богатейшего хутора, где что ни вещь, то — сто крон? Можно будет уговорить Марта взять в дом бедного брата Сааму. Найдется и ему теплый угол на хуторе Курвеста; разве не доброе дело она сделает для слепого брата Сааму?
Так думала Анна тогда.
Видит бог, она не любила Марта Курвеста, не смогла заставить себя полюбить его.
Его пронзительный голос сверлил ее мозг, она очень уставала от его пустословия и какой-то бабьей суетливости. Он стал противен ей своими привычками. Он любил, когда ему чесали спину на ночь, и ночью будил жену со сна, заставляя принести себе в постель копченую рыбу или свежепросольных огурцов, — был он обжорой и любил ночью пожевать что-нибудь.
Не все вышло так, как думала и хотела Анна. У нее появились хорошие платья, но… петь в хоре и где бы то ни было Март ей запретил.
— Нечего им, дуракам, на тебя глаза пялить, — сказал он, и даже увещевания учителя Шютса, не желавшего терять лучшую в хоре певицу, не привели ни к чему.
— Жена должна быть богатая или по меньшей мере красивая, — любил повторять Март, намекая этим, что на красоту он смотрит как на капитал. На что ему красота жены, если он не может распорядиться ею по своему усмотрению?
Не совсем ладно получилось и с Сааму. Правда, Март принял его, но как-то вышло так, что слепой родственник был определен спать летом в амбаре, а зимой на скотной кухне. А жил он больше на дворе и в хлевах у Курвеста, где помогал батракам и девкам Марта ухаживать за скотом, или полол в огороде, наощупь отделяя сорняк от рассады. И работал с утра до вечера.
Два сына родились у Анны: Густав и Роберт. Она жадно вглядывалась в детей, словно ожидала увидеть в них что-то утраченное, быть может себя самое. Напрасно искала… На этом хуторе даже дети росли и развивались по каким-то своим законам и не были похожи на детей в доме ее отца, Банного Каарела, словно самые стены курвестовского хутора имели таинственную власть над душами людей.
В старшем сыне Роберте, когда он еще как следует не стоял на своих кривых ногах, а уже размахивался ложкой, чтоб ударить кошку по лбу, когда он привередливо канючил и ныл по целым дням, — уже тогда ей чудился в нем Март.
Хуже всего было то, что это все нравилось Марту.
— В нем пробуждается хозяин, — одобрительно говорил он.
Чем больше взрослел и младший, Густав, тем чаще Анна говорила себе:
— Март!
Шли годы, росли дети. Младший носил гимназическую шапочку, старший щеголял красной формой с аксельбантами рядового конного полка, в котором проходил призывные годы. Сыновья мужали, становились более отесанными и лощеными, чем отец, но от этого ничто не менялось. Они были детьми Марта с хутора Курвеста.
Удовлетворения не приносила Анне и работа, хотя она была теперь единственной ее радостью в жизни. Ей все как-то казалось, что работает она не на себя, а на хутор — на хозяина, как и Сааму, и другие батраки в доме. Сомнение иногда одолевало ее: точно ли она, Анна, — хозяйка богатого хутора, а не батрачка на нем?
Нет, богатство Марта Курвеста не было всемогуще, Анне оно не принесло простого человеческого счастья.
В крепком фундаменте хутора Курвеста Анне почудились едва приметные трещины. Вскоре они стали видны уже не только Анне, а и Марту, хотя для него они обнаружились, кажется, очень неожиданно, — как гром грянул с ясного июньского неба тысяча девятьсот сороковой год.
Менялась власть.
Что-то резко изменилось кругом в деревне, что-то небывалое вошло сюда, словно узкая речка Коорди, текущая лугами Курвеста, та речка, которая даже во время половодья не выходила из берегов, теперь вдруг вышла… Вышла и затопила луга и низины, и понеслась могучим потоком, грозя сорвать с места фундаменты таких крепостей, как хутор Марта. Уже дрожал этот хутор под грозными ударами…
Первые советские газеты, вышедшие в Таллине, черным по белому писали, что беднейший батрак сможет получить землю.
— О, слышишь, говорят — землю дадут? — волновался в своем бедном, углу вечный неудачник Семидор; напяливал на голову старую фетровую шляпенку и бежал к лавочнику Кукку за газетой.
— Землю? — прислушиваясь, с надеждой спрашивали извечные батраки Маасалу и Тааксалу и десятки им подобных в волости Коорди.
— Землю!? — бешено комкал газеты и швырял их на пол Март Курвест. — Сто гвоздей в гроб, а не землю! — багровея липом, орал он.
Но что крик Курвеста, когда подмывает устои самого хутора?.. Сорок гектаров земли отошло от полей его другим малоземельным крестьянам волости. Больше всего возмутило Марта то, что отрезал-то это все уездный землемер, который не раз останавливался у него и пользовался гостеприимством. И кому отрезал? Ну ладно бы еще какому-нибудь голодранцу, батраку Маасалу, который при новой советской власти голову поднял… От таких, как Маасалу, и ждать другого не приходится… Так ведь нет, — прирезали соседям Татрику и Мейстерсону, и даже этот тихоня Йоханнес Вао урвал от него два гектара луга.
— Сволочи! Волки! — ругался Март. — Вот тебе соседи — из одной бутылки сколько раз пили!.. А тут как псы норовят из-за угла в ляжку… Кусок мяса рады вырвать…
Да, вот с того времени пошли трещины на хуторе Курвеста, и он по-настоящему так и не смог оправиться даже тогда, когда речка Коорди снова, казалось, вошла в свое проторенное русло и немецкие солдаты для забавы ловили в ней раков, когда смолкли кругом слова о свободе и счастьи, о праве на землю, на свободную жизнь… Тогда сыновья Густав и Роберт уже носили зеленые мундиры немецких нижних чинов в войсках «СС», а сам Март снова объединил свои земли, поля и луга, отняв их от Маасалу, Мейстерсона и Татрика, и всех других, и работали на его полях трое военнопленных.
Но Анна уже не верила в силу хутора Курвеста, потому что, как ей казалось, муж и сам был теперь снедаем странным беспокойством, хотя и хорохорился яростно и даже ходил с винтовкой на какие-то облавы.
Но чем больше хорохорился Март, тем глубже он завязал в трясине. А потом пролилась кровь. Март на своем поле застрелил военнопленного.
— За попытку к бегству, — объяснил он односельчанам.
Была ли попытка? Все это осталось неясным: в деревне говорили разное и более склонялись к тому, что причина убийства кроется в бешеном и вспыльчивом нраве Марта, недовольного работой военнопленных.
Спустя же неделю другой военнопленный и в самом деле сбежал от Марта; после этого Курвест, боясь мести, стал наглухо запирать на ночь все запоры. Однако свез свиную тушу к коменданту и попросил новых военнопленных. Ведь надо же было кому-то работать на полях Марта. Март запутывался…
Потом пришло известие, что младший сын Густав убит на фронте под Нарвой. Март принял известие как-то удивительно спокойно, словно предчувствовал несчастье. Мести он ожидал…
Трещины нее разрастались, вплоть до ночи, когда наступил конец.
Как он сказал уходя?
— Ты ответишь мне за целость всего…
Кажется, она была плохим сторожем… Потеряв веру в силу хутора Курвеста, она стала равнодушна к его судьбе.
Объявлялись мужнины родственники, о существовании которых Анна даже не подозревала, вспоминали о каких-то старых долгах. Увели несколько коров на содержание, — «Сааму, ведь теперь трудно одному управляться с хозяйством…»
Постепенно Анна привыкла к этому..
Да и соседи, в честности которых Анна никогда не сомневалась, растаскивали имущество Марта со спокойной душой. Люди не становились от этого хуже в ее глазах. Так делали в Коорди все, кто хотел разбогатеть, это Анна понимала. Так и Курвесты приобрели свое богатство — силу, в которую Анна когда-то свято верила.
Так поступала и сама Анна. Разве, рассчитываясь за работу с поденщиками, она не старалась вместо муки первого сорта, как было договорено, отделаться вторым сортом или же всучить и вовсе заплесневелую, а свинину и баранину выделить им потощее да попостнее и чтоб костей побольше?..
Прожив четверть века с Мартом Курвестом, она в конце концов перестала замечать мытарства брата Сааму, перестала видеть безропотный труд его и даже ворчала и покрикивала, когда он не успевал поворачиваться со своими ведрами. Жизнь на курвестовском хуторе незаметно для Анны сделала ее подобной мужу — Марту Курвесту.
И только теперь, когда болезнь съедала Анну и поздно было бы что-нибудь поправить, когда Анна готовилась уйти из этого дома, она вдруг впервые за многие, многие годы с острой болью заметила худые лапти на ногах брата и продранный на локтях пиджак, который разве нищему впору выбросить, заметила, как он состарился — Сааму, ссутулился. И, увидев, поняла с испугом, что виновата; может быть, не менее виновата в судьбе Сааму, чем и сам Март Курвест: сердцем хотела брату добра, а на деле помогла превратить его в пожизненного батрака. Подобно углю, вынутому из печи и тлеющему на ладони, жгло это сознание ее душу. Вот почему возня соседей вокруг ее хутора и добра оставляла теперь Анну равнодушной. Другие мысли занимали и мучили ее.
Беспокойной памятью она ворошила и ворошила прошлое. Так старая дева-вековуша с небогатого хутора под старость выворачивает из всех ящиков свои богатства и отряхивает от пыли, — копила всю жизнь, а вот ведь ни одной нужной вещи; не на чем остановиться глазу: все блекло, все убого, никому не нужно, и бедно, и никуда не годится…
Где же заветное сокровище, что оправдало бы прожитую жизнь?
Как же, как же случилось, что она, красавица Анна, способная принести радость людям, никому не принесла любви и радости и сама их не испытала, и никто ее не любил?
Из мутного тумана перед глазами Анны встает сморщенное розовое лицо старого регента Шютса. В плохо освещенном зале народного дома пахнет керосином. Какой-то праздник — столько румяных круглых девичьих лиц!.. В синих тройках парни с самых дальних хуторов. Сколько их сегодня набилось в зал!
Анна испуганными глазами следит за дирижерской палочкой учителя. Взмахнул! Чей это серебряный голос торжествующе взвился над другими голосами, забился в окна, как птица, залетевшая с воли. Неужели Анна? Да, конечно, это ее голос; она видит радость в восторженных глазах старого Шютса, одобрение на лицах людей, занявших все проходы в зале.
Странная песня — старинная, народная, сложенная во времена баронского владычества; легкий порхающий напев, а слова грустные:
Хор весело и грозно пел:
И Анна с сияющими глазами — словно готовая схватить птицу Мидри — ярко выделяясь в хоре своим прозрачным и сильным сопрано, с воодушевлением пела:
Ведь любили же тогда Анну! Но она ушла из хора старого Шютса, ушла от людей и этим погубила себя.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Прекрасно возвращение в родной обжитый дом к прерванной работе. Но не менее радостно возвращение в родные края, когда вы едете возводить этот дом — строить его весь с начала, от первой ступеньки крыльца до последнего кирпича в трубе очага.
Пусть у вас сейчас нет ничего, даже праздничной сорочки, чтоб надеть ее в воскресенье, только самые необходимые вещи уложены в заплечный мешок. Но почему это не смущает вас, откуда такая беззаботность и радость сердца, словно вы счастливее всех на свете?
Вам тридцать два года, вы в расцвете сил, с Великой Отечественной войны возвращаетесь победителем. Жизнь научила вас верить в свои силы.
Мало кто из пассажиров на таллинском вокзале узкоколейной железной дороги в декабрьский холодный вечер обратил внимание на невысокого, плотно скроенного человека лет за тридцать, одетого в военную форму без погон, когда он вошел в узкий вагон, полный народа. Забросив вещевой мешок на полку, он попросил разрешения сесть рядом с толстой крестьянкой в пестрой шерстяной шали.
Когда человек снял солдатскую ушанку с отчетливо заметным следом от снятой звездочки и, не торопясь, расстегнул шинель, он как-то удивительно стал похож на сидевших в вагоне крестьян. Такое же грубоватое, но крепко вылепленное лицо со сдержанно нащупывающим взглядом; брови и густые волосы гораздо светлее обветренных красных скул и носа. И сидел он также по-крестьянски — прочно, чуть ссутулясь, и даже прикуривал, как и они, бережно заслоняя огонек ладонями, хотя ни снег, ни ветер тут не мешали.
Человека мало кто замечал, но он жадно смотрел на всех светлыми, словно оттаявшими и потеплевшими в многолюдном вагоне глазами.
Пауль Рунге с документами демобилизованного в кармане возвращался в родные края.
Маленький паровоз, извергая из трубы густой коричневый сланцевый дым, медленно полз от станции к станции, надсаживаясь упорно брал подъемы, быстро катился под уклон, и тогда людей, сидящих в узких вагонах, похожих на товарные, толкало как в трамвае.
На станциях поезд стоял долго — так долго, что на одной остановке гигантского роста крестьянин в полушубке и в нахлобученной на уши меховой шапке успел обойти все вагоны, не спеша обращая в раскрытые двери, в вагонное душное тепло все тот же вопрос:
— Нет ли здесь Юкку Лукка?
Дойдя до паровоза, удивленно сказал машинисту, вышедшему покурить:
— Не приехал Юкку Лукк…
На что машинист ответил:
— Да, что-то его не видать было на вокзале, — приедет завтра…
Пауль Рунге, наблюдавший это со стороны, усмехнулся. Он узнавал родные края. Ничего удивительного не было в том, что машинист знал Юкку Лукка, как и гиганта в меховой шапке. Здесь машинисты знали пассажиров, садящихся на полустанках. Деревенские старухи в пестрых шерстяных платках, подъехавшие к поезду санях, запряженных сытыми конями, знали в лицо машинисток.
Этих старух на ковровых санях, встречающих родственников, узнавал Рунге, как узнавал и маленькие опрятные станции и дальние сельские огни, по-домашнему приветливо мелькавшие между перелесками средь синих зимних полей.
Места родные…
Сосед Пауля Рунге, веселый толстяк-крестьянин, парившийся в своем меховом жилете, вытащил из недр туго набитого заплечного мешка бутылку и пустил вкруговую в группе мужчин. Он церемонно предложил ее сначала Паулю.
— С большой дороги, — благодушно сказал он.
Пауль отпил, и настроение его стало еще лучше.
Кто-то рассказывал о приключениях неизвестного Паулю лесника Юхана Килька. Как-то показалось леснику, что он напал на логово медведя: над снежным сугробом в чаще поднимался столбик пара. Сообщил об этом господину фабриканту, страстному охотнику. Тот внес сто крон в казну за право убить медведя. И повел Юхан Кильк охотника с его друзьями-собутыльниками добывать медвежью шкуру. Однако под снегом дышал не медведь, а ручей… С горя охотники выпили. А потом господин фабрикант, услышав треск в кустах, заметил там медведя и выстрелил картечью. А это был не медведь, а Юхан Кильк, который отошел по нужде. За беспокойство господин фабрикант извинился перед Кильком и подарил ему одну крону.
— …Все-таки штаны лесника при клике[1] стоили в сто раз дешевле шкуры медведя… — подмигнул рассказчик, лысый старик с подвижным лицом и ехидным прищуром глаз.
Потом в вагоне кто-то затянул песню.
Соседи подхватили, и с ними вместе Пауль Рунге. Потом пели «Лодочника из Вильянди» и «Куста запряг белого копя». На большой станции кто-то принес еще бутылку вина. И каждый, отхлебнув из нее, рассказывал что-нибудь веселое и забавное из жизни, как и полагается в хорошей компании в пути. Но если вдуматься, то над каждым рассказанным пустяком стоило поразмыслить, ибо вместе с забавным крылось в нем и грустное, как это часто бывает в жизни.
Ехали всю ночь. На пути многие выходили, но в вагон входили новые пассажиры, и так как тут было много знакомых, компания не таяла.
Уже рассвело, когда поезд остановился у станции Пауля Рунге. Он застегнул шинель и надел шапку.
— Твой хутор здесь? — спросил его сосед.
— Да… — запнувшись, ответил Пауль Рунге.
Его не встретили ковровые сани, запряженные гладким сытым жеребцом, — некому было встретить, но это не могло испортить его настроения. Оно было ясное и радужное, как и этот солнечный и яркий декабрьский день. Рунге быстро шагал по широкому, гладко раскатанному шоссе, острым внимательным взглядом всматривался в окружающее. Знакомая дорога… Вот там на развилке старинный полуразрушенный трактир, грубо сложенный из плитняка. За ним крутой поворот с мостом через узенькую речку Коорди и с водяной мельницей у самой дороги. На эту мельницу он, Пауль Рунге, до войны приезжал молоть муку Курвеста.
Дальше путь Рунге лежал мимо каменного здания старинной помещичьей усадьбы, — белая колоннада его хорошо была видна из-за зимних деревьев парка. В парке с криками бегали дети. «Теперь там школа», — догадался Пауль. Недалеко от мызы помещалось здание волисполкома; красный флаг виднелся с дороги.
— Туда зайду завтра, — решил Пауль. — Раньше посмотрим…
Он свернул с дороги и минут через десять стоял у приземистого каменного дома, давно не покрывавшегося известкой. В таких одноэтажных, построенных из плитняка зданиях у помещиков когда-то жили ключницы, садовники и челядь. Вошел на широкий двор. Из раскрытых дверей сарая слышались звонкие удары по железу. Под окошком хлева дымился свежий конский навоз.
Пауль Рунге постучался в тяжелую дверь. Она неторопливо открылась. Среднего роста человек, стройный, весь словно сбитый из мускулов и жил, стоял на пороге и, держа в руках клещи, с минуту спокойно всматривался в Пауля.
— Пауль Рунге вернулся, — так же спокойно сказал он через плечо в комнату. — Входи, Пауль.
— Здравствуй, Каарел Маасалу, — поздоровался Пауль.
В большой темноватой кухне было немного дымно. В очаге трещал огонь; две женщины хлопотали около него. В одной из них Пауль узнал Альвину, жену Маасалу, в другой старуху Меету, мать Кристьяна Тааксалу.
Женщины пододвинули гостю стул.
— У меня подковы в огне, — кивнул Маасалу на клещи. — Лошадь подковываем. Я скоро освобожусь, не обращай внимания. Раздевайся, садись. Скоро будем обедать.
— Действуй… — засмеялся Пауль. — Я посижу, посмотрю…
Он узнавал Каарела. Не в привычках Маасалу было волноваться. Говорил он сейчас так, словно и не было долгой разлуки и они только что распилили гигантскую сосну там, в Водьясском лесу, где целую зиму работали на одной пиле, валили деревья в зимней белой чаще. В полдень, посмотрев на небо, Каарел хлопал рукавицей об рукавицу.
— Пора хлеб из мешка вынимать, — говорил он. — Будем обедать.
На скупо тлеющий костер ставили черный ячменный кофе, из холщевого мешка с провизией вынимали круглый крестьянский хлеб, соленую салаку и шпиг. Черствый, твердый, как полено, хлеб толсто нарезали острым финским ножом; шпиг, соленый как треска, резали тонкими пластинками. По-братски делили сухую батрацкую еду, запивая обжигающим кофе.
Пауль не без удовольствия осматривал жилистую фигуру Каарела, одетого в рабочую куртку из толстого сукна и в брюки, подхваченные у щиколоток. Забыв снять шинель, Пауль следил, как Каарел, запустив клещи в плиту, ловко вынул докрасна накаленную подкову и молниеносно заработал молотком. Ох, умел этот человек работать — пилить лес, пахать, сеять!..
— У кузнеца очереди не добьешься… — отрывисто говорил Маасалу, отбрасывая подогнанную подкову. — И зачем… Я и сам сумею — Тааксалу поможет. Он сейчас в конюшне у лошади. Я скоро… А ты молодцом выглядишь — молодцом, — сдержанно, по-мужски похвалил он Пауля.
Он вышел с подковами.
— Вы извините его, — смеялась Альвина, поспешно расчищая гостю стол, заставленный какими-то коробками с гвоздями и инструментами. — Вы знаете, Пауль, он и в день свадьбы рабочую куртку надел, — насос колодца испортился, — чинить пошел… А теперь в особенности работы много. Вы — насовсем в Коорди?
— Насовсем, — медленно ответил Рунге и задумался, разглядывая инструменты на столе.
Маасалу не задержался. За его крутыми плечами Пауль увидел смеющееся широкое лицо Кристьяна Тааксалу.
— Подковали, — сообщил Маасалу и со стуком бросил инструменты в ящик под столом. — А теперь пообедаем и поговорим. Вот и Тааксалу здесь, и Семидор придет. Хорошо…
Тааксалу, весь сияя доброжелательной улыбкой, долго не хотел выпустить руки Пауля из своей широкой лапы, распухшей и побагровевшей на морозе. Его низкий рокочущий бас сдержанно загудел на кухне.
— Ну вот, теперь и ты на месте, а? Хорошо, хорошо… Тысячи верст прошел, а волости Коорди не миновал, а? Хо-хо-хо…
Он оглушительно захохотал и шутливо подтолкнул Пауля локтем.
— Нет, это хорошо, что ты пришел, — успокоившись и усаживаясь на скрипнувший под ним табурет, говорил он. — Уж раз мы Семидора-неудачника пристроили к делу, так тебя подавно устроим.
Толстые щеки Кристьяна стали надуваться, и он снова захохотал.
— Куда же вы пристроили Семидора? — усмехнувшись, спросил Пауль.
— Как, ты не знаешь? — удивился Кристьян Тааксалу, словно все должны были быть в курсе событий в волости Коорди. — Землепашец. Его поля теперь с нашими граничат. Спроси Каарела.
— О, Семидор-неудачник землю пашет? — искренне удивился Пауль.
— Пашет, — кратко подтвердил Каарел Маасалу. — Осенью вместе пахали. Сначала у себя с Кристьяном, а потом у Семидора.
— У Семидора, брат, теперь пол-лошади имеется… — снова стал надуваться Кристьян. — Нет, ты спроси у Каарела…
— Ну, будет тебе, — нахмурился Каарел. — Эти мы с Семидором лошадь на двоих купили, — пояснил он Паулю. — У Тааксалу лошадь имеется, у меня с купленной выходит полторы лошади, а у Семидора — половина. На троих три лошади. Осенью пахали вместе, — два коня в плуге.
— Семидор пахал… — подхватил Кристьян. — Оставили мы его как-то на часок одного, ушли с Каарелом. Возвращаемся, — лошади стоят, а Семидор на камешке сидит. «Ну, — говорю Каарелу, — Семидору, как всегда, не повезло, наверное…» Подходим, а он обломок лемеха в руках вертит и в затылке чешет: «И откуда этот проклятый камень взялся на дороге. Словно из-под земли выскочил…»
Кристьян нахлобучил шляпу на уши, изобразил на толстом своем лице крайнее недоумение, сокрушенно поскреб в затылке, и Пауль, узнав Семидора, засмеялся.
— Ну что ж, наверное досталось бедняге? — спросил он.
— Да нет, что там, — сморщил нос Кристьян. — Ругать его — хуже теряется. Его всю жизнь ругали. Мы ему — ни слова… В тот же день сварили лемех в кузнице, и опять пошло дальше. Один бы Семидор, наверное, три дня камень этот там разглядывал.
Пауль вытащил из кармана папиросы и предложил. Закурили. Альвина пронесла дымящийся картофель на стол.
Пауль почувствовал голод.
— Как же вы живете? — спросил он, оглядев задымленный потолок кухни и пустые ее стены.
— Еще не успели побелить, пока черной работы много, — словно извиняясь, сказал Кристьян Тааксалу, проследив за его взглядом. — Первый год ведь только…
— Живем дружно, — сказал Каарел Маасалу. — Вот дом дали. Кристьян занял левую половину, я — правую. Сходимся на середине, на кухне, тут наш совет семейный. Семидор частенько наведывается.
— Поля осенью засеяли, на весну семена есть. Хлеб есть, — поддержал Тааксалу.
— Значит, идет дело? — жадно затянулся дымом Пауль.
— Идет, — кивнул головой Каарел. — Жить можно.
Кто-то зашаркал в передней, отряхивая снег с обуви, потом вежливо постучал.
— Вот и Семидор, — сказал Тааксалу. — Он и в свой дом всегда стучится. Не привык еще…
И все увидели Семидора таким, каким он был всегда. На большой голове старая смятая фетровая шляпчонка, на острых плечах обвисшее протертое пальто, когда-то черного, а теперь неопределенного цвета. С морщинистого кирпично-румяного маленького лица задорно и далеко не уныло смотрели голубоватые быстрые глаза. Лицом он не был похож на неудачника, хотя он и был им по общему признанию. Из-под шляпы обнажилось лысое темя и пучки волос на висках, тронутые сединой.
— Из дальнего плавания? — весело спросил он надтреснутым тенорком Пауля и проворно схватил его за руку. — Оснастка цела? Ну и хорошо…
И заговорил. В несколько минут он наговорил больше, чем Маасалу и Тааксалу за час. Он вмиг осмотрел Пауля всего, не только осмотрел, но и потрогал. Потрогал медали на груди и орден.
— Это что — Красная Звезда? Ну и ну… — Подивился толстым подметкам фронтовых сапог, пощупал их добротность. Даже алюминиевый портсигар Пауля на столе привлек его внимание. — Он что — алюминиевый? И сам гравировал? А это что за рубчики здесь?
— Рубчик — месяц войны, — сдержанно объяснил Пауль.
— Много, — вздохнул Семидор, — много рубчиков.
Затем, заметив выжидательный взгляд Маасалу, он спохватился и поспешил сказать ему:
— На мельнице я был сегодня, — все в порядке.
Видно, Маасалу среди этих людей задавал тон. Недаром Кристьян Тааксалу чуть ли не после каждой фразы повторял: «Спроси у Каарела, если я вру…»
— Прошу к столу… — попросила Альвина. И все — Пауль, как гость, впереди — проследовали на половину Маасалу, где на чистой скатерти дымилось громадное блюдо баранины, обложенное вареным картофелем, брюквой и капустой.
— Вина нет, — огорченно сказал Маасалу, — извини, Пауль. А пиво из будущего урожая сварим. Подождать придется.
— Минуту! — попросил Пауль.
Выйдя на кухню, он покопался в своем вещевом мешке и вынул бутылку, запечатанную сургучом. Альвина принесла стаканы. Все молча следили, как Пауль наполнял их вином, потом также молча посмотрели ему в лицо, когда он поднял руку со стаканом.
— На слова я не щедрее Каарела, — торжественно сказал Пауль. — Да и зачем их говорить много, надо искать самые нужные… Мы здесь все новоземельцы, правда? Так выпьем за то, чтоб мы все, здесь сидящие, стали хозяевами жизни в Коорди. Вы понимаете меня? Выпьем за советскую власть, что дала нам землю! Elagu![2]
— Elagu! — сказали Каарел Маасалу, Тааксалу и Семидор, и все выпили, а потом заработали ножами и вилками.
— Как же ты решил, Пауль? — спросил наконец Маасалу после продолжительного молчания, отставив тарелку. И все за столом положили вилки, ибо это было сигналом к серьезному разговору.
— Я еще из армии подал заявление на хутор Курвеста, — сказал Пауль. — Не знаю, как волисполком на это смотрит…
— Хутор хороший, земля хорошая, — одобрил Каарел.
— Прекрасная земля, — восторженно подтвердил Семидор, — и какой колодец в этой земле я пробурил старому Курвесту. Только он мне остался порядочно должен, а потом вместо долга всучил шляпу, ту, что я донашиваю сейчас…
— Да, шляпа неказистая, — с презрением заметил Тааксалу.
— Но земля хорошая… — пробормотал Семидор.
— Что сейчас на хуторе делается? — с интересом спросил Пауль.
— Пустует… — коротко объяснил Каарел. — Анна Курвест умерла осенью, Сааму теперь за хутором присматривает. Поля не засеяны. Но слышно, что на хутор еще заявления есть, — кусок-то лакомый.
— Вот как, — удивился Пауль, неприятно пораженный. — Кто такой?
— Не знаю, не наш, говорят, из соседней волости. Председатель Янсон, кажется, к нему благоволит.
— Ну что ж, — помедлив, сказал Пауль. — На хуторе Курвеста двоим места хватит.
— Вполне, — согласился Маасалу. — Уживетесь, как мы с Кристьяном. На хуторе скот есть, семена. Все получишь. Вот тебе и начало. Ну, что ж тебе еще сказать? На помощь позовешь — не откажусь. Ты меня знаешь.
— Я тебя знаю, — кивнул головой Пауль. — Ты придешь.
— Не забудь позвать меня, — напомнил Кристьян Тааксалу.
— Мы все придем, — гордо сказал Мартин Семидор.
В голове у Пауля шумело, когда он, в отличном настроении, направлялся на хутор Курвеста. Думая о новых хозяевах хутора Яагу, он усмехался. Положительно нравились ему эти два друга — Маасалу и Тааксалу. Каарел Маасалу, — старый приятель, — это такой кремень, — из любого камня огонь добудет. Кристьян Тааксалу тоже славный мужик, правда — несколько рыхлее Каарела. И теперь к ним примкнул еще Семидор. Семидора Пауль знал меньше. Этот человек, родом с острова Сааремаа, появился в волости лет двадцать тому назад и стал бурить колодцы крестьянам. Все как-то очень быстро узнали, что он неудачник, прогорел на Сааремаа, плавал матросом, тонул, что дела, которые предпринимал, редко удавались ему. И жена ему досталась злая, и дети рано все поумирали. Крепкие мужички-хозяева любили поднять его насмех; он, кажется, не обижался. И вот теперь Семидор на земле? Странно… трудно поверить.
Хутор Курвеста, спрятавшийся за еловой изгородью, издали казался необитаемым. Только одни узкие и совсем свежие следы вели к нему по полузанесенной тропе.
— Кто бы это? — подумал Пауль, стараясь ступать по следам.
Он немного волновался, думая о том, что вот вступает в дом, который, вероятно, станет его домом. Пристально смотрел на живую зеленую стену, словно ожидая, что из-за елок, косолапо шагая, выйдет старый Март в высоких сапогах с твердыми офицерскими голенищами. Что сказал бы Март, увидев бывшего своего батрака входящим в его владения, да еще с такими мыслями в голове?
— Он бы лопнул со злости, — не без удовольствия усмехнулся Пауль.
На кажущемся нежилым хуторе все же была жизнь. Из трубы шел легкий дымок. Мало того — огибая угол дома, Пауль услышал за окном звонкий женский смех.
— Кто бы это? — еще раз подумал Пауль.
Дверь на стук быстро распахнулась, и он с удивлением увидел смеющееся круглое лицо молодой женщины, одетой скромно, но по-городскому, в легкое зеленое платье. Что-то в лице ее показалось ему очень знакомым. И в следующее мгновение он узнал… Ее присутствие здесь показалось ему добрым предзнаменованием.
— Айно Вао, — безошибочно сказал он, — дочь Йоханнеса Вао.
— Ой, смотрите, кто это! — весело закричала Айно. — Сааму, Сааму, ты знаешь, какой гость к тебе пришел?
— О, добрый гость? — посмеиваясь и вставая из-за широкого стола, спросил Сааму, поворачивая к вошедшему свое лицо.
— Здравствуй, Сааму, вечный труженик, — тихо сказал Пауль. — Ты узнаешь меня?
— Ты — Пауль Рунге… Голос изменился, но я узнаю, — заулыбался Сааму. — Сегодня радостный день для Сааму — день гостей. То-то сорока утром на дворе кричала.
Пауль обвел взглядом кухню. Мало что изменилось, только несколько потускнело все, словно слоем пыли покрылось, да паутинка кое-где повисла под потолком. Сааму не видит ее. Но там, где доставали руки Сааму, — пол, окна, стол, — все было чисто. Вот у этого стола он, Пауль, садился ужинать вместе с другим батраком Яаном, с девушкой Тильде и с Айно. Айно Вао тогда пасла коров Курвеста.
Пауль вслух вспомнил об этом.
— Как же, как же… — встрепенулся Сааму. — В том углу сидел, где сейчас сидишь… Ты на паре гнедых пахал, помню. Теперь только Анту остался, да и тому работы нет — нового хозяина ждет.
— Я пойду коров подою тебе, Сааму, — сказала Айно, хватая подойник и надевая полушубок.
Напевая, она вышла, бросив на ходу Паулю:
— Я тут сегодня за хозяйку.
Паулю показалось, что без ее веселого круглого лица и яркого зеленого платья на кухне стало сумрачнее и тише.
— Один и хозяйничаешь все? — спросил Пауль.
— Да, — просто ответил Сааму, — до будущего хозяина. Он приходил уже.
— О, — нахмурился Пауль. — Кто?
— Сказал, что имя его — Юхан. Ему из волости хутор обещали. Меня по плечу похлопал. Ничего, говорит, божья коровка, хутор еще заживет… Однако пригрозил мне, чтоб я здесь никому ничего не давал. Я, говорит, хозяин…
Пауль посмотрел в окно. Закинув назад голову. Айно стремительно и легко проносила в хлев ведра, полные воды, и Пауль подумал, что зеленое платье на ней сейчас выглядит самым радостным пятном на безрадостном этом хуторе и что она, Айно, за эти годы выросла в настоящую женщину. Тогда, перед войной, она была девятнадцатилетней неловкой деревенской девушкой. Он, Пауль, ведь танцовал с ней на деревенских вечеринках и даже провожал домой. Что она сейчас делает?
Он спросил у Сааму.
— Айно? Летает, ищет, где гнездо свить, — сказал Сааму. — В город ушла, поработала, вернулась теперь. К земле тянет. Вот навестила меня и сразу коров пошла кормить. Я, говорит, соскучилась. Да и понятно: в Коорди родилась… Хозяйка. Старый Йоханнес Вао плохо ее принял.
— Почему?
— Ну, не знаю… — замялся Сааму. — Да уж верно оттого, что с отцом не посчиталась: без разрешения ушла из семьи…
Айно вошла с подойником и стала процеживать молоко. Снова зазвенел ее голос.
— Ну, чем я вас буду кормить?
— Блинами, — торжественно сказал Сааму, поднимаясь, чтобы итти за мукой. — В такой день нужно варить суп с клецками или жарить блины.
Затрещал огонь в плите. На Айно появился белый передник. Быстро мелькали ее округлые локти.
Пауль, снедаемый беспокойством, прошелся по комнате. Заложив руки в карманы, он стал смотреть в окно. Большое все-таки хозяйство! Какой хлев! В нем хоть дюжину коров держи, скотная кухня при хлеве. Сарай, амбар, колодец… Конечно, сейчас это все запущено немного, но если взяться…
— Ты как новый хозяин осматриваешься… — услышал он голос Айно.
— Что?.. — вздрогнул он и нахмурился. — Нет, я так.
Она внимательно и лукаво смотрела на него, словно читая его мысли.
Сааму, хлопнув ладонями по коленкам, подхватил ее слова.
— А почему бы и нет? — захлопотал он. — Пауль пахать мастер. Анту в конюшне стоит. Зачем все чужому хозяину отдавать?
— Айно самой надо взяться, — усмехнулся Пауль.
— Я женщина, я одна, — серьезно сказала Айно. — Не справиться. Но если бы у меня было свое хозяйство, я бы так работала, что у меня бы грязь на дворе летела из-под ног.
И, глядя, как она энергично орудовала у плиты, Пауль подумал, что так оно и было бы.
Вошли сумерки, яркие пятна света из очага прыгали по стенам, вкусно запахло поджаренным маслом. От очага шло тепло.
С блаженством развалившись на стуле, Пауль смотрел на Сааму, зажигающего лампу, и на белого Микки, который в свете плиты стал розовым. Он смотрел на белые полные руки Айно, накрывающей на стол, и вдруг остро почувствовал, как же он все-таки за военные годы истосковался по дому, по теплому собственному углу, по мирной жизни на земле, — жизни, которая, должно быть, немыслима была бы без этих теплых и ласковых рук.
Сели за стол. Ели суп с клецками, потом Айно подала блины; их намазывали медом и запивали холодным, как лед, густым молоком.
Слушая оживленную болтовню Айно, глядя на спокойное, умиротворенное лицо Сааму, Пауль думал о том, что встреча эта не случайна. Нет, не случайна. Им всем троим у теплого очага в доме Курвеста было хорошо. Пусть все они пока гости здесь и ни у кого из них нет в этом доме твердой почвы под ногами, но все же они чувствовали себя в нем хозяевами.
И снова Айно почти угадала его мысли, когда спросила:
— Так ты решил взять себе землю в волости?
— Да, — ответил он, — я так решил. Буду искать.
— Я бы тоже хотела… — сказала она откровенно и задумалась.
Сааму ничего не сказал.
— Будем вместе искать, — пошутил Пауль. Но, почувствовав, что слова прозвучали не шуткой, испугался.
Ощутив на себе молчаливый тяжелый взгляд Пауля Рунге, Айно вопросительно подняла глаза. Он неподвижно и прямо смотрел на нее холодноватыми, слегка, прищуренными глазами и был, казалось, совершенно спокоен, только губы его странно дрогнули, выдавая волнение. И, заметив это, Айно не приняла за шутку его слова. Не принял их за шутку и Сааму. Он сидел молча, отвернув лицо в сторону, и губы его ласково улыбались, словно видел он что-то невидимое им.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
На следующее утро Пауль Рунге переступил порог волисполкома.
Из комнаты председателя доносились громкие голоса. У полураскрытых дверей старик-крестьянин с шеей, замотанной шарфом, многозначительно приподняв кустистые брови, прислушивался к разговору.
Никто не обратил внимания на вошедшего Пауля. За большим канцелярским столом сидел грузный мужчина с мясистыми губами и носом и маленькими, прижатыми к черепу ушами — председатель. Пауль узнал Яана Янсона, местного крестьянина.
Разглядев посетителей в кабинете Янсона, Пауль удивился.
— Ого, друзья здесь!
Да, Маасалу, Тааксалу и Семидор были здесь и, по-видимому, вели горячий разговор. Маасалу, как всегда невозмутимый, прочно сидел перед самым столом председателя. Рядом, словно поддерживая его мощным плечом, поместился Тааксалу и нетерпеливо мял в руках ушанку, в стороне ерзал на скрипучем табурете Семидор, смотря то на Маасалу, то на Янсона.
— Ты как хочешь, а суперфосфат нам нужен, — решительно сказал Маасалу.
— Нету у меня супера… — громко сказал Янсон и сдвинул кепку на затылок. — Нету.
— Без суперу нам нельзя… — загудел густой бас Тааксалу. — Ты ведь знаешь, какие у нас удобрения в этом году. Скот первый год завели… Навозу нет. Чем рожь подкормим?.. Ты же знаешь наши дела.
— Знаю, но — нету…
— Дашь, — хладнокровно сказал Каарел Маасалу.
— Нам нужно, — поддержал Тааксалу.
— Будьте так любезны, товарищ Янсон, — искательно пробормотал Семидор и сделал движение, словно поклонился. Выражение лица Семидора беспрестанно менялось; когда решительным тоном говорил Маасалу, Семидор выпрямлялся на своем табурете, с достоинством закидывал ногу в рваном башмаке и ставил ветхую шляпу на острое колено. Когда же Янсон повышал свой зычный голос, Семидор становился как-то меньше ростом, сползал на кончик сидения и убирал ноги под табурет.
— На складе тонна осталась… Тонна на волость… На волость… — Янсон поднял толстый палец и ударил им по столу.
— Дашь… — повторил Маасалу. — Ты вчера Михкелю Коору с хутора Кару триста килограммов дал и нам по сто кило на брата дашь.
Лицо Янсона стало наливаться кровью.
— Ну и дал… Коор осенью полторы тонны зерна по госпоставкам сдаст, а вы? Коор мне волостной план поддержит. Думать надо, Маасалу…
— Ты, я вижу, думаешь… — с непередаваемой иронией сказал Маасалу. — Но только удобрения ты нам должен дать.
Янсон открыл было рот, но, посмотрев на каменное лицо Маасалу, густо вздохнул, почесал могучий затылок и крикнул:
— Мартин!
В дверях показался пожилой человек со стальными очками на пористом носу.
— Посмотри там… Если есть, выпиши по сто суперу…
— Ну вот, — удовлетворенно сказал Маасалу, — сейчас мы с Мартином посмотрим… Ты посиди здесь пока, — приказал он Семидору. — Возьмешь наряд и — сразу на склад.
Проходя в дверь и заметив Пауля Рунге, Каарел Маасалу усмехнулся и одобрительно кивнул ему головой, а Тааксалу пожал руку. Янсон, мельком взглянув на Пауля, сказал: «Сейчас» и затем с явной досадой уставился на Семидора. Гнев его не остыл еще.
— Ты-то тоже карась… не в свою мережку лезешь… Связался…
— Да уж… — захихикал Семидор и, смущенно заерзав на сидении, стыдливо посмотрел в сторону Пауля.
— Что — да уж?.. Тоже опору нашел… Маасалу умнее всех хочет быть, упрям как дубина… У него одно хозяйство, а у меня в волости две сотни таких хозяйств.
— Упрям… — пробормотал потускневший Семидор — Упрям… Жмет как обруч. Любым ребром режет.
— И как ты уживаешься с такими соседями?
— А думаете — мне легко? — встрепенулся Семидор. — Учит, — работаешь не так, живешь не эдак. Что он мне, начальник? Дубина можжевеловая.
Пауль, смотревший на Семидора во все глаза, не смог удержаться от улыбки. Он знал, что Семидор-неудачник славился отсутствием собственного мнения. Он мог закидать грязью то, что за пять минут превозносил до небес. Его лицо, как в зеркале, всегда отражало настроение собеседника, язык всегда поддакивал мыслям тех, кто был сильнее его.
— Таскайся из-за него, беспокой людей, — расходился Семидор, уже не стесняясь присутствия Пауля. — У тебя, говорит, супера нету… Ну, нет так нет… Чего же кричать об этом. Он беднее всех, что ли? И этот Тааксалу Кристьян тоже ему пара. Хлопот не оберешься с ними…
В тихо раскрывшихся дверях послышался хохот Маасалу и Тааксалу, слышавших последние слова Семидора. Тааксалу от восторга подталкивал приятеля локтем. Маасалу смеялся от души, показывая свои ровные зубы. Засмеялся и Пауль, и нехотя улыбнулся даже сам Янсон.
Семидор не очень смутился; охотно и вежливо вторя общему смеху, он надел шляпу.
— Уже готово? — удивился он. — Вот что значит умеючи…
Все трое ушли, и уже в коридоре прозвучал приглушенный голос Семидора:
— Тоже хитер, туман мне стал в глаза пускать, но я…
Конца фразы Пауль не услышал. Настал его черед.
— Рунге? — спросил Янсон, подавая толстые и вялые пальцы для рукопожатия. — Как будто я слышал эту фамилию.
После первых слов Пауля лицо Янсона снова стало недовольным; он почесал толстый нос.
— Хутор Курвеста? Туда нельзя. Туда мы новоземельца Кянда вселяем.
Пауль осторожно напомнил председателю, что заявление было подано полгода назад, когда других заявок еще не было.
— Не было… Ну и что ж, что не было… — еще недовольнее сказал Янсон. — Вы вот все о себе думаете, а я за волость. Мне Кянд сельскохозяйственное товарищество откроет, — трактор будет. Ясно?
— Ясно-то ясно… — медленно согласился Пауль. — Но ведь на хуторе Курвеста около тридцати гектаров. Два места свободно выйдет. Дом большой, уместимся.
— А мы туда еще и тракториста вселим… Тебе в другом месте дадим землю.
— На хуторе Курвеста я в крайнем случае мог бы поселиться в доме его прежнего попса[3] Курга, — настаивал Пауль. — В той баньке, на краю леса, сейчас никто не живет. Мне, главное, земля хорошая…
Янсон все недовольнее двигал на голове кепкой.
— Вам только хорошее подай, а плохого вы не хотите, — проворчал он. — Ну что ж, как землеустроительная комиссия решит… Дня через три заходи.
Откозырнув, по армейской привычке, Пауль вышел. Такое начало ему не понравилось. «К кому же еще зайти?» — подумал он и решил: «К парторгу».
Поднявшись по узкой лестнице на мансарду, Пауль постучался и вошел в маленькую, жарко натопленную комнату. Средних лет темнорусый человек, отложив в сторону какие-то бумаги, поднял на Пауля вопросительные, запавшие глубоко глаза.
— Садитесь, — пригласил он, с любопытством оглядывая Пауля. — Моя фамилия Муули — будем знакомы.
Пауль, усевшись, коротко рассказал о себе и о планах поселиться в волости; не без возмущения отозвался о позиции Янсона.
— Так, — сказал Муули, вертя в руке карандаш, и задумался.
За узкой дверью, ведущей в соседнюю комнату, детский голос шепеляво спросил:
— Мама, чего солдат хочет?
— Хочет стать крестьянином, — негромко ответил тонкий женский голос.
«Семья», — подумал Пауль и оглянулся. Многое говорило о том, что парторг здесь, в рабочем кабинете, и живет. В углу — чемодан, перетянутый ремнем. Небольшая библиотека Муули на полке напомнила Паулю походные библиотечки батальонных парторгов. Да и сам парторг со своими жестковатыми прямыми волосами, расчесанными на ровный пробор, и гладко выбритыми сухими щеками напомнил Паулю армейского парторга, хотя сидел он в пиджаке.
— Так что же, вы хотите хутор Курвеста? — вдруг не без хитринки улыбнулся Муули, продолжая смотреть на Пауля с откровенным любопытством, и глубокие морщинки весело залучились вокруг его глаз. — Видел хутор… Хорош пирог…
— Я пока о хлебе черном думаю, — с достоинством сказал Пауль Рунге.
— Ну, не сердись, — переходя «на ты», сказал Муули и стал серьезен. — Я подразнил… Но почему именно — землю Курвеста?
— Потому что я там два года батраком работал… Земля хорошая на хуторе; легче мне подняться…
— Это важно, конечно, — согласился Муули. — Хотя, согласись, и Янсон прав, — нам машинное товарищество нужно: оно для всех важно… Но ты будь спокоен, — земля будет, и притом не самая плохая.
Пауль, повеселев, взял предложенную папиросу. Муули заговорил о службе в армии. Так он, Рунге, из пехоты, даже разведчик? Почетная служба. Он, Муули, служил тоже в Эстонском корпусе Красной Армии, но в артиллерии. А тут им придется крепко поработать…
Помолчав, он побарабанил пальцами по столу и задумчиво сказал:
— Там, в Коорди, активных людей маловато… Да и те вроде Татрика да Вао, а настоящих нет… Ну, хорошо, устраивайся пока… Скоро увидимся.
Он встал и протянул Паулю руку.
— Я не люблю часто беспокоить людей, — усмехнулся Пауль.
— Ничего, придешь… — удивительно весело засмеялся Муули, и снова глубокие морщинки побежали от его глаз. — Ты без меня никак не обойдешься.
Выйдя от парторга, Пауль подумал и повернул к хутору Курвеста. Шел и насвистывал; настроение у него было великолепное. Муули ему определенно понравился.
«Нет, но какой острый человек… — думал Пауль. — У этого человека есть хватка, — знает чего хочет. Определенно был парторгом в полку».
Как бы то ни было, а успехами первого дня он мог быть доволен. Что значит кислая мина и видимое нерасположение Янсона, если можно рассчитывать на Муули и опереться на дружбу с Маасалу и Тааксалу. Наконец, что же еще? Ах да, дочь Йоханнеса Вао — Айно… Она быстро шла по двору хутора, упрямо и высоко неся голову; зеленое платье под зимним ветром билось вокруг ее крепких ног. С такой не будешь у пустого корыта сидеть.
Он все ускорял шаг, подходя к хутору.
Айно снова оказалась в гостях у Сааму, и Пауль почти не удивился этому, словно так было сговорено.
— У тебя такое лицо, будто ты подкову счастья нашел, — сказала она.
— Почем знать, может и нашел, — загадочно ответил он.
— Как дела? — поинтересовался Сааму.
— Пока неясны, — лаконично ответил Пауль. Он не любил говорить о половинчатых достижениях.
Здесь он пообедал. Стал разговорчив. Даже рассказал несколько анекдотов из армейской жизни, — для Айно, хотя и не совсем удачно. Ему не удавались веселые анекдоты. Но Айно смеялась. Это ему понравилось. «Ее легко рассмешить, — подумал он, — значит трудно заставить заплакать…»
И снова в хлопотах мелькали голые локти Айно, и, опустив глаза, она задумчиво пела:
— Я завтра уезжаю, проводить придешь? — спросила Айно, прервав песню, которая ему так нравилась.
— Завтра, — потемнел он лицом. — Что так быстро?
— Так… дома не нравится. Со старым Вао все не можем ужиться, — пожаловалась она.
— Ну, а если через два дня?
— Зачем? — наивно спросила она, в упор взглянув на него. — Что же изменится?
— Не знаю. Может быть и изменится. Сейчас мороз, а утром, глядишь, — оттепель, — уклончиво ответил он.
Пауля не так легко было заставить раскрыться.
Ночевать он отправился к Маасалу.
Мужчины собрались в комнате у Маасалу. Хозяин, сняв сапоги, сидел, протянув под стол ноги в толстых шерстяных носках, и курил трубку. Тааксалу самодельной машинкой резал табак. И Семидор был здесь; присев поближе к теплой печке, он почесывал худую черную кошку за ухом.
Пауль вкратце рассказал о встрече с Янсоном и Муули.
— Янсон хочет реку перейти и штаны не замочить, — с презрением сказал Маасалу. — Ему только чтоб план его выполнялся. Что ему до того, что ты бедняк и новоземелец? Он, видишь ли, за Коора держится. Ему Коор поставки будет выполнять… Вот товарищество надо открыть — Кянда откуда-то выкопал. Я еще хочу посмотреть, что это за Кянд[4] такой и куда его корешки тянутся…
— Янсон — дермо, — вмешался в разговор Семидор. — Но я его осадил… Супер у нас теперь в сарае.
Маасалу уничтожающе глянул на Семидора, Тааксалу откровенно осклабился.
— Держись зубами за землю Курвеста, — сказал Маасалу Паулю, — дом выстроишь, а пока в баньке поселишься. Жил же в ней попс Кург. Как усадьбу ни дели, а пять-шесть гектаров пахотной земли тебе достанется. Земля — что свежий хлеб! Тебе один хороший урожай новый дом поставит.
— Я в колодце воду открою, — он высох, я знаю тот колодец, — пробормотал Семидор.
На том и порешили.
Пауль Рунге долго не мог уснуть. Прислушивался к похрапыванию Каарела, спавшего крепким сном здорового, наработавшегося за день человека. Что-то порой потрескивало в стенах старого дома, словно старик с кряхтеньем распрямлял кости. Кошачьи глаза, зеленые и яркие, как зимние звезды, зажглись в темноте и проплыли мимо него.
Лежа с открытыми глазами, Пауль пытался представить себе жизнь свою в ближайшем будущем — через месяц, два, год. Это было так же трудно, как трудно было разглядеть кошку в этой темной комнате. Ведь он шел не проторенной дорогой и жизнь свою как бы начинал с начала. Он, Пауль Рунге, — хозяин хутора и своих собственных коров и лошадей!.. Это было трудно представить. Ведь он никогда еще не был хозяином.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Пробили старые стенные часы с медным, похожим на безмен, маятником и разбудили Михкеля Коора, хозяина хутора Кару. Бой часов прозвучал глухо, словно утонул в толстом ватном одеяле, под которым лежал Михкель с женой Мартой. В большой, с невысоким потолком, комнате обилие мебели и домотканных шерстяных ковриков на полу и стенах скрадывало звуки. Мебель была разная: рядом с дубовым платяным шкапом о трех дверцах стоял другой — березовый, с безвкусными резными столбиками и украшениями, ровесник стенным часам, принадлежавшим деду Михкеля, мельнику Отто. Порывшись в туго набитых шкапах, можно было обнаружить старую барашковую шапку деда и новые, ни разу не надеванные сапоги отца, а также много других вещей, принадлежавших отцу и деду. Из поколения в поколение собирались вещи на хуторе, ничто не выбрасывалось — даже дедовские часы луковицей в деревянном футляре, хотя что-то в них давно лопнуло и они показывали время начала текущего столетия. Вещи собирались в дом постепенно, по мере того как гарнцевая мука из тысяч крестьянских мешков оседала в мешках деда, по мере того как отец Яков прочно пришивал приобретенные на аукционах клочки земли к хутору Кару.
Теперь все, что принадлежало деду и отцу, было Михкелево; все, если не считать земли, — значительная часть ее отошла в резервные земли волости.
Михкель искоса посмотрел на голые располневшие плечи жены, уткнувшейся лицом в подушки. Спит… А вот там, дома, у своего отца, Йоханнеса Вао, Марта, наверное, не спала до восьми часов утра. Удивительно, как меняются привычки людей за несколько лет сытой жизни за крепкой мужниной спиной… Так недовольно думал Михкель Коор. Никто не говорит, что жена Коора должна вставать вместе с Роози, но все же…
Громко откашлявшись, Михкель спустил с широкой низкой кровати жилистые сухие ноги и не спеша оделся. На кухне, фыркая в ладони, умылся холодной водой. Перед тусклым зеркалом, повешенным над тазом, причесал волосы. Это отняло мало времени, — волосы росли только на висках и затылке. Немолодой уж мужчина Коор, за сорок, — но еще молодец собой, здоров. Приятной его наружность не назовешь: маленькие острые глаза, виски впалые, скуласт, лицо туго обтянуто кожей. Михкеля Коора из-за лица, а может быть не только из-за лица, называют «голодным». Он знал это и искрение ненавидел Кристьяна Тааксалу, которому был обязан прозвищем. Что ж… если у них и были между собой кое-какие счеты из-за недоданного за работу мешка овса, как утверждал этот Тааксалу, то это не дает ему еще права насмехаться.
Вошла Роози, румяная от мороза, внесла охапку дров; осторожно, чтоб не грохнули, сложила перед плитой.
— Ну, как Лолли? — спросил Михкель, вспомнив об овце, принесшей вчера ягнят. Так как овца была не простая, а хорошей породы, она имела свое собственное имя.
— Малыши сосут, — ответила Роози.
— То-то, сосут… — проворчал Михкель.
Глядя на Роози, он вспомнил, что давно уже обещал Йоханнесу Вао ягненка от Лолли. Давно Йоханнес просит, у него порода испортилась. Да и нет ни у кого в деревне такой породы овец, как у Михкеля Коора. Несколько раз Михкель обещал и все обманывал; теперь он, может быть, выполнит обещание. Может быть…
— Затопи плиту, — сказал он, задумчиво глядя на Роози, — а потом я тебе скажу кое-что.
Роози заторопилась у плиты. Когда хворост ровно разгорелся, наполнила котлы водой и только после этого сделала шаг к хозяину и потупила глаза с виноватым видом. Теперь она стояла перед Коором большая и неловкая, в башмаках на деревянных колодках, — как пришла из хлева, — и большие руки ее заметно дрожали. У нее всегда почему-то дрожали руки, когда Михкель Коор смотрел на нее, и она всегда старалась запрятать их под грязный передник или засунуть за полу замасленного полушубка. И лицо у нее всегда при этом было виноватое, хотя она перед Коором ни в чем не провинилась.
Михкель, поскребывая ногтем щетинистый подбородок, задумчиво и молча смотрел на нее. Эка ведь дура девка! Плечи и шея что у мужика, силища как у быка — только мешки ворочать, а руки что бараний хвост трясутся. «Глупа!» — насмешливо подумал Михкель.
— Ну, так как же с землей? Будешь брать? — с любопытством спросил он. — Решать надо.
— Не знаю… — тихо сказала Роози и мучительно повела шеей.
— Кто же знает? — пожал он плечами. — Разберут — поздно будет, вон сколько желающих… Земля-то — даром… Ты же не дура, чтоб за моим скотом ухаживать, когда сама свое хозяйство можешь заиметь. Глядишь, у Роози в хлеву корова и лошадь… И хлев свой, и банька, чтоб жить, и цветочек на окне, а? И свой хлеб на поле…
И по тому, как Роози под пытливым взглядом Михкеля отвела глаза, а руки ее сильнее задрожали под передником, он понял, что она, пожалуй, сама уже раньше думала над этим и даже, может быть, обстоятельнее, чем он предполагал.
Михкель усмехнулся.
— Так в чем же дело? Возможность есть… Я поговорю с Йоханнесом Вао, — он в комиссии, заявление тебе напишу. Мне моей земли много, от нее отрежем тебе шесть гектаров. Да гектара три от волостной земли прирежут. Там, по соседству с нами, земля неплохая. Жался тебя, говорю, а то ведь другие возьмут… Вон Пауль Рунге рыщет… А ты все-таки свой человек.
— Я-то согласна… — быстро сказала Роози, и на лице ее промелькнуло что-то крайне не понравившееся Михкелю, — отблеск внутренней радости, которую она всеми силами старалась скрыть.
— Из моего дома ты, конечно, уйдешь, — ведь сама хозяйка, — ровным голосом продолжал Михкель. — Ты сама не захочешь остаться, правда? Хлева мои тебе не подойдут, свои захочешь иметь. И семена, и лошадь, и плуг свой… Правда ведь?
Роози медленно опускала голову, выражение безнадежности появилось на ее лице. Она молчала. И Михкель Коор замолчал. Не следовало отбивать аппетита Роози. Нет, не следовало.
Выждав долгую минуту, Михкель ударил ладонью по столу.
— Ну, так слушай меня… Мы все-таки пять лет в одном доме один хлеб едим, — я тебе помогу. Бери землю! Год проживешь у меня — хорошо, ладно, — пока не отстроишься, я понимаю… Я тебе, кажется, должен за два года, что ли? Хорошо, так я тебе даю корову за долг. Ты не скажешь, что это плохая плата… Лучше мою корову, — мало ли какую худобу тебе в волости всучат. Семена? Одолжу, договоримся… Ну, идет это дело?
Михкель, тряхнув головой, размашисто протянул свою длинную руку к Роози. И Роози боязливо и неловко положила свою короткопалую твердую руку нашего ладонь.
Это увидела простоволосая Марта, вышедшая на кухню; последние слова она слышала.
— Раз корову даешь, так уж заодно бы и лошадь, — ядовито сказала она, кривя полные губы и щуря припухшие от сна глаза.
— Поди, проспись, — с презрением сказал ей Михкель.
Вечером Коор навестил тестя.
Между Михкелем и Йоханнесом Вао на грубом, но чисто отскобленном кухонном столе стояла двухлитровая жестяная кружка с пивом и табак в коробке. Пиво было темное, почти черное, и очень густое, попадая на пальцы — склеивало их, вливаясь в желудок — горячило кровь. Йоханнес мастерски варил пиво и, надо сказать, потчевал им не всякого гостя.
Неторопливо прихлебывая, говорили о многом. И трудно было по этой беседе понять, что главное в ней, а что — так, ради празднословия сказано. Поспорили о том, сколько класть хмеля в пиво, о ягнятах поговорили.
— Одного от Лолли можешь считать своим. Любого выберешь, — щедро обещал Михкель.
Виды на весну взвесили. Дед Татрика по каким-то своим приметам обещал сухое лето.
— Дед Татрика уж нюх потерял, — веско сказал Йоханнес. — Стар стал…
Михкель с этим согласился.
— Одно тебе скажу, — значительно сказал он. — Силен тот, кто хлебом владеет. Нет сейчас ничего дороже хлеба.
— Хлеб в цене, — согласился Йоханнес.
— Хлеб дорог… — продолжал свои мысли Михкель. — Но земля стала дешева — даром всем, кто ее хочет брать… И хлеб может подешеветь…
Сказав эти непонятные слова, Михкель многозначительно посмотрел на Йоханнеса и стал завертывать табак в бумажку.
— Земля что ж, бери и владей любой, — согласился и с этим Йоханнес, высек из зажигалки огонь и дал зятю прикурить.
— Ну, а как с землей Курвеста — решили уже? — лениво спросил Михкель. — Слышно, там еще желающие объявились — Рунге?
— Да, два заявления… Будем разбирать, — не без важности сказал Йоханнес.
— Ну… и думаешь как?
— А чего там думать… Хозяйство большое, на обоих хватит. Посмотрим…
— Вот-вот — обоим… — широко оскалился Михкель. — А по мне — тому преимущество дать, кто нужнее… Рунге на готовенькое хочет, от него шиш деревне, а Кянд трактор вносит в товарищество.
— Трактор — не плохо… — одобрил Йоханнес. — На молотьбе будем обеспечены.
— А Рунге посади в дом Курвеста — он через два года, пожалуй, тебя перещеголяет. Ты всю жизнь на своем хуторе мозолишься… А он теперь придет голенький, все даром получит, и через два-три года ты перед ним первый шляпу снимать будешь… Справедливо это?
Йоханнес промолчал. Вообще-то он в глубине души и в самом деле считал такую перспективу несколько оскорбительной для своего не такого уж маленького самолюбия. Только вот любопытно, каким краем это трогает Михкеля? Йоханнес исподлобья задумчиво посмотрел на зятя, ущипнув пальцами свою мохнатую бровь, стал наматывать на пальцы отросшие седые волоски.
— Конечно, дать можно, но уж не лучшее, — говорил тем временем Михкель. — Чем ему усадьба Курга плоха? Тоже ведь на земле Курвеста. Пусть себя покажет там… Да… — вспомнил он и потер костлявый широкий подбородок. — Моя Роози тоже хочет землю брать. Заявление написала.
— Где же? — поинтересовался Йоханнес.
— Видишь ли… Шесть гектаров от моей земли, те, что между старым мелиорационным каналом и ольховой рощей…
— Там хочет? — удивился Йоханнес. — Земля-то — болото…
— Зачем болото… Выгон, — поправил Михкель. — А что ж, чем не земля? И к этому еще гектара четыре из резервной земли прирезать, — тот клин, что между моей землей и лугом Татрика лежит. Там двухлетняя залежь — хорошая земля. Как ты на это посмотришь? Я все-таки Роози сочувствую, давно у меня работает.
Йоханнес медленно поднес кружку ко рту и, не торопясь, принялся цедить тягучее пиво. Это освобождало его от немедленного ответа. Давать быстрые, обязывающие к чему-то, решительные обещания и ответы Йоханнес избегал. Недаром крестьяне говорили, что Йоханнес не столь говорить умеет красно, сколь молчать хорошо… Поспешность бывает полезна лишь при ловле блох; отвечать лучше, когда поймешь дело до конца. А понять… не всякого человека сразу поймешь, даже зятя. Слова насчет «сочувствия» Йоханнес вообще пропустил мимо ушей, — при чем тут это, они ведь не в церкви. Одно он, во всяком случае, понял и, поняв, не мог не подивиться ловкости зятя. Тот примерно на четверть уменьшал свою землю, освобождался от худшей земли и, заодно, от повышенного налога. А возможно, тут скрывалось еще что-нибудь? Но если Роози хочет и сам зять этого желает…
— Конечно, если еще из резервных земель четыре гектара прирезать, то это уже другое дело, — важно сказал Йоханнес, со стуком ставя кружку на стол. — Это другое дело… Конечно, пусть Роози подаст заявление.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Йоханнес Вао не зря проплутал несколько часов по окрестным перелескам. В густом осиннике, примыкающем к Змеиному болоту, удалось-таки подбить порядочного зайца. Отдохнув на пеньке, Йоханнес завязал теплую, еще пушистую тушку в заплечный мешок и, вскинув на спину старенькое курковое ружье, пахнущее гарью от недавнего выстрела, двинулся к дому. Затвердевший ноздреватый снег на опушке леса почти не проваливался под его ногами.
Он шел, довольный собой и удачной охотой. Дурак заяц! Он прямо выскочил под выстрел, — спросонок, что ли?
Хозяин хутора Вао может иногда сходить и на охоту. Конечно, не каждый хозяин в Коорди в состоянии позволить себе это удовольствие, даже зимой… Хотя зимой и нет особо важных работ, но зато всегда находятся десятки малых: то привезти сено с болотных лугов или дрова доставить из лесу, а то починить сани или телегу. Поэтому хорошо, когда у тебя большая семья и три дочери — работницы хоть куда — и домом управляет такая жена, как Лийна. Тогда тебе остается только командовать и следить, чтоб домочадцы не ходили без дела. Сено с болота могут привезти младшие дочери, Линда и Вильма, а старшую, Вальве, можно послать и на лесные работы. Попроще работу дочери могут выполнить и за отца: это ведь не землю пахать. Работа им только на пользу. Недаром в деревне говорят, что дочки Йоханнеса Вао умеют и в хозяйстве управляться, и вязальной иглой орудовать, и — что похвальнее всего — слову старшего послушны. Недаром две старшие дочери Йоханнеса, выйдя замуж, стали хозяйками на больших хуторах. А породниться с богатыми хозяевами, с такими, как Михкель Коор, что и говорить, приятно было Йоханнесу. Из всех шести дочерей, жаль, вот только Айно нарушает цельность семьи — как строптивая овца вырывается из загона. Самая старательная дочь, но и самая строптивая. Сколько неприятностей она доставила Йоханнесу, когда без спроса ушла жить в город. В деревне всегда рады почесать языки, поразвлечься за счет раздора в семье соседа, тем более в семье крепкой и спаянной. Чего ей, Айно, нехватало? Можно подумать, что Йоханнес Kubjas[5] какой-то в семье, раз родная дочь предпочла уйти…
Опушка леса вывела Йоханнеса на проселочную дорогу, которой зимой пользовались крайне редко. В полукилометре от опушки чернело несколько убогих построек: дом и хлев. Издали посмотреть, — несколько банек приткнулись друг к другу, между ними колодец с журавлем. Таких колодцев давно уже не рыли в этих местах — ставили насосы. Здесь начинались поля хутора Курвеста. Когда-то на земле отца Марта, Карла Курвеста, его попс Кург построил эти хибарки. Несколько попсов жили здесь уже после Курга, но долго никто не уживался, — работать на Курвестов и ладить с ними было нелегко. Постепенно хутор приходил в ветхость. В народе его прозвали Журавлиным хутором, по имени его первого хозяина Курга[6].
Теперь хутор Курга получит нового хозяина. Им будет Пауль Рунге, бывший батрак Курвеста. Йоханнес Вао, один из членов волостной землеустроительной комиссии, только вчера подписал своей рукой это решение. Правда, Рунге хотел поселиться в доме Курвеста, а не в баньке Курга. Но, видно, Таммик, председатель комиссии, хотел оказать другому новоземельцу, Кянду, максимум льгот, и все из-за того, что в волости в лице Кянда все видели будущего председателя нового машинного товарищества. Вао был вполне согласен с председателем комиссии, и не столько потому, что очень уж рассчитывал на трактор Кянда, нет, не потому. Просто ему не нравилось, что хозяином богатого хутора Курвеста станет бедняк Рунге и разом получит то, чего Йоханнес Вао добивался всю жизнь, да так и не добился… И Рунге, чего доброго, через два-три года станет богаче его, Йоханнеса Вао. Он, Рунге, и так много получил: одиннадцать гектаров хорошей земли, корову, семена. Чего же более? А дом и хлев пусть построит сам, если он работник и мужчина. Нечего на даровое зариться!… Третьему члену комиссии, землемеру Нирку, было все равно, кого вселять на хутор Курвеста — Кянда или Рунге, лишь бы поскорее наконец завершить земельную реформу в волости и провести размежевание. Поэтому он охотно согласился с решением Таммика и Вао.
Разглядывая унылые пустые строения, Йоханнес, удивленный, остановился и встал за жидкие кусты ивы. Двое — мужчина и женщина — напрямик шли по полю к заброшенному хутору. Что за чорт! Шли, да еще взявшись за руку… Мужчина в шинели мог быть только Пауль Рунге. А по привычке носить запрокинутой голову и по решительной походке Йоханнес узнал свою дочь Айно…
Йоханнес полез в карман за трубкой, чтоб посоветоваться с ней.
Двое подошли к дому и медленно обошли его со всех сторон. Они сели на край колодца и стали смотреть на дом. Они смотрели так долго на него, что Йоханнес успел за это время набить трубку, разжечь ее и наполовину выкурить. Так люди смотрят на вещь, которую облюбовывают; им очень хочется приобрести ее, но они боятся, не будет ли она стоить им слишком дорого.
Старый Вао плюнул и, сунув трубку с огнем в карман, решительно зашагал по дороге, не глядя на хутор.
У него было такое ощущение, словно кто-то его крепко обошел и надул. Но кто? Уж не Михкель ли Коор? Но при чем тут Коор? И эта чортова девка! Мало того, что осрамила когда-то на всю деревню своим уходом — теперь спуталась с этим Рунге. Ничего себе положение: одна дочь замужем за Михкелем Коором, богатейшим человеком в Коорди, а другая в этой же деревне — хозяйкой на Журавлином хуторе. То-то все языки почешут, посмеются над гордостью Йоханнеса… Вао снова желчно сплюнул. Смеху и насмешек этот степенный, медлительный, с воловьей шеей, человек боялся больше всего.
А разве все не могло обойтись лучше? Разве не мог Рунге, в конце концов, чорт побери, поселиться в доме Курвеста, если бы он, Йоханнес, знал?
Он, мрачный, вошел в дом и молча шваркнул зайца о каменный пол кухни; сердито сопя, повесил ружье на гвоздь.
— Что с тобой? — удивилась Лийна.
— Ничего, — коротко отрезал он.
— Огонь в печке… Шкурку снимешь? — поинтересовалась Лийна.
— Я с этой девки шкуру спущу, — гневно закричал Йоханнес.
— С какой?.. Чего ты мелешь? — вытаращила глаза жена.
— Да все с той, что хозяйкой идет к Паулю Рунге на Журавлиный хутор, — язвительно сказал Йоханнес.
— Ну? — Лийна уставилась на мужа, ничего не понимая.
— Что — ну? Твоя Айно!
Лийна всплеснула руками и села на табурет.
— Айно на Журавлиный хутор?
В дверях показались румяные лица Линды и Вильмы, но, увидев отца, моментально скрылись.
Теперь бы Йоханнесу подвесить зайца к потолку, надрезать шкурку на лапках и стянуть через голову мягкую зимнюю шубку со смешным белым пушистым хвостиком. Заячью тушку Лийна разрубит, уложит в глубокую сковородку, нарежет туда едкий лук колечками, обильно обложит нежное мясо кубиками шпига, перцем посыплет. И — в печь… Заячьи мохнатые лапки высушит. Ими так хорошо и удобно смазывать и чистить сапоги.
Но о зайце забыли и Йоханнес и Лийна.
Йоханнес, сердито сопя, вышел на двор.
— Как рубишь? — заорал он, видя, как Вильма третий раз напрасно тяпает топором по сучковатому полену. Сам выхватил топор и с кряканием принялся долбить вязкий березовый комель.
Нарубив большую кучу и вспотев, он отшвырнул колун и вошел в дом.
— Вот что… Собери все тряпки Айно и уложи в ее чемодан, — угрюмо, но уже спокойно сказал он Лийне. — И поставь все это здесь.
И он показал на порог. Лийна заплакала. Йоханнес взял зайца за задние лапки, чтоб довершить свое охотничье дело.
Пауль Рунге не знал, что старый Йоханнес видел его вместе с Айно на пути к хутору Курга, как не подозревал и того, какой большой интерес вызывало у Михкеля Коора и у других его появление на полях хутора Курвеста.
Пауль и Айно и не могли заметить Йоханнеса, потому что слишком были поглощены своими делами. Крепко держась за руки, они шли прямо через покрытый снегом луг.
— К нашей усадьбе нет даже дороги, — сказал Пауль, и они посмеялись оба, хотя ничего смешного в этом не было.
— Тропинка идет правее, краем луга, — сказала Айно, — когда у тебя будет конь, он проложит широкую колею. А сейчас она и не нужна. Разве нужна птице дорога, чтоб найти свое гнездо?
Они снова весело посмеялись, и Пауль неожиданно ловко обхватил Айно и поцеловал в шею; она со смехом вырывалась, но не очень. (Все это видел Йоханнес из-за своего куста, когда запаливал трубку.)
Дом чернел на белом снегу своими необжитыми бревенчатыми стенами, стоял на голом месте, открытый всем ветрам; только с одного боку лепились к нему две старые березы и жидкие кусты. Пауль и Айно обошли дом кругом. Дом — низкий, как баня; два оконца на юг, одно на восток. Перед полуоткрытой закопченной дверью плоский плитняковый камень, занесенный снегом.
Они сели на заснеженный сруб колодца. Пауль заглянул в него.
— Воды в нем нет, — пробормотал он. — Как и говорил Семидор. Придется возить в бочке из ручья.
— Ты сделаешь санки, — согласилась Айно. — Ручей недалеко. Это пустое дело. Но как хлев?
Она потянула к себе дверь, но ее плотно занесло снегом. Пришлось Паулю помочь. Они вступили в холодную темноту, где чуть пахло прелой соломой и древесной гнильцой.
— Даже навоз вывезен до крошки, — огорчился Пауль. — Но корову и лошадь на первое время тут поставить можно. Только стойла сделать и кормушки. Дверь поправить, — видишь, покосилась, не закрывается…
— Здесь в углу будет поросенок, — с восторгом сказала Айно.
И ему показалось, что он видит, как в темноте блестят ее глаза.
— Поместится, — согласился Пауль. — Ну, пойдем дальше.
У сарая, примыкавшего к хлеву, совсем не было двери. В щели между разошедшимися досками сияли полоски света. На полу, покрытом слежавшимися опилками с требухой древесной коры, стояли широкие сломанные дровни, валялись беззубые грабли и измочаленный чурбан для колки дров. Больше ничего не было.
— Вот и сани, — оживился Пауль и поставил ногу на перекладину. — Может быть, мы на них еще лес повозим, а?
— Идем в дом, — потянула его Айно за рукав.. — В наш маленький домик, — засмеялась она.
Они вступили на порог. Дверь из маленьких сеней открывалась прямо в комнату. Комната была одна. В ней стоял очаг с черной, задымленной топкой. На полу перед окном белел сугроб снега, — занесло в разбитую раму. Айно бросилась к плите.
— Самое главное, чтоб не дымила, — озабоченно сказала она, отыскивая и выдвигая задвижки. В руках Айно появился клок соломы; она зажгла его и сунула в плиту. Синеватый дымок пропал было в устьи, а затем повалил в комнату.
— Ничего, разгорится — лучше будет, — успокоил Пауль, заметив огорчение на лице Айно. — Может быть, кирпич в дымоходе. Это пустяки поправить.
Он прошел широкими шагами вдоль задымленных стен, — пять шагов в ширину, семь в длину, — половицы заскрипели под ногами. Записал что-то в блокноте, вынутом из кармана.
— Пол… — коротко сказал он. — Пол перебрать надо. Мне бы пять-шесть досок двухдюймовых… Стены обобьем папкой, — тепло и светло. Ты увидишь… Мы на войне даже в земле в три дня такие квартиры устраивали, что загляденье… А тут стены есть и потолок.
Он с удовлетворенным видом уселся прямо на полу и стал закуривать. Айно подошла к нему.
— Пауль, но у нас нет даже стола и стульев, — тихо сказала она. — Я не знаю, как это все будет?
Посмотрев на ее лицо, он расхохотался.
— Мы что-нибудь придумаем… — многозначительно сказал он. — Я поеду в город и отыщу Йоханнеса Уусталу. Ты не знаешь Йоханнеса Уусталу? Это великий строитель; он меня научил держать в руках топор и рубанок. У него и сейчас мой инструмент кой-какой лежит. Если я его найду, все будет хорошо…
Айно вздохнула.
— Что? — спросил он озадаченно.
— Ничего, — покраснев слегка, сказала она. — Сааму говорит, что с милым и соленая салака сладка. Но…
— Но белый хлеб лучше, — подсказал он, улыбаясь.
— Нет, не то… Чтоб поселиться в этом доме, надо разжечь огонь в плите, а чтобы вырастить хлеб, нужно много. Кто нам поможет? Мой отец не поможет нам…
— Да, конечно… — сурово сказал Пауль, встал и выглянул в окно.
— Наша помощь — здесь, — сказал он.
Айно, подойдя к нему, ничего не увидела, кроме голых полей, покрытых снегом, — поля вплоть до леса.
— Вот это и есть помощь, — сказал он, взволнованно улыбаясь. — Земля. Кто нам дал ее, тот поможет и дальше.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Январь тысяча девятьсот сорок шестого года пришел с оттепелью и влажными теплыми ветрами с моря. Потом ударил мороз, густо выпал снег, покрыл леса и поля, и установились солнечные, морозные дни.
Хутора деревни Коорди у лесных опушек стояли тихие и заснеженные; совсем такие, как изображали их когда-то на рождественских открытках пятсовских[7] времен: синяя сонная ночь над снежными крышами хуторов, приткнувшихся к темным елям; уютно и безмятежно светятся огоньки в окнах, узкие снежные дороги ведут к хуторам.
Внутри этих хуторов жизнь теперь текла не такая уж сонная.
Новая жизнь, со всеми ее бурными хлопотами, входила в тихие хутора, увлекая за собой всех их обитателей, как бы далеко хутор ни отстоял от здания волисполкома, где председатель Янсон почти охрип у телефона, ругаясь с председателями сельсоветов из-за медленного хода лесозаготовок, инструктируя сельских уполномоченных и давая сводки в уезд.
Пока Янсон шумел у телефона, Петер Татрик, коротконогий, мешковатый крестьянин в меховой финке, надвинутой на глаза, спотыкаясь по сугробам, пробирался на отдаленный хутор Мейстерсона и в крепких выражениях поминал Янсона, который до сих пор никак не удосужится выделить ему в помощь другого сельского уполномоченного. Где это видано, чтоб на одного приходилось шестнадцать хуторов, к тому же далеко расположенных друг от друга? Сам же говорит, что норма только десять…
Рвался на цепи и лаял пес.
Мейстерсон, высокий, жилистый крестьянин с лысиной, с очками на длинном птичьем носу, открывал дверь на кухню, где пахло теплым хлебом и молоком и хозяйка чесала шерсть на ручных кардах.
— Ну, что скажешь? — спрашивал Мейстерсон после обмена мнений о погоде.
— Все то же, — ласково говорил Татрик. — Завтра воскресник по вывозке. Вам восемьдесят кубометров вывозить, а вы еще и половины не вывезли.
— А я завтра думал ехать в город на базар, — откровенно вздыхал Мейстерсон, — поросят продавать.
— Можно подумать, без нашего Яана не обойдется, — вмешивалась хозяйка.
— Значит, не обойдутся, — отвечал Татрик, обтирая громадным платком запотевший лоб. — У Янсона второй день уполномоченный из уезда сидит. И машина на дворе стоит. Зря бы он не приехал, я думаю. Правда ведь?
— И куда это лес идет только? — бормотал Мейстерсон.
— Нужен… Немцы половину Таллина разрушили, Тарту, Нарву. Не оставлять же так… — резонно разводил руками Татрик. — Да и вон, говорят, в Кохтла-Ярви на сланцах заводы строят, город целый. Разве туда леса мало нужно?
— А я хотел на ярмарку, — задумчиво почесывал нос Мейстерсон, — поросята в самый раз подросли.
— Нет, Мейстерсон, уж как хочешь, а завтра на воскресник. Уж ты не отговаривайся. Понимаешь, и меня и власть обидишь отказом…
Татрик с достоинством выпятил крутую грудь под расстегнутым бараньим полушубком. Мейстерсон искоса задумчиво посмотрел на значок сельского уполномоченного, прикрепленный к отвороту пиджака его. Татрик не плохой мужик, добродушный человек; Мейстерсон его знал как облупленного, — такой же мужик, как и он сам, и вдруг — власть… Татрика, как одного из соседей, он мог бы, вообще-то говоря, послать к чертям. Но вот советская власть — это было уже другое дело. С ней он ссориться не хотел. С какой стати! Кто же ему в сороковом году скостил земельные долги, кто пять гектаров земли прирезал? Опять-таки удобрения получил в этом году, семена думает менять на сортовые…
— Может, не ехать на ярмарку? — вопросительно обратился он к жене. — Как думаешь, Сальме?
Сальме не ответила, зная, что муж спрашивает больше для формы и все равно решит по-своему.
— Даже те едут, кто и не обязан, — вспомнил Татрик. — С хутора Яагу все едут: Маасалу, Тааксалу и Семидор.
— Ну, быть так… — хлопал Мейстерсон ладонями по коленкам. — Мой конь не хуже, чем лошади на хуторе Яагу….
И Татрик, распростившись, заснеженными тропинками брел к другому хутору.
Огни в Коорди на тех же местах, в тех же окнах, где их привыкли видеть отцы и деды, но на многих этих хуторах жили новые хозяева. Так, на хуторе Яагу, принадлежавшем когда-то трактирщику Мергелю, поселились двое бедняков — Маасалу и Тааксалу. Жизнь на хуторе Яагу давала крестьянам обильную пищу для разговоров, потому что в содружестве этом они видели что-то новое, непривычное для деревни Коорди, резко идущее вразрез с ее традициями. Бывало в волости и раньше, когда два хозяина селились вместе и помогали друг другу, но их непременно связывали узы родства. А тут двое чужих друг другу крестьянина. К ним примкнул еще третий, всем известный Семидор-неудачник. По этому поводу было много шуток. Так как в деревне, состоящей из двух десятков хуторов, трудно было скрыть что-нибудь, то все были в курсе событий на хуторе Яагу. Знали, что Семидор на первой же пахоте сломал лемех на камне, и как он стал при помощи Маасалу хозяином половины лошади, и как на базаре ему какой-то пройдоха ухитрился продать кривого на один глаз поросенка.
Но мало-помалу темы для шуток иссякли: трое на хуторе Яагу держались прочно, и по началу видно было, что там дело пойдет на лад. Это ощущалось даже по поведению Семидора, который уже не с прежней охотой поддерживал шутки односельчан на свой счет.
Большое внимание крестьян привлекло к себе и вселение новоземельца Юхана Кянда на хутор Курвеста. Юхан Кянд оказался веселым, разговорчивым и очень добродушным мужчиной средних лет. Два грузовика, нанятых им и доверху нагруженных, привезли его добро. Любопытные глаза успели разглядеть под брезентом на машинах мешки, туго набитые зерном, ящики, городскую мебель.
Сам Юхан приехал на поджаром красном тракторе и установил его в просторном сарае рядом с молотилкой, рядовой сеялкой и жнейкой.
Вместе с Юханом приехала его молодая жена с пушистой лисой на воротнике и еще какая-то пожилая женщина, повидимому мать, с брезгливо сжатыми губами. Жена бережно внесла в дом крошечную собаку с круглыми, выпуклыми как пуговицы, злыми глазами и больше не показывалась на дворе, где у ящиков хлопотали муж, шоферы и растерянный Сааму.
— Ого! — многозначительно сказал Маасалу своим приятелям, глядя на проезжающие мимо грузовики Кянда. — Видать, господин новоземелец не одну тонну тянет…
Да и многие крестьяне в волости сказали «ого!» Выяснилось, что некоторым он знаком по встречам на окрестных ярмарках, где Кянду удавалось иногда совершать довольно удачные сделки. Своей земли Юхан Кянд никогда не имел, он когда-то предпочитал арендовать ее в соседних с Коорди волостях у хозяев, близких к разорению, и, по слухам, арендовал довольно выгодно; истощив поля, взяв от земли за пару лет все, что она могла уродить, и ничего не дав ей взамен, он охотно расставался с участком.
Кянд немного разбирался во всем, — умел управлять трактором, мог разобрать и собрать электромотор, хотя и не всегда от этого был толк; подобно ходячему справочнику, знал по всему уезду, где что и у кого можно купить — с доплатой и без, давал советы и, вообще, считался деловым человеком.
И вот теперь у Кянда специально для организуемого машинного товарищества появился неизвестно из чего и как собранный трактор. Основанием его послужил изуродованный, без мотора, остов, привезенный Кянду знакомыми шоферами за пару литров самогона. Мотор, подшипники, магнето и прочие детали неутомимый Кянд доставал по всему уезду, где в обмен на «мыльный камень», который на проверку оказывался бог знает какой дрянью, а где и попросту, как говорили крестьяне, «брал в долгосрочный кредит».
Поджарый трактор, свежевыкрашенный Кяндом красным лаком, внешне выглядел довольно внушительно: оглушительно тарахтел на ходу и плевался синим дымом, словом — производил впечатление.
И вот этот трактор Юхан Кянд сдавал в организуемое машинное товарищество, можно сказать — дарил его…
Юхан Кянд, сгрузив добро в дом, не задержался в нем, а двинулся в самые людные места деревни. Он навестил всех ближайших соседей — Коора, Вао, Татрика и Мейстерсона, только Пауля Рунге не навестил, может быть потому, что дорога туда была занесена снегом. Его увидели в сельском совете, в волисполкоме и в местном кооперативе. Всюду раздавался его зычный, с сипотцой, веселый голос, кому-то он обещал одолжить сеялку, с кем-то чокался кружкой с пивом…
Каким бы компанейским парнем он ни показал себя, крестьян, однако, заинтересовал своим появлением и Коорди не столько Кянд, сколько его поджарый трактор. В Коорди не было трактора, и вот теперь он появился. О, это было большое дело! Кянд теперь собирался работать «под машинным товариществом», как он сам об этом всем заявлял.
Новое товарищество жизненно интересовало многих, и на первое организованное собрание в середине февраля пришли крестьяне с самых дальних хуторов.
Председателем товарищества выбрали Юхана Кянда, как человека, знакомого с тракторами. К тому же в глазах многих хозяев немаловажным казалось то обстоятельство, что Кянд, вступая в товарищество, отдавал ему свой трактор. Значит, как-то и неудобно не почтить Кянда…
В таком духе и высказался Михкель Коор.
При выборах членов ревизионной комиссии возникли споры и разговоры. Выдвинуто было с десяток кандидатур. По привычке выдвинули и кандидатуру Йоханнеса Вао.
Неожиданно для всех выступил незнакомый большинству старых хозяев в волости, одетый в поношенную шинель человек с тяжелым суровым лицом, с которого неуступчиво и неласково смотрели пристальные голубовато-серые глаза.
Он не совсем даже вежливо протолкался между старыми уважаемыми и известными в Коорди хозяевами поближе к столу президиума. Увидев его лицо, Йоханнес Вао, сидевший в первых рядах, угрюмо насупился.
Человек выступил с очень короткой речью, прозвучавшей так же резко и ясно, как резки и ясны были черты его мужественного лица.
— Во-первых, — сказал он, — это дело надо рассматривать как дело советской власти. Машинные товарищества и раньше бывали в волости, но какие? — Кулацкие. А это товарищество — советское. Его первая цель какая? — Прежде всего, помочь не таким крепким хозяевам, как Коор, или даже таким середнякам, как Йоханнес Вао, который и сам справится с пахотой, а бывшим попсам, батракам и новоземельцам, не имеющим своих сельскохозяйственных машин. Значит, руководить товариществом и контролировать его должны представители от бедноты. Он поэтому и предлагает выбрать в ревизионную комиссию Маасалу. Точка!
В наступившем молчании он пошел пробираться на свое место, ощущая на себе пристальные взгляды. Среди них взгляд Михкеля Коора никак нельзя было назвать дружелюбным.
Но плевать он хотел на эти косые взгляды!.. Поля Журавлиного хутора нуждались в тракторе! Вот это, так же как и неизменный тревожный вопрос Айно: «Но кто нам поможет, Пауль?», заставили его, всегда такого молчаливого, выступить.
Парторг Муули, сидевший за столом президиума, весело и одобрительно посмотрел ему вслед.
Выступил сельский уполномоченный Татрик, который любил, чтоб все решения принимались тихо, мирно, без препирательств, — иначе, какой же порядок?
Зачем такие слова? Ведь речь идет о всех крестьянах Коорди, — все будут выполнять план государственных поставок по хлебу. И товарищество нужно и Коору, и Мейстерсону, ему, Татрику, и Маасалу — всем…
Впечатление от его примирительных и добродушных слов чуть не испортил Кристьян Тааксалу.
— Слушайте, слушайте, этот парень Рунге правильно говорит! — прозвучал его трубный голос. — Михкелю Коору трактор, конечно, тоже нужен, но нам он нужен больше.
Пошумели, погалдели… Мнения хотя и разделились, но после голосования выяснилось, что Йоханнес Вао получил больше голосов, чем Каарел Маасалу. Все-таки Вао был свой в Коорди человек, а к тому, с хутора Яагу, пока еще приглядывались…
Пауль сердито насупился, — видно, смаху не так-то легко сковырнуть тестя: глубокие корни держат…
Вошли новые времена и в быт Коорди. Ибо чем другим, как не веянием новых времен, по мнению крестьян, можно было объяснить глубокую межу раздора, легшую между Журавлиным хутором и хутором Вао? Йоханнес теперь и слышать не мог имени Пауля и Айно, а те, в свою очередь, не делали никаких попыток к смирению и примирению.
Разве такое случалось в старые времена? Наверняка нет. Новый зять вместе с Айно пришли бы с повинной. Они на кухне, стоя, выслушали бы Йоханнеса. И Пауль, уж будьте спокойны, в первую же весну поработал бы на полях Йоханнеса, из чувства родственного долга и уважения. Ибо у кого нет богатства, тот берет смирением.
И тогда, как знать, Йоханнес, любивший почет, может быть простил бы дочь, которую выгнал из дома. Из чувства отцовской гордости, — чтоб не смеялись над убогой жизнью молодых, — подарил бы Паулю пару овец и корову. Да и плуг или борону одолжил бы и случае нужды. Ведь не каменное же сердце у него…
А теперь получилось нечто совсем непонятное. Двое, можно сказать, нищих захотели своими силами построить себе жизнь на Журавлином хуторе.
По мнению Йоханнеса, это было так же немыслимо и невозможно, как попытаться осушить само болото Ussi soo[8], отнимающее от волости двести гектаров земли. Находились, правда, смельчаки, пытались когда-то, да ничего не получилось у них, труд зря потратили, посмеялось над ними Змеиное болото.
Похоже было, что молодожены даже думать не хотели о прощении, и то, как они себя вели, на взгляд Йоханнеса, было сплошным вызовом ему перед лицом всей деревни.
— Гордость никогда никому богатства не приносила, — сердито ворчал Йоханнес жене Лийне. — Вот посмотрим…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
О том, что делается на Журавлином хуторе, крестьяне Коорди знали мало; сам хутор стоял далеко на отшибе, и с большой дороги нельзя было увидеть дымка из его трубы, да и сам Пауль Рунге довольно редко показывался в людных местах, не в пример вездесущему Юхану Кянду, новому владельцу хутора Курвеста. Между тем, ни одна семья в деревне не готовилась с таким напряжением к весне, как Пауль с Айно на Журавлином хуторе.
В хлеву теперь стояла краснопегая корова Минни, принадлежавшая когда-то Курвесту. Первые дни Айно поминутно выбегала к ней в хлев. Скребком и щеткой Айно выскребла ее до блеска, мыла вымя теплой водой и смазывала жиром. В углу похрюкивал поросенок, купленный у Мейстерсона на армейские сбережения Пауля. И, наконец, в загородке из еловых жердей стоял сам Анту, двадцатилетний серый мерин!
Из-за Анту Паулю пришлось повоевать. Юхан Кянд пожелал получить его себе, — как никак, у него лошади тоже не было. Дело дошло до Янсона. Пытаясь сдержать волнение, Пауль спросил председателя, что можно сделать без лошади, когда на хуторе нет ни полена дров и даже воду приходится возить за полкилометра в кадке. А на ком лес возить для постройки, с кем на пахоту выйти? Он упорно смотрел в глаза Янсону, и тот принял его сторону.
— Ты уж тоже… — с неудовольствием сказал он Кянду. — Из-за двадцатилетнего одра споришь, — смеяться будут… Новую не купить, что ли?
Юхан отступил. В самом деле, стоило ли лезть в историю из-за этого одра?
И Анту вместе со старой телегой Курвеста водворился на Журавлином хуторе. Теперь было на ком возить воду и даже хворост из леса. Старые дровни Пауль ловко починил.
Он съездил в уездный город, отыскал там старого плотника Йоханнеса Уусталу, вместе заходили в уком партии, в кооператив, на лесопилку. Всюду у Уусталу были друзья и знакомые, везде перед стариком в старомодном поношенном пальто снимали шляпы.
Через два дня грузовик доставил их обоих в Коорди и высадил на развилке дорог, — до хутора на машине не добраться было. С машины выгрузили дюжину досок, рулоны папки, бочку цемента, ящик стекла и новый стол, белеющий свежим деревом. Пауль сходил за Анту и доставил все это на хутор.
Великий строитель, к удивлению Айно, оказался маленьким седеньким стариком с подвижным лицом и веселыми, усмешливыми глазами. Он вежливо пожал руку Айно и с удовольствием оглядел ее.
Айно с испугом заметалась у плиты. Боже, чем кормить? Только картошка и кусок соленой свинины в горшке… Но старичок оказался на редкость догадливым.
— Не беспокойтесь, мы с Паулем захватили кое-что.
И он подмигнул ей дружески и весело.
В самом деле, в заплечном мешке этого удивительного елочного деда оказались и холодное мясо, и кислосладкий хлеб, и масло. Обедали на новом столе, свеже пахнущем еловой смолой.
— Ну, а теперь за дело, — решительно сказал Уусталу и быстро оказался в поношенной синей робе. Пауль также переоделся в старое.
Два дня в доме стучали топоры и молотки, визжала пила и шаркал рубанок Уусталу, и Айно растапливала плиту свежей стружкой. Как изменился дом за два дня, пока этот веселый старик командовал здесь! Иногда он ворчал на Пауля, щуря глаз, присматривался к шершавому куску доски, потом недолго колдовал над ним рубанком и стамеской, и доска превращалась в оконный наличник или в красивую кухонную полку для Айно. А старик все ходил, недовольно щурился, и Айно с восхищением следила за ним.
Пол перестал скрипеть, — его перебрали, вставили новые половицы. Стены с вылезшей паклей и закопченный потолок обили матовой светлокоричневои папкой, на места стыков набили аккуратные рейки. Стало нарядно и весело. Остеклили разбитые окна.
Когда все было готово и оставшиеся материалы снесли в сарай, Уусталу снял робу и собрался уходить. Оглядывая сделанное, сказал без улыбки и очень серьезно:
— Я в этом доме сам хотел бы жизнь начать с начала…
Айно не удержалась и поцеловала его в седой хохолок на виске.
Пауль отвез Уусталу на Анту до большой дороги. Крепко пожав ему руку, он пробормотал:
— Спасибо, старик… за все…
— Что — спасибо… — заворчал Уусталу. — Люди — тебе, а ты — людям, да… Я с тебя еще спрошу, помни!
Попутная машина увезла его.
— Какой старик! — с восторгом сказала Айно, когда Пауль распряг Анту и вошел в комнату. — Принес счастье и ушел.
— Я говорил, — с гордостью согласился Пауль. — Он так всю жизнь: один дом выстроит и за другой принимается.
После посещения Уусталу работы на Журавлином хуторе не убавилось. Отдыха не знали ни Пауль с Айно, ни Анту. Рано утром, в темноте, Пауль запрягал старого мерина и ехал на речку за водой; Айно в это время задавала корм поросенку и корове, доила, готовила завтрак. Позавтракав, Пауль, уезжал за десять километров в лес, где лесничество, по ходатайству волисполкома, выделило строевой лес на корню для будущих новостроек. Лес следовало спилить сейчас, пока зима, — через несколько месяцев не будет времени. Он взялся помочь выполнить Петеру Татрику нормы по государственным лесозаготовкам; за это Татрик обещал помочь Рунге.
Усталый приезжал Пауль в темноте; сваливал на дворе воз хвороста. С трудом отмыв клейкие и черные от смолы руки, садился на кухне у стола и жадно принимался за горячий картофель с мучной подливкой. Питались они сейчас неважно. Молоко от Минни Пауль два раза в неделю увозил на маслобойню — масло продавал сельхозкооперации. В новом хозяйстве дорог был каждый рубль, и тратился он только после длительных раздумий.
Неполный рацион получал и Анту. Утром и вечером Пауль выдавал ему по крошечной мерке овса. Овса был только один мешок, и его следовало приберечь к весне. Айно с тревогой поглядывала на тающую в сарае кучу сена, — его дали им в волости, так же как и овес, и семена для посева, — но Янсон предупредил, что больше не даст. Хватит ли? «А если не хватит?» — озабоченно думала Айно. Ведь тогда Анту не будет работником, и так вон ребра выступили… Да и Минни необходимо хорошо кормить: через два месяца она должна отелиться.
Вот и думай тут… И, сидя вечерами у керосиновой лампы, они думали.
Закурив после скудного ужина и озабоченно глядя на Айно, Пауль говорил:
— Все хорошо, но как с удобрениями? Поля пять лет удобрений не видели. В волости сейчас минеральных больше нет. А навоза с нашего скота только разве на огород хватит.
— На огород — зола, — проворно отвечала Айно.
Она сколотила ящик, куда собирала золу.
— Все равно мало… — качал головой Пауль. — Но где же взять на поля?
На это Айно не могла ответить.
— Если бы я в лесу успел справиться к концу февраля… — соображал Пауль. — Тогда бы можно хоть торфа навозить с болота…
Потом он брал карандаш и принимался вычерчивать план нового хлева и дома, высчитывал, сколько потребуется камней для фундамента, но вскоре начинал клевать носом.
— Спать, — решительно говорила Айно.
Часто и ночью на тихом хуторе продолжались бесконечные разговоры о строительстве.
— Нам не надо думать ни о чем другом, пока не построимся, — говорил Пауль. — Чтоб нас ничто не отвлекало…
— Тяжело начало… — рассудительно говорила Айно. — Но когда есть земля, корова и лошадь, и поросенок — тогда уже легче…
Дальше она говорила, что все это дарит хорошие надежды, и за них она, Айно, перед всей волостью готова сказать спасибо советской власти. Надо вспахать как можно больше земли, побольше посеять пшеницы, овса и посадить картофеля, не забыть кормовую свеклу. Тогда будет чем кормить Минни и Анту. Свеклой они откормят поросенка и зарежут его не раньше, чем он будет весить пудов двенадцать. Половину — в засол; половину продадут и купят двух поросят. Одного поросенка — на племя, и в будущем году у них будут свои поросята. У Минни будет теленок. Если будет хороший урожай, они купят еще одну корову. Вот тогда-то они заживут…
Дойдя в своих мечтах до пышного сада, разбитого у нового дома, Айно замолкала, словно завершив замкнутый круг в своих мыслях, и беспокойно спрашивала:
— Ну, а кто нам все-таки поможет? Плуга-то нет?
— Трактор вспашет… — сонно говорил Пауль. — Тот красный трактор Кянда, — он теперь в машинном товариществе…
Так, наполненные напряженным трудом, проходили дни новоземельцев на Журавлином хуторе. И хотя день ото дня прибавлялся, становился длиннее, им все нехватало его.
Отправив Пауля в лес, Айно принималась за домашние дела. Если за ночь выпал снег, сгребала его со двора, рубила хворост, привезенный мужем, и укладывала в штабеля перед сараем, резала солому в корм корове, мыла и чистила в доме, затыкала паклей разошедшиеся пазы в хлеве, приколачивала какие-то щеколдочки, сама сколотила из досок небольшую кладовушку в холодных сенях.
Она двигалась стремительно и легко я все напевала:
О, ради своего счастья она готова была поработать. Разве это работа, что она сейчас делает? Она все жалела, что не может вместе с мужем пилить в лесу бревна для их будущего дома. Но кто тогда будет ухаживать за коровой и поросенком?
— Вот придет весна, тогда поработаешь во весь аппетит, — обещал Пауль.
И она жадно дожидалась весны. Дали бы только ей посеять, уж она бы пожала!..
Кипучая здоровая крестьянская кровь переливалась в жилах Айно, просвечивала сквозь румяную кожу широкого круглого лица, сияла в жизнерадостных голубых глазах ее. Она могла поднять пятипудовый мешок с земли на телегу. Как-то на деревенской вечеринке она на спор протанцовала без перерыва больше часу, пока музыканты, утомившись, не бросили играть… Ей ничто не было трудно. Только достичь богатства казалось ей трудной и невозможной задачей. Она была крестьянкой и слишком хорошо знала, что значит строить свою жизнь, когда нет ни плуга, ни бороны. Раньше в деревне Коорди у людей на это уходила целая жизнь. Но Пауль верил, и это поддерживало в ней веру в новые силы.
Работа в лесу подвигалась. Норма лесозаготовок Петера Татрика была выполнена, и теперь, на лесной делянке падали деревья, для нового дома Пауля Рунге.
Широкая спина Пауля склонялась к пиле; в этой спине Татрик видел непреклонную решимость не отрываться от дерева, пока оно с шумом не рухнет на землю.
— Я и не рад, что связался с тобой, — добродушно ворчал Татрик, обтирая лоб, и бросал недокуренную папиросу. — Эдак ног не потянешь.
С упавшей сосны Пауль срубал сучья. Рубил с такой яростью, словно рогатые сучья преграждали путь к его новому дому. Острый топор смаху сносил сучья толщиной в руку.
Пауль работал бездумно, весь уйдя в дело, ни на что не отвлекаясь, как лошадь, пущенная в борозду. Теперь все зависело от него самого, от его работы. Все было ясно. Там в Коорди — земля: его земля. Тут лес. Его надо спилить, чтоб построить новый дом. Надо быстро успеть с лесом, потому что весна наступает. Надо еще успеть хоть немного вывезти с болота торфа на давно не удобрявшиеся поля. А снег уже тает под мартовским солнцем, становится ноздреватым, рыхлым… Снежные сугробы на солнечной опушке уже опадают, как мыльная пена…
Надо торопиться.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Как ни торопился Пауль Рунге вывезти на поля торф, весна обогнала его. Она пришла апрельской ночью в густом влажном тумане, полном приглушенного шума и движения; словно громадные птичьи стаи пролетали высоко над головой. То шумели деревья, отряхиваясь от весенних капель, журчали невидимые ручьи в своем вечном стремлении к морю. Двор хутора почернел. Сани, оставленные Паулем вечером перед сараем на крохотной полосе хрупкого льда, утром оказались на раскисшей земле, и Пауль с трудом сволок их в сарай. Нечего было и думать ехать на болото.
Анту впервые за три месяца не был впряжен в хомут. Пауль долго чистил и скреб его; внимательно осмотрев, покачал головой.
— Ну, ну, продержись, старина, эдак мы с тобой весну не вытянем, — пробормотал он. — Отдохнуть надо.
И положил Анту полную порцию сена и овса.
У Пауля впервые за последние месяцы выдался свободный день; это было непривычно и даже немного тяготило его. Айно не раз в этот день шутливо принималась ворчать, что он мешает ей и уж лучше отдохнул бы, полежал.
Но отдыхать он не мог. Снедаемый беспокойством, ходил по двору и дому; все казалось, что позабыл что-то сделать, упустил нечто важное… Но что? В хлеву Анту и корова Минни мирно дожевывали сено, в крошечном закутке прыгал рыжий двухнедельный теленок — любимец Айно, похрюкивал поросенок. Нет, тут все было в порядке…
Вошел в сарай, осмотрел телегу: стара, развалина, но еще послужит, — между делом он отремонтировал ее, сменил износившееся колесо. Пауль с удовольствием покосился в угол, где стояли две бочки с цементом, ящик стекла, железо для плиты — все для будущей стройки. Нет, что ни говори, а три месяца не прошли даром. Больше чем он сделал на Журавлином хуторе за это время, вряд ли кто успел бы…
Но беспокойство не проходило. Отчего бы оно? Пауль присел на камень у сарая и долго просидел задумавшись, глядя в сторону леса, закрытого синей пеленой тумана. Неизвестно почему вспомнилось, как год назад, тоже вот в такой туманный раскисший день в Курляндии, он с тремя разведчиками вошел во вражеский немецкий тыл. В кустарнике перед поляной они разошлись. Надо было перейти поляну, чтоб затем встретиться в лесу. Так же вот непонятно и смутно синел лес впереди… В тумане скрылись друзья. На миг острое чувство одиночества и осиротелости пронзило его, и захотелось увидеть своих троих спутников-товарищей, ощутить их присутствие, узнать, что с ними…
Так и сейчас вдруг вспомнилось, что все эти месяцы он не видел дружную компанию с хутора Яагу. Как-то они там со своими нуждишками? С парторгом Муули словно какие-то разговоры остались недосказанными. Может быть, Муули уже забыл о нем? Да и помнят ли о нем в волости, видят ли, как он тут копошится на Журавлином хуторе? Ведь у Янсона, как он сказал, две сотни хозяйств, а его, Рунге, хозяйство среди них, пожалуй, самое незначительное.
— Чепуха, — решительно сказал он себе, встряхнув головой. — Муули тебе не придет ставить дверь к сараю. А ее у тебя все нет…
И он принялся из обрезков досок, оставшихся от ремонта дома, сколачивать дверь к сараю.
На следующий день взошло солнце. Большие мелкие лужи посреди двора ярко засинели и приобрели обманчивую глубину; белые облака поплыли в них. Пауль замутил эти мирные маленькие озера, набросав туда камней, чтоб Айно могла, не замочив ног, бегать в хлев.
— Как по небу бежишь, — восхищалась Айно.
— Ничего, к будущему году осушим это небо, — ворчал Пауль. — Надо разровнять двор, прокопать к огороду канаву.
В этот день он сколотил из жердей клетку, в которых крестьяне возят сено, — пригодится. У него осталось даже время, чтоб сделать скворешник: его он приспособил на старую березу, растущую перед домом.
И на второй день отдыха Анту получил полную порцию овса.
Вечером наведался Петер Татрик в резиновых сапогах, забрызганных грязью.
— До тебя не доберешься, — заворчал он. — Сидишь среди воды, как Ной в своем ковчеге.
Он не сказал Паулю, что, будь его воля, он, может быть, и не пошел бы сюда, но ему как сельскому уполномоченному надо было давать сводки о готовности крестьян к весенне-посевным работам, и Янсон опять ругался, что он запустил дела и не успевает с отчетностью. Да и парторг Муули сегодня долго смотрел на него, что-то припоминая, и наконец спросил, как поживает тот новоземелец Рунге на полях Курвеста? Он толком не смог ответить.
Пауль пригласил гостя в дом, но тот по пути к порогу неожиданно юркнул в полуоткрытую дверь хлева и довольно долго задержался там, разговаривая с Айно и рассматривая скотину. Успел он кинуть взгляд и в полуоткрытые двери сарая.
Пауль только усмехался про себя. Он подозревал, что, показывая свое хозяйство болтливому Татрику, показывает его всей деревне.
Вошли в дом.
— А я уже неделю тут человеческого лица не видел, — весело сказал Пауль. — Ну, рассказывай, какие новости.
Татрик охотно принялся рассказывать. Что касается до него самого, то все в порядке: озимые, видно, неплохи, только бы заморозки не напортили. В сельсовете и в волости опять, как во время больших кампаний, наступило оживление, телефон целый день звонит, из уезда запрашивают, как идет подготовка к севу, обойдутся ли семенами? Янсон сообщил, что с зерновыми обойдутся, а вот клевера и тимофеевки нет. Из уезда ответили, что и в этом должны обойтись своими силами. Ну, что же еще? Да, вот неприятная новость: в соседней деревне бандиты хутор разграбили, воз добра увезли на хозяйской лошади. Хозяина связали, убить пригрозили.
— Поймали? — спросил Пауль.
— Поди поймай, — пожал плечами Татрик. — В лес ушли. Они с оружием… С немецким… — многозначительно пояснил он.
— Хм… — Пауль внимательно посмотрел в лицо Татрику. — Хозяин узнал кого-нибудь?
— Кто его знает, может и узнал… — уклончиво ответил Татрик, посмотрев на Айно, и спрятал небольшие свои линялые голубоватые глаза под тяжелыми и обветренными веками. — Иногда лучше не узнавать. Хутор-то на отшибе. Волость далеко, а лес близко… — проворчал он.
Больше Пауль от него ничего не добился. Петер решительно замолчал и окутался вонючим дымом самосада.
С откровенным любопытством Татрик оглядывался вокруг, поводя головой на жилистой шее. Что и говорить, небогато тут жили пока, но… было в этом доме что-то такое, что не мог не заметить старый Петер наметанным своим крестьянским глазом. Стол, табуретки, кровать — все хотя было и грубоватое, но новое и крепкое, видимо сделанное своими руками. Татрик заключил это по некоему подобию плотничьего верстака у окна, на котором лежал рубанок с еще не вынутой из него завивающейся стружкой. На столе, на влажной тряпице в тарелке, лежали какие-то зерна, вероятно испытываемые на всхожесть. Татрик покосился на мешок с семенным луком, висевший в сухом месте на стене. Тут, повидимому, думали о семенах… Все кругом говорило об энергичных намерениях хозяев. Даже стены и потолок, искусно обитые светлой папкой, казалось непримиримо и решительно раздвигали когда-то узкую задымленную нору.
— Когда я женился на Мари… — вдруг раздумчиво сказал Татрик. — Да, когда я женился на своей Мари, то взял за ней в приданое хутор Мяэ. Четыре гектара земли да банька — вот и вся усадьба. Были еще теленок и овца. Тоже так вот табурет с табуретом через комнату перекликались… Да вот…
Татрик посмотрел на Пауля, посмотрел на улыбающуюся Айно и пошевелил кривыми пальцами больших рук своих, словно силясь выразить не совсем понятные ему самому чувства.
— Теперь у нас пара коров и лошадь и пять овец, — пробормотал Татрик. — И свиньи есть… Но я уже не могу есть свинину: желудок не принимает; доктор Тынисберг сказал, что у меня язва желудка от тяжелой работы. Как никак, я тридцать лет ворочал, чтоб Мари могла подавать на стол свиной бок не только по воскресным дням, а и по будням…
— Ну, а у нас с Айно это будет скоро… — сказал Пауль весело и подмигнул Айно. — Верь…
— Я начинаю в это верить… — кивнул Татрик. — Ну, а как сказать о тебе в волости? Посеешься? Семян хватит?
— Не думают ли там в волости, что мы зерно поели? — подала голос от плиты обиженная Айно.
— Что получили ссуды, все посеем. Все четыре гектара пахоты — или я не Пауль Рунге, — сказал Пауль.
— Ответ мужчины, — одобрил Петер. — А семян клевера нет?
— Чего нет, того нет… — согласился Пауль. — Клевера и тимофеевки нет.
— У меня будет излишек… За клевер сейчас хорошие деньги дают, — сказал Татрик. — Но ведь ты не купишь?
— На это денег нет, — и с этим согласился Пауль и поугрюмел. — Придется тебе, Петер, продать другим…
— Когда я женился на Мари, — после молчания вновь пробормотал Татрик, — нам нехватило ржи посеять, — мешок ржи только, семь пудов в нем, — и мне никто не одолжил, даже Кукк, лавочник. Думали, прогорим мы с Мари. И пришел я к старому Курвесту, отцу Марта: «Одолжи, говорю, или под отработку дай». Он на меня немного зол был: сам на хутор Мяэ рассчитывал, купить его хотел, ну, а я ему помешал своей женитьбой на Мари. Вышел он на двор, посмотрел на меня гордо и говорит: «Мне мешок ржи — воробьев накормить… По мешку я не одалживаю, а захочу — даром отдам. Но только, смотри, донеси, не снимая со своей спины, от моего амбара до своего хутора». И кричит работнику: «Дай ему мешок!» Силен я был, ничего, взял мешок на спину, понес. Версту прошел, ничего; вторую выжал, — весь мокрый, ноги в землю врастают, в глазах круги красные. А Курвест с работником в телеге сзади едет… Я тогда полверсты не дошел, свалился. Работник мешок на телегу взвалил и уехал с Курвестом обратно.
— Он, говорят, любил пошутить… — проворчал Пауль. — Жаль, что не донес…
— Я и сам об этом жалею; хотел бы я посмотреть его рожу тогда, — сказал Татрик. — Сил нехватило донести. Но я это запомнил крепко. И вот сегодня вспомнил и думаю, почему бы я тебе не смог одолжить клевера…
Пауль с удивлением посмотрел на Татрика, но лицо того было, как всегда, простодушно и спокойно, словно он предлагал одолжить не семена клевера, стоившие на базаре бешеных денег, а какие-нибудь, чорт побери, старые грабли! Поэтому Пауль ничего не нашелся сказать и только переглянулся с просиявшей Айно.
— Так ты приходи завтра, — лениво пригласил Татрик.
— Я… приду… — кашлянув, сказал Пауль. — Ты, Петер, меня, надо сказать, здорово выручил… Да, здорово…
Посидев еще немного, Татрик попрощался. Пожимая на дворе руку Паулю, Петер оглянулся на лес и пустынные поля и проворчал вполголоса:
— Пса бы завел… Веселее. Знаешь, хозяин тот с ограбленного хутора, говорят, узнал одного бандита. Будто бы сын Курвеста, Роберт… Не знаю, может и болтают…
— О! — Пауль нахмурился. — В родные места пожаловал?
Татрик ничего не ответил и пожал плечами.
Весть о старшем сыне Курвеста в этот сияющий весенний день прошла мимо сознания Пауля как что-то очень далекое и не нужное и сразу забылась, не возбудив никаких тревог.
Радостно улыбаясь, он вошел в дом и, заложив руки в карманы, что у него служило признаком хорошего настроения, оживленно сказал жене:
— Видишь, а? Татрик-то?
— Что? — спросила Айно.
— Как он осматривал все? Мол, какие хозяева на Журавлином хуторе, стоит ли с ними считаться… Мы с тобой сегодня еще одного друга нашли. Семена обещал… Это хороший день. Я вот только все думаю, чему мы обязаны… Ты не знаешь? Ну, подумай, здесь есть над чем подумать…
Насвистывая, Пауль принялся шаркать рубанком и весь день работал не покладая рук; веселое настроение не покидало его.
Вечером, ложась спать, Айно спросила его:
— Так кому же мы обязаны приходом Татрика?
Смеясь и ущипнув ее за щеку, он с нежностью, которой нельзя было ожидать от этого неповоротливого и сдержанного человека, сказал:
— Глупая, конечно — тебе. Он увидел, какая ты у меня хорошая хозяйка, и понял, откуда весенние ветры дуют…
А весенние ветры дули не переставая, и непрерывно светило апрельское солнце. Лужи на дворе и на полях просыхали. На опушке, — словно из лесу вышли, — выступили желтым цыплячьим пухом покрытые ивы; сочная кора на их гибких прутьях, серая зимой, теперь потемнела и заглянцевела, наливаясь соком. Гребень дальнего холма, в первые дни весны казавшийся однотонно-серым, постепенно менял цвет свой. На нем ясно обозначились зеленые полосы озимых Йоханнеса Вао и Петера Татрика и день ото дня становились ярче. Только многолетняя залежь вокруг Журавлиного хутора все еще была однообразно соломенно-серой.
С каждым днем возрастало беспокойство. Пауля. Подступало время пахоты. Хозяин Журавлиного хутора отправился к председателю машинного товарищества, Юхану Кянду. Он нашел его на дворе хутора Курвеста. Юхан возился у красного трактора, выведенного из сарая.
Он встретил Пауля Рунге по-приятельски, потряс руку, предложил закурить и рассеял все сомнения насчет готовности трактора.
— Как часовой механизм… — безоговорочно сказал он. — Можешь не тревожиться, раз договор заключен. У нас строгий график. Твоя очередь после Розалии Рист, а ее очередь первая, — у нее совсем лошади нет. Сначала ей, потом тебе…
Последние слова утонули в реве взвывшего трактора; тот заплевался синим нефтяным перегаром и задрожал как живой.
Это было убедительнее всяких слов, и Пауль, успокоенный и веселый, отправился в обратный путь. Он был настолько занят мыслями о тракторе, что даже забыл как следует поговорить с Сааму, который повстречался ему у хлева с ведрами в руках; Сааму что-то был невесел.
На следующее утро до Журавлиного хутора донеслось резвое тарахтенье трактора;. целый день оно не умолкало.
— Но ведь это на хуторе Курвеста, а не у Розалии Рист? — удивилась Айно.
— Ну и что же, он пробует… Его поля, кстати, и повыше, и посуше… — объяснил себе Пауль, внимательно прислушиваясь к этим звукам, и не без раздражения прибавил: — К тому же он ведь тоже новоземельцем считается…
Прошел еще день. Пара сытых коней медленно взобралась на гребень холма, видный со двора Журавлиного хутора, и не спеша пошла по краю земли, отчетливо видная на фоне голубого неба.
— Отец боронит… — прищуриваясь, узнала Айно. — Видишь, как шагает. Словно благодать несет в руках.
Теперь и Пауль, напрягая зрение, узнал Йоханнеса Вао, мерно и важно шагавшего за конями с вожжами в вытянутых перед собой руках. Йоханнес и в самом деле выступал с таким видом, словно бы знал, что вся волость следит за тем, как хозяин хутора Вао боронит в поле.
В этот день тарахтенье трактора наконец донеслось откуда-то из-за леса, со стороны полей Коора, смежных с новым хозяйством Роози Рист. Тогда Пауль не вытерпел:
— Я… пройдусь… — сказал он Айно.
И, размашисто шагая, пошел прямо полем к лесу, откуда то приглушенно, то громко, словно рядом, слышались удары неутомимого металлического сердца.
У свежевспаханной борозды он нашел Роози Рист. Она принесла в кувшине молока трактористу, уже час тому назад как принесла, и молоко было выпито, а она все стояла у межи, не в силах оторваться от вида перевернутых пластов земли. Как зачарованная, опустив по бокам свои громадные, почти мужские руки, следила она за мерным бегом трактора, на котором с напряженным лицом восседал восемнадцатилетний юнец-тракторист, по слухам — какой-то родственник Кянда. Черная полоса вспаханного все росла. Ее поле! Поле, на котором впервые в жизни пшеница вознесет свой колос для Роози Рист, только для нее. Это было так прекрасно, что даже не верилось, что так будет на самом деле.
— Здравствуй, Роози… — сказал Пауль.
Она не пошевелилась. Он громче сказал.
Она обернулась, и Пауль увидел, что лицо ее блестит от обильных бабьих слез.
— Здравствуй, Рунге, — сказала она, сияющими глазами глядя на него. — Это — под пшеницу…
И больше они друг другу ничего не сказали, хотя и долго простояли рядом, следя за тем, как плуги отваливают все новые пласты земли, готовой открыть им великие свои щедроты.
Вечером на Журавлином хуторе было много разговоров о тракторе, ожидавшемся на следующее утро. Так обещал Кянд. Пауль подготовил бидончики с горючим. Айно беспокоилась о завтрашнем обеде. Решено было пожертвовать последним куском соленой свинины, приберегавшейся Айно на торжественный случай.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Трактор не пришел утром. Не дождавшись его и в полдень, Пауль молча нахлобучил кепку и отправился на хутор Курвеста.
Прошло много часов, уже длинные тени легли на поля, когда Пауль наконец вернулся и, не глядя на жену, стоявшую на пороге, вошел в дом.
В предчувствии чего-то очень плохого, Айно, прижимая руки к груди, в молчаливом ожидании следила за мужем. Он, не снимая кепки, мешковато сидел на табурете и угрюмо смотрел на пол.
— Трактор сломался, — устало сказал он. — Ясно? Подшипники распаялись и еще что-то там…
Впервые Айно с дрогнувшим сердцем заметила, как Пауль похудел за последнее время; заострились скулы на широком лице, отросли волосы на шее. Теперь он, в старой кепке, сдвинутой на крутой лоб, уж не напоминал того подтянутого военного, каким был недавно, а был похож на обыкновенного, одолеваемого заботами бедняка-землероба. Он весь как-то полинял и потерся, как и его много раз стиранная старая военная гимнастерка.
— Врет он! — крикнула Айно с внезапно вспыхнувшей злобой. — Врет… Так уж сразу и сломался?
— Он мне показал там какие-то детали, — вяло пожал плечами Пауль. — Откуда я знаю… Я тоже думаю, что врет, и Маасалу так думает. Но что толку? Поди докажи, что врет.
Так же вяло он рассказал о сегодняшних похождениях. Был в волисполкоме. Ну что ж, Янсон ругал Кянда, Кянд ругал подшипники… А что толку? Отремонтировать трактор — полмесяца уйдет…
Айно решительно направилась к двери.
— Куда? — остановил ее Пауль. — Подожди…
— У тебя не вышло, а теперь я буду действовать, — вызывающе сказала Айно. — Отца попрошу… Если откажет, так он не отец…
— Стой, ты не пойдешь… — сказал Пауль и медленно выпрямился. — Йоханнес этого и ждет только… Они все ждут, что у нас ничего не выйдет. Они упрямы, но я в сто раз упрямее их…
Такая ненависть слышалась в его голосе, что Айно покорно остановилась. И хотя дело было плохо, но она вдруг уверовала в упорство этого человека. И тут она вспомнила, что он, наверное, не только устал, но и голоден.
— Не сердись, — сказала она нежно. — Что толку, если мы будем ссориться…
Поставила на стол глиняный кувшин с простоквашей, покрытой янтарным слоем сметаны. Пауль с горечью вспомнил, что сметана не была снята лишь потому, что простокваша предназначалась для мальчишки-тракториста, родственника Юхана Кянда. Жадно откусывая хлеб, они молча ели и думали оба, где же достать плуг и борону? Где достать еще одну лошадь? Ведь Анту один не потянет плуг в земле, превратившейся почти в целину.
И после ужина, и даже ночью они перебирали все те же мысли, только уж вслух. У других у самих сейчас горячие дни; о том, чтоб обратиться за помощью к Йоханнесу Вао или зятю его, Коору, Пауль не хотел и слышать. Попытаться обратиться в конно-прокатный пункт волости? Но ведь там договоры давно заключены и лошади уже пашут всюду.
— И все-таки больше ничего не остается, — сказал Пауль утром следующего дня, словно подводя итог размышлениям. — Хотя бы плуг получить.
Он запряг Анту и поехал в волость.
Анту, выправившийся за время вынужденного безделья, трусил бойкой рысцой мимо полей, на которых можно было видеть крестьян Коорди, шагающих за плугами и культиваторами. Многие вопросительным взглядом провожали человека, который в такую рабочую пору не пожалел ни своего времени, ни коня и направлялся куда-то от дома неизвестно зачем.
Они молча смотрели на Рунге, и он молча смотрел на них.
Пауль ехал и думал, что вот хотя тут кругом поля, и просторно, и коню, пущенному в борозду, только итти бы и итти, отваливая пласты сырой весенней земли до самого синего горизонта, но вместо этого мужики совершают извечно привычное, замкнутое движение по кругу — от межи до межи. Не успеют кони разойтись, а уж, дойдя до какого-то невидимого, но непреодолимого предела, поворачивают. Не поле, а лоскутное одеяло, на котором не так уж часты квадраты пышных озимых. Вот только полосы Коора очень хороши: радуют глаз ровным яркозеленым блеском. Да и как им не быть хорошими: трижды осенью Роози прошла их рандалем и бороной: одного навоза по пятьдесят возов на гектар вывезли, да и семенами Коор засеял сортовыми. А вот все остальные полосы похуже, сколько их ни есть, и все разные, потому что разными семенами и в разные сроки засеяны, по-разному удобрены. И не потому, чтоб не старались хозяева или не понимали пользы от сортовых семян и удобрений, а просто нехватало их в своем хозяйстве или не дошли руки до всего, — ведь каждый в своем хозяйстве, в конце концов, один бьется, а у одного только две руки…
Вон у своей межи встретились Петер Татрик и Мейстерсон. Они, вероятно, уж лет двадцать, как встречаются у нее по весне, и один из них всегда спрашивает у другого:
— Ну, как ваша рожь?
И кто-нибудь всегда отвечает:
— Наша хуже вашей.
Иногда хуже у Татрика, иногда у Мейстерсона, но редко у них у обоих бывает хорошо, хотя они считаются не последними хозяевами в деревне. А отчего бывает это — долгая песня рассказывать. Об этом можно говорить с понимающим человеком до самой ночи, выпив по десяти кружек пива и раскурив объемистый кисет табаку…
Чтоб вышли хорошие всходы и налились в тяжелые колосья, нужно посеять хорошими отборными сортовыми семенами. Но где же в маленьком хозяйстве возиться с семенным полем? Нет, это очень трудно и хлопотно. Поля волости Коорди болотисты и скупы на урожаи: они требуют много труда. Вот пройдешь пять раз полосу, сначала плугом, потом рандалем или культиватором, затем бороной пружинной, а после зубчатой, да еще катком сверху твердые комья пригладишь, ну тогда еще куда ни шло, можно надеяться. А полос у тебя не одна: и под рожь, и под пшеницу, ячмень и овес… Случись тут заболеть не во-время, ну, тогда совсем плохо, — опоздаешь, ты ведь один; на жене домашнее хозяйство и скот весь.
А если и справишься возделать поля, то это опять-таки полдела: никогда не вырастет на глинистых неплодородных полях Коорди рожь без подкормки минеральными удобрениями, без того, чтоб не запахать в почву десятки и сотни возов навоза. Но где взять навоз, когда скота маловато? В Коорди принято на шести гектарах земли держать одну корову, иначе не прокормить сеном. В среднем хозяйстве держат две коровы и лошадь. А надо бы держать на этой земле четыре коровы и две лошади. Но тогда и расчет надо иметь другой: вспахать надо все кочковатые журавлиные пастбища — болотную целину, которой много в Коорди, засеять травами, жирным клевером, сочной тимофеевкой… На одной лошади, не вспашешь все это, не возделаешь, нет… Машины надо иметь, трактора! «Нет уж, у каждого хутора своя межа, как у жизни свой предел…» — этими словами всегда и кончались подобные разговоры.
Задумавшись, Пауль не заметил, как поровнялся с Михкелем Коором, шагавшим за бороной, влекомой парой добрых коней. Михкель сам за бороной, — на такое редкое зрелище стоило посмотреть! Крестьяне Коорди видели его впервые. И, поглядывая на долговязую фигуру Коора, носками внутрь шагающего за упряжкой, вспоминали почему-то батрачку Роози, которая отделилась от Коора и сейчас боронит на своем поле.
— Алло! — крикнул Михкель, приподнимая соломенную шляпу с продавленной тульей. — Приятно видеть человека, которого работа не догоняет. Уж не праздник ли у тебя?
Пауль сделал вид, что не расслышал вопроса.
Велико же было удивление Михкеля Коора, когда, доборанивая вечером поле, он увидел возвращающегося Пауля. За телегой, нагруженной плугом и бороной, на поводу шагала гнедая лошадь; рядом с ней, отгоняя веткой мух, шел Пауль. Старый Анту, спокойно помахивая хвостом, волок телегу с таким флегматичным видом, словно бы он ежедневно доставлял на Журавлиный хутор возы с подобной драгоценной кладью.
Пауль остановил Анту с видимым желанием вступить в разговор с Коором. Он задумчиво посмотрел на кислое лицо Коора и простодушно спросил:
— А я, знаешь, все целый день думаю, как ты догадался, что у меня праздник?
Услышав ответное невнятное ворчание Михкеля, он задумчиво продолжал:
— Так вот всегда: когда у одного праздник, у другого нет его. Я вот гляжу на тебя, — что-то ты уж очень взмылился сегодня… С непривычки, что ли?
Потом он бодро цыкнул на Анту и процессия двинулась дальше.
Не доезжая километра до Журавлиного хутора, он увидел стремительно бегущую навстречу Айно и пробормотал:
— Но, но, старик… Нас, кажется, ждут.
Хотя лицо его так и распирало от сдерживаемой улыбки, но на десятки нетерпеливых вопросов Айно он с напускным равнодушием ответил:
— Э, свой парень оказался заведующий-то…
В большие подробности Пауль с присущим ему отвращением к восторженным излияниям не вошел. С молчаливым достоинством помахивая сломанным по дороге прутом, он направил Анту на двор. Не будь он так сдержан, пришлось бы рассказать об участии парторга Муули, о том, с каким трудом, гнедую лошадь не в очередь выделили на поля Журавлиного хутора. Но так ли уж важны были подробности? Важно было то, что он достал коня, плуг и борону.
Анту впрягли в плуг рядом с чужой кобылой; они недоверчиво обнюхали друг друга, храпнули и, так же недоверчиво косясь, вступили в первую борозду. Уже на следующий день вполне освоились и шагали не сбиваясь. Все время за своей спиной они ощущали присутствие неугомонного человеческого существа, воля которого их подавляла. Он, этот человек, с вожжами, закинутыми за шею, держась за рукоятки плуга, неумолимо погонял и погонял их. Он требовательно натягивал вожжи, когда они устало ослабляли свой шаг, порой даже сердился, ворчал что-то, и тогда Анту примирительно помахивал хвостом, словно желая сказать: «Ладно, ладно уж… Знаю…» и плотнее врезался в хомут. Хотя к концу длинного дня человек сам чуть не валился от усталости, у него все же хватало воли и коней подгонять, и себя заставлять итти вперед.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Четыре гектара посевов поддерживали добрые надежды…
День ото дня, поля, окружающие Журавлиный хутор, становились зеленее и пышнее. В солнечные дни старый хутор напоминал черную, претерпевшую жестокое плавание баржу, которая наконец приплыла к тихой пристани средь зеленого озера. Майский ветер разгонял вокруг зеленую рябь.
В огороде Айно, по мнению Пауля, творила чудеса. В парнике росла рассада. На грядках чванливо растопырились синие перья лука, кружевную зелень ботвы распустила морковь, на маленьком солнечном холмике раскинулись листья тыквы, похожие на чертополох, раскрыли глаза какие-то неминуемые во всех огородах яркооранжевые цветы с резким запахом. По настоянию Айно, Пауль должен был обнести эту плантацию заборчиком для защиты от кур, хотя их еще и не было. Но ведь они будут!
Хозяевам хутора некогда было присесть на скамеечке, поставленной Паулем в саду под березой, и полюбоваться на плоды трудов своих. Забота словно стояла рядом, подталкивала под бок, ворчливо напоминала: «Вот она я… А вы не забыли про фундамент под новый хлев?»
Пауль принялся рыть канаву для фундамента, но Айно перебила у него работу, решительно сказав, что канаву выроет она сама. А он пусть лучше возит камень для фундамента, пусть возит песок и подумает, как доставить бревна из лесу. Но пора ли попросить помочь этих славных людей с хутора Яагу?
Колодец причинял им беспокойство. Весенняя вода из него быстро пропала. Без Семидора тут не обойтись, — надо сходить за ним.
Но Семидор пришел сам, как всегда хлопотливый и суматошливый, в обычном своем пиджаке с обвисшими полами и разошедшимися швами. Подмышкой нес канат, в руках облезлый картонный чемоданчик. В какие-нибудь пять минут он успел обегать дом, хлев и огород и обо всем высказать свое мнение — в общем одобрительное; Айно обещал принести каких-то редких семян, Паулю надавал советов, как лучше поставить хлев. Выслушивая советы, Пауль — сам плотник — только усмехался и неопределенно мычал: «Гм, да, да…»
Только когда они подошли к колодцу, Семидор стал серьезен и деловит. Он приказал Паулю немедленно сколотить лестницу и тяжелую покрышку на колодезное устье.
Пока Пауль подбирал подходящие жерди, Семидор осматривал сруб и, свесившись внутрь колодца, обстучал палкой старые стенки, грубо сложенные из плитняка. Затем, сняв пиджак, принялся помогать Паулю.
— Послушай, Семидор, а как это ты колодезным мастером стал? — спросил Пауль, с любопытством поглядывая на его худые жилистые руки с вытатуированными на них шхунами и якорями.
— Э, друг, нужда и быка в колодец загонит, — охотно отозвался Семидор. — У нас с матерью земли не было на Сааремаа, так чего же делать? Я уж шестнадцатилетним парнем колодцы бурил. Тут чего их не рыть, не скоро до камня дойдешь, а попробуй на острове Сааремаа… Там другой раз все тридцать два ярда приходилось в камне бурить. Взрывать надо было.
— Опасное дело…
— Ну, понятно — не канаву копать… Заложишь в дно взрывчатку — фитиль зажжешь, и с этого момента каждая секунда тебе часом кажется. Две минуты он горит… За это время ты должен на поверхность выкарабкаться, лестницу вытащить, устье закрыть. Конечно, можно было фитиль минут на пять зажечь, — тут можно бы не торопиться, да ведь денег он стоил, и я экономил на нем.
Пауль покачал головой.
— Ну, правильно, — глупо, — охотно согласился Семидор. — Так и вышло, что чуть не погиб. Однажды я сорвался с лестницы, пока лез наверх, а фитиль догорал уже, — тут бы мне и конец, да я все же не растерялся, выхватил садовый нож и отрезал фитиль у самого запала… С тех пор у меня руки стали дрожать и хозяева уж неохотно на работу нанимали: ты, говорят, несчастливый…
— Тогда ты в море ушел, — догадался Пауль.
— Да… — помолчав, подтвердил Семидор. — Тогда… У нас с матерью земли не было. А я мать очень жалел. У меня ведь только мать, — отца я не знал. Просто Мартин, сын Марии… Я ей обещал: «Заработаю на землю, пусть она будет величиной с твой головной платок, но она будет твоя…» Но на море у меня тоже не вышло. Проплавал я два года на «Северонии» помощником кочегара, и в Ботническом у Финляндии наскочили на скалы. Потом рассказывали, что это уж решено было хозяевами: судно старое, негодное, а застраховано на высокую сумму… Тогда мне второй раз смерть в лицо посмотрела, но только мне умирать нельзя было: я земли еще не добился… Ну, вернулся на свой остров, а там все пальцами указывают: «Нет Семидору удачи ни на земле, ни на море». А мне горько… Эх, думаю, разве во мне дело… И я бы колодцы рыл как следует, если бы не надо было на фитилях экономить…
Семидор ожесточенно застучал, молотком по жерди, загоняя ее в паз.
— Ну, а землю так и не достал? — спросил Пауль.
— Нет, при той власти не достал… Мария умерла. Дорожным рабочим работал, женился, домик построил, правда — не лучше твоей хибарки, да она сгорела…
— Как же это?
— Кто ее знает… От трубы, видно, занялось ночью. Еле мы сами выскочили.
Длинная лестница была сколочена, и Пауль с Семидором осторожно спустили ее в колодец. Семидор открыл чемоданчик, в котором нашлись старые буравы и несколько пачек трофейного немецкого тола, похожего на желтое туалетное мыло. Сняв шляпу, он бросил ее на пиджак, подумав, скинул замасленную жилетку, под которой оказалась другая жилетка, еще хуже и замасленнее. В ней он и спустился в колодец.
Прошло полчаса ожидания.
— Ну, как? — иногда кричал Пауль, свешиваясь вниз.
Неясное бурчание слышалось в ответ.
— Фитиль ставь подлиннее! — орал Пауль в темную дыру колодца. — Что ты говоришь?
— Поучи свою бабушку… — глухо донеслось снизу.
Наконец, как-то очень неожиданно, над колодцем вынырнуло лысоватое темя Семидора; он с кошачьей ловкостью перемахнул через сруб и заорал на Пауля:
— Тяни!
Они в момент вытащили лестницу, надвинули тяжелый деревянный щит на колодец и отскочили за угол сарая.
Что-то глухо ухнуло и дрогнуло под ногами, что-то дробно ударило в щит, приподняв его, словно чей-то громадный кулак двинул в него снизу.
Внизу пахло каменной пылью и едкими газами взрывчатки.
К вечеру, после того как вынули куски каменистой породы и рассчистили дно колодца, в нем показалась вода; уровень ее медленно, но верно повышался.
Семидор обновил колодец.
Сделав свое дело, он не торопился уходить. Тщетно пытаясь придать порывистой своей фигуре важный и чинный вид, расхаживал вокруг, давал советы и поучал жителей Журавлиного хутора, как лучше все расположить и построить. Видно, роль учителя доставляла искреннюю радость этому старому человеку, которого на хуторе Яагу самого держали в ежовых рукавицах и учили, как надо жить.
По его словам, однако, получалось совсем даже наоборот. «Я им сказал… Я им сделал…» — постоянно повторялось в его речи. Можно было подумать, что Маасалу и Тааксалу без него шагу не могли ступить. — Нет, но какой насос я им поставил к колодцу! — кричал он возбужденно. — Если б ты посмотрел, парень… Теперь вода идет прямо в хлев.
И, забыв о своей напускной важности, он совсем уж несолидно и ребячливо хлопал руками по коленкам и победно похохатывал.
— Я ничего не скажу, они толковые парни, но без старого Семидора им не обойтись, как журавлятам не летать без вожака, — распинался он, многозначительно подмигивая, и настойчиво заглядывал слушателям в глаза, словно боялся, что ему не поверят.
Пауль, поглядывая под ноги, только посмеивался и не обрывал старика. Не оборвал он его даже когда Семидор картинно рассказал, как он в волости отвоевал суперфосфат для всех обитателей на хуторе Яагу; видно, забыл, что Пауль в тот раз был свидетелем его позора. Нет, что-то в Семидоре не позволяло Паулю грубо оборвать его.
Когда Пауль заговорил о плате, старик, снова пытаясь принять важный вид, сухо сказал, что вообще-то он уже распростился со своим старым ремеслом, а если и пришел помочь, так это для собственного удовольствия и это его личное дело…
В словах Семидора зазвучала явная обида, и Пауль поспешил замять разговор.
Уходя, старик подал Паулю и Айно шершавую руку, с которой время не могло стереть вытатуированного на ней якоря, и покровительственно сказал:
— Поднимай пар в котлах… Это я говорю — Семидор. В случае чего, на буксире вытянем…
В воротах он еще раз с достоинством приподнял шляпу и кивнул головой.
Пауль проводил его задумчивым взглядом. Что ни говори, а Семидор становится неузнаваем. Диво, да и только.
Для стройки понадобился песок. Пауль поехал за ним в карьер на опушке леса, по соседству с полем Роози Рист.
Трясясь в телеге по полевой дороге, он с любопытством оглядывался, желая увидеть, как растет пшеница Роози. Он ворочал головой то в одну, то в другую сторону, и на его лице росло удивление.
Пшеницы не было!..
Не было ни пшеницы, ни ячменя, ни ржи. Вместо хлебов виднелись две узкие полосы овса и картофеля, а там, дальше, на большом пространстве была засеяна вика. Овес и вика, хм… Пауль осуждающе покачал головой. Какое хозяйство мыслимо на таких началах? Где голова у Роози, о чем она думала?
А вот и сама Роози, в белом платке, низко надвинутом на лоб, большими босыми ногами вышагивает за лошадью Коора, окучивает свой картофель! Увидев Пауля, она дружелюбно улыбнулась.
Он поздоровался и спросил:
— Слушай, Роози, а где ж твоя пшеница?
Роози отмахнула от лица назойливого овода; виноватое выражение появилось в ее робких глазах.
— Ни ржи, ни пшеницы, ни ячменя, — сурово сказал Пауль. — На что тебе эта вика? Ты же хотела пшеницу?
Тогда Пауль услышал сбивчивый рассказ Роози. Она в самом деле хотела и пшеницу, и ячмень, как и у всех людей. Семена обещал одолжить Коор, сам предложил, но в последнюю минуту оказалось, что у него нету их… Нашлось только немного овса и вот — картофель… А пахоту, чтоб не пропала, засеяли викой. На это Коор отпустил семян. Он сказал, что вика тоже очень нужна…
— Так, — задумчиво сказал Пауль.
Отвернувшись, он внимательно всматривался в высокую мужскую фигуру, размашисто орудующую косой в поле. Он узнавал эту длинную худую фигуру с соломенным грибом на голове.
— Роози, — мягко и грустно сказал Пауль. — Это, конечно, Михкель Коор там косит вику для коров. Я почему-то думаю, что он не для твоей коровы косит. Правда?
— Но… он мне дает иногда свою лошадь поработать, — пробормотала Роози.
— Смотри, Роози… — покачал головой Пауль и ступил на шаг ближе к ней. — Смотри, как бы он тебя не опутал, как муху. Разве ты не понимаешь?
Роози молчала, с прежним виноватым выражением лица исподлобья смотрела на Пауля.
— Но ты стой за себя, — гневно сказал Пауль. — Если ты не совладаешь с ним, приди, скажи мне, я ему шею сверну, голодному чорту. Придешь?
— Приду, — тихо и испуганно пообещала Роози и боязливо посмотрела в сторону Коора. Заметив, что он теперь, опираясь на древко косы, издали наблюдает за их беседой, она поспешно отвернулась.
Зачем Пауль вмешался — он и сам не знал. Но слова эти у него вырвались потому, что он был очень зол сейчас.
Михкель наваливал молодую пахучую вику на воз.
— Алло! — крикнул Пауль. — С каких это пор Михкель Коор на чужом поле косит?
Коор не спеша вытер клоком травы сырое, отражающее небо лезвие косы и молча воткнул ее в зеленую копну вики.
— Или, может быть, я не прав. Может быть, ты в батраки нанялся к Роози? — ехидно спросил Пауль.
Михкель ступил к телеге Пауля. Он был внешне спокоен, только какая-то жилка дергалась на костлявом лице под глазом.
— Знаешь, Рунге, не путайся не в свое дело. Не мути воду. Понял?
Они с минуту спокойно, внимательно и оценивающе разглядывали друг друга. Потом Пауль многозначительно сказал:
— Мне это не нравится, хозяин.
— Не мути воду, — повторил Михкель.
Не спуская друг с друга злых глаз, они с трудом разминулись, — полевая дорога была узка, — передние колеса их телег со скрежетом задели одно за другое.
Пауль Рунге сидел в телеге сгорбившись. Толстая темная вена набрякла на его лбу; злоба поднималась в нем, кулаки его чесались. Почему эта история так его взволновала, он и сам хорошенько не понимал, ибо какое же отношение судьба Роози имела к нему? Скорее всего он порохом вспыхнул, потому, что, глядя на Роози, вспомнил историю с трактором, чуть не погубившую все его планы. Он не сомневался теперь, что Кянд сыграл над ним гнусную шутку, так же, как собирался сыграть ее Коор над Роози. Коор и Кянд — одна компания!
И как ловко сработано все, — поди подкопайся… Трактор пашет поля новоземельцу Роози Рист — все как следует! А кто такая Роози Рист? На полях Роози ни ржи, ни пшеницы — одна вика Коора и немного овса и картофеля. Осенью Коор подсчитает долги Роози за семена, за лошадь, за квартиру — за все, и ссыплет ее овес в свои закрома и вику свезет в свои сараи. Обманет, оплетет! Поставленная один на один с этим живоглотом, забитая, робкая и молчаливая Роози, конечно, сдастся, потеряется, — ну, поплачет в подушку и стерпит, как терпела всю жизнь. Она потерпит поражение так же, как он, Пауль, поставленный один на один с этим скользким, добродушным шутником Кяндом: не раскусил его сразу и остался в дураках.
— Kuradi nahk[9], — проворчал Пауль.
Чем больше он думал, тем тверже становилась в нем решимость проследить за развитием всей истории, научить Роози, как не попасться ей впросак и, если надо будет, то придать делу самую широкую огласку в волости.
«Вот ведь странная история, — с удивлением размышлял Пауль. — Прямо нехотя в кашу влезаешь…» Он старался все силы отдать только строительству на Журавлином хуторе, чтоб была у них с Айно своя теплая жизнь, чтоб сажала Айно каждую субботу хлебы в печь, как это делали у Вао и на всех других хуторах, и чтоб свинина не выводилась из засола круглый год. Уж не бог весть чего он и хотел-то. Они ли с Айно не старались жить мирно, не ссорясь ни с кем, а вот на первых же порах новой жизни в Коорди уже нажили себе врагов. Во-первых — чванливый самодур Вао, потом этот скользкий Кянд… Теперь Коор встал на дороге. И все почему? Надо думать, не только потому, что им его физиономия не нравится. Тут, если раскопать, — дело глубже…
— Слишком много врагов на одного, как думаешь, Анту? — ворчливо сказал он мерину, поводя его за уздцы к песчаному карьеру. — Пожалуй, одни и не справимся?
Но Анту только покорно мотнул головой. Его мало трогали обиды хозяина. Он-то уже слишком много прожил на своем веку, чтоб волноваться. Прошли времена, когда он резвым жеребенком мчался по лугам и обиженно косился огневым глазом на кнут. Теперь бы только мягкой травки пожевать, благо она близко… Да чтоб воз не так тяжел был…
Воз, однако, был нагружен тяжело. Хозяин не поскупился, наложил полный ящик золотистого тяжелого песку. Там что бы ни было, а фундамент нового хлева на Журавлином хуторе должен быть воздвигнут. Ради фундамента Пауль ни себя, ни Анту не пожалеет и хоть самому Кянду шею свернет, если на дороге встанет!
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
В один из воскресных дней удалось достать машину в леспромхозе, и на Журавлиный хутор привезли бревна для стройки. Кристьян Тааксалу, багровея лицом, только покрякивал, с медвежьей силой перекатывая и ворочая здоровенные бревна; проворные крепыши Маасалу и Рунге ловко и дружно помогали. В их руках тяжелые мачтовые стволы сосен, тихо переваливались по сходням, вкатывались на платформу грузовика. От тщедушного Семидора было меньше толку, хотя он суетился и кричал больше всех; но и он ловко орудовал большой жердью, приспособив ее как рычаг. С грохотом скатывая на двор Журавлиного хутора очередное бревно, он с возбуждением покрикивал:
— Еще одно пришло к другим!
Вечером состоялся скромный ужин, за которым распили бутылку вина. Вино горячо разлилось по жилам. Буро-коричневые от солнца и разгоряченные, они с довольными лицами, протягивая под столом ноги, завели оживленный и громкий разговор, не особенно стесняясь в выборе выражений.
Айно только диву давалась, слушая их возбужденные голоса. Глядя на Семидора, можно было подумать, что это вовсе не тот Семидор, который не только с первыми людьми волости, а даже и с такими, среднего достатка, мужиками, как отец ее Йоханнес, когда-то разговаривал, ломая в руках шляпу, был принижен и робок. Нет, это был другой, неизвестный ей Семидор; можно было предположить, что он — один из богатейших хозяев Коорди, так независимо он сидел, подсчитывая свой будущий урожай, и сыпал на словах десятками пудов, мешками ржи и пшеницы.
Послушать их сейчас, так можно подумать, что здесь правители волости сошлись, так хлестко и размашисто они разбирают дела волости. Как зло Маасалу костит Юхана Кянда, председателя машинного товарищества, называя его хитрецом и пройдохой!
Ударив могучим волосатым кулаком по столу, Маасалу ворчал:
— Ведь вот — странное дело: трактор товариществу принадлежит, а кто на деле им владеет? Юхан Кянд! Ну да еще не поздно, и перевыбрать можно, надо нам только больше сообща держаться…
Он, Каарел Маасалу, постоит за то, чтоб Юхан со своим трактористом уж больше не обманывали во время обмолота. Для этого есть такое хорошее средство, как общий контроль. Он сам, если надо, вместе с трактором и молотилкой пойдет!
А Пауль, ее Пауль…
Глядя в окно, откуда в комнату вливались поздние летние сумерки, он заговорил о том, что в Коорди кое-где, например на хуторах Курвеста и Коора, уже давно было радио и хозяева провели электричество от собственных ветряных установок. Но все остальные в волости всегда жили без света, с керосиновыми коптилками, и некому было заняться этим, потому что не было сил, жили вразброд, каждый за себя… Разве в Коорди нельзя провести свет, если взяться общественными силами?
— Можно! — с восторгом сказал Семидор, который почти растворился в сумерках, и от этого еще громче стал его тонкий возбужденный тенорок. — Я ведь и это дело знаю, на корабле научился. Дайте мне динамо, и я поставлю его на старой мельнице.
Потом разговор влился в то же русло, в какое он всегда вливался у большинства крестьян Коорди в такие вот вечерние задушевные часы за бутылкой вина или кружкой пенного пива.
Да, и свет бы можно, и все, что нужно человеку для безбедного житья, если бы не были силы на хуторе ограничены. Если бы удалось на каждом хуторе вспахать все земли и богато удобрить их, и завести побольше скота… Но для этого нужны машины, трактора, очень много удобрений… Нет, хутор не позволяет развернуться… Он дошел до своих границ, уже давно дошел до точки. Чтоб перейти эти границы, нужен новый шаг.
— Коллективное хозяйство… — не то спросил, не то подтвердил Маасалу. — Партия говорит, что это и есть правильный шаг.
Все замолчали при этих словах и задумались. Пауль, грызя ногти, с любопытством взглянул на приятеля. Слово «партия» он впервые слышал из уст Маасалу. Маасалу и партия, хм?
— Ну, это уже политика… — пробормотал Пауль. — Высоко залетаешь, — не наше дело решать. Наше дело землю пахать… И нет у нас в республике еще колхозов…
— Нет — так будут, — хладнокровно сказал Маасалу. — А землю пахать — не политика, по-твоему? И как не наше дело решать? Я вот да Семидор, да еще кто-нибудь завтра возьмем и подадим заявление об организации колхоза. И будет, — что думаешь?
Маасалу вызывающе обвел всех глазами.
— Завтра? — встрепенулся Семидор. — А как же с лошадью?
И все расхохотались смятению Семидора. Все знали, что он еще не успел расплатиться с Маасалу и стать полновластным собственником лошади — первый раз в жизни.
— Очень тебе нужен этот собственный одер, — поддразнил Маасалу.
— Ну… я хотел тележку на резиновых шинах завести, — огорченно сказал Семидор. — В волость съездить или куда-нибудь по делу.
Все снова улыбнулись.
— У колхозов собственные машины, — вспомнил Рунге. — Я видел в России. Это лучше тележки.
— Вот видишь, — торжествующе сказал Маасалу и, подумав, добавил: — А к этому готовиться надо, — жизнь в Коорди к тому идет.
Раннее утро застало Пауля за работой. Он торопился закончить закладку фундамента до Иванова дня, к началу сенокоса. С помощью Айно работа подвигалась. Она носила воду для цементного раствора, подавала камни. Пауль, орудуя молотком и лопаткой, подгонял их в гнезда и скреплял цементом.
За этой работой Пауля и застал парторг Муули.
Муули, ведя за руль свой старенький потрепанный велосипед, как-то очень неожиданно появился на меже, ведущей к хутору. Усмехаясь насмешливым ртом на очень серьезном суховатом лице, он оглядел измазанного известкой Пауля, дружелюбно подал ему руку.
Что же это не видно Рунге ни в сельсовете, ни в волости, словно он и не житель Коорди? Жаль… Сейчас работа начинает налаживаться. Вот актива маловато… Мог бы зайти запросто, поговорить…
— Да вот все некогда… — Пауль кивнул головой на полусложенный фундамент, на гору бревен и валяющиеся кругом камни.
— Вижу, вижу, поправляешься, — согласился Муули, оглядываясь. — Э, наворочал вокруг, что Калевипоэг…[10]
Он присел тут же на бревно, и, щурясь на начинающую желтеть пшеницу, близко подступавшую к хутору, сказал, что направляется в соседнюю деревню на собрание сельских активистов и заехал по пути. Похвалил хлеба Рунге, расспросил подробнее, как идет стройка. Услышав о вчерашнем воскреснике, оживился, записал в блокноте, похвалил.
— Ну вот, первые кочки уже и позади, а помнишь, весной как скверно было, когда трактор сломался? Прибежал ко мне и уж, наверное, думал, что все погибло, а? Видишь — сообща-то… Вон где сила! Как патроны в обойме: если первая пуля не дойдет до цели — следующая дойдет…
Слова Муули очень близко подошли к тому, что Пауль испытывал и переживал за последнее время, и раз уж сам Муули припомнил весенний случай с трактором, Пауль пожелал оттолкнуться от него; он подробно, со злостью, рассказал о недавней встрече с Роози и о том, что он думал о Кооре.
— Ага, а ты что думал? — насмешливо спросил Муули. — И обманет, и обведет, и будет таких, как Роози, поодиночке ловить… А все знаешь почему? Потому что, вот хотя бы ты — закопался в своем углу и думаешь: что мне до Роози, это не мое дело… А чье же дело-то? Знаю я вас… Вам бы сначала хлеба каравай да простокваши горшок, а как две коровы заведутся, уже и третью тянет приобрести, глядишь — и новый Коор вырос…
— Ты круто завернул очень, — несколько обиделся Пауль. — Не мое бы дело, я и не рассказывал бы…
— Ничего не круто, полезно послушать… А раз твое дело, так и помочь надо. Я вот на днях слышал в сельсовете разговор насчет тебя. Толковый сельский уполномоченный нужен в Коорди, в помощь Татрику. Уже пора, друг, и не только для себя поработать, как ты думаешь?
— Я? — удивился и смутился Пауль. — Но ведь…
Он хотел было сказать, что ему никак невозможно браться за какую-то работу вне Журавлиного хутора, ибо от этого будет страдать строительство на хуторе, но… глядя в насмешливое, умное лицо Муули, подумал, что невозможно это сказать: знает же тот о воскреснике, может быть знает даже о том, как Семидор рыл колодец и как Йоханнес Уусталу помогал зимой…
— Какие же могут быть «но»? — удивился Муули. — За Роози надо постоять?
В этот день работа у Пауля не очень ладилась. Пришло желание пройтись побродить — дать ход своим мыслям, как объяснил Пауль Айно. Он достал удилище с катушкой — самодельный спиннинг — приладил к бечевке никелированную блесну и отправился попытать удачу к мелководной речке Коорди, в которой попадались форели и щуки.
Шел узкой, заросшей полевой межой; отцветающий мышиный горошек цеплялся за ноги, разлетались при первом прикосновении мыльные пузыри одуванчиков, — семена их на крошечных пушистых зонтичках пускались в плавный полет, — ступали ноги по отяжелевшим медовым головкам клевера. Отцветало первое пышное летнее цветение, уже в стручки, в семя пошло. «Косить скоро, косить», — думал Пауль.
Шел Рунге и озабоченно раздумывал над последними событиями. Сами по себе они были совсем не крупного масштаба, но его личной жизни они угрожали многими осложнениями, — так казалось ему. Сельский уполномоченный! Значит, что же теперь, в его участок, в поле его деятельности, в числе других, войдут хозяйства Коора и Кянда. Значит, в будущем — встречи и даже, быть может, столкновения с ними? И это при всем его желании держаться подальше от всего возбуждающего хлопоты и ссоры в Коорди. Он почти досадовал на себя, что не нашел ничего возразить Муули и согласился.
И как случилось все, где же он сделал первый шаг к новому назначению? Может быть, не следовало выступать зимой на выборах правления машинного товарищества? Но ведь нельзя было не выступить, он отстаивал там свои интересы, — поля Журавлиного хутора нуждались в тракторе. Не было ли вторым шагом столкновение с Кяндом? А как можно было уступить Коору и не вступиться за Роози?
Может быть, не следовало так широко пользоваться помощью, самого Муули и строителя Йоханнеса Уусталу и этих славных людей с хутора Яагу, — ведь принимая их помощь и дружбу, он тем самым принимал на себя и обязательства, связывал себя с ними?.. Легко сказать, но как он мог не связывать себя с ними, когда все его первые шаги опирались на их помощь?
И как ни раздумывал Рунге, все выходило так, что ни в одном случае он не мог поступить иначе, чем поступил.
Узкой тропинкой Пауль вышел на обрывистый, невысокий берег. Перед ним текла извилистая речка Коорди, берущая свое начало недалеко отсюда, из холодного родника в Водьясском лесу. Речка маленькая, но проворная и живая, с быстрым течением, с воронками на узких поворотах; вода ее так чиста, что плоские известняковые кругляки на каменистом ложе просматриваются даже в сумерках и ясно видны хороводы мальков. Щурясь, Пауль зорко всматривался в воду, окрашенную закатным солнцем в серебро и багрянец, старался угадать ход рыбы.
Против течения, вдоль противоположного берега, беззвучно плыла водяная крыса; от острой мордочки ее, быстро рассекающей воду, расходились две серебристые полоски.
Подождав, когда крыса скрылась, Пауль бросил блесну и быстро поволок ее по воде, наматывая шнур на катушку. Идя вниз по течению, меняя места, он методически стал забрасывать и возвращать блесну. Рыба не клевала. Нет, лучше, конечно, рано утром или после дождя… Положив удочку, сел на берегу, закурил и задумчиво стал слушать неугомонный клекот воды.
Мала речка Коорди, но весь широкий мир отражается в ней — и полуденное солнце, и синее небо, и крестьянские стада, выходящие на водопой; мала, но есть в ней все то, что и в больших реках: форель, щука и тысячные стайки мальков.
Узка речка Коорди, но полна жизни и движения, как и большая река. Суметь только использовать ее… Построил же когда-то дед Михкеля Коора водяную мельницу на Коорди — богатство свое построил на движении быстрой маленькой речки. Нельзя ли теперь восстановить старую заброшенную мельницу? Муку будет молоть мельница, льнотеребилку можно поставить. А если установить динамо — свет будет в Коорди на всех хуторах.
И много можно сделать и построить хорошего на речке Коорди и на полях, что выходят к ее берегам, лишь бы взяться как следует — простым обыкновенным людям, вроде Семидора из Коорди. Может быть, и в самом деле старик сумеет динамо поставить?
Пауль вернулся в сумерках, неся небольшую форель, продетую за жабры на рогульку. Лицо Айно, бледное, с резко выступившими веснушками, встревожило его. Она дожидалась на дворе и путано и торопливо, почему-то шопотом, стала рассказывать о какой-то ужасной, по ее мнению, беде.
— Подожди, я что-то ничего не разберу… — пытался он успокоить ее. — Ну, ты гнала корову из лесу и — дальше?..
— Ну да… И чуть не наткнулась на него на опушке. Он сидел на пне. Я узнала…
— Да кто?
— Роберт Курвест, — испуганно глядя на Пауля, сказала Айно.
Пауль задумчиво поскреб затылок и пробормотал:
— Ну, из-за этого еще нечего волноваться, что там на пне какой-то пес сидел… А тебя он видел?
— Наверное… Я ведь близко была. Потом полем шла, чувствовала — смотрит… Словно на иголках иду, а оглянуться боюсь, у него лицо было такое…
— Ничего, я этих лиц на фронте навидался, — проворчал Пауль. — Лицо как лицо, и довольно трусливое другой раз, особенно когда на себе мушку чувствует… И кончим этот разговор, нечего зря болтать… А я-то думал, у тебя что-нибудь серьезное случилось.
— Осторожность — это не лишнее… — обиженно сказала Айно.
Он промолчал, но, судя по тому, как он перед сном с озабоченным видом походил вокруг построек, сам запер двери, а через несколько дней, вернувшись из волости, привез и повесил на стене ружье, Айно поняла, что он согласен с ней.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Роози ночевала в старом амбаре на краю яблоневого сада; тут было прохладнее, чем в тесной горнице, рядом с хозяйской кухней. На той половине, где в двух огромных сундуках хранилось изношенное платье, штуки небеленого полотна и мотки шерсти, стояла деревянная кровать Роози под двумя облезлыми шубами, висевшими на стене.
Волна сильных и нежных запахов клевера, тмина и мяты вливалась в раскрытую дверь, изгоняла въевшуюся в стены тонкую кисловатую вонь старой шерсти, льна и кожи. У изголовья кровати, на столике, накрытом белой скатертью, стояли полевые цветы, а в ногах — молодые пахучие березки. Если бы не было так темно, на белой скатерти можно было бы увидеть совсем новую незажженную свечу, белый кувшин с молоком и, на тарелочке, ветчину, нарезанную ломтиками.
Это был торжественный, праздничный стол, и жаль только, что тот, кого он дожидался, не приходил.
Всегда, когда наступал рассвет, Роози убирала со стола, прятала незажженную свечу и тарелки, уносила кувшин. Стол, лишенный белой скатерти, становился всего-навсего обыкновенным скрипучим столом, изъеденным жучком, с покоробленной поверхностью, как и ночь, полная радостного волнующего ожидания, превращалась в день тяжелого труда в хозяйстве Коора. Ведь Роози была кругом в долгу перед Коором…
Но в следующую полночь стол накрывался снова, и на нем опять стояли цветы и незажженная свеча, и, глядя на них и нежно оправляя оборки скатерти, Роози мечтала и волновалась.
Конечно, если бы милого ожидала не Роози-батрачка, а богатая хозяйская дочь из Коорди, стол мог бы быть богаче; на нем стояли бы не полевые цветы, а пионы из сада Коора, да и не только холодная ветчина на тарелке, а жареная яичница, и нежные белые блины с вареньем, и вино. Но и этот прием не мог опозорить Роози, нет; все было как следует: и березы у стен и в углу, и цветы, и стол…
В эту душную июльскую ночь, как и в предыдущие, Роози ожидала Кристьяна Тааксалу. Он обещал притти, хотя и не сказал точно — когда. Он еще ни разу не приходил, но обещал, и она верила.
Это было совсем недавно, когда, работая на машине у Мейстерсона, кто-то весело крикнул вслух:
— Эге, а Кристьян в пару с Роози становится!
Он и верно встал с Роози в паре и все поглядывал на нее, весело посмеиваясь, и все покрикивал, закидывая ее снопами:
— Ну где вашим парням до наших…
Но и Роози в чем в чем, а в работе трудно было перегнать. Как цепы вращались ее могучие бронзовые руки, и когда Кристьян на миг остановился, — обтереть рукавом пот со лба, — Роози с неизвестно откуда взявшейся смелостью сказала:
— Нет, у тебя руки не успевают за языком.
Так, пересмеиваясь и дразня друг друга, они работали с веселым неистовством, и другим, глядя на них, становилось весело.
Потом о и посадил ее на кучу соломы и, шутливо толкнув в бок, захохотал. Своими руками Кристьян мог бычью голову пригнуть к земле, но Роози толкнул, словно ягненок ткнулся ей в руку. Глядя на его красную смеющуюся физиономию, она сама беспричинно засмеялась. Так, глядя друг на друга, они все пуще и пуще заливались хохотом и долго не могли успокоиться. И он, смеясь, обещал притти. Она поверила, что так и будет.
Ожидая Кристьяна, прислушиваясь, не скрипнет ли калитка, не раздадутся ли осторожные шаги, Роози думала, как хорошо было бы, если бы не Коор жил на этом хуторе, а они с Кристьяном, и этот сад, и дом, и поля были, бы для них. Они справятся здесь не хуже Коора, а лучше, куда лучше. Ведь успевала же она обрабатывать их Коору без помощи других батраков. Да и туда, на хутор Яагу, Кристьян мог бы взять ее без боязни, — нет там работы, которая была бы не по плечу Роози. А если на хуторе Яагу тесно, разве они не смогли бы построить дом на той земле, что получила она весной от советской власти.
Легкое, сухое и теплое дуновение с полей донесло кремнистый запах нагретых колосьев. Оно напомнило Роози, что завтра предстоит молотьба у Коора; вспомнилась сегодняшняя ссора Пауля Рунге с Коором. Начала ссоры Роози не застала, но когда она вышла из хлева, они как злые петухи стояли друг против друга.
— Почему ты молотить не будешь? — видимо злясь, спрашивал Рунге.
— Хлеб сырой, оттого и не буду, — отвечал Коор.
— Ну, это враки, я видел твои копны, — сказал Рунге. — Маршрут молотилки не может из-за тебя прерваться.
— Я сам свое время знаю, — зло сказал Коор. — Хлеб мой… захочу — и совсем не обмолочу…
— Ну, приятель, нет, — там и государственного хлеба тонны полторы по госпоставкам… в этом-то и вопрос, — сдержанно усмехнулся Рунге. — Выходит, не только твое дело, понял?
Они спорили добрых полчаса, Рунге все сдерживая голос, Коор все повышая; наконец Пауль ушел, настояв на своем.
Михкель Коор громадными шагами вымерил двор, вынес из кладовой бутылку и, налив стакан, выпил самогон одним долгим глотком. Тупо и молча уставился перед собой на кухонный стол. Жена Марта, женщина сварливая и далеко не робкая, косо взглянув на него, молча вышла из кухни. В такие минуты лучше было не трогать Михкеля: он мог и ударить.
…Безветренную тишину сада нарушил легкий шелест, словно овца или корова боком задела куст. То мог быть человек… У Роози заколотилось сердце, ей стало жарко. Она бесшумно встала у косяка, напрягая зрение. Да, это был человек. Темная, высокая фигура не спеша, осторожно пробиралась, склоняя голову под кронами яблонь. Была секунда, когда с губ Роози готово было сорваться: «Кристьян…» Но… человек направлялся не к амбару, а в сторону старых необитаемых ульев. Хотя бы уж поэтому человек этот не мог быть Кристьяном. К тому же, как она теперь разглядела, Кристьян был шире в плечах.
Испуг обуял сердце Роози. Вор! Ее первым побуждением было протянуть руку и закрыть дверь, но боялась скрипнуть, выдать свое присутствие. К тому же за душу тянуло неистребимое любопытство — желание увидеть, что же будет дальше…
Человек наклонился над ульем, помешкал, потом выпрямился, постоял и пошел обратно в глубину сада. Он словно бы нес что-то подмышкой — сверток или мешок. Прошел близко, шагах в двадцати, — высокая молчаливая тень, — сутулясь, высоко поднимая ноги, словно шагал по воде. Что-то тревожно-знакомое, хотя и позабытое, в этой тени на миг померещилось Роози, но как она ни напрягала зрение и память, так и не узнала, и тень скрылась в вишеннике, растворилась в темноте. Только тогда Роози почувствовала, как у нее дрожат колени, и она заперла дверь на крючок.
Дрожа, с головой накрылась одеялом, спряталась в душном жарком мраке, и чем больше обдумывала происшедшее, тем в больший тупик приходила. Подумалось о «лесных братьях» — страшных, презираемых людях, немецких приспешниках, что во время немецкой оккупации запачкали руки братской кровью и теперь, скрываясь от кары, одинокие, по-волчьи прятались в лесах. Они грабили кооперативы, нападали на одинокие хутора, случалось — из-за куста воровски стреляли в сельских активистов. Но что делать им здесь, в этом яблоневом саду, где понятным было бы лишь появление Кристьяна? Что же это — вор не вор, неизвестно — кто такой?
Утром Роози осторожно подошла к улью и заглянула в него. Ничего там не обнаружила, если не считать хлебных крошек, рассыпанных на поде.
Услышав сбивчивый рассказ о ночном госте, Михкель Коор внимательно посмотрел на Роози и нахмурился.
— Да ты бредишь, какой вор? Ты узнала его?
Услышав, что не узнала, Коор чертыхнулся и насмешливо предположил, что Роози, наверное, наслушалась деревенских рассказов про банду «лесных братьев» и Роберта Курвеста, якобы появившегося в окрестностях Коорди, да и приняла какого-нибудь случайно забредшего теленка за человека.
Роози вздрогнула и уставилась на Коора. Уж и впрямь не старшего ли сына Курвеста напомнила ей тень? Она робко сказала об этом Коору.
— Ты глупа, вот что, — внушительно сказал он. — А можешь ли ты поклясться, что это был он? Да и уверена ли, что это вообще кто-то был?
Роози замялась и замолчала. Она вспомнила про хлебные крошки, но, в конце концов, не птица ли или мышь занесли их туда? Стоит ли настаивать, — как бы Михкель не стал сторожить в саду… Как же тогда притти Кристьяну? Роози уже жалела, что рассказала о ночном происшествии.
— И я тебе вообще советую язык придержать, — помолчав, продолжал Коор. — А если тебя в волость вызовут и спросят, кого ты видела в саду? Там ведь бабьим снам не верят, а путаться начнешь, тебя же заподозрят во лжи… Поняла?
Роози спрятала задрожавшие руки за спину и робко сказала:
— Это, наверное, был теленок или собака.
— Конечно… — согласился Коор. — И нечего тебе ночевать в амбаре, если тебе там чудится всякое…
Роози и сама боялась итти ночевать в амбар, но когда пришла ночь, ее стала мучить мысль — что же будет, если придет Кристьян и не найдет ее там?
И снова в амбаре в яблоневом саду Роози приготовила стол. Она в эту ночь совсем не спала, но не дождалась ни ночного гостя, ни Кристьяна. С Кристьяном ей довелось встретиться через несколько дней при совсем необычных обстоятельствах.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Заглушая тысячные хоры кузнечиков, в Коорди стрекотали жнейки; пришло горячее время жатвы, а за ней и молотьбы. С восхода солнца до позднего вечера под ножами жаток ложились спелые хлеба, звенели косы, вязались снопы.
Заслыша звон кос, натачиваемых поутру, словно древний столетний сигнал, не выдерживали самые глубокие старухи в Коорди: «Rukkilõikusele!»[11] Даже те, чье внимание изредка возбуждал разве только отдаленный грустный звон колокола («А кого это нынче хоронят?»), с кряхтеньем выпрямляли согнутые спины; морщинистыми узловатыми руками потуже завязывали белые платки; озабоченные, собирались и собирались еще с вечера. Поспел ведь хлеб! Вокруг хлеба вращалось все их существование, и долголетие, и каждый миг самой короткой жизни. Любовь и смерть, женитьбы и рождения, ссоры и счастье — все зависело от урожая хлеба. Хлеб был дороже покоя в теплом углу, волновал больше, чем звон колокола на погосте, потому что это была жизнь. Рожь… Золотистая груда зерна, шумящая на миллионах колосьев в поле под солнцем, — то самое счастье, которое так трудно дается в руку.
Умереть человек может и зимой и летом; смерти человек может обмануть, отдалить ее на месяц, на год, а то и на многие годы, а жатва приходит неотвратимо, ее пропустить невозможно; нельзя быть к ней равнодушным, не то польется зерно на землю, погибнет, унося с собой счастье и жизнь.
И тянулись в поле все, и мужчины, и женщины; среди других необычно бледнолицые в Коорди городские родственники, приехавшие помочь на жатве; старухи вслед за рослыми своими внучками шли в поля.
К жатве и обмолоту были прикованы мысли и разговоры крестьян Коорди; в эти дни как-то отдалились и потускнели все другие новости и события в деревне, хотя их было не мало.
Одной из новостей, занимавших Коорди последнее время, был углубляющийся разлад в семье Вао, местного патриарха, главы семьи, отца шести дочерей. Он сам, а за ним и соседи считали, что сумел Йоханнес Вао строгой родительской властью воспитать детей, которые все силы свои отдавали процветанию родного хутора. Теперь же, неожиданно для всех, оказывалось, что какие-то силы разрушили власть Йоханнеса над домом и семьей; похоже было, что дети вовсе не любили родной хутор и что старый Вао не привил дочерям любви к нему. Рассорившись с отцом, ушла Айно на Журавлиный хутор, затем ушла другая из старших дочерей, Вальве, — нашла себе место библиотекаря в соседней волости. А какую штуку выкинула младшая. Линда? Она вдруг твердо решила уйти в Таллин учиться. И не куда-нибудь, а в какой-то физкультурный техникум… Весной она удачно выступала на уездной школьной олимпиаде, у нее оказался талант, Йоханнес обещал ее выпороть ремнем, но это, кажется, не помогло. Она, как стороной узнал Йоханнес, бегала на Журавлиный хутор к сестре, советоваться или жаловаться, и после этого как будто даже утвердилась в своем решении.
Дети расходились по своим дорогам, найденным без помощи и против воли Йоханнеса. На хуторе Вао оставался сам Йоханнес с Лийной и одна из средних дочерей, Вильма. Того и гляди, и та уйдет. Кто же будет боронить и косить, сажать и убирать картофель, возить хворост и работать дома? Разве для этого Йоханнес народил большую семью, чтоб под старость самому работать за девок? Что скажут соседи, которым он всегда благодушно внушал, что порядочному трудолюбивому крестьянину прекрасно можно обойтись в своем хозяйстве без батрацкого труда и достичь крепкого достатка, и при этом ссылался на свой хутор.
Этот Журавлиный хутор, Пауль — вот что казалось теперь Йоханнесу причиной разлада не только в его семье, но и во всей Коорди. И Йоханнес проклинал Пауля, особенно когда напивался, что с ним частенько случалось последнее время. С налитыми кровью глазами ходил по двору, и из басовитого его ворчания можно было понять, что он призывает все беды на голову Рунге.
— Для чего я всю жизнь горб натирал — чтоб под старость все пошло прахом, а? — спрашивал он Лийну. — Я, честный человек, даже греха не боялся — крал… А все зачем? Все чтоб в дом…
Так бичевал он себя, все распаляясь.
Этого жена уже не могла вынести.
— Полоумный, — возвышала она крикливый голос, — что ты крал? Как ты можешь такое сказать? Не лги!
— Как? А бревна в казенном лесу? — ожесточался Йоханнес. — А разве за телегу я заплатил Анне Курвест? Я покойницу обокрал… Вот что вы все меня заставили!
И Йоханнес со злобной радостью смотрел на жену.
А Лийна уже рыдала и махала руками на мужа.
— Не лги, кто тебя заставлял?.. Это все жадность твоя… Почему ж ты не заплатил Анне?
Йоханнес тем временем хватал топор, кричал, что если уж дом валится, так и ему подавно наплевать, и что он хоть сейчас разрубит эту телегу и разнесет все к чертям. Выходил на двор, где поднимался великий шум. Возбужденно скакал на цепи пес, заливаясь радостным лаем, с кудахтаньем разлетались куры, плакала на пороге Лийна. Йоханнес подходил к телеге, но почему-то не рубил ее, а только с громом бил обухом по крепкому днищу.
Новые люди энергично проталкивались в жизнь Коорди, и об этом много говорили здесь. Взять хотя бы Пауля Рунге. Да его когда-то в волости многие вообще плохо или совсем не знали. А теперь он сельский уполномоченный; приходит на двор этот бывший батрак, здоровается — и невольно рука тянется к шляпе. Сказать об этом невысоком молчаливом кряже, что он новоземелец, хозяин Журавлиного хутора — это почти ничего не сказать о Рунге. Он теперь человек государственный. Когда он спрашивает вас, как вы справились с жатвой и как сохнет хлеб, это не просто болтовня соседа. Тут надо ему ответить точно, подробно и деловито, потому что Рунге надо знать, как регулировать маршрут молотилки. За спиной Рунге стоит сельсовет, волость, уезд, республика, наконец все государство… Вот какой человек Рунге…
И он, кажется, полезный человек — Рунге. Вместе с Каарелом Маасалу они как-то сумели снять с трактора этого мальчишку, ставленника Кянда, который никому не внушал доверия ни своим умением, ни добросовестностью. Теперь другой работает — деловой человек. Вот о свете в Коорди заговаривает Рунге, как бы организоваться да провести… Рунге может оказаться полезным человеком. От Вао, правду сказать, для волости пользы немного, только что фигура внушительная; он неповоротлив, при всем том почести любит.
Рунге говорит мало, раздумчиво, углубленно и коротко, словно из дерева слова свои вытесывает и вытачивает, — вложи в нужный паз, и ляжет каждое слово точно, устойчиво, скрепляюще. Недаром говорили, что он ученик великого сельского плотника Йоханнеса Уусталу. Такой человек нам в Коорди нужен…
Были и неприятные новости в Коорди: группа бандитов — «лесных братьев» — появилась в окрестностях. Крестьяне жаловались, что пропадают овцы и телята. Говорили, что якобы некоторые активисты в волости получили подметные письма с изображением черепа и скрещенных костей, говорили, что в парторга Муули на лесной дороге было произведено несколько выстрелов, к счастью неудачных. Связывали все это с именем Роберта Курвеста, бывшего фельдфебеля немецкой армии; его будто бы видели на лесных дорогах с автоматом на боку. Слух этот раздражал и тревожил и мешал спокойному и мирному ходу жатвы.
…Горячую пору переживали и на Журавлином хуторе. Целый день Пауль с Айно возили снопы с поля, укладывали на дворе. Большой получился омет! Уж он стоял готовый, плотно уложенный, ровно оглаженный со всех сторон вилами, а Пауль с Айно все не могли отойти от него. Что ж, тут в этом хлебном смете, было неистощимое упрямство Пауля, преодоленные за полгода жизни в Коорди огорчения и затруднения, и воловья, неутомимая работа их обоих, и будущее Журавлиного хутора.
— Центнеров по двенадцать будет с гектара, как думаешь? — спросил Пауль у Айно после долгого задумчивого созерцания омета.
— Наверное, будет… — уверенно, хотя и наугад, сказала Айно.
— Зерно тяжелое… — помолчав, сказал Пауль. — Может быть, и по четырнадцать будет, как думаешь?
— Очень может быть… — еще охотнее согласилась Айно. — Да и наверное… Зерно ведь тяжелое…
Они говорили о зерне, а думали о возведении нового хлева, о фундаменте под новый дом, о новой теплой жизни в нем. Каждый центнер нового урожая приближал к этой жизни…
С тревогой — сначала Пауль, а потом и Айно — посмотрели на небо. Багровое солнце — теперь на него можно было смотреть невооруженным глазом — садилось. Ущербленное снизу гребнем далекого холма, а сверху лезвием узкого длинного дымчато-голубого облака, багровое солнце в этот час было похоже на кусок раскаленного железного бруса, сплющенного на наковальне. Поднимался ветер.
— Только бы дождь не нагнало, — озабоченно сказал Пауль.
— Не нагонит, — успокоила Айно, хотя и ей закат не понравился. Но ей хотелось верить, что ветер не нагонит туч, а если и нагонит, что они пройдут стороной. Ведь хлеб на дворе!
Когда они при свете коптилки доужинали, на дворе стало совсем темно. Ветер усиливался, то здесь, то там трогал крышу.
Они хотели уже ложиться, когда послышались шаги; кто-то сильно нажал запертую дверь, а затем постучал.
Айно рванулась и схватила Пауля за руку, когда он медленно встал, собираясь итти к дверям.
— Не открывай… — одними губами прошептала она.
— Кто там? — громко спросил Пауль и тихо сказал Айно: — Иди в комнату… Полагайся на меня…
— Открывай… Из волости… — глухо ответил незнакомый мужской голос.
— Имя скажи… Кто? — Пауль снял со стены ружье.
— Из волости, открывай…
Стук требовательно повторился.
Пауль молча приник к двери, слухом стараясь угадать незнакомого человека, от которого его отделяла только дверь, запертая на засов. Стук у самого его лица — теперь уже кулаком — оглушительно бил в уши, пронизывал все тело и, казалось, сотрясал старые стены ветхого дома, весь Журавлиный хутор…
Стук прекратился, Пауль услышал отрывистый приглушенный говор совещающихся людей, что-то звякнуло, шаги пошли вдоль стены…
Пауль одним прыжком выскочил из сеней на кухню и задул лампу. Он сделал это во-время: ударившие на дворе выстрелы слились со звоном разбитых стекол; ветер ворвался в кухню…
Пауль бросился на пол к стенке. «Высоко взяли… цел…» — мелькнула радостная мысль.
— Ложись, — грозным шопотом приказал он Айно.
Другая очередь из автомата прошила окно в комнате. Потом смолкло. Пауль осторожно поставил дуло ружья на подоконник, усыпанный разбитым стеклом, и, стараясь целиться в сторону бревен, сложенных на дворе, где как будто ощущалось движение, нажал курки. Крупнокалиберный дробовик глуховато рявкнул два раза, выбросив снопы огня. Пауль снова бросился на пол и отполз в сторону. Снова очередь в окно…
— Тебя не тронуло, Айно? — хрипло спросил Пауль в темноту.
— Нет, — прозвучало в комнате.
Заглянув туда, он разглядел Айно, скорчившуюся у другого окна; в руках ее, как ему показалось, тускло блестел топор. Хотя все было очень скверно, он нашел в себе силы одобрительно усмехнуться.
Потекли томительные минуты неизвестности, ожидания, — что же бандиты предпримут дальше? Осторожно выглянул в окно, в тревожную темь, ничего не разглядел. Они были здесь, в этом он не сомневался, но что они замышляют? Только бы не было у них ручных гранат — не стали бы бросать в окна…
Зарядив ружье, он лежал на боку и, не выпуская из виду окна, напряженно думал, как выйти из положения. Уловчиться выскочить в заднее окно комнаты, скрыться в темноте, привести помощь… Но это невозможно, — Айно останется здесь… Может быть, услышат выстрелы в деревне — придут? До дома Кянда было полкилометра, но рискнет ли он притти, услышав выстрелы? Наверняка нет. До других хуторов дальше… Нет, одни, как есть одни… Плохо.
Пауль вздохнул и поднял голову; ему показалось, что в окне посветлело, красноватые квадраты света легли на пол. Так и есть, потянуло дымом…
«Хлеб! — болью пронзила мысль. — Поджигают скирду… Тут еще ветер этот проклятый!»
Зыбкие тени от пожарища заметались на дворе, ржаная груда ясно выступила в черноте ночи, освещенная красным трепетным светом; утоптанная солома разгоралась неохотно, но ветер помогал огню. Весь дым и искры несло на стоявший рядом хлев. Где-то уж затлела его сухая, как хворост, крыша.
Лежать здесь и не сметь не только выйти, но даже поднять голову над окном! Пауль скрипнул зубами.
— Наш скот… — с тоской сказала Айно.
Пауль наугад выстрелил в ночь. Ответные выстрелы не заставили себя ждать. Ждут, не выскочит ли он… Чорт возьми, неужели и пожарище не привлечет внимания деревни?.. Хотя что ж, хутора за лесом…
Из хлева донеслось протяжное, жалобное мычание коровы.
Айно пробежала над головой Пауля, ударилась об дверь; потеряв голову, слепыми руками шарила запор… Пауль, протянув руку, схватил ее за ногу и рывком стащил на пол.
— С ума сошла!.. — рявкнул он бешено.
Айно рыдала, царапала дверь.
ГЛАВA ПЯТНАДЦАТАЯ
Семидор яростно забарабанил кулаками в дверь хутора Яагу.
Открыл заспанный и недовольный Каарел Маасалу.
— Горит… — задыхаясь, пролепетал Семидор, схватил Каарела за рукав, потянул в комнату. — Посмотри из окна… Рунге горит!
— Где горит, чему гореть-то?.. — сердито оборвал его Маасалу, с трудом разлепив глаза. Он только что лег и тяжело заснул; спина одеревянела, ныла от дневной работы. Откинул занавеску от окна.
— Это совсем в стороне от Пауля, — ворчал он, разглядывая красноватое зарево, сиявшее над дальним лесом. — С чего Паулю гореть?.. Я тебе сейчас скажу, что горит… Это на лесном болоте Татриков сарай с сеном горит, а может быть и лес… Сушь и ветер…
Подошел босой Тааксалу со всклокоченной головой и тоже приник к стеклу.
— Скорее всего сарай… Татрика или Лаури… — поддержал он. — Ишь, как захватило… Это на добрым километр дальше от Журавлиного хутора.
В доме просыпались. Альвина разжигала лампу, не попадая от волнения стеклом в горелку. Мать Кристьяна, охая, засуетилась в комнате.
Семидор взглянул на Каарела и Кристьяна, беспомощно потоптался, как-то завял, остыл.
— Пожалуй, что и лес… развели костер и забыли… — забормотал Семидор. — Мох сухой, как порох… Сараи тоже могут быть… И скорее всего, что так…
Он уже готов был, как и всегда, принять сторону более авторитетную, согласиться с чужим мнением, высмеять собственные страхи, но… багровый свет за окном тревожно тянул, словно будил его, не давал успокоиться. Семидор снова приложился к стеклу, с минуту смотрел, и когда отвернулся от окна, всех поразило его искаженное лицо.
— Рунге горит! — закричал он с отчаянием. — Горит… Я вам говорю…
Схватившись за голову, он вдруг странно, тоненько, по-собачьи, заскулил, отчаянно взмахнул руками и заметался по комнате в тоскливом томлении — маленький, взъерошенный, совсем не смешной в эту минуту Семидор. Какие-то большие чувства вознесли его на гребень, владели им безраздельно, не оставляя места былой робости, недоверию самому себе, своим мыслям и чувствам. Он словно бы погибал снова, как там, на дне узкого колодца на Сааремаа, — догорал шнур под ногами… Словно бы горела его собственная халупа на острове; зловещие искры разлетались вокруг… Черными пустыми глазами смотрела ночь в лицо тому, кто был оставлен один на один с бедой…
— Журавлиный хутор горит… Пауль!.. — крикнул он на весь дом и топнул ногой в опорке, надетом второпях на босу ногу. — Слышите, я вам говорю… Едем!
Все это было так неожиданно, что с Маасалу соскочил последний сон; так и не закурив, он сунул обратно в карман кисет, который раскрыл было. Тааксалу, разинув рот, не мигая, дико уставился на беснующегося Семидора.
Каарел распахнул обе створки окна и высунулся на подоконник. Его резко обдало сухим, прохладным ветром. И все в комнате услышали донесшиеся со стороны леса два приглушенных ветром и расстоянием выстрела, и сразу же — автоматную очередь. Словно горох просыпался на сковородку…
Маасалу с хмурым лицом отпрянул от окна.
— Семидор, телегу запрягай, быстро… — приказал он тоном, не терпящим возражений. — Кристьян, одевайся… Чтоб в три минуты все… Альвина — два ведра на воз… топор, багор…
Сам уже надевал на ноги тяжелые сапоги.
Семидор выбежал на двор. Скрипели ворота конюшни, сарая. Медвежьими шагами протопал в кухне Тааксалу, второпях свалил ведро…
И вот, завалившись на телегу, помчались в темноте по проселочной дороге навстречу ветру, рвавшему шляпы и полы пиджаков.
Молчаливый Маасалу нахлестывал лошадь, идущую вскачь. За ним, спина к спине с Тааксалу, трясся Семидор, судорожно схватившийся за края телеги; до боли выворачивая шею, косился на пожар.
Теперь, когда на облучке с дубовой прочностью восседал Маасалу, подобно пружине, пущенной в ход, Семидор ни за что не боялся. В руках Маасалу удастся все: он может одним верным ударом вбить гвоздь в дерево; березовый комель расколет смаху, — знает, как ударить, — коса, направленная им, скосит хоть ивовую поросль; дом, построенный им, будет вечен… У Маасалу все то, чего нет у него, Семидора, — умение и удача… Уж Каарел сумеет помочь! Семидор сейчас готов был молиться на Маасалу.
Каарел свернул к светлеющему окном волисполкому. Колеса прокатились по каменному щебню, круто стали. Бросив вожжи, Маасалу громыхнул по ступеням наверх.
Сквозь запертую дверь он спросил парторга Муули.
— Парторг в городе на семинаре, — сообщил дежурный, сонный инвалид, прижимая к себе дверь и недоверчиво оглядывая топчущихся на крыльце.
— Тогда к телефону, — решительно шагнул Маасалу мимо сутулого инвалида в желтый свет лампы, в канцелярские запахи, к письменным столам.
Инвалид уселся на широкой лавке, отполированной от долголетнего употребления, сник; ленью и сном веяло от складок громадного, явно с чужого плеча пиджака, придвинул ружье неизвестного образца, нечищенное, ржавое, как и его давно не бритая борода. Удивленно мигнул: и чего это, на ночь глядя, сорвались, — загорелось, что ли? Попросил у Семидора покурить. Семидор узнал в нем местного крестьянина, старого Виллу, мастера на всякие деревянные поделки, протянул табак.
Маасалу бешено закрутил ручку телефона.
Где-то далеко зашумело, пропела скрипка, равнодушно ответил далекий женский голос.
Каарел Маасалу не разжать было каменно сцепленных челюстей, молчал. Кого, ну кого спросить в эту темную ночь, в тихом свете лампы, озаряющем сонную рожу Виллу, когда человек в беде — Пауль Рунге, товарищ, друг, с кем пилили деревья в Водьясском лесу, ели вместе сухой ржаной хлеб, резали шпиг тоненькими пластинками? К кому воззвать?
Женский голос раздраженно переспросил. Тогда Каарел нашелся.
— Партию!.. — заорал он. — Партию дайте мне!..
Телефонистка все переспрашивала.
— Ну да, уком партии… — обрадованно, что нашлось настоящее слово, орал Маасалу. — Уком… Можно и дежурного…
Боясь дохнуть, сверлили его затылок взглядами Тааксалу и Семидор.
А Каарел, прирастая к трубке, кулаком рассекая воздух, кричал о нападении, о пожаре и выстрелах на Журавлином хуторе… Еще раз повторил кому-то другому, подошедшему…
— На машине выезжают… Через полчаса будут, — торжествующе сказал он, оборачиваясь к друзьям. — Ну… быстро.
В дверях Маасалу, спохватившись, оглянулся на инвалида, шагнул обратно, молча и деловито сгреб ружье.
Виллу, выпучив глаза, вцепился в него, забормотал, но тут Тааксалу локтем легонько отодвинул его на лавке и внушительно сказал:
— Сиди… Тут государственное дело… Патроны есть?..
Из кармана, вываливающегося из подкладки вислого пиджака, Виллу вынул патроны.
И снова — вскачь в темь, туда, к зареву… Держись, Пауль Рунге, держись, старина!
Приходилось ли доброй кобыле Хильде когда-нибудь скакать так, как в эту ночь?.. Хильде, наполовину принадлежавшей Маасалу, наполовину Семидору. Как-никак, эти два хозяина берегли ее, порой, случалось, ворчливо упрекали друг друга в нерадивости к ней. У них она раздобрела… А теперь к немилосердному железному понуканию одного согласно присоединялся визгливый, подзуживающий голос другого:
— Поддай жару ведьме!..
Искры летели от камней, попадавших под ноги Хильде.
Сумасшедшая была ночь…
Семидор потом много раз пересказывал эту историю. Увлекаясь, он показывал, как они, привязав Хильду в кустах, стали подползать к горевшему хутору. Там вокруг светло на километр, весь хутор виден как на ладони, до скворешника на березе… Горит скирда, горит хлев, уже угол дома занялся… Подползли близко по канаве к кустам, видят: за бревнами прячутся два человека с оружием в руках. Маасалу приложился, выстрелил. Заметались те двое, оглядываются, ничего не понимают. Маасалу еще выстрелил, а Тааксалу, заложив пальцы в рот, пронзительно засвистал… Те кинулись в поле, — трое их оказалось, — бегут пригибаясь, а один отстает заметно, прихрамывает, видно ранен… Пауль выскочил на двор с женой… Айно — подумать только — в горящий хлев кинулась, скот спасать, сумасшедшая совсем… Пауль за ней. Да где там, разве выведешь скотину из горящего хлева, — ни за что не выйдут. Только Анту, старый мерин, прах его побери, за Паулем вышел! В это время милиционеры подоспели. Куда, спрашивают, они побежали? Маасалу вместе с ними в облаву пошел. Тут еще народ стал сходиться из Коорди. Стали спасать что можно…
Люди встали в цепь от колодца до пожарища. Первой у колодца встала Айно, отпихнув кого-то локтем. Это было ее место — хозяйки Журавлиного хутора; она готова была отстаивать его до последнего снопа ржи, до последнего уголька.
Татрик проворно принимал от нее ведра; лицо у него было торжественное, словно он того и гляди скажет: «Вот когда мы поженились с Мари…»
Влился в цепь и угрюмоватый, нелюдимый, живший на отшибе Мейстерсон. Ну как не помочь честному человеку-хлеборобу в беде! «Вот сам попадешь в беду, и тебе никто не поможет…» — так он объяснил дома жене, не пускавшей его на пожар.
И Антс Лаури, и маленький, всегда такой незаметный Прийду Муруметс, живший на краю Змеиного болота, были здесь… Чорт бы побрал этих бандитов проклятых! Только человек от трудов своих выпрямляться стал, о полезных для всех делах заговорил, большое задумал, — свет в Коорди провести, — а его словно косой по ногам… Чорт бы их побрал!.. Подавай скорей, шевелись, шевелись, Прийду, не мешкай, спасем что можно!
Роози Рист встала в паре с Кристьяном; как это получилось — они и сами не разобрали. Самозабвенно работала Роози, передавая Кристьяну ведра, обильно плещущие спасительной водой. Спасти людей, которые решили вдвоем выстроить себе теплую крышу над головой, посеять хлеб, завести общую жизнь, семью — спасти, отстоять — о, как Роози это понимала!
Замыкающим стоял Кристьян. Принимая от Роози воду и могучими взмахами выливая ее на шипящие угли, он сшибал огонь, скашивал столбы едкого дыма. Молчанием своим, мерными своими движениями он как бы выражал согласие с мыслями Роози. Да, надо спасти человека, и спасем, если возьмемся дружно, зальем, затопчем огонь, поднимем дом снова, вознесем стены…
Всю эту живую цепь питал Семидор… Он безустали крутил и раскручивал ворот, весь мокрый от жаркого пота и холодной воды, взъерошенный, без шляпы. Все крутил и крутил… И победно бормотал, обращаясь не то к себе, не то к Паулю, затерявшемуся в сутолоке:
— Вот видишь… как хорошо, что воду открыли…
Над Журавлиным хутором встал легкий прозрачный предрассвет — тот миг, когда уж так светло, что землю можно увидеть до самого горизонта; само солнце еще не показалось, но уже ощущается близко, неминуемое, жданное, прекрасное. Вот-вот вспыхнут осиянные светом верхушки высочайших елей…
С восходом солнца все встало на свои места. В лесу вдали смолкли звуки погони и выстрелы. Осенний лес стал ярким, просвечивающим и радостным в своей багряно-желтой пестроте. Пожарище, такое грозное ночью, оказалось всего-навсего небольшим черным обгорелым пятном под несравненной глубины голубым небом. И не так уж страшен был вид выгоревшего хлева, ощетинившегося черными ребрами. Полуобгорелый омет, дымясь паром, еще живо напоминал о ночи. Но и его уже кто-то заботливо очесывал граблями — счищал черный пепел; уже раздавались утешительные голоса, что половина хлеба все же уцелела, вот только высушить, а там можно и в машину…
Пауль присел на бревно. За ночь он осунулся, на щеке горела ссадина, он не замечал ее, как не замечал своих черных, измазанных углем, обожженных рук; глаза воспалились и горели от бессонницы, волнения и усталости. Кружилась голова, словно легкий туман стоял перед глазами. Рассеянно, стараясь сосредоточиться, оглянулся вокруг.
Как много народу… Когда они только пришли сюда — люди из Коорди: Татрик и Лаури, и даже маленький Прийду Муруметс, приболотный житель, которого он и знал-то плохо, и Тааксалу, и Семидор — все больше из его участка. Однако Коора и Кянда нет… Но другие пришли помочь… Много ли добра он им сделал, но вот пришли…
Вот Маасалу, славный друг Маасалу. Что он говорит? Поймали. Двоих поймали. Кого? Роберта Курвеста… Ах да, ведь Маасалу ходил ловить бандитов и теперь вернулся; его тесно обступают.
— Весь лес прочесали… — рассказывает Маасалу. — Отстреливались, гады… Курвест в ногу ранен.
Ба!.. А это кто там степенно шагает, седоусый, с широкими вислыми плечами, с воловьей шеей; черная выгоревшая фетровая шляпа грибом надвинута на лоб. Неужто сам Йоханнес Вао?
Хотя и последним, но Йоханнес пришел.
Он обстоятельно осмотрелся, постоял у полусожженной скирды и вдруг суеверно стащил шляпу. Хотя он не терпел Пауля Рунге, но — жечь хлеб? Перед сожженным хлебом он снял шляпу. Три поколения семьи Вао поднялись в нем, сам прадед Давет разгневался, поднял голову — тот самый Давет, который, откупившись от барона, первым пришел на хутор Вао, где тогда был лес, болота и камни. И умер-то, надорвавшись над камнями, которые выдирал, расчищая поле под хлеб. Жизнь каждого последующего поколения семьи Вао уходила только на то, чтоб очистить, вспахать, возделать, прибавить к начатому Даветом несколько гектаров нового поля под хлеб… Он, хлеб, был дорог, как жизнь, и кто поднимал руку на него — тот был убийца. И Йоханнес Вао готов был проклясть его.
Пауль видел — не мог не видеть — явное сочувствие во взглядах, обращенных к нему. Паулю что-то советовали, кто-то предлагал одолжить телегу. Ах да, ведь телега и сани тоже сгорели…
Но странно — тяжесть потери как-то уж и не давила смертным грузом. Не потому ли, что здесь были Семидор, да Каарел с Кристьяном, и Роози вон там, и с ними другие люди из Коорди…
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
С проселочной дороги Михкель Коор выехал на широкое шоссе. Из-под выцветшей, но еще благопристойной шляпы прищуренный взгляд Михкеля хмуро и пристально нацеливался на поля, уже давно сжатые, подернутые ржавью осени.
Осень, да — осень… Она в резком запахе картофельной ботвы, кое-где пощипанной ночным заморозком, и — в сверкании холодной росы, осевшей на паутине в придорожных кустах. Уже крылатые семена одуванчиков не трепещут в паутине и июльские мухи не застревают в ней, отчаянно вереща, а пауки продолжают плести зыбкие сети, затягивая клеверную отаву, подвешиваясь к случайно уцелевшим не скошенным былинкам. Но ведь и мух-то уж нет…
Большая дорога, вернее — отрезок ее от Коорди до города, еще с дедовских времен изъезжена Коорами. Они привыкли к ней, как к собственной тропинке, ведущей от порога дома к амбару на дворе хутора Кару. Вообще, Кооры избегали длинных дальних дорог. «На дальнем пути кошель растрясешь, — говорил дед Отто, — а на своей дороге иголку подберешь!..» И подбирали. Тот же Отто под старость во хмелю любил хвастаться, что хутор свой на мучной пыли выстроил. Так оно и было.
Мало кто на этой дороге не узнавал Кооров еще издали по их кровным лошадям, по манере ездить — серединой, широко, прытким аллюром. Дед в лошадях знал толк, растил их на продажу, барышничал понемножку. В далекие времена Российской империи в тихом уездном городишке устраивались знаменитые конские ярмарки. На этих ярмарках покупали крутошеих скакунов для конногвардейских полков. Брал на ярмарки с собой Отто внука, — приучайся… Но к тому времени, когда хутор Кару дошел до внука, картинные огнедышащие красавцы с крутыми шеями стали неходовым товаром. Вот другое дело — бекон! Бекон шел в Англию, Германию и даже чуть ли не в Новую Зеландию… Шпиг, упитанный, нежнорозовый, в меру проросший мясом… На хуторе Кару батрачки выращивали стадо йоркширов, живой ходячий бекон, чудовищную груду нежнорозового мяса.
На пути бекона были посредники — общество «Мясоэкспорт». Не так далеко от этих мест один из мясоэкспортеров выстроил дом за оградой. На воротах каменные шары, — не дом, а вилла. Крестьяне, проезжая, иронически сплевывали и, словно вспоминая слова деда Отто, — насчет мучной пыли, — с горечью говорили:
— Гляди, какая вилла на хвостики наших свиней выстроена…
Ну что ж, перепадало и Коорам…
Ходкой рысью размашисто шла гнедая кобыла, — у Кооров никогда не было плохих лошадей, это еще от деда повелось. Да и воз кобыле не тяжел: два мешка с рожью.
…Пошла каменная ограда, отороченная облетевшими акациями. Церковь святой Анны, — с громоотводом на шпиле, опасливо простертым в голубое холодное небо осени. Каменные недра за наглухо закрытой дверью, подобно свадебному, съеденному молью сюртуку в глубинах саженного амбарного рундука, хранят воспоминания о свадьбах Кооров. Сюда, на холодный камень плит, твердо и по-хозяйски, как на порог собственного дома, вступали широкой медвежьей ступней Кооры, ведя невест, перетянутых в подвенечные платья. Когда подходила торжественная минута отъезда, тридцать, сорок, пятьдесят телег, полные гостей, срывались с места и мчались с громом, перегоняя друг друга. Впереди, отделившись от головы колонны, — чтоб не смешаться с другими, — на дрожках, запряженных племенным жеребцом, — Коор с невестой, одеревянело сжимающей в руках огромный букет…
За церковью кладбище. Там дедом Отто откуплено место, кажется не для ухода из жизни, а для вечного пребывания в ней, на короткой дороге от хутора Кару до уездного города. Тем же желанием не смешаться с соседними безыменными осевшими холмиками веет от каменной ограды с чугунной решеткой. О прочности мельничных жерновов дедовской мельницы говорит неуклюжий каменный крест на могиле деда и чугунный на могиле отца.
У въезда в город начался булыжник, лошадь замедлила шаг.
Пробренчал под колесами настил через узкоколейку. Вот и предместье города. Весь город похож на предместье: одноэтажные деревянные дома, яблони и вишни в садах. Каменные постройки теснятся к станции. Там, у каменных амбаров, алый плакат протянут через дорогу: «Сдадим больше хлеба государству!» Под плакатом на улице вытянулась очередь возов, нагруженных мешками. Звенели копыта лошадей, переступавших на камне и жевавших сено и овес, прело пахло сырой землей, лошадиным навозом и чем-то очень осенним. Женщины, закутанные в шали, терпеливо сидя на возах, закусывали домашней снедью, выбрасывая яичную шелуху тут же, под копыта лошадей. Мужчины, собираясь в группы, дымили трубками и самокрутками. Михкель, объезжая колонну, то и дело подносил руку к шляпе, — много знакомых из волости, — держался строго, смотрел поверх шерстяных платков, чавкающих ртов и любопытствующих глаз. Пристальное внимание, непонятная насмешка чудились Михкелю в долгих взглядах мужчин, в косых оглядках женщин. Обернувшись, заметил, как тетушка Тильде-однокоровница припала к уху жены Татрика и оживленно заговорила, — о нем, конечно, — обе покачали головами, в узко сжатых губах — осуждение.
Михкель поднял плечи. Понятно, — о его двух мешках ржи идет разговор, он это даже спиной почувствовал. Конечно, им, однокоровницам, у кого вся-то норма госпоставок определена в один-два мешка, — они ее и привезли, — хотелось бы видеть, что и он, Коор, сполна привез свою долю на трех подводах. Зависть, что ли, их съедает?..
Горячая злость поднялась к сердцу Михкеля. Подождите, тетушка Тильде: три воза — не три мешка… Не заглядывайте на чужой двор.
И уже несколько благосклоннее притронулся к шляпе. Свояк Юхан Кянд, с красным лоснящимся лицом — успел уж где-то выпить — махнул рукой ему с высоты нагруженного мешками воза и, не стесняясь, заорал:
— Михкель, ты никак растерял все дорогой!..
У Михкеля сошла с лица появившаяся было улыбка; сухо кивнув, поехал дальше, туда, в хвост, где скромно встал за чьей-то квадратной спиной, затянутой в брезент. Сладко размял затекшие ноги, надел на лошадь торбу, пошел побродить, — ждать-то, поди, часа три…
Толкнулся было в желтую будку, — бар, — еще закрыто. Неторопливо побрел в сторону двухэтажного безоконного здания, похожего на гигантский серобетонный ящик, где тяжело вздыхало и топталось что-то и белая мелкая пыль покрывала землю. Мельница. Сюда очередь подвод поменьше: мелют по справкам только выполнившим госпоставки. Зато здесь другая очередь, не очередь, а группа людей человек в двадцать, сновала меж подводами. Больше бабы с мешками, подростки в армяках, перехваченных ремнями, и все: «Продаешь муку, папаша?.. Сколько просишь?»
За хлеб, зерно, за муку первого и второго сорта, за совсем серую платили такую высокую цену, что сами продающие обалдевали, уж и не знаешь, что просить…
Какой-то дед считал и считал пачку, потом, махнув рукой, не досчитав, сунул в карман.
«Вот он, хлеб-то!..» — остро щурясь, думал Коор, жадно втягивая в ноздри пропахший мучной пылью воздух.
Вот они как оборачивались в жизни — скупые строки из газет о неурожае в хлебородных областях Советского Союза. Правда, газеты писали еще и о том, что трудности с хлебом будут преодолены в кратчайший срок, но это не так уж интересовало Коора, это меньше запомнилось ему. Да, хлеб был дорог… Нет, уж подождите, тетушка Тильде…
Молодцевато выпрямившись, он пошел обратно. Очередь подвинулась, но немного. Свояка Кянда нашел беседующим с каким-то молодым человеком с фотоаппаратом на боку. Молодой человек в галифе, щеголевато обтягивающих коленки, был ясноглаз и дружелюбен, он порывисто и с жаром записывал что-то в блокноте. Карандаш с трудом поспевал за ответами свояка, благодушно облокотившегося на мешки.
…Да, он привез шестьсот килограммов ржи. Рожь — первый сорт. Нормы у него на первый год нет, как у новоземельца, но он по совести… Он, Кянд, в своей деревне председатель машинного товарищества. Конечно, трудности были, — дело новое, но — наладил…
Карандаш ясноглазого сломался; чертыхнувшись, он поспешно выловил в кармане другой огрызок. Наконец, торжественно закрыв блокнот, ясноглазый поспешно нацелился в Кянда фэдом, попросил сделать лицо повеселее; Кянд браво выпятился, юнец помахал ладошкой: «Так… так… — Левее, чтоб мешочки, мешочки вышли…» Под конец за что-то благодарил, с жаром жал руку.
— Наша обязанность… — солидничал свояк. — Пример должен быть…
— Это откуда? — опасливо спросил Коор, когда светлая кепка ясноглазого мелькала где-то уже около тетушки Тильде.
— Из газеты, — с напускной небрежностью сказал Кянд, — уж он-то со всеми умел! — Подхватил свояка под руку. — В бар, что ли, пойдем, — по кружке пива?
Вошли в галдеж пивного бара; обдало густым кислым запахом пива и едким дымом самосада. С трудом протолкались меж широкополых шляп и коробящихся брезентов из хлебной колонны. Кянд кивал головой направо и налево, подавал мягкую руку с толстыми пальцами, бросал тяжеловесную шутку. Он всюду был как свой. Подтолкнув Михкеля в темный угол за столик, локтем отодвинул грязные кружки, поставил полные. Подмигнув, показал из кармана горлышко бутылки, заткнутой деревянной пробкой, — выпьем?
— Товар-то настоящий — Metsa kohin[12]. В лесной чаще выцежен — только для себя…
В душном дымном тепле, выпив стаканчик сногсшибательного восьмидесятиградусного самогона, Михкель несколько смягчился духом, разнежился. Невнимательно слушал болтовню свояка о пчелином рое, открытом им в дупле липы. Не терпелось поделиться свежими впечатлениями, вынесенными с мельницы. Сказал:
— На мельницу заходил… На мучку-то спрос…
— Это да… — согласился Кянд. — Продать можно.
— А ты больно богат стал: возами бросаешься, — подмигнул Михкель, намекая на воз свояка, ожидающий приемки.
— А чего? — беспечно махнул рукой Кянд и по-родственному съязвил: — А ты уж не обеднел ли?
— А я тебе не жалуюсь… — обидчиво пробормотал Коор. — Я только к тому, что вроде цены на хлеб сбиваешь… Аппетит разжигаешь… Вон, мол, налим какой, — бери меня за жабры…
Кянд молча налил еще из бутылки без этикетки. Беспечная болтовня его на какой-то короткий миг прервалась. Он неопределенно скользнул по свояку взглядом влажных, очень светлых на безбровом лице, глаз.
— Ну чего там… — неохотно проворчал он. — Белка орехи собирала, да мальчишки все равно подсмотрели. Тебя и так как голенького видят. А ты уж очень раздражаешь, зря…
— Как так? — подивился Коор.
— Так, раздражаешь кого не надо… — снова дурашливо ухмыльнулся Кянд. — Ну, все равно, выпей-ка еще.
— Ну… а ты не раздражаешь? — спросил Михкель, медленно отодвигая стакан и стараясь поймать взгляд свояка. — Вон крестьяне говорят, что не поймешь как следует, под кем же трактор — под Кяндом или под товариществом.
— То Маасалу мутит… — хладнокровно сказал Кянд. — Да и что трактор… — Он пренебрежительно махнул рукой. — Надо будет — он и под товарищество пойдет. Только тому еще время не вышло…
Он снова дурашливо ухмыльнулся и заболтал о выводке пчел.
— Веришь иль нет, ведро меду вынул! — орал он, с притворным изумлением уставясь на Коора. — Плюнь мне в лицо, если я вру. То эмалированное ведро, что я купил у старика Кукка, — ты видел сам это ведро, — полное… А вот ведь тоже собирали пчелки-то, хо-хо…
Михкель усиленно распяливал на свояка глаза, разъедаемые дымом, прощупывал его взглядом. Лицо Кянда с круглыми крепкими щеками, с коротким крепким носом, было округло, без впадин, — поди ухвати такого, рука соскользнет с него, как с шара: не за что ухватить, зацепиться, даже веки без ресниц и белокурые волосы гладко зализаны к затылку плотным округлым чехлом.
Когда наконец добрался до окошка и просунул пробу зерна в жестяной консервной баночке, то и на лицах молоденькой приемщицы, и лаборантки, просмотревших его бумаги, прочел удивление и безмолвное осуждение. Да и весовщик, говорун и шутник, взвешивая два его мешка, молча установил движок, скучающе назвал цифру и не удостоил шуткой.
«Ничего, сойдет и столько…» — не без сладкого злорадства подумал Коор, складывая квитанцию и пряча ее в громадный тощий бумажник.
Побродив по базару и купив кой-чего по мелочи, молодцевато уселся в телеге и загрохотал по булыжной мостовой обратно к дому. Утренний, тоскливо сосущий осадок с души как рукой сняло, словно свежего ветра глотнул в городе, приободрился.
Ничего, пусть себе косятся однокоровницы, всякие тетушки Тильде, или эта завитая, в ярком ситцевом, там, за окошком… Хотите — не хотите, а хлебу своему он хозяин.
Под ровное цоканье копыт от быстрой езды в затуманенную вином голову лезли острые, тревожные мысли. Неприятно вспомнилось вскользь брошенное Кяндом предостерегающее: «Раздражаешь слишком»… Почудилась набычившаяся фигура Рунге, неотвратимо идущего тропинкой на хутор Кару — в который раз! — для нудного до тоски объяснения. Кожа на острых скулах Коора туго натянулась, встряхнулся, словно локтем отпихнул, отвел все досадное, мешающее, ненавистное… Ожесточился.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
У Роози было большое терпение; маленькие неудачи не могли повлиять на нее и вывести из равновесия. Она не ожидала быстрого исполнения желаний, потому что не привыкла к легким достижениям. Ведь даже хлеб, тот хлеб, с отпечатком капустного листа на нижней корочке, который она только раз в неделю пробовала свежим, а в прочие дни ела сухим, плотным, как глина, доставался с большим трудом. Надо было поворочать вилами да граблями, помахать косой от солнца до солнца, до ломоты в костях, чтоб иметь право прибавить к хлебу еще вареный картофель с соленой салакой и творог. Ну, а уж сверху полить творог сметаной могли себе позволить другие, вроде Коора, а не Роози. Она это понимала и не приходила в отчаяние, хотя мечта о самостоятельной жизни в своем домике исполнялась весьма медленно. Правда, теперь была у Роози земля и рыжая корова, полученная от Коора. За ней девушка ухаживала с беспокойством и болью человека, стремящегося к независимой жизни. Сняла Роози еще и кое-какой урожай овса с полей. Но, конечно, всего этого было еще недостаточно для постройки собственного домика, как бы мал он ни был, но все-таки был уже какой-то шаг к нему. И, утешаясь этим, Роози могла вытерпеть многое, в том числе неопределенность отношений с Михкелем Коором, а неопределенность давала себя чувствовать на каждом шагу. Коор скосил и свез в свой сарай всю вику с полей Роози; она сама помогала. Слушая его воркотню и жалобы на большие расходы и никудышный урожай, на дороговизну хлеба и молока, — а Роози ела его хлеб, — она с замиранием сердца старалась угадать, не потребует ли он вдобавок еще долю с урожая овса и, может быть, даже с картофеля, еще не убранного с поля. И молчаливо ворочала, гребла и поднимала вилами гигантские охапки вики на кооровский воз, чтоб хоть неистовой этой дуболомной работой и уступчивостью ограничить скрытые намерения Михкеля; она замирала каждый раз, когда видела задумчивый взгляд Коора, устремленный на ее картофельное поле. «В крайнем случае — три борозды за семена, ну — пять… на его лошади обработано…» — соглашалась она в душе на уступки.
Как-то Коор заявил, что им надо свести расчеты насчет коровки, — как-никак, она год пользовалась ею, теперь уж не те времена, он тоже не может коровами бросаться… Он берет свою корову обратно и уступает Роози годовалую телку. Породистая телка, через два-три года — хорошая корова…
Разговор происходил в полдень в хлеву. Роози, сидя на табуретке, доила свою рыжую. Роозины заботы благотворно сказались на рыжей: она выглядела лучше хозяйских коров. Роози выслушала Коора не оборачиваясь, только звон молочных струй о подойник на время смолк. Потом, когда Коор вышел, она все-таки выдоила молоко сполна, — нельзя его оставлять в вымени, — встала и, испуганно глядя перед собой и чувствуя, как что-то оборвалось в ней, пошла к выходу. В комнату она не смогла пойти, — вдруг там Коор со своим бледным костяным лицом… Зашла на скотную кухню, поставила подойник, уселась на камень, задумалась…
Роози чувствовала одно — что-то должно произойти. А если ничего не случится, то она сама должна позаботиться, чтоб случилось. Она могла многое вытерпеть, могла месяцами молча терзаться, боясь аппетита хозяина, но это… Уступить рыжую Роози не могла, это было ясно для нее… Она была готова как угодно пострадать сама, даже заболеть может быть, но корову отдать — нет! Это значило бы отступиться от мечты.
Десятки мыслей роились у нее в голове. Пойти в волость, рассказать или написать в город, в столицу, какому-нибудь ответственному человеку, наконец в суд подать… Но что знали в волости или в городе о ее устном договоре с Коором? Чем доказать права на рыжую, тем более что в волости она, кажется, до сих пор по бумагам числится за Коором. Ничего не выйдет из хлопот, как бы права она ни была… Бессильная злоба накапливалась в Роози против человека с лицом, напоминавшим ей обглоданную коровью кость. Другие живут по закону, первую долю урожая честно доставляют в город, в элеваторы, поезда развозят хлеб государству — большому и доброму, что даром дало Роози землю, обещало дом и собственную, отдельную от Коора жизнь. А Коор? Сидя на хлебе, выбросил два мешка ржи, как нищим. И никто его не остановит, не заставит сдернуть ненавистную шляпу с головы…
Роози тоненько всхлипнула и коричневыми измазанными руками вытерла глаза.
Сзади к ней подошла свинья, требовательно хрюкнула, поддала носом и опрокинула подойник; вода в луже замутилась, побелела. Свинья с довольным хрюканьем приложилась к луже. Роози крикнула «прочь!», но поленилась встать отогнать ее.
Новая мысль осенила ее. Пауль Рунге! Разве он не наказывал ей притти в нужную минуту? Теперь, кажется, время настало. Вот кто сумеет помочь!
И Роози заторопилась.
Пауля Рунге она застала на крыше его нового хлева, настилающим еловую желтую дранку; подивилась и немножко позавидовала в душе: «Уже до крыши дошел…» В самом деле, хлев, занимая половину фундамента, уже стоял под крышей. На другой половине, где должен был встать сарай, пока еще светлели необшитые стропила.
Пауль с сожалением отложил молоток и слез.
— Уж не больна ли ты? — спросил он, внимательно глянув на ее распухшие глаза.
Нет, она не больна. Но она проходила мимо и решила зайти побеседовать, тем более — есть о чем поговорить.
— Валяй, — по-приятельски поощрил Пауль. — Да, кстати, не слышно ли, когда Коор свою норму хлеба повезет наконец? Он никогда не поверит, что у Коора нет хлеба.
— Хлеба-то?.. — Роози с горькой насмешкой скривила губы, поправила платок на голове и, чувствуя ожесточенное наслаждение от своих слов, сказала: — У него хлеба столько, что твою комнату засыпать можно до потолка, и кухню тоже, и еще останется много… Он скорее сгноит хлеб, чем свезет на элеватор.
— Так, — сказал Рунге, переламывая в руках палочку. — Ты, может быть, шутишь?
Ей самое время шутить! Роози обиженно поджала губы. Разве она не знает, где зарыто…
Пауль с минуту просидел молча, ломая палочку все на более мелкие и мелкие куски. Когда она подняла глаза, собираясь приступить к сути дела, — рассказать о своей обиде, — у него было очень злое лицо.
— Роози, ты мне веришь? — странно спросил он, сердито глядя на нее.
Она… верит.
А если Роози верит, то нужно сделать как он скажет… Это важное дело… Сегодня люди Коорди смогут убедиться, что за человек Коор. И Роози должна помочь этому.
Помочь? — испугалась Роози и чуть не пожалела о своих словах.
Они поедут в волость. Она все расскажет как есть. Они разоблачат этого кулака. Он, Пауль, сейчас же запряжет лошадь.
— Сейчас?
Ей вдруг стало весело и немного томительно, как перед прыжком в холодную воду. Увидеть Коора хоть раз в жизни испуганным, дрожащим, без шляпы, лишенным могущества — не прятать перед ним своих трясущихся рук под передником… Какое это было бы счастье! Но тут же спохватилась, что о деле-то они и не поговорили.
И Пауль услышал прерываемый слезами торопливый рассказ о рыжей, — и корова-то была так себе, когда получила ее от Коора, два соска гноились, а посмотри-ка ее теперь! — о скошенной вике, о еще не высказанных, но подозреваемых притязаниях Коора на часть урожая овса и картофеля…
Пауль кивал головой: так оно и должно было случиться, он предсказывал это; не дослушав до конца Роозиных жалоб, он уже поднимался, досадуя на задержку, на не нужное и нудное копанье в подробностях.
— Так это все к одному и тому же относится, — нетерпеливо и почти грубо оборвал он. — Едем. Сейчас, запрягу.
— Корову оставят мне? — с надеждой спросила Роози.
— Оставят, — обещал Пауль. — Только мы это дело с главного начнем — с хлеба… От него все…
Ехали в телеге под водянистым осенним небом. Вез их Анту, — добросовестный мирный Анту, — за последнее время так примелькавшийся со своим хозяином крестьянам Коорди.
На какой-то миг, когда вдали за холмом медленно проплыли крыши хутора Кару, Роози померещилась фигура человека с бледным костяным лицом, задумчиво взирающего на ее еще не убранное картофельное поле. Ей стало не по себе, она сжалась, но, покосившись на широкую спину Пауля, на крутую скулу повернутого боком его лица, — он смотрел в ту же сторону, — успокоилась, даже почувствовала некоторое злорадство: «Достань-ка теперь…»
Пауль, повидимому, не догадывался о ее душевных переживаниях. Человек дела, но не лишенный трезвой практической фантазии, он сейчас уже представлял себе, во что выльется для Коора их поездка, видел круги, расходящиеся от камня, брошенного Роози. Группа людей на дворе у Коора: представители власти, он сам, Рунге, Роози… Коор выходит на порог, предчувствуя крушение… Статья в уездной газете, может быть даже в республиканской, о разоблаченном кулаке… Суд… Это встряхнет многих в волости.
— Пауль, а что с теми, с бандитами? — неожиданно послышался вопрос Роози.
— С Курвестом? Суд будет, свое получат, — встрепенулся Пауль. — А ты почему спрашиваешь?
Роози поведала об одной августовской ночи, о странной фигуре в саду, об улье…
— Что ж, очень может быть, — сказал Пауль, подумав. — Курвест передачу получал через улей… Очень может быть…
С километр проехали молча, до перекрестка с развалинами старинного трактира.
— Строиться еще не начала? — спросил Пауль.
Роози вздохнула. Где ж, когда Коор…
— А я вот тоже все вокруг фундамента верчусь, хотя и лес получил, и корову, — пожаловался Рунге. — Рожь вот наполовину сгорела…
Как поняла Роози, это тоже был отдаленный намек на Коора.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Суд над Михкелем Коором состоялся в помещении волисполкома — в том самом здании, где когда-то помещалось волостное присутствие; по ступеням его лестницы Коор всходил в то время молодцевато, не боясь, что на его поклон не ответят. И шляпу свою снимал прилично — на самом пороге, а не задолго до ступеней крыльца, как это делали крестьяне победнее.
Теперь же, когда его ввели в большую комнату, наполненную людьми, никому не пришло в голову поздороваться с ним, хотя крестьяне из Коорди и соседних деревень собрались здесь именно ради его дела. И он сам не решился приветствовать кого-либо, хотя узнавал многих.
В просторной комнате, служившей в обычное время красным уголком и комнатой для ожидания, а в торжественные дни агитпунктом и залом для заседаний, было тесновато и душно; занятыми оказались все скамьи и стулья. Пустовали пока только принесенные из кабинета Муули потертые кожаные кресла, предназначенные для состава суда.
Было еще одно место на короткой, грубо соструганной скамье, на которую никто не садился. Именно на эту скамью милиционер Арнольд Луйк и указал выразительно Михкелю Коору, и тот покорно сел. Арнольд Луйк со своей жилистой шеей и длинными загорелыми руками, вылезающими из коротких рукавов, похожий на крестьянина, переодетого милиционером, встал за его скамьей и деловито насупился. В зале слышался приглушенный говор, — из уважения к суду разговаривали вполголоса, а курить выходили в коридор.
Хотя время только что перевалило за полдень, но в зале было уже немного сумеречно, — за окнами стоял дождливый бесснежный месяц ноябрь — самое темное время года.
Михкель Коор ясно различал только первые ряды, задние в его глазах сливались во что-то единоликое и многоглазое — насторожившееся и враждебное. Зато в первых рядах он ясно разглядел широкие плечи Йоханнеса Вао и длинное лицо Мейстерсона с внимательно посверкивающими очками в стальной оправе на шмыгающем от вечного насморка красном крохотном носу.
Разглядев их, Михкель Коор уселся поудобнее, некое подобие странной усмешки тронуло его худые обтянутые скулы и, глядя в упор на Вао и Мейстерсона, он кивнул им головой; вроде как бы через все головы кивнул — назло этому переодетому Арнольду Луйку…
Вао, который сейчас не мог бы отдать ясного отчета в своих мыслях, рассеянно слушал разговоры вокруг и смотрел на костяное лицо Коора, обросшее жесткой неопрятной щетиной. Захваченный врасплох приветствием Коора, он тоже кивнул, но кивнул как-то странно, не то муху стряхнул со лба, не то поздоровался, и сразу же искоса посмотрел по сторонам — заметили ли?
Мейстерсон же не кивнул головой, только носом шмыгнул посильнее. Честно говоря, он, как и Вао, не питал к Коору зла и даже не совсем ясно понимал, за что ж того посадили на скамью подсудимых, — ведь не украл же он и никого не ограбил, — только что свой собственный хлеб зарыл… Ведь этак можно его, Мейстерсона, и Вао посадить на эту скамью: как-никак, они относятся к тому десятку средних, что всегда тянулись за такими тузами в Коорди, как Курвесты и Кооры… Но Мейстерсон чутко прислушивался к гомону за своей спиной; голоса, выделявшиеся в нем, как он понимал, явно были настроены против Коора. Громче других слышались рассуждения Тааксалу: «…уж если Коору сегодня отвечать, так он бы мог заодно отчитаться в тех трех мешках ржи, что он мне не заплатил… Но если Коору за все свои долги отвечать, так у него волос не только на голове нехватит, а и на шкуре, хоть она и волчья…»
Пожалуй, разглагольствования Тааксалу точнее всего выражали сейчас общее настроение массы, а так как общее настроение — сила покоряющая и стихийная, то и Мейстерсон не мог не поддаться ему. И поэтому он не принял привета Коора, решив выждать, пока сам ясно не разберется во всем деле.
Кто-то позвонил в колокольчик. Все нестройно поднялись. Из боковых дверей вышли судья и народные заседатели.
Женщину-судью из уездного города знали все в зале. Это была Мария Каск — сама батрачка в прошлом — маленькая, худощавая женщина с серыми глазами; во время Отечественной войны она с винтовкой в руке вместе с бойцами истребительного батальона сражалась против немцев. Ее остроумие вошло в поговорку, многие меткие слова ее передавались из уст в уста по уезду.
Увидев уездного прокурора, моложавого белокурого человека с двумя орденами на груди военной гимнастерки, Пауль одобрительно кивнул головой. Он хорошо знал товарища прокурора, бывшего однополчанина. Трудно будет сегодня Коору вывернуться…
Суд мог начаться.
После соблюдения всех обычных и необходимых формальностей и удаления свидетелей судья негромким голосом принялась читать обвинительное заключение.
В зале стало тихо. Отпихнув кого-то слева локтем, Йоханнес Вао подался вперед и весь превратился в слух. Многого изложенного в длинных и сложно построенных фразах он не понял. То, что он понял, заключалось в следующем: некто Михкель Коор, крестьянин деревни Коорди, — Вао его знал давно и хорошо, — обвинялся в саботаже государственных хлебопоставок. За Коором числился еще долг за госпоставки с прошлого года. И за текущий год он свои обязательства не выполнил, мотивируя тем, что хлеб не уродился. Всего долга у Коора перед государством около трех тонн. В то же время, как выяснилось, в саду, в яме, у него было зарыто более одиннадцати тонн зерна.
Одиннадцать тонн!.. Вао укоризненно покачал головой. Ну что ж, одно можно сказать, — Коор сам себя посадил на эту скамью: из одиннадцати тонн три-то можно было отдать государству… Эх, можно бы было, не подумал зять…
Судья закончила чтение и, обращаясь к Коору, спросила: признает ли он правильность обвинения в злостном невыполнении им повинности перед государством.
Коор, сжимая в руках смятую шляпу и тупо глядя перед собой, каким-то плоским деревянным голосом сказал:
— Виновным ни в чем не признаю.
После краткого совещания суд, по ходатайству прокурора, решил перейти к допросу обвиняемого. Поднялся прокурор.
— Скажите, вот тот хлеб в яме, на что же вы хотели его употребить, для чего хранили?
Коор, подумав, вяло пожал плечами:
— Для собственного потребления…
— Для собственного? Позвольте… Одиннадцать тонн до нового урожая, это выходит по тонне на месяц, значит… тридцать с лишним килограммов хлеба на день? Вас ведь двое?
— Двое… Ну, и скоту…
— Ну хорошо, — три коровы, свиньи… Десять килограммов хватит им в день?
— Конечно, хватит, — сказал чей-то голос в зале, и Михкель сквозь зубы пробормотал:
— Пожалуй, что хватит…
— А остальной хлеб на что же берегли?
Коор молчал.
— Хлеб-то в цене нынче, — тихо, но внятно сказал чей-то гулкий голос в зале, и хотя Коор не смотрел в ту сторону, но голос Тааксалу он узнал бы из тысяч.
— А сколько же вы сдали по госпоставкам? — продолжал прокурор.
Коор затравленно посмотрел на него и пробормотал:
— Не помню, на квитанции сказано.
— Ну, а все же… Килограммов сто, больше?
— Сто восемьдесят…
В зале послышался хохот. И сквозь него прорвался въедливый голос однокоровницы — тетушки Тильде:
— Да я сверх нормы больше сдала!
И хохот усилился. Не удержался даже Йоханнес Вао, осклабился и покачал головой: ох, уж в очень грязную лужу на глазах у всех садился зять. Позор, позор!..
Судья предостерегающе подняла руку, смех смолк.
— Еще один вопрос, — сухо сказал прокурор. — А вот гражданка Роози Рист, кем она вам приходится?
— Соседка, — подумав, ответил Коор. — У нее свое хозяйство.
— Вы что же, из добрососедских соображений постарались выделить ей из своих земель часть, что похуже, и семена обещали одолжить?
— Ну… как сказать… работала у меня когда-то раньше.
— Когда-то? А может быть, продолжала работать до последнего времени?
— Нет, — отрывисто сказал Коор.
Шея Йоханнеса Вао медленно наливалась кровью. Хотя сейчас всем, занятым поединком между прокурором и Коором, не было дела до Вао, ему все же казалось, что дело зацепило и его. Да и как не зацепило, — ведь принимал же он усердное участие в образовании нового шаткого хозяйства Роози. Может ли сказать Йоханнес Вао, что он совсем не догадывался о намерениях Коора? Эх, зять, зять!.. Подобно злому коню с оскаленной мордой, летел он над краем опасного обрыва, а он, Вао, как мешок, как благодушный баран, которого, связанного по ногам, везут на базар, мотался за ним в телеге, не видя и не чувствуя, что летит над краем гибели. Вао сцепил руки на коленях и перестал смотреть на Коора. Он уже испытывал злобу против Михкеля, словно бы тот обманул его в каких-то ожиданиях. В каких? На этот вопрос не так легко было ответить.
Защитник, небольшой седенький человек, подумав, протер носовым платком очки и также задал вопрос:
— Скажите, из каких побуждений вы отдали гражданке Рист корову?
— Желая помочь… Все же вроде как свой человек…
В зале опять вспыхнул было говор, но смолк под взглядом судьи.
— Вы еще чем-нибудь помогли? — поинтересовался защитник.
— Лошадью моей пользовалась часто.
— Роози на этой лошади урожай со своих полей в кооровский сарай свозила, — ехидно сказал чей-то голос за спиной Мейстерсона. И Мейстерсон подумал, что плохую услугу защитник оказывает обвиняемому, ставя ему такие вопросы здесь, где Коора могут заподозрить в каких угодно чувствах, но только не в сочувствии к батрачке Роози.
Судья вызвала свидетелей. Первым вошел Пауль Рунге. В глазах прокурора загорелись веселые искорки, когда он оглядел Пауля Рунге, словно какие-то старые, очень дружеские воспоминания при виде этого крепкотелого, с невозмутимым лицом, человека вспыхнули в нем.
Пауль Рунге был краток и лаконичен, как всегда. Что можно сказать о Кооре? Был кулаком и остался кулаком. Из десяти хозяйств, входящих в ведение сельского уполномоченного Рунге, нет ни одного должника по госпоставкам, кроме Коора. Из-за него план госпоставок по деревне не выполнен. Из-за него на смарку пошли старания других крестьян, поспешивших доставить первое обмолоченное зерно государству. Восемь раз он, Пауль Рунге, приходил уговаривать Коора. Сначала тот упорно не хотел обмолачивать. Наконец, обмолотив, наотрез отказался выполнить поставки полностью, сославшись на плохой урожай. Но урожай этот, стараниями его батрачки, Роози Рист, оказался совсем не плохой. Он, Рунге, сам помогал разрывать яму. В ней было одиннадцать тонн зерна. Вот и все, — картина ясная…
Мейстерсон потупился и крякнул. Да, конечно, картина ясная: волчья игра впотьмах, исподтишка, не считаясь ни с честью соседей, ни с интересами деревни. Мейстерсон вспомнил солнечный августовский день, когда он сам, ворча, нагрузил воз с обмолоченным зерном. Пора была рабочая, и надо было возить навоз в поле, но люди из Коорди, жертвуя дорогим временем, повезли первую долю урожая государству, и он, Мейстерсон, тоже поехал, раз уж поехали все из Коорди, — он хотел быть вместе с ними.
Роози Рист неловко переступила порог и медленно пробралась меж тесных рядов. По горящим щекам ее видно было, как она волновалась.
Словно в тумане видела лица судьи и заседателей; тревожное чувство все подмывало ее взглянуть в сторону, и, неловко дернув шеей, она посмотрела на Коора. Он в упор глядел на нее. Щеки его и подбородок, поросшие щетиной, в неярком освещении комнаты как-то скрадывались, пропадали в тени, как и впалые глаза в глубоких орбитах, и только скулы и костяной лоб, блестящий от пота, приковывали к себе внимание своей восковой желтизной. Поймав взгляд Роози, Коор вдруг не то усмехнулся, не то сделал гримасу, ощерив плотные лошадиные зубы, и Роози поспешно отвернулась, крепко схватившись пальцами за край стола, чтобы они не задрожали…
— Расскажите, что вы знаете по этому делу? — просто пригласила судья.
Роози увидела близко внимательные, спокойные и немного усталые глаза женщины, устремленные на нее.
— Я, я ничего не знаю… — подавленно сказала Роози, ощущая на лбу холодную испарину, и вдруг с ужасом усомнилась — сумеет ли она, Роози, осилить страх перед страшными, пустыми глазами Коора, стоящего вот тут, в четырех-пяти шагах?
— Ну, что-нибудь да знаете, — вдруг очень по-домашнему и по-женски ласково улыбнулась судья Мария Каск. — Вы у него работали, живете на его хуторе, он вам помог обзавестись новым хозяйством, как же вы не знаете?
— Кто помог, он? — раскрыла глаза и ахнула Роози. Она прижала руки к груди и побледнела. — Коор помог? Он мне так помог, что я чуть в петлю не полезла…
Молчание за спиной Роози разразилось сочувственным к ней шумом.
И с этого момента Роози понесло как на крыльях. Все здесь сидящие подробно услышали печальную повесть о несбывшихся благодаря Коору надеждах Роози на независимую и хорошую жизнь, о злополучной истории с коровой, об отнятой у Роози вике, о непомерных поборах за квартиру, за хлеб, за семена…
Она говорила пять минут, десять, четверть часа, словно впервые в жизни разговорившись, и ее не прерывали ни судья, ни народ в зале, потому что о чем бы она ни говорила — о полоске ли овса, впервые засеянной для себя на земле Коора, о пшенице Коора, сжатой ею, о коровах его и лошадях, за которыми продолжала ухаживать, о каком-то ячмене, недоданном ей Коором пять лет назад, — во всем этом был глубокий смысл и все относилось к делу. И чем больше она говорила, тем яснее становилось всем в зале, что по-настоящему-то большая часть из этой колоссальной груды зерна, зарытой в яме, принадлежит вовсе не Коору, а Роози, ибо ее руками выращено, убрано, обмолочено. И хотя Роози вовсе не говорила этого, но такой вывод ясно вытекал из ее слов, и оспорить это не решился бы, пожалуй, никто в зале — ни Йоханнес Вао, ни Мейстерсон, и никто другой из людей Коорди.
Кто-то по-медвежьи шевельнулся рядом с Мейстерсоном и, сопнув, осторожно полез к выходу, Йоханнес Вао не вытерпел, чего-то ему стало невтерпеж и пакостно, во рту было горько, словно самого судили. Вышел в соседнюю, очень накуренную комнату и жадно закурил.
— У вас все? — спросила судья, когда Роози кончила.
— Да, — сказала Роози.
— А скажите, как вы узнали, где у вашего хозяина хлеб зарыт? — задала вопрос судья.
— Я сама яму рыла… — после долгого молчания ответила Роози.
— Так, — сказала судья Мария Каск, — что же вас побудило помочь ему?
— Он… приказал… — пробормотала Роози и с тоской замолчала.
— А вы… — голос судьи вдруг зазвенел металлом. — А вы подумали, что Коор вам за покорность скидку сделает из долга — корову не отберет и картошку оставит? Неправда ли? Умилостивить понадеялись?
Роози увидела, какие громадные стали у этой маленькой женщины глаза, какая боль — давняя, полузабытая боль бывшей батрачки — появилась в них, и, пораженная прозорливостью судьи, сказала, опустив голову:
— Да, это правда.
— Ну и что же, этот Коор приказал вам молчать? Пригрозил?
— Да… — кивнула головой Роози. — Сказал, что убьет…
В зале наступила тишина. В ней ясно послышался скрип скамьи под Коором. Выпрямившись и выкинув в сторону Роози руку, в которой держал шляпу, смятую в ком, он, задыхаясь, крикнул на весь зал, словно простонал:
— И надо было… Надо было!
— Сядьте, — коротко приказала ему судья.
Посмотрев на ее жестко сжавшийся рот, Роози подумала вдруг, что все то, что говорят о героическом прошлом этой женщины, о ее подвигах во время войны, наверное — правда от первого до последнего слова.
Но Коор не сел. Также задыхаясь, он возбужденно и не помня себя закричал:
— Судите? За что судите — за мое… За мой хлеб!.. Тогда судите всех их… Вот его судите, за то, что у него хлеба больше, чем у этой Роози!
Коор ожесточенно ткнул рукой в первый ряд, собираясь назвать имя Йоханнеса Вао, и вдруг, пораженный, смолк, — Йоханнеса Вао не было на первой скамье. Глаза Коора встретили холодный, отрезвляющий блеск очков Мейстерсона. Коор под угрожающее ворчание присутствующих сел и отер рукавом пот со лба.
— Кого — их судить? — спросила судья, ставшая опять очень спокойной. — Их не за что судить. Сегодня они судят вас.
Прокурор обратился к Роози с вопросом:
— Скажите, а угроза была реальная, то есть я хочу сказать, можно было ожидать ее исполнения?
И вот тогда-то Роози рассказала об августовской ночи, о неизвестном в саду, о неясных подозрениях своих…
В зале опять было очень тихо, и словно сместилось что-то в четком, размеренном ходе дела в спокойных стенах этого зала, где задавались вопросы и получались ответы, и беседа, на первый взгляд, шла так мирно, и Коор сидел, казалось бы, такой укрощенный на своей скамье… Многим в судебном зале вдруг показалось, что своим рассказом Роози Рист внезапно вынесла жизнь в поле, где сталкивались враждебные силы и бушевало пожарище, и темной осенней ночью Семидор, Маасалу и Тааксалу летели на помощь Рунге, и все люди из Коорди примыкали к ним…
После недолгого перерыва, когда зажгли лампы и народ, густо накурив в коридорах и соседних комнатах, снова повалил в зал, суд продолжался.
Йоханнес Вао не вошел в зал. Но и уйти он не мог; остался в соседней комнате за дверью, курил, садился на скамью и снова поднимался с места и мычал что-то себе под нос.
Подходя к дверям, он слышал за ними отрывки из речи прокурора, составившего из всего сказанного и выслушанного сегодня очень четкую и логическую картину. Да, впрочем, многое стало сегодня ясно Вао и без слов прокурора.
…Ловкий и коварный кулак, наживший добро за счет широкого использования батрацкого труда. По отношению к советскому государству — враг… активный враг. Методом борьбы против советской власти избрал саботаж, запугивание бедноты… Был связан, повидимому, с бандитскими элементами…
— В руках Коора золотое зерно превращается в пороховую начинку для бандитских патронов… — расслышал Вао фразу прокурора. Прокурор требовал применения суровой кары к Коору.
И он, Вао, опустив голову, не нашел ничего возразить…
— Волк, — сумрачно проворчал он вслух.
Это был самый ненавистный хищный зверь для мирных землевладельцев-животноводов из Коорди.
Вао, согнув плечи, вышел в темноту, отыскал свою лошадь, разобрал вожжи и тихо поехал к дому.
Он был потрясен.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Только с первым снегом сложил Пауль строительный инструмент в своем новом сарае. Теперь бы наконец перевести дух и вытянуть ноги под столом в жарко натопленной комнате…
Сделано не так уж мало, даже фундамент под новый дом заложен. Хотя хлеб частью и сгорел, но оставшегося хватит до будущего урожая; а картофеля — с избытком. В изобилии засолены огурцы и капуста, из сладкой белой свеклы наварен громадный кувшин медового сиропа; моркови и брюквы — вдоволь и себе и скоту. В хлеву стоит другая корова вместо пропавшей на пожарище, два поросенка и овца. Несколько белых кур с петухом на шесте вносят в хлев некоторый уют. А ведь все это достигнуто за один год!
Так подбрось же, Айно, в плиту вязанку можжевельника, горящего с веселым треском. Что там варится в котле? Ого, суп, и даже с клецками; смотри-ка, у нас даже мясо появилось! Подбрось в огонь, и будем ждать нового года. Год назад так хотелось добраться до спокойной ленивой минуты досуга в своем доме, в тепле, казалось — приди она и — остановись жизнь…
Пришла эта минута, а вот на сердце все неспокойно… Пауль озабоченно хмурится и, глубоко задумавшись, всматривается в горящие уголья; изредка шевелит губами, словно беседуя с кем-то отсутствующим, и снова хмурится, недовольный собой, и томится.
Айно тайком безжалостно усмехается. Она знает, в чем дело. Его страдания на сей раз не трогают ее, они не предвещают какого-либо убытка или худа их дому. Пожалуй, даже наоборот, — связаны с честью, оказанной Паулю деревней Коорди. Дело в том, что Паулю надо сказать речь. Добро бы обыкновенную речь о необходимости своевременно закончить лесозаготовки или о каком-нибудь текущем событии, — с этим Пауль хоть и с трудом, но как-нибудь справился бы, — а тут речь не совсем обыкновенная. Она должна быть сказана перед народом о великом сельском плотнике Йоханнесе Уусталу, намеченном людьми Коорди в верховный орган республики, — речь не простая.
— Ну, а как бы ты сказала, если бы надо было? — откашлявшись, не без смущения спрашивает Пауль жену.
— Я бы совсем не сказала, — снисходительно отвечает Айно.
— Хм… А может, не надо его и выбирать? — говорит Пауль с хитринкой, покосившись на Айно.
— Как не надо? — удивляется Айно. — А кого же тогда? Кто тебе первым помог, и сколько он домов выстроил людям — вот об этом и скажи…
— Следовало бы… — соглашается Пауль.
Куда бы он теперь ни пошел, — на почту ли, в кооператив, в народный дом или на железнодорожную станцию, — всюду на него с избирательных плакатов смотрело лицо Йоханнеса Уусталу с сосредоточенно поджатым ртом; левый глаз, чуть прикрытый нависшим веком, щурился. С таким же знакомым внимательным прищуром старик осматривал деревянную планку в своих руках, прежде чем придавал ей законченную форму. И на дверях волисполкома был наклеен плакат и, благодаря одному обстоятельству, говорил без слов старожилам Коорди о событиях, ставших историей. На широком крыльце волисполкома уцелела грубая, темная от времени, на вечность сколоченная скамья, на которой отец Йоханнеса Уусталу, Юри, был выпорот солдатами-карателями. То было сорок с лишним лет назад, когда Юри с крестьянами выжег баронскую мызу. Пойманный, он на крыльце волостного присутствия принял на свою спину месть барона фон Унгерна; Йоханнес, сын, стоял тогда в глухо роптавшей толпе.
«О скамье сказать…» — твердил себе Пауль каждый раз теперь, входя на крыльцо, где отмечались важнейшие вехи в жизни великого сельского плотника. Размышления над удивительными поворотами в судьбе народного кандидата будили в душе Пауля мысли о нем самом, о жизни в Коорди. Перед глазами вставали Роози и Семидор — также незаурядные в Коорди судьбы — удивительные взлетом, победой над прошлым, над самими собою. Вспомнились Маасалу и Тааксалу; с любопытством глянул со стороны на собственные потуги. Все это нельзя было оторвать от судьбы Уусталу. Да и сколько их еще возвышалось, незаметных ранее, судеб в Коорди! Это было собирание сил, схожее с движением тысяч весенних ручьев, устремляющихся к единому руслу. Об этом хотелось сказать в речи, но чувствовал — нехватает умения сказать.
Муули, видя его мучения, по-приятельски посоветовал не волноваться — посмотреть в газетах, как выступают другие доверенные лица, написать примерный конспект — положить перед собой. Со своей стороны дал несколько мыслей. Но и совет не внес в дело окончательной ясности. В газетных строках говорилось очень складно, — Пауль с сокрушением чувствовал, что так складно не сказать, — но там было чересчур много красивых и торжественных слов, которых никогда не употребляли в своей простой и деловитой жизни ни сельский плотник Йоханнес Уусталу, ни сам Пауль Рунге. И все время, когда он думал над предстоящей речью, в голову лезли вещи обыденные и простые: вот они с Семидором роют колодец; Уусталу, прищурившись, шаркает рубанком; люди из Коорди, стоя цепью, спасают горящий хлеб; он, Пауль, вместе с Роози едет в волость сокрушать Коора… Вот об этом хотелось бы сказать.
Хотя Пауль постоянно помнил о приближающемся дне встречи кандидата с избирателями, день наступил все же как-то очень неожиданно. Пауль заметался с утра и расстроился по причинам, в сущности, пустым и мелочным: уборщица с вечера не вымыла полы, позабыли достать лишний десяток скамей, неожиданно оказалось, что стекла керосиновых ламп разбиты и не годятся, а в местном кооперативе их не было. Пришлось человека специально посылать в город. И печки в углах большого холодного зала народного дома плохо разогрелись из-за сырых дров.
— Вы бы раньше сказали, я бы из дому захватил сухих, — вежливо, но ядовито, сделал он замечание заведующей народным домом, пожилой женщине, развешивающей по стенкам гирлянды из хвои.
— А вы бы лучше на вашего Вао воздействовали, — огрызнулась заведующая. — Пять возов должен доставить для нас, а все не везет.
Пауль молча проглотил упрек. В самом деле, он давненько не интересовался, как Вао выполняет лесозаготовки. Вот оно, как малое за большое цепляется…
Но к вечеру все наладилось. Ровным светом горели две большие лампы, печи полыхали жаром, и длинные скамьи удалось занять где-то по соседству. Стол накрыли кумачом, и пышные букеты из сосновой хвои придали ему праздничный вид.
Съезжались… Степенно входили, останавливаясь в дверях; озираясь, высматривали знакомых. Через зал летели приветствия:
— О, чорт, Виллу, здорово, старина!
— А… и ваша семья здесь, то-то я смотрю — знакомый конь у ворот привязан. Друг у друга спрашивали:
— Ну, а где Йоханнес-мастер сам?
И теснились поближе к дверям, чтоб встретить Йоханнеса-мастера.
Наконец оживленно задвигались, зашумели. Пришел Йоханнес. Старик вошел, как всегда усмешливый, очень домашний, кивая туда и сюда седой остриженной головой. Он не скоро добрался до стола, затянутого кумачом. Надо было с каждым поздороваться и немножко поговорить, ведь не всякий день люди сходятся в Коорди. Пауля он спросил о жене. Укоризненно покачал головой на объяснения его, что не на кого дом оставить…
Только уже сидя за столом, слева от удобно примостившегося Уусталу, и видя поднимающегося с места председателя, Пауль наконец попытался вспомнить первую фразу речи, составленной с таким трудом. Но было уже поздно: расслышав свое имя, он встал. Не в силах увидеть сразу все лица, — глаза в глаза, — тревожно заметался взглядом по рядам, ища, на ком бы остановить его, чтоб сосредоточиться, вспомнить…
Нашел. На одной из задних скамей рядом с Кристьяном Тааксалу сидела Роози в новом цветистом платке. Лицо ее, устремленное на него, выражало непоколебимую веру в силы Пауля; она, кажется, не допускала и мысли, что он может в чем-то запутаться, сробеть.
— Сегодня здесь собрались мужчины и женщины со всего округа, из Коорди, Нурме и Мадисте, и мало среди них найдется людей, которые не знали бы Йоханнеса Уусталу… — дружелюбно и негромко сказал он в зал, крепко оперся руками о стол и подался вперед, словно приглашая всех к беседе по душам. — Он построил много домов в этих краях… И сельская школа в Коорди тоже им построена. Я думаю, не найдется в этом зале людей, которые бы осмелились сказать, что эти дома плохо выстроены… Когда-то, помню, он меня учил сруб ставить и вот однажды за ошибку в один дюйм заставил пять венцов переложить… В тот день мы оба ничего не заработали, но он тогда мне сказал: «Ошибившись в работе — ошибешься в жизни, парень». — И я ему за это благодарен, хотя тогда обивался и втихомолку чорта ему сулил…»
В зале раздались сочувственные смешки. Уусталу, усмехнувшись, одобрительно кивнул головой.
— Он строг в работе и строг в жизни, — продолжал Пауль. — Многим здесь присутствующим случалось от него и резкое слово услышать, но за правду мы не в обиде. Ну… а в добром совете он тоже никому не отказывал. Одним словом, что говорить, вы знаете Йоханнеса Уусталу… Он не ломал шляпы перед лавочниками и серыми баронами. Он видел, как в девятьсот пятом на волостном крыльце пороли его отца… Он немцам при оккупации не пошел бараки строить, хотя его грозились арестовать. А кто первый этой осенью из волости Мадисте от своего урожая в государственные закрома отсыпал? Уусталу…
И если вы меня спросите как мужчины мужчину, — сказал Пауль внушительно и веско, — спросите, почему я буду голосовать за Уусталу, я вам отвечу коротко: за то, что он всегда был с трудящимся народом и готов послужить ему и дальше…
Сзади, со скамей, где сидели Роози с Кристьяном, захлопали, подхватили в разных концах зала… Это было неожиданно и чуть не сбило его.
— Время строительное… — продолжал Пауль. — Во всех волостях республики мы строим советскую жизнь. Вот почему без Уусталу-строителя при нашем советском правительстве не обойтись…
Пауль секунду подумал — кажется, главное сказал? — и пока гремели аплодисменты, сел. Не глядя в зал, чувствуя, как горят скулы, он вздохнул, как вздыхает с облегчением человек, победоносно справившийся с трудным делом.
Уусталу встал с места, чтоб рассказать о своей жизни, чего он мог бы и не делать, — все в этих краях знали ее не хуже его самого.
Не слушая, Пауль смотрел в зал, где он теперь ясно различал каждое лицо среди плотных рядов, и жалел только об одном — о том, что здесь не было Айно и что она не слышала его. Но ведь надо же было кому-то остаться дома — присмотреть за Журавлиным хутором…
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
В служебном кабинете Муули, выходящем окнами в тощий волисполкомовский палисадник, припорошенный снегом, состоялось собрание партийной организации волости. Вместе с Муули собралось пятнадцать человек; все свободно уместились на потертом диване, в разномастных креслах, — наследство прежнего волостного присутствия, — и в комнате еще бы хватило места десятку человек.
Хотя их и было немного, но то были люди заметные — те, без которых серьезные дела в волости не решались: несколько сельских уполномоченных — пожилые уже люди; сельский кузнец Петер, небольшого роста узкоплечий человек, по внешности совсем не похожий на кузнеца; агент-заготовитель, гладко выбритый мужчина с разноцветными, тщательно отточенными карандашами в кармашке аккуратного пиджака. Тут сидели председатель сельского совета — коренастый, с крутым упрямым лбом молодой Уусман, чей отец был убит немцами во время оккупации, и заведующий сельскохозяйственным отделом волости Артур Кохала, в своем сером костюме и в очках на худом строгом лице, похожий на сельского учителя. Среди них находилась единственная женщина Сельма Кару, заведующая народным домом; она нервно поправляла платок на голове и озабоченно обводила всех яркосиними глазами, прекрасными на преждевременно увядшем лице.
Пришел на собрание и Каарел Маасалу, недавно принятый кандидатом в члены партии.
Присутствовали еще председатель Янсон и, конечно, сам Муули.
Вел собрание молодой Уусман. Янсон рассказал о подготовке волости к весенне-полевым работам тысяча девятьсот сорок седьмого года.
Слушали тихо и вдумчиво, — не потому, что доклад был для них нов, — положение в волости они, ближе всех стоявшие к ее нуждам, и заботам, отлично знали и сами, — старались предугадать, в какое русло выльются прения, кого заденут.
Агент-заготовитель Моосе был спокойнее всех, сидел, небрежно поигрывая карандашом; он не ожидал резких прений по докладу. По его мнению, к этому не было оснований: у волости долгов перед государством за истекший год нет. Это давало повод думать, что и будущий год округлится четко и без затруднений. Сам он не собирался выступить с критикой докладчика; в конце концов, такие вопросы, как ремонт машин и обеспечение волости удобрениями, его прямо не затрагивали.
Менее миролюбиво были настроены сельские уполномоченные. Лысоватый маленький Кадакас из деревни Тоола, скривив губы, тянулся к красному уху массивного, прямо сидевшего Хуго Мурда — шептал что-то. Мурд, протирая очки платком табачного цвета, кивал головой, соглашаясь. Сельским уполномоченным казалось, что их председатель немного прохлопал насчет минеральных удобрений: вон соседняя волость на двадцать тонн больше получила азотистых…
И сельский кузнец Петер готовил Янсону какую-то пилюлю. Это было видно по напускному, преувеличенному равнодушию, с которым он глядел на докладчика, спрятав острый взгляд свой за красными припухшими веками. Когда Янсон упомянул в докладе о трех новых кузницах, открытых в волости, Петер сцепил громадные, как клешни, руки на коленях, — руки эти никак не вязались с узкими плечами Петера, казались чужими, — и ядовито усмехнулся.
Не совсем спокоен был и заведующий сельскохозяйственным отделом волости Кохала. Янсон в докладе сказал, что теперь в волости завершена земельная реформа, всем крестьянам выданы на руки акты на бессрочное пользование землей. Кохала знал, что в основном это правда, но все же есть еще кое-какие спорные поля и луга, и это, отчасти, из-за нерасторопности сельскохозяйственного отдела — значит его, Кохала. Если покопаться, можно найти упущения и в другом: они запаздывают с выяснением семенного фонда у крестьян… Кохала искоса посматривал на Муули, который, поднеся ладонь щитком к глазам, делал пометки в блокноте. Артур Кохала не сомневался, что Муули с педантичной точностью отмечает все, готовясь к прениям.
И Сельма Кару не упускала ни одного слова из доклада Янсона, одинаково внимательно слушала все, о чем бы председатель ни говорил, — об удобрениях, агротехнических сроках, о тракторах и ремонте борон и плугов. Янсон называл большие цифры: в сотнях тонн исчислял удобрения и семена, что будут высеяны на поля Коорди. Все это выглядело грандиозно по сравнению с тем небогатым хозяйством, которым она управляла с недавних пор: небольшой холодный зал народного дома, временно приспособленный из старого каменного амбара; книг маловато, плакатов и того меньше. Даже стульев нет; драмкружок гримируется в небольшой, ветром продуваемой комнате рядом со сценой, сидя на ломаных табуретах и чурбанах. И сейчас Сельма Кару думала, как умножить эти малые силы, чтоб помочь грядущему севу.
Янсон окончил доклад, и молодой Уусман пригласил к прениям.
Первым взял слово кузнец Петер. Голос у него оказался неожиданно звучный; говорил он как-то вопросами, за которыми, впрочем, ясно ощущалось, что хотел сказать кузнец.
— Уверен ли товарищ Янсон, что в кузницах, которые он назвал, горят угли в горнах, как подобает в настоящих кузницах, и работы идут бесперебойно? Уверен ли он, что у кузнецов есть все необходимое для работы — уголь и железо — и они все только и делают, что подковывают лошадей, чинят плуги и телеги? Помог ли Янсон достать для кузницы Петера уголь? Подковы?
Сельский уполномоченный Мурд, укоризненно сверкая стеклами очков, довольно искренне усомнился в том, все ли сделал волисполком, чтоб обеспечить волость к весне удобрениями? Янсон напрасно радуется цифрам. Если разобраться в них, то обнаружится, что не все обстоит хорошо: почему-то привезли только суперфосфат, а вот в соседней волости Мадисте сумели получить и каинит, и костяную муку, и селитру. В сельские кооперативы завезли только плуги, а нет сеялок и культиваторов, в городе же они есть; волисполкому надо бы поинтересоваться, затребовать нужное.
Выступил Каарел Маасалу. Суть своей немногословной реплики он свел к тому, что успех подготовки к посеву не может решить ни Петер, как бы хорошо кузница у него ни работала, ни Янсон, если бы он даже идеально справлялся с работой. Хорошо справиться с весенним посевом тысяча девятьсот сорок седьмого года — это значит вспахать все залежи и резервные земли, что возможно только когда все крестьяне Коорди сообща возьмутся за это дело.
Тут Муули, который все молчал, откашлялся и отнял руку от глаз.
«Ну, держись», — с опаской оглянулся на него Кохала.
Но Муули не был ни зол, как изредка, ни резок, как иногда, — скорее по обычному задумчив и сдержан.
Он, Муули, свое выступление хотел бы начать с того, чем товарищ Маасалу закончил. Надо поднимать народ Коорди на главное. Последние события в Коорди свидетельствуют об обострившейся классовой борьбе. Беднота становится активнее, и, говоря о планах на весну, надо говорить о правильном проведении классовой линии в волости. Вот Рунге вывел на чистую воду кулака Коора. А Янсон когда-то считал, что надо помочь Коору удобрениями, — мол, Коор большую нагрузку по госпоставкам несет, не правда ли? Разве это не учит нас, партийцев? Янсон, поди, искренне за выполнение плана болел. Однако план по Коорди выполнили только тогда, когда помогла беднота, разоблачившая Коора. И с организацией машинного товарищества мы в спешке, откровенно говоря, просчитались. Ведь что получилось? Доходное место предоставили Кянду. Этого Кянда, по существу, кулаком надо признать. Чем объяснить ошибки хотя бы товарища Янсона? Только спешкой, деляческим подходом к жизни…
Муули помолчал и убежденно закончил:
— Мы с вами больше чем кто-нибудь отвечаем за будущее Коорди, за воспитание его лучших людей… А люди эти видны уже, идут к нам…
После такого вступления Муули перешел к критике деталей доклада Янсона.
Муули из мансарды переселился в небольшой домик недалеко от волисполкома. В саду он посадил саженцы вишен и яблонь. Многие заключили из этого, что он намерен прочно связать свою судьбу с Коорди и обосноваться надолго. Когда человек сажает сад, который даст плоды только через многие годы, значит он смотрит далеко вперед, в будущее, его нельзя назвать хозяином одного дня, он хочет работать всерьез. Многим это пришлось по душе.
Некоторые упорно искали его дружбы. Муули замечал это по настойчивым приглашениям на свадьбы и деревенские праздники, где внимательно следили, чтоб его стакан не пустовал. Он отказывался от приглашений, в довольно деликатной, впрочем, форме. В то же время и гордым его нельзя было назвать. Случалось ему бывать на самых захудалых хуторах, а в одно из воскресений он скосил луг вдове Консинг. Недоброжелатели его — были и такие — объясняли все это стремлением Муули завоевать популярность у народа.
А между тем обнаружилась явная разборчивость Муули в знакомствах. Какая-то своя линия поведения, несмотря на его кажущуюся простоватость, изрядную деликатность и открытое расположение к людям в этом краю. Со стороны обойденных расположением Муули иногда делались попытки сломать ледок. Когда жена его, маленькая, бледная женщина, ведя девочку за руку, с плетеной корзиной приходила на хутора, дородные хозяйки покушались положить туда мешочек белой муки, кувшин с медом или баранью ногу. Но жена Муули с испугом махала руками и, после сложного раздумья, брала только то, за что могла расплатиться из тощего, повытершегося на ребрах ридикюля.
Видно было, что человек явно желал сохранить безусловную независимость. И это даже в узком кругу волисполкомовских служащих, их жен и мужей. Когда волостной агент-заготовитель Урвик, предшественник Моосе, пожелал уступить Муули почти новый диван за полцены, тот похвалил обивку и пружины, даже попробовал полежать на нем, но… не взял, а купил хуже и дороже в магазине. Когда через несколько месяцев Урвика судили за злоупотребления, многие вспомнили об этом и многозначительно покачали головами.
Когда ты живешь на глазах целой волости, то, естественно, каждый твой поступок становится предметом обсуждения. По отношению к Муули решили, что скромность его неспроста и что он «готовится»… Такое словечко пустил кто-то в волости. К чему именно готовится — было неясно, в слове этом могло скрываться многое. Но к чему-то Муули готовился, это было ясно, и уверен был в прочности своих позиций в Коорди, иначе зачем бы он стал высаживать фруктовый сад? Зачем бы он стал с таким интересом и терпением вникать и вмешиваться в десятки домашних дел Коорди, начиная с подготовки ее к весенне-посевной кампании и кончая медными трубами, которые он изыскивал для духового оркестра народного дома?
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Снова разлились весенние воды, иссиня-вороной скворец внимательно исследовал старый скворешник, приколоченный к древней сосне на хуторе Вао, и поселился в нем. Апрельский прозрачный свет рассеял мрак под навесом. Даже из окна горницы рядом с кухней можно было теперь разглядеть орудия, сложенные там осенью: плуг, бороны, телегу…
Теперь бы Йоханнесу встать, выйти под навес — посмотреть, не сильно ли заржавело железо, помастерить в сарае у верстака, приладить новые деревянные рукоятки к плугу. Но Йоханнес равнодушно сидит на обычном своем месте перед окном, под мутным зимним зеркалом; из-за зеркала торчит какое-то бумажное охвостье, виден корешок календаря ежегодника, изданного в двадцатых годах в городе Тарту.
Йоханнес курит, читает газеты, упорно не обращая внимания на апрельский свет за окном, на скворца, хлопотливо обновляющего гнездо.
Громыхание на кухне смолкает; Лийна, опершись могучими руками в бока, смотрит на Йоханнеса, наконец не выдерживает и говорит:
— Лед на речке уж двинулся, наверное… Ты бы с острогой к речке прошелся, а то сидишь…
Лийна знает, чем взять Йоханнеса, но Йоханнес, хоть и страстный рыболов и охотник в душе, сейчас только равнодушно поводит плечом на предложение жены.
Затем Лийна вспоминает, что ведь телега скрипела осенью, когда ставили под навес; скрип, наверное, не прошел за зиму — посмотреть бы…
Йоханнес не обращает внимания.
Солнце в полдень бьет прямо в узкое окно, некуда от него деваться, — Йоханнес щурится — все в глазах становится ярким: даже буквы в газете словно выскакивают из строчек, роем весенних мушек мельтешат перед Йоханнесом. И этот дерзкий беспокойный скворец шныряет безустали между гнездом и садом…
Стул под Йоханнесом начинает скрипеть; Йоханнес время от времени ерзает на нем, — то на один бок, то на другой, — задумчиво смотрит под стол, еще ниже склонившись, старается заглянуть в другой конец комнаты, под кровать.
— Ну куда ты мои сапоги засунула? — рокочет его густой низкий голос.
Лийна подает сапоги Йоханнеса, густо смазанные свиным салом.
Проходит несколько дней, Йоханнес приносит из речки щучку, подбитую острогой. Его можно уже видеть постукивающим под навесом. Хотя в каждом движении его так и сквозит чувство некоего упорного равнодушия к тому, что он делает, но он все же постукивает.
Лийна не верит равнодушию Йоханнеса. Ей кажется, что это одно притворство, очередная причуда его уязвленной гордости. Ей даже сдается, что никогда еще мысли хозяина хутора не работали так упорно, с таким напряжением и заинтересованностью в окружающем, как сейчас. Никогда он так упорно не рылся в газетах, не был так задумчив. Вот и ночью впотьмах выколачивает и набивает свою трубочку, о чем-то думает все…
Йоханнес был раздражен. Жизнь Коорди казалась ему всегда неизменной, простой и понятной, чем-то вроде двора собственного хутора, где исстари дедами было распределено расположение всех нужных в жизни построек: Жизнь эту Йоханнес проходил с достоинством и уверенностью деревенского патриарха, знающего Коорди и ее людей, — словно шел по двору собственного хутора.
Теперь жизнь поворачивалась другими углами, непривычно ломалась. То, что было силой, теряло почву, вырывалось, ветшало. В то же время семена, брошенные, казалось бы, в неплодородную почву у Журавлиного хутора, дали ростки, шли в стебель… Неожиданно, подобно гнилому зубу, из гнезда был вырван зять — Михкель Коор… Ему ли, казалось, не держаться крепко в Коорди, связанному с деревней множеством и деловых и родственных связей. Много ли находилось в Коорди людей, кто бы мог сказать, что Коору они ничего не должны, хотя бы три-четыре дня отработки за пользование жаткой или сеялкой?.. Таких было мало.
Изворотливость, хитрость и волчья хватка, вознесшие когда-то Коора, теперь, в столкновении со смирной Роози, оказались совсем как будто и не силой. В то же время другой зять шел в гору, становился деятелем в волости, за короткое время обрел весомость человека, нужного всем. Былой вес и популярность самого Вао явно-потускнели и пострадали в Коорди с выдвижением этого непрошенного зятя. Йоханнес не мог не признаться себе в этом. Уж очень недвусмысленно последнее время крестьяне в его присутствии начали поругивать порядки машинного товарищества, намекая, очевидно, на его, Вао, бездеятельность.
«Что ж, — размышлял Йоханнес, — этого парня с Журавлиного хутора понесло в русле, а Коора, как щепку, затерло в сторону, к берегу, да и закрутило в воронку, вниз…»
Но как быть ему, Йоханнесу? — Вот в чем был вопрос.
С некоторых пор у Вао появилась привычка в разговоре раздраженно отмахиваться рукой и говорить:
— Э, мне-то какое дело!
Как ни пытался Йоханнес отделаться от беспокойства, это плохо удавалось ему. Он мог дома отмахнуться от Лийны, мог, коротая вечерний досуг с соседом, сказать пренебрежительное: «Э, какое мое дело…», но от всей Коорди было трудно отмахнуться, как бы он ни хотел этого. Слишком он врос в Коорди; деревню нельзя было представить себе без хутора Вао, как нельзя было хутор вообразить без древней могучей кряжистой сосны, росшей на его дворе.
Первым свой собственный хутор в Коорди все же построил Давет Вао, превратившийся в окрестностях в какую-то легендарную личность. Это ему первому удалось откупиться от барона и выкорчевать поле под рожь. Это он, говорят, мог поднять на спину годовалого быка; пахал на сохе, сделанной из корневища; это он сделал телегу, в которой не было ни одного железного гвоздя, ни одной железной частички. С тех пор четыре поколения Вао прожили в Коорди, цепко держались за ее землю. Цепкость и устойчивость Вао будили уважение односельчан; с давних пор возникла уверенность в прочности судьбы Вао.
Очень может быть, что желание внести устойчивость в новое машинное товарищество заставило крестьян Коорди в свое время доверить контроль над ним именно Йоханнесу Вао.
Желаемой устойчивости в новом деле не получилось. От него ожидали, что он наладит дело в товариществе, но как он мог это сделать, когда в собственной его жизни стало все так неясно и он сам не мог в ней разобраться. Для того чтоб попытаться наладить, надо было порвать с осторожностью, нежеланием портить отношения с богатыми хозяевами…
Вообще же причастность к правлению товарищества начинала беспокоить его. Там, как ему казалось, все оборачивалось таким образом, что надо было выходить из чувства благодушного равновесия или вообще попытаться откреститься от этого дела, как от очень беспокойного и хлопотливого. Очень уж Кянд крепко держался за свой поджарый трактор и никак не желал выпустить из-под своего влияния. Йоханнес в глубине души если и не сочувствовал ему, то во всяком случае молчаливо понимал, и это, отчасти, мешало ему восстать против Кянда. Но было кое-что, начинавшее явно не нравиться Йоханнесу Вао. Во-первых, Вао не был уверен в том, что в делах машинного товарищества существует акт на приемку им трактора от Кянда. Такое подозрение возникло у Йоханнеса с недавних пор… А если нет этого акта, то, значит, Кянд в один прекрасный день может уехать на своем тракторе, и с него взятки будут гладки…
Как-то осматривая в сарае тракторы, Йоханнес ворчливо заметил Кянду, что, как ему сдается, кое-какие ходовые части со второго общественного трактора, недавно купленного товариществом, перекочевали на трактор Кянда. При этих словах он значительно посмотрел на Кянда.
— Ну и что же? — удивился Кянд, уставя светлые глаза на Йоханнеса. — Лучше один хороший, чем два плохих.
Вао резонно заметил, что лучше все же два хороших, чем один, и что второй трактор эдак может и не выйти на пахоту. К тому же, крестьяне замечают, что поправляется именно бывший кяндовский трактор, а другой разваливается…
— Э-э, papi[13] Вао! — воскликнул Юхан Кянд, открыто глядя в глаза Йоханнесу. — Был мой трактор — стал общий… Сегодня на хуторе плуг — твой, а завтра — в общем сарае, в колхозном…
Уж не смеется ли он над Йоханнесом? Собираясь с мыслями, Вао пожевал соломинку и, ощутив неприятную горечь во рту, сплюнул.
Его имя тоже в списке ревизионной комиссии. Он, чорт побери, в конце концов не желает… Конец фразы Йоханнеса утонул в басистом неразборчивом ворчании.
Кянд снисходительно пожал плечами и ухмыльнулся с самым простодушным видом, и Вао вышел из сарая с чувством рыбака, метнувшего острогу мимо скользкой щучьей спины. Рыба только вильнула хвостом и скрылась где-то рядом.
Был момент, когда Йоханнес и на это дело хотел махнуть рукой: «Э, расхлебывайте как знаете…», но опять-таки не смог, и разговор с Кяндом остался камнем лежать на душе, беспокоя своей нерешенностью.
Отношения между жителями Журавлиного хутора и Вао после прошлогоднего пожара наладились как-то сами собой, без всяких объяснений и взаимных упреков. То Пауль, то Айно навещали хутор Вао, да и Йоханнес с Лийной побывали на Журавлином хуторе с запоздалым хлеб-солью.
Йоханнес усиленно потчевал зятя особым образом мореным самосадом; возникали разговоры — те осторожные разговоры с паузами и недомолвками, которые обычны между людьми, с пристальным вниманием нащупывающими друг друга. Говорилось о дальних городах и республиках, о событиях международной политики, а за всем этим постоянно имелись в виду судьба земли и людей Коорди, чувствовались ближний интерес и тревога за будущее.
Далекие города, заводы, где чугун льется как вода, шахты, где добывается уголь, без которого не обойтись даже в сельской кузнице, — все это Йоханнес видел не особенно ясно, но что касается до выращивания ржи и пшеницы в Коорди, здесь он чувствовал себя как дома. Он мог подробно, называя точные даты, рассказать кто, когда и какой сорт пшеницы выращивал в этих местах и какие урожаи получил. Тут Йоханнес становился почти речист и расправлял усы с достоинством человека, знающего себе цену.
Однажды, в разговоре о неудаче, постигшей Прийду Муруметса, когда тот посадил на клочке осушенного болота картофель, у Йоханнеса как-то неожиданно осекся голос, и он, помолчав, спросил без всякой видимой связи с предыдущим:
— Ну, а когда же колхоз будешь организовывать?
— Дело общее — когда начнут… — неясно ответил Пауль, не удивившись вопросу, — за последнее время он часто слышал его.
Йоханнес пытливо, из-под нависших бровей, посмотрел на серьезное лицо зятя, подозрительно подумал: «Знает, да ведь не скажет…» Вон слухи ходят, что активисты подсчитывают земли и хозяйства, — все на учет берут… Очень хотелось бы Вао знать, как распорядился зять в своих планах его, Вао, полями. Ведь как ни выкраивай тот будущий неизвестный план, а восемь гектаров ровных, массивом лежащих полей Вао в сердцевине Коорди наверняка улягутся в него… И будут его пропахивать какие-нибудь незнакомые трактористы из пригородной МТС, а не две кобылы Вао, приученные к ровной борозде. Сам Йоханнес будет сеять, может быть, не на своих полосах, за долгие десятки лет вышаганных вдоль и поперек, а там, куда поставит бригадир, — может быть, где-нибудь на приболотном клине Прийду Муруметса, где отроду ничего не росло толком, где и сеять-то противно такому хозяину, как Йоханнес…
Перемешаются лошади в общем хлеву, как и разномастные хомуты и седелки в сарае. Смешаются хорошая новая сеялка Мейстерсона с допотопной косилкой Прийду Муруметса, перемешаются межи Вао и Татрика, — и не найдешь своей-то! Сотрутся все те привычные границы, меж которых текла жизнь.
Из окна Йоханнесу видно было Лийну с подойником в руке, идущую от хлева к дому. За долгие, долгие десятилетия тропинка, по которой Лийна по многу раз в день ходила в хлев — а до нее мать Йоханнеса и другие женщины из рода Вао — стала плотной и утоптанной, как пол в риге, и никогда не заростала травой. Неужели теперь скоро примолкнет веселый двор Вао, такой шумный вечерами, когда коровы приходят с пастбища и за ними снуют глупые пугливые бараны и грузные свиньи шарахаются от басовитого лая лохматого Барбу? Неужели тяжелая поступь могучих лошадей — красы и гордости хутора — уж никогда больше не раздастся под крышей конюшни?
Что-то тонкое, по-бабьи жалостливое непривычно защемило сердце Йоханнеса. Сказал с тоской, хотя и стараясь сохранить достоинство:
— Старый дуб на новое место трудно пересаживать, — корни рубить надо… Не примется…
— Ну, примется… — помолчав, сказал Пауль. — Труднее новую жизнь в старой бане построить, — в голосе Пауля послышалось раздражение. — Ты стены папкой обобьешь, а печка дымит — опять все прокоптится… Новая жизнь со старыми стенами не мирится…
Помолчали.
— Новая жизнь — так она и по новому закону… — упрямо и неотступно держался Пауль за свою мысль, — с таким упрямством он сжимал в руках лом, когда в поле кружил вокруг камня, примеряясь, с какого бока поддать этот валун. — А новый закон — как огонь: Коор в нем когти подпалил, а мне около него тепло, хорошо. Вот и подумай — отчего?
— Ну, Коор… тот — волк.
— Волк волком, а за ним кое-кто тянулся, — как-то очень откровенно сказал Пауль.
Йоханнес Вао, засопев, стал набивать трубку.
Пауль задумчиво проследил, как ярко разгорелся и подмигнул огненный глаз в объемистой трубке Йоханнеса Вао, и сказал весело:
— Я не Коор, а вот тоже хочу хорошо и богато жить… Право, почему бы мне и не хотеть этого?
Йоханнес с удивлением оглядел зятя; он не понимал его озорного тона, — что это с Рунге делалось?
«На колхоз выруливаешь?» хотел было спросить Йоханнес, но промолчал.
Словно угадав его мысли, Пауль вдруг сказал очень дружески и доверчиво:
— Все равно твоя дорога на наш двор ведет, я так думаю… Куда ж ты денешься? Жизнь поворачивает. По-дедовски, в одиночку, вхолостую не выйдет, — другое время. Кто тебе поможет? Роози к тебе батрачкой не пойдет, у нее своя земля… Поля удобрений просят, машин. А ведь все это будет у нас только при одном условии — если объединимся…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Антс Муули проснулся рано от ощущения солнечного сияния, залившего комнату.
Потянувшись так, что хрустнуло в суставах, он вскочил и в одну минуту заправил узкую и довольно жесткую постель на деревянной кровати, неуклюжем и грубоватом творении неизвестного сельского столяра. Мастер тот основной задачей себе ставил сделать вещь полезную и с расчетом на многолетие; только такие изделия имели спрос среди крестьян Коорди.
Мягко и неслышно ступая босыми ногами, Муули прошел через комнату, где, разметав на подушке льняные кудерьки, спала дочь, захватил с гвоздя суровое полотенце. Заглянув на кухню, где хлопотала жена, он вышел на двор.
Видимо, под утро выпал дождь, теплый июньский дождь… Капли его, словно непросохшие слезы радости, дрожали на белых пышных гроздьях сирени, росшей у ограды двора, сверкали в яркозеленой траве.
Ночью, пока Муули спал, поработали дождевые черви, благородные труженики, обогащающие почву черноземом. Ровная утоптанная площадь двора вся была покрыта крохотными влажными пупырышками — выделениями дождевых червей. Видя землю в благодатные солнечные утра покрытой такими бугорками, старые люди говорили, что земля цветет.
Накачав воды из насосного колодца в белый эмалированный таз, Муули с наслаждением стал намыливать лицо и руки и обливаться холодной водой. Суровым льняным полотенцем растер лицо и шею до красноты; таз, полный мыльной воды, понес к холмику за каменной садовой оградой, где тыква возносила к солнцу мясистые зонтичные листья. Муули бережно, до капли, вылил воду на тыкву. Мыльная вода была полезна и нужна растениям…
Выпрямившись, Муули неторопливо и хозяйственно огляделся. За невысокой оградой двора рос сад его; молодые саженцы, высаженные в прошлом году, принимались хорошо; сочная зелень листвы покрывала их. За садом и двором простирались крестьянские поля с рожью, пшеницей и ячменем. Острым своим взглядом Муули подметил, какое чудодейственное изменение произвел ночной дождь в полях, как посвежела пшеница, заглянцевела. Набухшие остролистые верхушки стеблей, лопаясь, выпускали первые колосья.
Пшеница шла в колос!
Муули одобрительно кивнул головой и широко улыбнулся.
И тот, кто увидел бы сейчас парторга, понял бы, как крепко в душе Муули жил самый обыкновенный хлебороб из Коорди, который не мог не порадоваться значению освежающего дождя, что выпал ночью на поля.
Хотя Муули, пастуху и батраку в прошлом, к сорока пяти годам его жизни довелось познать разную работу в деревне, а впоследствии и в городе, и в том числе и ратный труд на войне, — одна была работа, которую он в глубине сердца считал самой прекрасной — выращивать хлеб!
Позавтракав, Муули уселся у открытого окна за простым канцелярским столом, аккуратно покрытым папкой, и раскрыл газету с трудной теоретической статьей, оставшейся непрочитанной со вчерашнего дня. Он читал медленно, порой заносил пометки в толстую тетрадь, порой раскрывал словарик, обращаясь к нему за справкой. Иногда вставал со стула, прохаживался по комнате, тихонько мыча под нос какой-то несложный мотив, и крепко потирал выбритый широкий подбородок.
Утренние эти тихие часы, когда никто не мешал и голова была особенно ясна, Муули посвящал чтению. В эти же часы он составлял конспекты своих выступлений и лекций для партийцев волости, сельского актива, сельской интеллигенции.
В такие минуты он неохотно допускал вторжения в свою комнату, и даже семилетняя дочка Майму, прислушиваясь к тихим шагам за закрытой дверью, передразнивая голос отца, строго говорила потертому плюшевому мишке:
— Ш-ш… Не шали, прошу тебя…
Когда стрелки на ручных часах Муули показали без четверти девять, он надел пиджак, шляпу, уселся на свой старенький велосипед и поехал в волисполком. Путь туда был недалек — с километр по гладкому, щебнем мощенному шоссе.
Подведя за руль велосипед к крыльцу волисполкома, Муули узнал тетушку Тильде, чей хутор, пожалуй, был самым бедным в Коорди. Жила она одна, воспитывая сирот, детей сына Арнольда, советского воина, погибшего на острове Сааремаа, когда выбивали немцев, окопавшихся на узком мысе Сырве.
Тетушка Тильде, обычно очень говорливая и хлопотливая, сидела теперь в тени, на скамье, в позе терпеливого ожидания, сцепив жилистые худые руки на коленях, и, как показалось Муули, не очень ласково поздоровалась, когда Муули снял шляпу.
— Что так рано пришла? — спросил Муули, поднимаясь на крыльцо. Теперь он начинал припоминать, что последнее время частенько встречал Тильде в волисполкоме.
— У кого жажда, у того и ноги… — ответила Тильде и поджала губы.
— Тебе кто, председатель Янсон нужен? — простодушно спросил Муули и потихоньку уселся на скамье рядом с Тильде.
— Янсон мне не нужен, мне печать нужна — штемпель… — объяснила тетушка Тильде, искоса взглянув на Муули.
И Муули услышал следующую историю. У Тильде завелись кое-какие деньги: государственная пенсия сироткам Арно, да и сама Тильде тоже без дела не сидит — работает… И вот огляделась Тильде в своем доме, видит — хорошо бы плиту и трубу переложить, а то кирпичи выпадать стали; стены побелить бы да кое-где новые стекла вставить. Кирпича бы немного, стекла да известь… А так как строительные материалы дефицитные, то печать нужна на заявлении…
— А что же Янсон? — поинтересовался Муули.
— Янсон?
Она пришла к нему две недели тому назад. Но в тот раз у него день не был приемный. В приемный день товарищу Янсону было некогда, — он разрешал какие-то очень важные дела. Он так громко кричал по телефону и ругался. И когда Тильде все-таки набралась духу и вошла, Янсон только рукой махнул: «Завтра, завтра…» Но назавтра Янсон не смог принять заявления, потому что оно было не чернилами написано, а карандашом. Он сказал: «Приди послезавтра». Но послезавтра Янсон поехал в город по делам службы… И вот сегодня Тильде пришла уже с самого утра, чтоб не упустить Янсона, хотя, быть может, это ему и не понравится… Придет ли он сегодня?
Муули посмотрел на часы.
— Запоздал, но придет… Придет непременно.
— Насчет хворосту я с ним говорила еще… — оживилась тетушка Тильде, видя внимание Муули. — Дров нет у меня. Если леспромхозу представить бумажку с печатью волисполкома, там могут дать хворосту или даже лесу…
Слушая тетушку Тильде, Муули молча смотрел на ее худые руки и босые ноги, коричневые от солнца, с набухшими венами. Узловатые вздутия набрякших вен без слов свидетельствовали о непосильном труде, принятом Тильде за всю ее жизнь в Коорди.
Муули вдруг ясно представил, как тетушка Тильде и сегодня, почему-либо не дождавшись Янсона, натруженными ногами пойдет обратно месить пыль под солнцем — итти ей километров пять, не меньше! На пути этом она встретит знакомых женщин — может быть, старуху Месту Тааксалу, идущую в лавку за дрожжами, или жену Йоханнеса Вао Лийну, везущую бидоны с молоком в маслобойню. И, придерживаясь вот этой худой натруженной рукой за борт телеги Лийны Вао, тетушка Тильде, сурово поджав губы, будет рассказывать о хворосте, о кирпиче… А встречные расскажут десяткам другим, что Янсон хворосту пожалел для тетушки Тильде, не выслушал как следует в спешке, не понял…
Тетушка Тильде, польщенная вниманием этого серьезного человека, приготовилась рассказывать дальше, но Муули вдруг резко встал и нахлобучил шляпу.
— Ты никуда не уходи, — тоном приказания сказал он, — Янсон сейчас придет, я знаю.
И, вскочив на велосипед, выехал на шоссе.
На дворе Янсона, прислоненные к стене сарая, сохли сачки с прилипшими к ним водорослями. Разглядев на сетке лягушечий трупик с содранной кожей, Муули подумал, что, наверное, Янсон поздно вернулся с ловли раков, до чего был великий охотник.
В холодных сенях он увидел двух белоголовых подростков, сыновей Янсона, нагнувшихся над высокой плетеной корзиной; непрерывное шуршание и возня слышались под листьями лопухов, покрывающих корзину.
Муули вошел, забыв постучаться.
Янсон ел яичницу со шкварками; расплавленная капля сала стекала с его подбородка.
— Запоздал, друг, — с непонятным выражением в голосе сказал Муули.
— А что, из уезда звонили? Сводку? — встревожился Янсон, отодвигая сковородку.
— Нет, там тетушка Тильде пришла, ей, видишь ли, штемпель нужен, — таким же непонятным тоном сказал Муули.
— Тильде? — не сразу понял Янсон. — А-а… Насчет хвороста… Душу съела с этим хворостом, въедливая старуха…
Обиженное выражение показалось на лице Янсона, он с сожалением посмотрел на отодвинутую сковородку, налил себе стакан молока, поставил кувшин перед Муули.
— Выпей стаканчик…
— Спасибо, ел, — сухо ответил Муули. — Я подожду…
— Я сейчас, — заторопился Янсон.
Муули вдруг невесело усмехнулся.
— Чего ты? — удивился Янсон.
— Видишь ли, тетушке Тильде, собственно, не ты нужен, а штемпель… Так и сказала: «Мне не Янсон нужен, а штемпель…» Видно, не заслужил ты расположения Тильде. Это плохо, друг.
— Только и дела, что Тильде хворостом снабжать, — пробурчал Янсон, раздражаясь от насмешливого тона Муули. — Тут уезд на плечах сидит, — голова кругом идет, не знаешь, как дорожно-ремонтные работы к сроку выполнить. Вот и сегодня бы сорок подвод должны выйти на возку щебня, а мужички не торопятся, мол — успеется…
— Дешевый разговор… — оборвал Муули и пожал плечами. — Ясное дело, если тебе не к спеху хотя бы для тетушки Тильде дело разрешить, так и крестьянам успеется. Разобрал ты ее дело? Думаешь, крестьяне этого не видят? Вот, скажут, Янсон для Тильде хворосту пожалел, а сын ее за советскую власть сражался. Пустяковое это дело? Как можно?..
Муули встал и, с отвращением глядя на жирную каплю, стекающую с подбородка Янсона, сказал очень тихо, но внятно:
— Ведь будь дело в Янсоне только, так и чорт с ним — полбеды, но Янсон — председатель волисполкома и понять этого не может до сих пор… Вот в чем беда. Исправь ошибку, Янсон!
Янсон изумился. Он впервые видел сдержанного Муули в таком гневе. В спешке вытерся полотенцем и, схватив с вешалки шапку, вышел вслед за Муули.
Оба уселись на свои велосипеды и поехали к волисполкому — Муули впереди, за ним вплотную Янсон.
Ехали молча.
Янсон молчал, потому что был обижен. Им случалось спорить с Муули, ему иногда приходилось выслушивать от парторга довольно обидные вещи, но всегда это было в сдержанной и необидной форме и всегда по делам «большого масштаба», как называл их гордо Янсон. Например, при обсуждении больших дел и планов, касающихся всей волости Коорди. А тут вдруг из-за этой тетушки Тильде Муули вышел из себя!.. Как будто так уж важно, получит ли Тильде на недельку раньше или позже свой хворост… В конце концов, в Коорди много хозяйств, сотни людей, — не может же Янсон угодить всем. Будь кто-нибудь другой из активистов волости на его месте, пожалуй не понравится — взвоет. Работа ответственная, иногда ночи нехватает для работы, во время больших ответственных кампаний случается по три ночи не бывать дома. Нет, побудь кто-нибудь в шкуре Янсона…
Янсон ощутил чувство, похожее на жалость к самому себе, исподлобья посмотрел на крепкий, упрямый затылок Муули, едущего впереди, шумно вздохнул.
«Вот занялся бы тихо, мирно своим хозяйством», — подумалось ему дальше. Играл бы на басовой трубе в местном духовом оркестре, иногда выступал бы с речами на спортивных соревнованиях или на вечерах добровольного пожарного общества, — Янсон умел и любил блеснуть красноречием, — и было бы спокойно… Эх, зря он когда-то не уперся, не отказался, когда выдвинули на эту работу!
И в то же время Янсон чувствовал, что ему бы уж трудно было отказаться от своего нового положения. Он, которого когда-то, не так давно, несколько снисходительно, хотя и дружелюбно, называли просто Яаном, стал теперь одним из первых людей волости, и все его теперь называли товарищем Янсоном. У него был свой служебный кабинет, и телефон на столе, и печать в кармане, и секретарь приносила ему бумаги для подписи. Когда-то многие в волости могли высказать свое превосходство и власть над ним, а теперь он мог сам по телефону вызвать любого председателя сельского совета или сельского уполномоченного и поговорить с ним как старший. Он был властью!
Муули также молчал. Он тоже думал о Янсоне; не жалел, что был резок с ним. Может быть, разговор пойдет на пользу Янсону. Надо его расшевелить, растрясти, а то жиреть стал душой — увядать, не успев расцвести!
Муули думал, что вот Янсон, выходец из небогатой семьи, сам новоземелец, выдвинувшийся из волостных активистов, до сих пор не понимает своего нового положения. У этого человека, по существу не такого уж плохого, оказались слабости, незаметные раньше; уязвимые стороны Янсона были, кажется, подмечены многими в Коорди. Это могло стать опасным не только для Янсона. Кое-что, например, совсем не нравилось Муули. Этот Янсон сам поднимался на ноги быстрее всех новоземельцев в волости, хотя сам мало работал в поле. Кулаки обрабатывали поле Янсону, одалживали семена, — такие слухи доходили до Муули. Как-то Муули спросил у Янсона, правда ли это?
— Так то ж кулаки! — невинно удивился Янсон. — А и пусть немного побатрачат у бывшего батрака. Они, если хочешь знать, старые долги мне возвращают…
И Янсон захохотал. Его, кажется, тешила эта мысль.
Когда они подвели велосипеды к стенке, то увидели там уже и другие машины. Янсона ожидала не одна только тетушка Тильде. Навстречу ему двинулись несколько крестьян и впереди их Юхан Кянд. Улыбаясь широко и добродушно, он как свой человек поздоровался с Янсоном и, оттирая кого-то плечом, пошел рядом.
Но Янсон поморщился и зычно, чтоб слышали все, сказал:
— У тетушки Тильде тоже дела… Прошу!
И Янсон сделал приглашающий жест перед изумленной старухой и при этом посмотрел в сторону Муули. Жест в то же время был предложением к примирению с Муули и даже извинением…
Муули ничем не показал, что он заметил это движение. Он был задумчив и озабочен.
Муули успел принять нескольких посетителей и подробно обсудить с Сельмой Кару план работы народного дома на будущий месяц, когда в дверь постучали и вошел Семидор.
Муули встал навстречу, они обменялись рукопожатием и поговорили о погоде. Разговор начали с погоды не потому, что им не о чем было говорить. Нет, они были деловые люди и разговор начинали с главного: для них погода работала на урожай. Они были довольны погодой.
На лице Муули показалась несколько лукавая улыбка, когда он оглядел Семидора, одетого по случаю посещения волисполкома в добротный, хотя и грубошерстный серый костюм, сшитый сельским портным Семидору, за что Семидор расплатился картофелем и бочкой для засола огурцов, — он умел и бондарничать…
К Муули вернулось утреннее солнечное настроение. Он встал и прошелся по комнате.
— Мартин, — сказал он, называя Семидора по имени, что делал редко в беседах официальных. — Мартин, ты идешь в большой и радостный путь!
Семидор мигнул белесыми ресницами и нерешительно осклабился. Он что-то не понял Муули. С чего этот ясный, деловой человек заговорил вдруг мудреными иносказаниями? Семидор не допускал мысли, что разговор идет в буквальном смысле. Какой же путь ему предстоит?
— Мне случалось совершать и большие, дальние рейсы, когда я плавал… — осторожно начал Семидор, чтоб за разговором выиграть время и обдумать слова Муули. — Но я не помню, чтоб они были радостные. Однажды мы на этой старой посудине «Северонии» дошли даже до Копенгагена… — оживился Семидор. — У нас тогда машина в море сломалась…
— Э, нет, на этот раз совсем не то, — весело рассмеялся Муули. — Не угадал.
Став серьезным, он внушительно сказал:
— Путь большой: через Ленинград поедешь, Москву увидишь, Семидор!
— Я? — безмерно удивился Семидор.
Он застегнулся, вновь расстегнул пиджак и клетчатым смятым платком вытер лысоватый лоб: стало жарко.
Он, Семидор, и вдруг — в Москву?.. В ту вечно кипучую жизнью Москву, откуда даже за тысячу верст доносится ее живительное дыхание и будит все новые мысли, желания и стремления в душах людей с самых дальних лесных хуторов в тихой Коорди. Семидор подумал, что ему в его деревенских башмаках и шляпе, наверное, так же странно очутиться там, в бурной Москве, как выехать в утлой лодке в океан… Не затолкают ли его там? Впрочем, говорят, москвичи народ очень гостеприимный.
— До Черного моря доедешь. В Абхазии эстонский колхоз имени товарища Сталина увидишь — богатый колхоз, — говорил Муули. — Ты познакомишься с русскими и украинскими колхозами… У них, друг, бо-ольшой опыт за плечами, да…
Из слов Муули Семидор понял, что он включен в состав экскурсии эстонских крестьян, едущих знакомиться с достижениями колхозов братских республик. Ленинград, Москва, Грузия!
— Ты едешь не на прогулку, — задумчиво и неторопливо говорил Муули и, щурясь, смотрел на большую карту Советского Союза, висящую на стене кабинета, словно мысленным оком прослеживая и оценивая путь Семидора. — Я думаю, ради прогулки не стоило бы тебя отрывать от дела. Как думаешь?
Семидор, кашлянув, кивнул головой; морща лоб, он усиленно соображал.
— Вам колхозники расскажут все: как работают и живут. В это вникнуть надо, Семидор. Да ты там не туристом ходи, меньше парадные речи слушай. Книжку трудодней попроси — рассмотри, расспроси все, что к чему, в хлевах посмотри, в поле пойди… Посмотри, что и как. Вот блок тебе, все запиши. Чтоб ты все потом рассказать мог нам.. Не на прогулку, Семидор, едешь…
— Поучиться, — согласился Семидор.
Муули замолчал и задумался. Молчал долго. Теперь бы Семидору встать и уйти, но он не вставал. Так же, как и сам Муули, он чувствовал, что не все еще сказано, но будет сказано.
— Что ж, это, конечно… да… — сказал Семидор. — А вот я тебя спрошу, товарищ Муули.
— Да? — кивнул Муули дружески.
— У нас в Коорди ведь тоже будет колхоз?
— От нас зависит, — серьезно сказал Муули. — От народа.
— Будет, — уверенно сказал Семидор. — Скоро будет…
— А ты почему думаешь? — с любопытством спросил Муули.
— Народ к нему дорогу нащупывает, — просто сказал Семидор. — Вот мы на хуторе Яагу, Пауль Рунге, да много нас, все на разных концах Коорди… Мы ж ведь понимаем, что дорога-то уже давно открыта! — сказал Семидор, пальцем показав на карту Союза, и торжествующе, с крестьянской лукавинкой, покосился на Муули, гордый от уверенности, что он понял сокровенную мысль парторга.
— Вот об этой-то дороге и разговор… — торжественно сказал Муули.
…Парторг долго еще сидел над бумагами, рассеянно постукивая карандашом, и, глядя перед собой, думал о Семидоре.
Он вспомнил сейчас о разговоре, перешедшем затем в спор, когда в волости намечали кандидатуру члена экскурсии. Кое-кто из руководящих работников волости настаивал на том, чтобы послать кого-либо из крестьян поделовитее, посолиднее, например Рунге, Маасалу или даже Йоханнеса Вао. Но Муули настоял на Семидоре. Правду сказать, Семидор был слабостью Муули. Он был для него живым проявлением той новой жизни в Коорди, которую призван был творить здесь скромный волостной парторг Муули.
За два года его работы парторгом в волости всходы нового возникали всюду, на каждом шагу, — Муули, прежде всего, видел их в росте своей партийной организации, в том, что лучшие люди, вроде Каарела Маасалу, пополняли ее ряды; но все-таки самым наглядным: для Коорди проявлением силы этого нового было чудесное выпрямление Семидора — неудачника в прошлом.
Оценки Муули расходились иногда с мнением окружающих, которым могло показаться, например, что он переоценивает возможности Семидора или Роози Рист и недооценивает заслуги Янсона, такого же земледельца, как и они, пришедшего к власти из низов.
Было одно очень важное обстоятельство, руководившее парторгом Муули в его оценках и решениях. Он видел крестьян Коорди в будущем, в завтрашнем дне. И в этом будущем он вчерашнему неудачнику Семидору уделял не такое уж маленькое место. И скромную, забитую Роози Муули в завтрашнем днем видел другой, какой ее еще никто в Коорди не видел, — деловитой, полной энергии, занятой большим делом.
Найти место Янсона в этом завтрашнем дне Муули сейчас несколько затруднялся; он даже склонен был думать, что вряд ли на будущих выборах в местные советы крестьяне волости оставят его на посту. Но и за Янсона Муули готов был бороться как только умел. Он ведь хорошо понимал, что умных, энергичных организаторов, передовых людей, готовенькими никто ему не даст со стороны и что новую жизнь в волости необходимо строить руками самих этих простых, обыкновенных людей из Коорди — растить их.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Сааму беспомощно топтался на нагретом солнцем щебне дороги — сунулся направо, толкнулся налево, встал… Он с недоумением стащил шляпу и поднял лицо к небу, прислушиваясь. Лоб его опахнуло июльским зноем. Мухи назойливо летали вокруг лица, тихо звенели и больно кусали. По приметам Сааму — быть дождю с грозой. Вот и птицы кругом возбуждены; поют и щебечут беспокойнее, чем обычно, да и лягушка где-то под водой приглушенно квакнула… Быть тучам и грозе…
Сааму заблудился, хотя не так уж далеко отошел от родных мест. Нащупав ногой камень, присел на него, положил грубый холщевый мешок около, стал припоминать дорогу — весь путь, как он шел до этого.
От хутора Курвеста вышел на большую дорогу, оттуда свернул было к хутору Вао, но чем ближе подходил к нему, тем тише и неувереннее становились его шаги. Не доходя до хутора, стал, подумал, повернул обратно. Большой дорогой дошел до развалин старого трактира, — отсюда проселочная дорога вела на Журавлиный хутор. Но и до Пауля с Айно он не дошел — повернул обратно. И все время думал — куда же итти… К Вао? Лийна его иногда угощала праздничным пирогом и студнем, но ведь что из этого? На то он и праздничный, что дается гостю раз в месяц, это легче и проще, чем из милости давать ежедневно кров и кусок хлеба чужому человеку. Пойти к Паулю с Айно? Нельзя, — им самим кусок хлеба дорог… Разве в волость обратиться? Но Сааму никогда в жизни не был в казенном учреждении, — место это отпугивало Сааму: там решаются государственные дела, а у Сааму какое же дело — семейное, маленькое, можно сказать…
У вырубки Сааму встретили дети. Шумливой стайкой окружили его.
— Сааму, Сааму, Куда ты идешь?
И Сааму встрепенулся и оживился. Смеясь, он ловил и гладил шелковисто-льняные головы детей, узнавал ребят по голосам.
Они протягивали ему свои корзинки и кружки с земляникой.
— Сааму, от меня…
— Мои лучше…
— И от меня, Сааму.
Сааму испачкал подбородок и губы земляникой, пробуя, удивляясь и нахваливая.
— Сааму, куда ты? — требовали они ясного и исчерпывающего ответа.
Сааму никогда не лгал ни взрослым, ни детям и сказал просто:
— Я не знаю…
— Зачем же ты идешь?! — хором закричали дети.
— Иду — и все… — строго сказал Сааму и взял свой мешок.
Они хотели пойти с ним, но он рассердился, что случалось редко, и отвернулся от детей. Притихшие, они пошли добирать ягоды в свои плошки и корзины.
И так вот Сааму и семенил мелкими шажками меж тропинок и большой дорогой, пока не заблудился в родных местах. Теперь он сидел на камне, собираясь с мыслями, припоминая путь свой и пытаясь наметить дальнейший.
До того, как он вышел с хутора, был разговор с Юханом Кяндом. Юхан сказал, что с него довольно; он кормил, поил Сааму целый год, пусть теперь другие… Ему и так работник Яан дорого стоит, он не может двоих держать… Пусть Сааму поищет таких дураков, как он, Юхан, который кормит человека зря, только за то, что он там свиней кормит и коров доит. Пусть он пойдет на хутор Яагу — там всех нищих в колхоз собирают.
Юхан остался до конца щедрым, он положил в мешок Сааму целый хлеб, оставшийся от прошлой недели, да кусок вареной свинины.
— На дорогу до новин… — так сказал Юхан.
У него на каждый случай жизни находились шутки.
— И лучше тебе пойти пораньше, пока светло… Слышишь, — сказал Юхан, подозрительно взглянув на Сааму, который сидел неподвижно.
Сааму кивнул головой и промолчал. Да и что было сказать? Кянд был хозяин хутора. До него хозяином был Март Курвест. С Мартом не смела спорить даже жена Анна. Сестра Анна. С хозяевами невозможно спорить.
Теперь Сааму припоминал дорогу… Должно быть, она вела к Змеиному болоту, не иначе… Проселочная дорога, на которую он вышел, километра через два выведет к Змеиному болоту. Там только опытному, знающему тропинки охотнику можно пройти меж обманчиво устойчивых трясин, сверху заросших яркозеленой травой. А незнакомый с местами человек, пусть и зрячий, может завязнуть в черной гнилой грязи, — засосет его…
Сааму принялся думать о Змеином болоте. Сколько раз он сам рассказывал детям о нем все, что слышал от людей.
Над Змеиным болотом даже в самые сухие и теплые летние вечера встает густой и холодный туман. Если человек надышится им, он одуреет, закружится голова, он заблудится и смерть ему не будет страшна. Есть там места, где редко ступала нога человека и змеи не боятся людей. Там во множестве обитают дикие утки да гуси, залетают журавли охотиться на змей. Лет десять назад пастух Антс пошел искать в болото отбившуюся от стада корову, так потом не нашли ни коровы, ни пастуха Антса.
Змеиное болото — огромное, чужое и холодное — враждебно людям. Вот Прийду Муруметс, приболотный житель, когда был молод, попробовал вступить с ним в борьбу, прорыл канавы, осушил полосу и вспахал черную мягкую землю. Но болото отняло свое от Прийду, и люди в Коорди только головами покачивали: «Захотел со Змеиным болотом тягаться…»
Сааму представил себе, как он к вечеру подойдет к болоту. Хотя солнце уже село, но в спину с полей еще несет теплом. Вот в лицо откуда-то резко пахнуло горьковатым болотным настоем, охватило волной холодного тумана, закружило голову странными гниловатыми запахами… Вот уж из-под теплого мягкого моха выступила холодная вода. Постоять, надышаться болотного дурмана, и уж дальше ничего не заметишь…
До слуха Сааму донеслись торопливые шаги. Человек шел и весело напевал шуточную песенку:
«Семидор», — узнал Сааму. Он сам не заметил, как притопнул босыми пятками и ударил ладонями по коленкам. Тонким голосом по-комариному подхватил:
И вместе они громко пропели:
Тень от человека упала на Сааму.
— Ты чего тут сидишь, Сааму? И мешок у тебя с собой… — спросил Семидор и поставил перед собой на дорогу что-то тяжелое, должно быть мешок или чемодан.
— Сижу… Скоро пойду, — сказал Сааму обрадованно. — Да и у тебя мешок…
— Это чемодан… и полный… — важно сказал Семидор. — Так я-то далеко еду: на Черное море…
Сааму хотел было сказать, что он тоже далеко отправляется, но не сказал, чтоб не усложнять беседы. В душе удивился: «На Черное море?» Должно быть, очень далеко, гораздо дальше, чем на Змеиное болото. Судя по радостному голосу Семидора, дорога туда радостна.
— Что ж, там вода черная? — осторожно осведомился Сааму.
— Нет — синяя, хорошая вода, — объяснил Семидор. — Вода всюду одинакова, только небо разное… Эстонский колхоз у Черного моря еду смотреть с экскурсией. Сейчас на поезд, а потом еще трое суток в поезде.
— Богато живут? — спросил Сааму.
— Еще бы, — снисходительно сказал Семидор. — Там апельсины растут — как у нас картофель. Хотя, где тебе знать, ты их не едал, наверное…
Сааму в самом деле их не едал.
— А почему у тебя хлеб в мешке? — спохватился Семидор. — Или в открытое море без руля? Выставил, что ли, тебя этот шутник, а, Сааму?
Сааму вздохнул.
Семидор выразительно свистнул.
— Так чего же ты сидишь? — вскипел Семидор. — И сидит, как мешок со жмыхами… Да я этого Кянда, как цыпленка, в самый узкий колодец загоню! Ну что ты сидишь, я спрашиваю?
Сааму с недоумением встал.
— Возись с тобой, а мне на поезд, — нервничал Семидор. — Ты бы хоть на наш хутор пошел; скажи, что я прислал. Чтоб в волисполком обратились насчет тебя. Эх, да ты ведь и дороги не найдешь. Тебя бы хоть до Рунге довести…
Семидор выдернул из кармана часы, щелкнул крышкой; после мучительного раздумья отчаянно махнул рукой и схватил Сааму за рукав.
— Ну, бери свой мешок… Я вечером товарным доберусь….
И почти бегом поволок Сааму за собой.
— Ты плюнь на этого пса, — утешал по дороге Семидор. — Мне хуже было: я пять раз через смерть перешагнул, ничего, — вышел… Попробуй меня теперь взять голыми руками… Меня вон уезд на Кавказ посылает посмотреть достижения.
Сааму быстро семенил за Семидором. Многого он не понимал в хвастливых словах Семидора, но одно для него было ясно — то, что они теперь удалялись от дороги, ведущей на Змеиное болото с его туманами и трясинами. Радостная и вместе с тем виноватая улыбка не сходила с лица Сааму. Как бы из-за него Семидор не опоздал на поезд, отходящий в тот чудесный край, на Черное море…
На семейном совете с участием Пауля, Айно и Семидора решено было, что Сааму останется на Журавлином хуторе, пока не будет решен вопрос о пенсии Сааму в волисполкоме. А там видно будет.
— К тому времени я вернусь с Кавказа, — обещал Семидор.
Так маленькая семья на Журавлином хуторе выросла.
Еще один новый обитатель должен был скоро появиться на хуторе, — ожидали его не без волнения и больших приготовлений. Когда Пауль на постройке дома дошел до стропил, Айно уже не могла помогать ему. Она больше сидела дома, похудевшая, с резко выступившими веснушками, с выражением сосредоточенности на лице. Выкраивала пеленки и распашонки и шила, сидя у окна; напротив, через стол, сидел Сааму с ворохом ивовых прутьев на коленях.
Здесь теперь шла тихая углубленная беседа, звякали ножницы, мерно мелькали прутья в руках Сааму, — он оплетал легкие каркасы из можжевеловых обручей.
Иногда, после ужина, когда Пауль, уставший от работы, сидел за вечерней трубкой и подремывал, ему и сквозь сон слышались их голоса. О чем они говорили? О вещах самых различных и обыкновенных, о том, как пчела находит свой улей, как бы далеко ни улетала, о змеях и муравьях, о том, как лучше испечь хлеб, чтоб он подольше держался свежим, о том, сколько надо человеку хлеба и счастья, чтоб прожить хорошо и не уйти раньше времени из Коорди в объятия Земляного Аннуса.
И в смутной дреме ему уже казалось, что то не Айно и слепой Сааму у окна сидят, а отец и мать там, в подвальной конуре мызы Коорди, где даже летом по каменным стенам просачивалась густая испарина сырости. Они тоже больше всего говорили о хлебе, о том, как прожить. Но, странно, откуда появилось это легкое золотистое прозрачное сияние вокруг их голов — закатный свет из окна?.. То окошко, в доме, где прошло его детство, было на уровне земли и туда не светило ни утреннее, ни вечернее солнце. А этот счастливый смех? Ведь мать не смеялась никогда…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Возвращаясь из города воскресным вечером, незадолго перед жатвой, Каарел Маасалу, вместо того чтоб проехать домой прямой дорогой, сделал громадный крюк и завернул на Журавлиный хутор.
Судя по тому, что от самого города Каарел не выпускал изо рта трубки и усиленно дымил ею и, не щадя лошадь, подгонял ее, видно было, что он торопился и что важные мысли занимали его; из-за пустяков Каарел не вышел бы из равновесия. И фуражка на голове его была сдвинута на самый затылок, что с аккуратным и уравновешенным Маасалу случалось редко. Вообще, вид Каарела был так странен, что тетушка Тильде, встретившая его на дороге, с любопытством навострила нос, стараясь решить, не выпил ли тот в городе лишнего.
Как будто нет… Маасалу даже придержал лошадь и поговорил с Тильде. Но слова его были так необыкновенны, что повергли тетушку Тильде в еще большее изумление.
Глядя на замшелую, грозившую обвалиться крышу хутора Тильде, Каарел сказал:
— А дом-то твой сгнил, Тильде. Новый бы хорошо, а?
Приняв обращение за шутку, бравая тетушка Тильде подбоченилась и тоже ответила шуткой.
— Да уж как ни хорошо бы… Только до тебя никому не догадаться было…
Каарел кивнул и поехал дальше.
Пауль при одном взгляде на лицо приятеля понял, что тот заехал не случайно. Не такой человек Маасалу, чтобы ради праздной беседы гонять лошадь лишних три-четыре километра.
— На Сааремаа первый колхоз начал организовываться, — с необычной торопливостью начал рассказывать Каарел, — от верных людей слышал…
Пауль с силой хлопнул приятеля по плечу, одобрительно свистнул и не спеша полез в карман за табаком, — предстоял долгий разговор.
— Ну, старина, — торжественно сказал он, — мне кажется, это и нас затрагивает… Да и время, пожалуй…
— Время, — кивнул головой Каарел. — Я так думаю: осенью надо вместе вспахать и посеять. Тут ведь что главное: на месяц раньше начнем — год выиграем.
Посмотрели друг другу в лицо и задумались. Давно привыкшие понимать друг друга с полуслова, они оба сейчас думали, примерно, об одном и том же.
— Ну что же, первую-то борозду нам проводить? — спросил Пауль.
— А то кому же? — подтвердил Каарел. — Конечно, нам.
Они прошли в дом и прочно и надолго уселись за столом. До Айно и Сааму доносились обрывки разговора, не совсем понятного им.
— Если умно взяться, ты за пять лет Коорди не узнаешь, — говорил голос Маасалу. — Самое место изменится, — каменные ограды снести, межи вспахать, поля до горизонта вытянем, как на Украине. Свиную ферму на двести голов… На посевы только сортовые семена… Удобрений сколько потребуется полям…
— Свою автомашину, электростанцию надо, — сказал Пауль.
— Свет в каждом доме, в хлеву, в курятнике, — согласился Каарел. — Радио… Да что свет — и дома-то новые… Дом тетушки Тильде — на слом, в компостную яму! Хутор Яагу в курятник переделаем. Хватит с меня, пожил в нем — не хочу больше!
Маасалу стукнул кулаком по столу.
Его голос так загремел, что Айно с беспокойством оглянулась. Вот уж не думала она, что у этого человека есть нервы. Что случилось? Какой это воздушный замок они строят?
Потом они долго что-то подсчитывали, разворачивали газеты, спорили. В разговоре все чаще стало упоминаться имя Муули. Наконец поднялись, и Пауль, надевая пиджак, сказал, что они с Каарелом съездят неподалеку по одному делу.
Телега ехала меж полей медленно, куда быстрее поспевал разговор сидящих в ней мужчин.
— Я это не сегодня и не вчера решил, — веско говорил Маасалу. — Ты думаешь, как мы собрались трое на хуторе — случайно? Жизнь нас столкнула и свела, вот что… Значит не случайно, а друг другу в помощь. А если бы нас в десять раз больше, а земли и скота в двадцать раз больше!.. И тракторы в помощь, и удобрений дать земле сколько влезет… Вот я о чем думаю. Ну, да вот что Муули скажет?
— А знаешь, когда я впервые об этом подумал? — и отвернувшись от друга, чтоб тот не видел лица, Пауль сказал сурово: — Вот когда от пожара меня спасали, тогда я понял…
Муули нашли в его маленьком фруктовом саду у саженцев. Он пригласил присесть на скамейку и со вниманием выслушал Пауля и Каарела. Оба в разговоре с Муули были довольно сдержанны, — кто его знает, как парторг отнесется, вдруг по каким-нибудь причинам найдет несвоевременным… Они слышали, что на Сааремаа организуется колхоз. А раз на Сааремаа, то почему не в Коорди? Оба они и сами непрочь бы вступить. Наверное, в Коорди подберется еще группа желающих, надо думать — подберется… Условия, подробности хотелось бы выяснить. Что Муули думает об этом?
Муули, с мужицкой обстоятельностью, не высказывая своих чувств, вытер о траву испачканные в земле руки и широким жестом пригласил в дом. Он привел их в комнату и усадил за стол.
В распахнутые окна, раздувая полотняные занавески, врывался ветер и порывисто перелистывал книгу на столе. Этот ветер, полотняные занавеси, надутые как паруса, карты на стенах и старенький барометр на стене придавали комнате Муули сходство с каютой корабля, плывущего среди деревьев.
Обведя глазами комнату и остановив их на Муули, Каарел и Пауль заметили, что он усмехается.
— Ну что, начинается? — спросил он и, словно за них, ответил одобрительно: — Да, теперь, конечно, начинается.
Не садясь, меряя комнату ровными шагами, он заговорил. Дело новое здесь, дело ответственное… Чтоб начать его, чтоб зажечь других, надо притти к ним с чем-то определенным, твердым, обдуманным. Они сейчас могут все прикинуть, сообразить, в общих чертах конечно. Нужные запросы он, Муули, сделает завтра же, а сейчас — за дело… Их интересуют расчеты, — хорошо…
Муули присел за стол, и расчеты начались вновь. Сначала считали на три хозяйства с хутора Яагу — доход теперешний и доход предполагаемый — колхозный. Разница получилась значительная. Потом к хозяйствам Маасалу, Тааксалу и Семидора прибавили Журавлиный хутор, поля Роози Рист и бывшие поля Коора и землю Татрика. Разница получилась еще более разительная — в пользу объединенного хозяйства.
У Маасалу от волнения ходили желваки на скулах. Пауль тискал в потной ладони огрызок карандаша.
— Учтите, мы сейчас считались только с существующими у вас капиталами — с чем вступаете… — бросив карандаш, сказал Муули, и снова заходил по комнате… — А ведь государство поможет кредитом. Грузовую машину можете купить, динамо… Может быть, свет захотите провести…
Муули разложил на столе карту волости. Головы склонились над ней. Рука Муули вычертила на карте фигуру отдаленно напоминающую подкову. Стержень ее составили поля всех, кто, по мнению Пауля и Каарела, мог войти в ядро нового хозяйства. Полукружье подковной дуги разрывалось хутором Курвеста — землей Кянда. В середине подковы широко лежало громадное изумрудно-зеленое пятно Змеиного болота.
— Земель-то хороших у костяка нет, — жаль… Массива нет, — с досадой заметил Муули, углубляясь в карту. — Вон ведь как… Могло бы быть лучше.
— Как нет массива?.. — Каарел, подняв голову, посмотрел на Пауля и Муули. — Вот массив — Змеиное болото. Я и об этом подумал.
Пауль с удивлением уставился на Каарела. Даже Муули, никогда ничему не удивлявшийся, с любопытством поднял голову и вопросительно поднял брови.
— Тут самое большое дело — прорыть мелиорационную магистраль в два километра, — пояснил Каарел. — Остальное проще. В первый же год гектаров сорок осушим. Через два-три года на всем болоте будет расти овес и пшеница… и какой овес! Конечно, если кредит получим на удобрения, — подумав, добавил он.
— Кредит получим, — сказал Муули и, проведя карандашом жирную черту, соединил концы подковы в одно целое. — Видите? Получается совсем другая картина…
Он встал и положил карандаш на карту. Поднялись и Пауль с Каарелом. Хотя беседа продолжалась долго, но как будто осталось еще много недоговоренного.
— В работе договоримся… А народ собирайте, — сказал Муули. — Поздравляю, товарищи!
Они пожали друг другу руки, крепко встряхивая их, неуклюже топчась и застенчиво улыбаясь, как это делают мужчины, когда растроганы.
Домой Каарел и Пауль ехали задумавшись, молча. Над полями Коорди, поспевающими к жатве, ложились легкие сумерки. В росистой ложбине кричал дергач, словно разрывал на мелкие куски твердый холст. Заяц проковылял через дорогу и юркнул в недвижную, дремлющую в безветрии рожь.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Прийду Муруметс на своем дальнем заболотном хуторе ожидал Каарела, или Пауля, или кого-нибудь, кто бы смог объяснить, что же случилось там, в Коорди, — с ума там, что ли, посходили?
Со вчерашнего дня он не знал покоя. Не будь поры горячего сенокоса, он бы сам сходил к Паулю на Журавлиный хутор — узнать, но трава уже пошла в семя, дни стояли жаркие и надо было косить.
Прийду мерно помахивал косой на мягких болотных кочках, пахнущих нагретым мохом и брусничным листом, хотя и хотелось воткнуть косу в землю и бежать к соседям, — такие поразительные донеслись вести.
Порой поглядывал на тропинку, пропадающую в кустарнике, — не идет ли девчонка сказать, что пришел Маасалу. Был дома отдан строгий приказ: как придет кто — немедля бежать за отцом.
Приходя домой, первым делом с нетерпением спрашивал жену Маали:
— Никто не приходил?
— Нет, никто, — отвечала Маали.
Прийду снова, в который раз, заставлял повторить удивительный рассказ Маали о ее вчерашней поездке в маслобойню Коорди.
Не успела Маали привязать лошадь к коновязи, как ее обступили знакомые женщины, расспрашивая, правда ли, что Прийду организует колхоз? То, что услышала Маали затем, было совершенно непонятным. В волости говорили, что Прийду пришел к Каарелу Маасалу с предложением объединиться в колхоз и осушить Змеиное болото…
— Так и говорят? — беспокойно ерзал Прийду на скамье. — А я тут сижу и не знаю ничего… Ну, а Каарел что на это сказал?
— А Каарел, значит, согласился и уже собирает народ…
— Но где же он? — с отчаянием спрашивал Прийду. — Почему не приходит?
Дальше Маали рассказывала, что, по слухам, многие собираются принять участие в деле. У кооператива эту же историю рассказывали по-другому: дескать, Семидор прислал телеграмму с Черноморского побережья и требовал от своих друзей Маасалу и Рунге создать колхоз. И снова повторялись имена Рунге, Маасалу и Тааксалу и даже называлось имя Вао.
— Семидор? — ревниво спрашивал Прийду. — Где ему с болотом справиться. Он там пропадет, как курица. Нет, это Каарел или Рунге… Ведь что-нибудь да есть, не может быть, что разговор?
Прийду взволнованно смотрел на жену. Та с недоумением смотрела на него.
Прийду занялся обычными делами: отбил косу к завтрашнему дню, поправил клеть для возки сена. И когда уже Маали решила, что Прийду перестал думать о странной истории, он вдруг улыбнулся и сказал:
— А это бы можно… Я всегда говорил…
И какая-то необычная для Прийду нотка гордости прозвучала в его голосе.
— Что можно?
— А с болотом-то…
Неслышно ступая кожаными лаптями по плотно убитому земляному полу кухни, он подошел к двери и сказал:
— Мы бы тогда и белый хлеб попробовали… Да… А почем знать еще…
Прийду открыл дверь и встал на пороге, весь в лучах немилосердно припекающего полуденного солнца. Резко выступили глубокие морщины на его жилистой шее, загоревшей до лиловатой коричневости. Неказисто выглядел маленький Прийду, весь узловатый, с кривыми, сведенными от работы пальцами, в рабочих лаптях, в рубашке, потемневшей на спине от пота, но Маали любила его и такого. Она родила ему четверых детей. Он был добр к ней и к детям. Не его вина, если за двадцать лет совместной жизни они не стали богаты. В том виновато было Змеиное болото. В нем бесследно пропадали труды Прийду, оно в один год затягивало канавы, прорытые за два года; болотные травы заглушали чахлый овес, — у Прийду нехватило сил и средств, чтоб удобрить полоски, отвоеванные с таким трудом у Змеиного болота.
А вот если прорыть магистральную канаву, дать выход стоялым черным болотным водам, — высохнет громадное болото, затвердеет почва под ногами… Тут ее и бери плугом. Ведь там десятки и сотни гектаров земли можно превратить в поля, лишь нашлась бы сила, — ведь не может же Прийду один… Так вот, когда пришло время, поняли люди Коорди, где их счастье зарыто!
Прийду щурил бесцветные глаза, зоркие, как у птицы, пытаясь разглядеть, не видно ли кого на тропинке, спускающейся с холма, к низине. Маали поняла, что Прийду ждет Маасалу.
В ожидании прошел и следующий день, уже и сено было скошено, а Маасалу и Рунге не приходили. «Если никто не придет и завтра, я пойду сам, вот только сено вывезу», — решил Прийду. Одолеваемый беспокойными догадками, он сидел на скамье в кухне. «А вдруг бабьи слухи, а на самом деле и нет ничего…» Вырезывал грабли. На поделку граблей шло дерево трех сортов: ель, береза и яблоня. Для рукоятки граблей хороша была молодая ель, гибкая и тонкая; Прийду высушил ее под потолком до того, что в ней появился легкий звон при ударе. Державку надо было вырезать из дерева покрепче, чтоб плотно держала зубья в гнездах; для этой цели годилась береза. Ну, а зубья надо было вырезать из дерева плотного и крепчайшего — из яблони. Прийду дорезывал державку, когда в дверь постучали и вошел Маасалу.
— Долго заставляешь себя ждать, — укоризненно сказал Прийду, поднимаясь навстречу.
Он с восхищением смотрел на Маасалу, на могучую его шею, на жиловатые руки, словно вырезанные из яблони, когда она в расцвете лет и нет в ней ни одного гнилого и непрочного волоконца, — материал, который можно пустить без опасения на крепчайшие поделки.
— Ты, наверное, догадываешься, Прийду, что меня привело к тебе? — просто спросил Маасалу и, взяв со стола искусно вырезанную державку, с одобрением оглядел неоконченную работу; не все зубья еще были вставлены в державку.
— Слух ходит… — сказал Прийду. — Я привык к тому, что раз слух, значит — неправда… Но на этот раз я хотел бы, чтоб он оказался правдой.
Коорди всколыхнулась от края до края. Никогда еще в волости не велось столько разговоров вокруг хозяев хутора Яагу и Журавлиного, как в дни, когда с необыкновенной быстротой по самым отдаленным хуторам разнеслась весть, что новоземельцы начали организовывать колхоз. Об этом только и говорили всюду, где только встречались жители Коорди.
Встретились и Пауль Рунге с Йоханнесом Вао. Пауль сказал, что теперь можно бы продолжить весенний разговор, — время: прежде чем журавли поднимутся над Змеиным болотом, улетая на юг, в Коорди будет колхоз.
— Ага… — глубокомысленно кивнул головой Вао. — Я еще не додумал, — это ведь не поросенка покупать… Но я тебе не говорю — нет… Понял? Мне только тут кое с кем счеты свести, и тогда я додумаю — скажу…
Он сидел перед Паулем, широкий и кряжистый, плотно преградив собой выход — задвинув зятя в угол между столом и стенкой, и Пауль подумал, что нельзя позавидовать тому, с кем собирался сводить счеты Йоханнес, неотвратимо упрямый в исполнении своих решений.
С каждым днем в дело вливались новые люди. В общем хоре выделился совсем новый голос — тетушки Тильде, однокоровницы с хутора Ярве, соседки Татрика. Эта сорокапятилетняя женщина, успевшая вырастить кучу детей, сохранила при этом незаурядное здоровье и бодрость. Когда волна докатилась до нее, она с первого слова заявила, что вступает в колхоз, и поспешила сказать это во всеуслышание всей деревне. А язык у тетушки Тильде был хорошо подвешен.
— С меня хватит этой жизни, — кричала она, воинственно подбоченясь. — Я-таки попробовала, что значит ворочать в одиночку, когда плуг у Татрика займешь, лошадь у Мейстерсона, а за семенами к Михкелю Коору идешь. И если Татрик да Мейстерсон по-соседски платы не требовали, то уж Коору приходилось за всех троих отработать.
С приездом Семидора оживление и общее напряжение усилились. Он приехал к началу жатвы, словно помолодевший, с ворохом рассказов и свежих впечатлений. Его наперебой зазывали в гости, и всюду он должен был без конца рассказывать, как он кормил шелковичных червей в эстонском колхозе в Абхазии, как пил красное вино из бочонка и как выглядят быки, на которых пашут, и сколько там колхозники получили на трудодень пшеницы, меду и винограду. Его расспрашивали о больших русских и украинских колхозах, где комбайны убирают пшеницу, а молотят электрические моторы. Семидор частенько с важным видом раскрывал записную книжку, в которой было записано множество подробностей, изумлявших людей из Коорди. Записана была чуть ли не вся биография старика-колхозника, у которого жил Семидор. Старик, родом из мест, соседних с Коорди, с полсотни лет назад в поисках земли попал в Абхазию. Поселились на болоте… «На болоте! — дивились хозяева из Коорди. — Да оно и в Коорди есть, зачем ехать далеко? А теперь там все сады и виноградники, говоришь?»
— А теперь слушайте, слушайте! — возбужденно восклицал Семидор, и ему смотрели в рот. — Старик по трудодням получил две тонны пшеницы и полтонны меду, не считая изрядного куша денег!
Йоханнес Вао, пришедший послушать Семидора, густо засопел. Полтонны меду! Да он, Йоханнес, за жизнь свою столько меду не получал. Йоханнес локтем легонько отодвигал женщин, мешавших ему слушать Семидора, придвигался со стулом вплотную к нему и требовал подробностей. Женщины жарко дышали Йоханнесу в затылок.
Показывал Семидор и нездешние фрукты: апельсины и гранаты. Поражали всех гранаты, похожие на громадные луковицы, подернутые ярким румянцем, внутри — сочные красные зерна, — ягоды.
— Колхозные? — допытывались у Семидора.
Тот с уважением кивал головой.
Но и яркие апельсины и гранаты отступали на задний план, когда Семидор вытаскивал из кошолки клубни обыкновенного картофеля и давал посмотреть каждому. То были образцы новых сортов ракоустойчивого картофеля, выведенного в братских республиках, подаренные Семидору для крестьян Коорди. Клубни разглядывали почти с благоговейным вниманием. Для этих мест картофель был посущественнее гранат; здесь издавна выращивали картофель — понимали толк в этом. Со времени оккупации, когда немцы завезли в Коорди страшную картофельную болезнь — рак — и у самого Йоханнеса Вао половина прошлогоднего урожая погибла из-за нее, борьба с этим злом обретала важное значение.
— Tublid mehed[14], — одобрительно сказал Йоханнес Вао.
— Tublid… — как эхо подтвердил приболотный житель Прийду Муруметс со своего места.
Взглянув на него, Семидор вспомнил и с воодушевлением рассказал о чудесной мелиоративной машине, чью работу он видел на землях одного колхоза. Сложная и умная машина эта успевала за день вырыть такой длины канаву, которую не смогли бы выкопать сотни людей за несколько дней.
— Я съем свою старую шляпу, — поклялся Семидор, — если эта машина не двигалась быстрее по болоту, чем «Северония» по морю… И за собою оставляла глубокую канаву…
— Вот нам бы, — завистливо вздохнул кто-то.
— Но машины эти в состоянии иметь только большие хозяйства… Колхозы, — покровительственно сказал Семидор.
И в комнате наступило задумчивое молчание.
За всеми этими важными событиями и подошедшей жатвой отступило в тень и почти незаметно прошло одно немаловажное происшествие в Коорди. За неделю до жатвы состоялось экстренное общее собрание пайщиков машинного товарищества Коорди. Доклад ревизионной комиссии — делал его Йоханнес Вао — оказался настолько неблагоприятным, для Кянда, что председателя почти единогласно было решено переизбрать. Тогда-то на собрании Пауль понял, о каком это сведении счетов говорил Вао.
Когда же спустя неделю Пауль Рунге, выполняя долг сельского уполномоченного, явился на хутор Курвеста вручить Кянду одну очень неприятную для Юхана бумагу, он долго стучался за запертой дверью, но так и не достучался. Странная тишина на хуторе поразила его. Он прошел в хлева, — там было пусто, ни коров, ни свиней — все исчезло. Свежая коровья шкура валялась в сарае. Тогда-то Паулю бросился в глаза след грузовой машины на дворе хутора.
Когда открыли двери, то в комнатах не нашли никого — ни Кянда, ни жены его с крошечной круглоглазой собакой. Пол покрывали обрывки бумаги, сор.
Снова проклятый хутор опустел.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Йоханнес Вао писал заявление. Хотя оно уместилось на тетрадном листе, разлинованном в косую клетку, но писал он долго и медленно, останавливаясь почти на каждом слове.
«Прошу принять меня, Йоханнеса Вао, в сельскохозяйственную артель «Uus Elu[15]…» — написал он, подумал и принялся грубыми, плохо гнущимися пальцами снимать тонкое волоконце с кончика пера.
Новая жизнь — так вот как назвалось новое общее хозяйство, в которое входили десятки старых хуторов, теряя прежние привычные имена Яагу, Вао, Соо… Было оно названо этим именем, говорят, по предложению Семидора.
«Вступая в артель, вношу двух лошадей…» — написал Йоханнес и снова приостановился. Кто еще вносит по две лошади? Таких немного: Татрик да Мейстерсон… Большинство сдаст по одному коню: Лаури, Муруметс, Тааксалу и другие. Пауль Рунге приведет старого Анту.
Йоханнес Вао значительно крякнул и поверх очков посмотрел на пустой стул перед собой. Ему б хотелось, чтоб сейчас перед ним сидел Семидор…
— Новая жизнь, — это правильно, — сказал бы Йоханнес Семидору, — я одобряю, но учти, что лучших коней для нее отдал я, Йоханнес…
Йоханнес Вао прибавил к списку корову и перешел к перечислению сельскохозяйственного инвентаря. Первой по порядку поставил жатку. Кто там еще внес жатки? Татрик и Лаури. Но у Вао лучшая жатка; у других они старые, уже несколько раз ремонтированные. Косилку и пароконные грабли прибавил Йоханнес к списку и бороны — дисковую и пружинную, два плуга, телегу и сани…
Йоханнес Вао все строже смотрел на пустой стул.
— Так-то вот, приятель Семидор. У тебя всю жизнь не то что косилки, а и порядочного плуга не было, — хотелось ему сказать покровительственно. Сознание собственной щедрости перед новой жизнью так и распирало его. Ему хотелось, чтоб не только Семидор, но и Маасалу, и Рунге, и все другие увидели его во всем величии и оценили как подобает.
Закончив писать, Йоханнес потребовал у Лийны горячей воды и побрился. Потом надел старомодную темную тройку, купленную когда-то в магазине портновской фирмы Янеса в Тарту, взял в руки самодельную палку, вырезанную из суковатого можжевельника, — он редко пользовался ею, — и отправился со двора.
Путь был недалек — до хутора Курвеста, где несколько дней назад разместилось правление сельскохозяйственной артели «Новая жизнь».
Он шел не спеша, важный и чинный, с сознанием собственного достоинства, словно нес людям Коорди благодать. Он не испытывал ни сожаления о минувшем, ни опасений перед будущим. Да и что жалеть? Если уж сказать правду, нечего особенно помянуть в прошлом, — все одна бесконечная мелкая суета, забота и боязнь жизни. Боязнь, заставлявшая оглядываться на каждом шагу. Погубить человека жизнь могла на хуторе любым путем, любым проявлением: дождем и засухой, морозом и жарой. Остерегаться следовало банков и акций, посредников «Мясоэкспорта» и сельского торговца Кукка, свиной чумы и капризов неустойчивых рыночных цен. Вот почему жил с оглядкой; будешь жить не спеша, когда приходилось смотреть в оба — не завязнуть бы…
Правда, позже, при советской власти, не надо было бояться банков и акций, но все-таки хутор оставался хутором — кусочком прошлого, с его неуверенностью в завтрашнем дне…
Всему свое время; настало время менять жизнь в Коорди — Йоханнес Вао понял это и одобрил.
Первый, кого увидел Йоханнес, войдя на двор хутора Курвеста, был Сааму. Высоко подтянув брюки, он, согнувшись и виляя худым задом, мыл крыльцо дома и ступени.
— Ты здесь, Сааму? — удивился Йоханнес.
— Я… да… — деловито сказал Сааму. — Правление взяло: люди нам нужны. И ты к нам? Заходи в правление.
Невнятно пробурчав что-то, Йоханнес вступил в комнату. При его появлении шум многих голосов не смолк. Семидор стоя возбужденно доказывал что-то. Йоханнес обошел всех, чинно пожимая руки Прийду Муруметсу, Петеру Татрику, Паулю и Роози и другим.
Затем он подошел к столу, накрытому красной материей, обменялся рукопожатием с Каарелом Маасалу, председателем колхоза.
— Пришел. Вот и хорошо, — одобрил Маасалу. — Ну, что хорошего принес?
Йоханнес при наступившем общем молчании, не спеша, достал из грудного кармана тетрадный лист с заявлением, разгладил его и, значительно откашлявшись, протянул Маасалу.
Он с такой важностью, так медленно подавал заявление, что, казалось, это не бумага лежала на ладони, а умещались на ней и кони, и жатка, и пароконные грабли, и куча всякого другого добра. Он стоял, расставив ноги, и, казалось, занимал больше места, чем обычно, заслоняя своей широкой спиной и стол, и Каарела Маасалу за столом от людей, сидящих в комнате.
Может быть, Йоханнес ожидал, что настроение его передастся Каарелу; тот с особым уважением примет и прочтет вслух перед всеми длинный описок. Но ничего этого не случилось. Каарел, небрежно скользнув глазами по первым строчкам, положил заявление в папку и кивнул головой.
— В порядке. Садись-ка, послушай!.. У нас тут неофициальное совещание — семейное…
И сразу же, словно и не произошло ничего особенного, Семидор, продолжая прерванный разговор, с жаром заговорил о каком-то проводе на заброшенной линии в волости. Вот где выход! Испросить разрешения и снять этот провод, и они будут обеспечены им для своей линии от мельницы…
Йоханнес с удивлением оглянулся, не понимая, что же собственно произошло. Он совсем по-другому представлял себе этот торжественный момент. Похоже, что его едва заметили, продолжая говорить о какой-то проволоке, и азарт этого чудака Семидора, кажется, трогал людей, сидящих здесь, больше, чем весомый пай Йоханнеса, только что внесенный в общее дело, хотя пай его во много раз превосходил ценность этой проволоки.
Йоханнес, у которого и плечи сразу как-то больше обвисли, тихо отошел в сторону и, не возбуждая ничьего внимания, уселся у печки рядом с Прийду Муруметсом.
Разговоры, как он понял, шли о первоочередных работах.
Прийду Муруметс, с медным румянцем на скулах, явно-волновался и, оглядываясь на Семидора, видно гнул какую-то свою линию в беседе с Рунге и Татриком. Разговор, повидимому, шел об осушительных работах.
Но Семидор говорил так громко и с таким жаром, что невольно заставлял всех слушать себя. Рассказав, как можно достать дефицитный провод, Семидор сообщил, что он даже знает, где по сходной цене можно купить динамо. В конце концов, не такое уж сложное дело провести свет, ведь есть же деньга на динамо… Только надо общими силами лес привезти и столбы поставить, а проволоку несколько человек сделают. Динамо он, Семидор, смонтирует сам. Две недели — и будет свет в Коорди!..
— Двадцать человек за две недели пророют магистральную канаву… — сказал рядом тихий, настойчивый голос, и Йоханнес оглянулся. Прийду умоляюще смотрел на Рунге, Татрика и Вао.
— За две недели мы двадцать гектаров расчистим, — продолжал Прийду, хватая Рунге за руку. — Их можно запахать уже в этом году… Нам хорошая земля важнее всего… Свет подождет.
И такая боль, такая тоска по этой хорошей земле прозвучала в его голосе, что Йоханнес кашлянул в смущении и строго кивнул головой.
А Семидор уже требовал досок, чтоб хотя бы временно починить дамбу на старой мельнице. Ему и людей для этого немного нужно, — вот Прийду Муруметс поможет и еще кто-нибудь…
— Сомневаюсь… — сказал Маасалу хладнокровно, слушая идущие а разных концах комнаты разговоры. — Прийду сам думает, как бы тебя на болото заполучить…
Все расхохотались.
— Да я с бабами сделаю, — вот с Роози и с тетушкой Тильде, — сказал Семидор.
— Роози у нас скотный двор примет, — возразил Каарел.
— Да я сам сделаю… — рассердился Семидор. — В колхозе первое дело свет, — иначе какой же это колхоз… Вы не были в кавказских колхозах никто, а говорите…
— С тридцати гектаров вспаханного болота на худой конец можно получить сорок пять тонн овса, — снова сказал тихий голос рядом с Йоханнесом. — Девяносто возов овса. Девяносто возов…
— На скотном дворе нужен свет, — сказала Роози.
— Вот-вот! — торжествующе подхватил Семидор.
Йоханнес внимательно оглядел всех. Петер Татрик и Антс Лаури одобрительно следили за Семидором. Роози, сидя у окна, задумчиво смотрела в окно, в сторону хлевов; она, повидимому, меньше думала о болоте и о медном проводе, а больше о завтрашнем дне, когда ей придется принимать коров в общественный хлев на хуторе Курвеста. Рунге задумчиво покусывал карандаш, и по лицу его трудно было угадать его мнение.
— За две недели двадцати человекам не осушить тридцати гектаров, — с сомнением высказался Татрик.
— Что, кто сказал? — вскинулся Прийду.
Маленький упорный Прийду, болеющий за поля, которых не было еще ни под небом Коорди, ни на карте, вдруг очень пришелся по сердцу Вао. Чем больше прислушивался и присматривался Йоханнес к Прийду, тем больше и прочнее начинал ему нравиться этот человек, с его болью за плодородную землю, с его жадностью к освоению гиблого болота. Правда, на первый взгляд, слишком уж на большое, непосильное размахивается, ну, а уж очень было бы заманчиво… Ведь там две сотни гектаров!
И все более недоумевал Йоханнес, почему не поддержат предложение Прийду все, а некоторые как будто даже колеблются в выборе первоочередных работ.
Йоханнес строго кашлянул и вытянул руку туда, к Маасалу, к новым портретам на стенах, к плакату, еще пахнущему свежим клейстером. Он призывал к вниманию. Маасалу помог ему, постучав карандашом по столу.
— Я не понимаю, о чем спорят? — сказал Йоханнес. — Или нам поля и пастбища не нужны, доход не нужен? Когда старый Давет — вы все знаете его — пришел сюда, Змеиное болото было на месте всего Коорди. Давет говорил так: «Как только я расчистил место под один лапоть, так сразу стал присматривать, куда бы поставить другую ногу… Если там камень, я его выкапывал; дерево — вырывал с корнями…» То были слова Давета. Так вот… — Йоханнес стукнул в пол можжевеловой палкой. — Я иду с тобой, Прийду. Скажите, что я пустослов, если двадцать крепких мужиков не сделают эту паршивую канавку и не расчистят добрый кусок болота за две недели! Мне это дело нравится. Я иду с тобой, Прийду…
— Мне это дело тоже нравится, — сказал в наступившем молчании Антс Лаури.
Прийду радостно закивал и весь, вместе со своим табуретом, придвинулся к Вао, обретя в нем нового союзника.
— Если засеять болото, скот будет накормлен, — одобрительно сказала Роози.
Теперь все, сколько их ни было в комнате, смотрели на Йоханнеса. Он с удивлением почувствовал, что то внимание и восхищение, на которые рассчитывал, неся сюда свое добро, пришли, но не кони его с жаткой и косилкой завоевали этих людей, а первое выступление его.
Даже Семидор вдруг замолчал и уставился на Вао, словно впервые увидел его в комнате.
— Ну хорошо… — почти просительно сказал он. — А дамбу ты мне поможешь починить?
— Канал пророем — отчего же, можно, — ревниво вмешался Прийду, предвосхищая ответ Йоханнеса.
— Ну, а ты как думаешь, бригадир? — спросил Маасалу у Рунге.
— Все надо делать, — просто сказал Пауль. — И болото осушим, и свет проведем.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Кристьян с матерью Меетой договорились отдать в колхозное стадо корову Тийу, а себе оставить двухгодовалую телку. Так решила Места. Уж если каждая семья, вступая в колхоз, вносит корову, то и они это сделают. Они не хуже людей, правда, Кристи?
— Правда, правда, да… — отвечал Кристьян.
Утром, когда старая Меета надела праздничные башмаки, собираясь вести Тийу на скотный двор, неожиданно выяснилось, что Кристьян хочет сопровождать ее. У него там кое-какие дела.
— А зачем ты, Кристи, новую рубашку надеваешь? — подозрительно спросила Меета.
— Ты ж надела праздничный платок… — сказал Кристьян, и Меета ничего не нашлась ответить.
Кристьян, подпирая языком толстое румяные щеки и мыча под нос песенку, побрился, примочил и причесал волосы, наваксил сапоги с голенищами. И вышел парень хоть куда: статный, румянец во всю щеку, — ни в одну дверь не пройти, чтоб не склонить голову, а то лбом стукнется.
И отправились прохладным, ветреным сентябрьским утром. Кристьян — впереди, держа веревку, накинутую на рога Тийу; Меета, маленькая высохшая старушка, еле поспевала сзади с хворостиной в руке.
Порывистый сентябрьский ветер подгонял, трепал платок Мееты и обдувал платье вокруг старушечьих ног.
— Нам бы никто слова не сказал, если бы и телку свели, — завела Меета разговор, соскучившись от долгого дорожного молчания. — А корову бы оставили, — она у нас одна… Ну, да пусть не говорят, что мы телкой отделались.
— Правда, правда, да… — рассеянно подтвердил Кристьян..
Надувая щеки и подражая медной трубе, он забубнил маршевый мотив:
— Трум-там, туру-рам…
— Могли бы сказать — Кристьян в колхозе человек не последний, а корову пожалел.
— Правда, правда…
Издали, от хлевов бывшего курвестовского хутора, донеслось мычание коров. Среди женщин на дворе Кристьян увидел рослую фигуру Роози в халате ослепительной белизны и с платком, повязанным как-то особенно — чалмой вокруг пунцовеющего лица.
— А ты почистила наше животное? — вдруг встрепенулся Кристьян. — Видишь, там бабы щетками трут. Скотница, наверное, осматривает?
— Ну, уж хороша будет, — обидчиво сжала губы Места. — Понравится.
Вступили на двор, где оживленно звучали женские голоса. Меета привычным движением подтянула узел платка под подбородком и, словно с разбега, присоединила свой крикливый голос к шумливой бабьей разноголосице.
Кристьян, несколько смущенный видом белоснежного халата и пунцовеющего лица, неуклюже протиснулся меж коровьими боками, подтянул упирающуюся Тийу и, не поднимая взгляда выше выреза халата и тугой загорелой шеи, пробурчал:
— Ну, вот наша рогатая, — годится?
Роози критически осмотрела корову и заодно искоса, быстрым взглядом, окинула Кристьяна с головы до ног.
— Вот мы и думали — телку или корову… — начала Меета.
Не будь здесь Мееты, Роози насмешливо уперлась бы ладонями в бока и, еще раз оглядев Кристьяна, сказала бы:
— Да на тебя, Кристьян, больно смотреть глазам: сплошной блеск, пригладился, наваксился, а корову почистить забыл; вон заскорузло на боках…
И он бы взял у нее скребок, да и занялся бы коровьими боками, как некоторые хозяйки до него тут, прежде чем сдать своих краснопегих на попечение Роози.
Но тут была Меета, мать Кристьяна, и о таком строгом разговоре не могло быть и речи. И Роози сказала ласково:
— Да, хороша… Я вот только ее чуть-чуть приглажу.
В руках Роози появились скребок и щетка; наскребывая и начищая корову, она похваливала статьи ее.
Маленькая Меета, преисполненная гордости, только развязывала и завязывала узел, одергивала кончики платка, и широкая улыбка лучилась на ее морщинистом лице.
Горячий выдался денек у Роози. С утра стали прибывать хозяйки. Боже, сколько просьб, наставлений и поучений услышала Роози! У красной Хельде частенько трескаются задние соски, — пусть Роози не позабудет почаще смазывать их; пестрая Сельге Татрика недавно болела, — ее необходимо кормить получше. А своей Тасане Сальме Мейстерсон перед дойкой всегда предлагает кусок хлеба с солью, — иначе не даст молока. Пусть Роози учтет все это.
Сдав своих коров, хозяйки не уходили, а толпились здесь же или шли в хлев, следили, как Роози распределяет коров по стойлам, проверяли подстилку, заглядывали в чан с водой — свежая ли?
Роози выслушивала все советы, но хор просьб и наставлений, казалось, не смущал ее, не отвлекал от исполнения каких-то своих особых требований, самой Роози поставленных перед собой. В конце концов, главная здесь была она!
Когда корова, врученная Роози, казалась ей недостаточно холеной и опрятной, она неумолимо говорила:
— Mammi[16] Лаури, я в таком виде не приму от вас животное. Вот щетки… в бочке вода. Знаете, в стойло идут, не в поле, дождик их не помоет. Вы с меня завтра спросите, а сегодня я с вас…
Наконец Роози нашла, что Тийу можно ввести.
— Ну, иди, хозяин, веди, — усмехнувшись, сказала она Кристьяну.
В обширном теплом хлеву было полно беспокойства и мычания: еще бы — новая обстановка, новые соседки, люди ходят…
Тийу ввели в чистое стойло. Привязывая корову, Роози открыла, что цепь чуть коротковата.
— Иди в сарай, там на санях лежат цепи — выбери, — сказала она Кристьяну.
Тот вышел и замешкался.
— Да он не найдет, наверное, — спохватилась Роози.
Пошла и она, попросив Меету:
— Mammi Меета, подержите ее пока, будьте так любезны.
Меета взялась за веревку и осталась ждать. Она погладила Тийу, дала ей корочку хлеба и, перекликаясь через хлев с Сальме Мейстерсон, завела длинный разговор насчет того, что хлев хорош, ничего себе, и, видно, Роози человек ревнивый к делу, ничего себе.
Меета успела уже рассказать жене Мейстерсона о своих раздумьях — вести ли телку или Тийу, а цепь все не находилась.
Старухе надоело ждать, она привязала веревку к загородке и тоже отправилась в сарай.
То, что она, подслеповато щурясь, увидела в темном сарае у сенной кучи, бесконечно поразило ее. Стоя у старых саней и корзины, в которой, видно, выводили цыплят, Кристьян крепко обнимал Роози и целовал. Цепь лежала перед ними на полу.
Меета, онемев, смотрела на них, но тут, откуда-то из-под саней, выскочил мохнатый щенок и затявкал на старуху.
Оглянувшись, заметив Меету с поджатыми губами, Роози вырвалась, взвизгнула и, схватив корзину, опрокинула ее на голову счастливого Кристьяна. В воздухе зареял куриный пух.
— Кристи, так я и знала, тебя ни за чем нельзя послать, — строго сказала Меета, укоризненно глядя на сына, чья голова была увенчана перьями и сенной трухой, а красная рожа так и лопалась в счастливой улыбке.
Меета сама взяла цепь и пошла помочь Роози.
Возвращались тоже вместе: Меета и Кристьян. Впереди шел Кристьян, — огромный, широко размахивая руками, — глубокие следы от его ног оставались на размякшей осенней тропинке; казалось, сама земля, поднатужившись, носила его. Сзади едва поспевала маленькая Меета; почти три шага ее умещались в одном его шаге.
— Трум-там, тара-рум… — напевал Кристьян.
— Кристи, я думаю, Тийу будет хорошо там, — сказала Меета.
— Правда, правда, — охотно согласился сын.
Они шли мимо перелесков, охваченных осенним желто-багряным пожаром. Сверху, со стороны Змеиного болота, донеслись трубные звуки. Меета и Кристьян подняли головы. Вытянувшись, вереницей на юг летели журавли. Исполнялись слова Рунге: «Не успеют улететь журавли, как в Коорди будет колхоз…»
Осенние листья шуршали под ногами. На осиновой золотой россыпи, словно красные гусиные лапы, лежали кленовые листья; могучей стеной стояли вечнозеленые ели Коорди.
Залюбовавшись роскошным изобилием ярких красок, Места подумала о тех радостных узорах, что с давних пор вышивают девушки Коорди на поясах к свадьбам.
Глядя на свадебно-яркое, почему-то вспомнила Меета бедную юность, побои, жизнь у чужих людей, вечную борьбу за кусок хлеба вместе с Яаном, отцом Кристьяна. Остро кольнуло воспоминание и сразу же бесследно растаяло, как грустный журавлиный крик в небе.
— Кристи, — дрогнувшим голосом сказала мать.
— О? — отозвался сын.
— У меня сердце спокойно. Мы теперь крепко пустили корни в землю, правда?
— Ну конечно, — проворчал Кристьян, с удивлением оглядываясь на мать. — Ты что хочешь сказать?
— Это не я, а отец твой Яан хотел сказать, — строго сказала Меета. — Я, говорил он, как сосна на болоте, подойди любой и вырви с корнями — земля не держит… А тоже был ростом с мачту.
Дорога входила в рощу; ворота из жердей преграждали путь. Несметные гроздья рябины свешивались над лесной оградой, сочно алели крупные ягоды шиповника. Казалось, войди за ворота ограды, отороченной пышными красными гроздьями рябины и кустами орешника, — и найдешь там не только спелые орехи, а и чудесных сортов яблоки, и вишни, и сливы…
— Кристи, — опять сказала Меета.
— Что? — спросил Кристьян.
— Роози хорошая девушка, я так думаю…
— Правда, правда, да! — с воодушевлением, согласился Кристьян, и, схватив Меету за талию, он осторожно поднял ее высоко и опустил по ту сторону ворот и захохотал так гулко, что эхо разнеслось по роще и какая-то птица сорвалась в чаще и с шумом полетела прочь.
Они шли к дому. Меета, еле поспевая за сыном, любовно глядела на его широкую спину и неохватную шею и думала, что вот и отец был такой. Хоть и бедная земля Коорди, а рождались на ней иногда великаны, огромной силы люди, в чьих руках самый тяжелый плуг казался легче соломинки. И если б спросили Меету, как же вырос такой силач, она бы ответила просто: «Стань с десяти лег за плуг, да скоси луг величиной во всю волость Коорди, да поешь побольше простокваши — и ты будешь таким!»
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Широким шагом Пауль ступал за повозкой, нагруженной инструментом: лопатами, кирками и топорами.
За собой он слышал шумное дыхание многих людей, их тяжелую поступь и громкие разговоры. Порой Паулю бил в нос едкий удушливый дымок самосада; такой крепости табак мог курить в Коорди только Йоханнес Вао. Тут он и шагал где-то в передних рядах в своем брезентовом плаще и резиновых сапогах. По временам Пауль слышал басовитый смех Тааксалу и тонкий тенорок Прийду Муруметса.
Люди из Коорди шли за Паулем тесной группой — все те же, что когда-то спасали его хутор от пожара, и много новых, примкнувших к ним. Только Семидора и сельского кузнеца Петера не было с ними, — они чинили дамбу на старой мельнице, готовя ее к пуску.
Капризное осеннее небо то осыпало идущих мелким скоро проходящим дождем, то сквозь голубые прогалины проливало косые солнечные полосы, скользящие по окрестным полям и рощам.
Пошли унылые болотные кочки, покрытые редко торчащим седым быльем и изумрудно-зеленым мохом; кое-где меж них росли низкорослые березки и сосенки — странные кривые сосенки, негодные ни на топливо, ни в работу. Высохшие нижние сучья этих дряхлых уже в своей юности деревьев густо покрывал лишайник.
Колеса телеги вошли в мягкую, вязкую колею; дорога явно портилась.
Выйдя на маленький луг с громадным валуном посредине, дорога вдруг кончилась, словно споткнулась в растерянности, и дальше, вглубь болота, протянула от себя лишь несколько разветвляющихся тропинок.
Антс Лаури остановил лошадь и принялся распрягать ее. Все разобрали кирки и лопаты.
В десятке саженей от валуна виднелась свежеразрытая земля; там начиналась широкая и глубокая канава длиной с полкилометра. Она напоминала Паулю окоп. Пока — слепой окоп без входа и выхода — тупичок, пустяшный рубец на теле болота; его быстро затянет, если не соединить с другим, магистральным каналом.
Вышли к тупичку канавы, молча остановились и сгрудились. Хотя их было и немало, — восемнадцать человек насчитал Пауль, — но среди огромного однообразного и унылого серого пространства, где сама мягкая податливая почва плохо держала людей, их, казалось, было меньше, они словно бы терялись здесь.
Петер Татрик, измерив глазами проделанную работу, заглянул вперед на ровный ряд вешек. Был прорыт еще только кусок канала, а ряд вешек уходил далеко, сливался где-то с серыми кочками, с кустарником, словно бы конца ему не было…
Татрик поскреб щетинистый подбородок. И многие вслед за Татриком невольно глянули на линию вешек. Далеко как будто…
— Медленно роем… — сказал Пауль. — Полкилометра за пять дней. Сегодня надо больше.
Татрик пожал плечами.
— Да ведь, чорт его знает, кажется жмем, — пар идет от спины…
— Нет, послушай, Петер, мне сдается, мы неправильно рыли в первые дни. Ты вот брал себе кусок в три сажени, скажем, и рыл его с начала до конца, и каждый — так… И получается, что хотя нас тут два десятка здоровых мужиков, а все равно — роем в одиночку… Дело новое, и работать надо по-новому.
— Ну, а как же, ты думаешь? — с обидой спросил Прийду, ставя ногу на выступ лопаты. — Ты бригадир…
Пауль внимательно обвел взглядом людей, столпившихся вокруг него, и секунду помолчал. Во всех глазах он видел озабоченное внимание и в то же время некий скептический холодок: особых откровений они, кажется, не ожидали от него.
Паулю было нелегко сейчас. Пожалуй, не ему было учить этих людей, умудренных вековым опытом, как держать в руках лопату и вонзать ее в землю. Они знали это и без него. И в нерадивости их не приходилось упрекать… На лице Йоханнеса Вао, флегматично разглядывающего лезвие своей лопаты, Пауль прочел эти мысли.
— Ну, посмотрим, что-то ты мне скажешь, — говорило лицо Йоханнеса.
Пауль вобрал голову в плечи, сбычился, словно собираясь поднять очень большую тяжесть.
— Я думаю, мы возьмемся по-другому, — сказал он. — Я и Тааксалу встаем впереди — прокладываем трассу, снимаем верхний пласт, рубим корни, выворачиваем камни. За нами идут Прийду Муруметс, Йоханнес Вао и еще два человека покрепче, — они снимают второй пласт. Все остальные углубляют канал до дна. В прошлые дни каждый из нас сам ходил точить инструменты. Сегодня за точило встает один человек, скажем — Антс Лаури… Возьмемся по-новому, и будет нас не восемнадцать человек, а дважды восемнадцать…
— И инструмент менять на ходу, чтоб не стоять людям, — вмешался Прийду.
— Правильно, на ходу, — подтвердил Пауль. — И разделим труд: одни возьмут лопаты, другие кирки и ломы.
Заговорили. Точильный станок поставить поближе… Надо бы двух топорников — корни рубить — чтоб не копаться самому…
Пауль облегченно вздохнул и посмотрел на Йоханнеса Вао. Хотя тот ничего не сказал, но по деловитости, с которой он скинул свой дождевик, Пауль понял, что возражений не будет.
И лопаты впились в вязкую землю, заходила кирка в руках Тааксалу, с кряканием прорубая гибкое плетенье болотных корней… Сдирая черную торфяную корку, выдирая валуны, Пауль Рунге и Кристьян Тааксалу двинулись вперед. Лопаты Вао, Муруметса, Майстерсона и Татрика вошли в синеватый суглинок. Они врывались по колено в землю. А все идущие за ними углубляли их работу; только склоненные спины виднелись над рвом, да взлетали лопаты, выбрасывая землю.
Когда же на краю канавы возникла насыпь — скрылись и спины. И только головные, Рунге и Тааксалу, продвигались во весь рост, с заметной для глаза скоростью. А уж за замыкающими на дно канавы из почвы, пропитанной влагой, просачивалась коричневая, пахнущая торфом вода и послушно и покорно следовала за людьми…
В разгаре работы на болоте появился Каарел Маасалу. Он, не задерживаясь, подошел к головным. Некое радостное нетерпение — еле сдерживаемая улыбка торжества почудилась Паулю при вопросительном взгляде на лицо председателя.
Маасалу взглянул на часы, посмотрел вперед на линию вешек, пересекающих болото, и сказал:
— Сегодня ходко идет. Как думаешь, до «Трех сосен» дороем сегодня?
Пауль посмотрел вперед, прищурился и усмехнулся.
Каарел шутит. До трех сосен, заметно возвышающихся над мелкой порослью, — не менее километра… Там уж и до конца недалеко…
— Через недельку, если постараемся, — лаконично ответил он.
— Ты уверен? — спросил Каарел, и ничем не сдерживаемая торжествующая улыбка раздвинула его белозубый рот..
Пауль с недоумением уставился на друга. Тот скинул пиджак и нетерпеливо попросил:
— Дай-ка я…
Поработав с четверть часа, вернул лопату, снова взглянул на часы и, словно между прочим, сказал:
— Муули звонил.
— Ну? — Пауль заинтересовался. — Что же, он хочет приехать?
— Хочет, — кивнул головой Каарел. — Да не один. Из города, с предприятий народ едет к нам на воскресник… Йоханнес Уусталу сообщил утром. Человек двести, кажется…
— Шутишь? — изумился Пауль, вытаращив глаза. — Хотя что ж, от старого Йоханнеса можно ожидать…
Он радостно захохотал.
— О-хой! — заорал трубный голос Кристьяна Тааксалу. — Старый Уусталу едет! Помощь идет, — жми да жми… О-хой!
Колхозники с любопытством поднимали головы. Что там болтает Тааксалу? Какие вести принес Маасалу? Откуда бы это ждать помощи, кто едет?
Каарел поднес ладони ко рту рупором, но в это время издали донесся протяжный гудок машины.
— Едут! — заорал кто-то.
И, побросав кирки и лопаты, люди вставали на насыпь, чтоб лучше видеть.
По дороге, которой они утром пришли сюда, вдали, мелькая меж сосенками, ехала машина, другая, третья… Машины — полные народом… Ярко, непобедимо, притягивая к себе взоры и словно отрицая все ржавые и серые цвета огромного Змеиного болота, на машинах алели флаги. Ветер издали донес слова песни.
Парторг Муули поискал глазами, куда бы встать, чтоб охватить одним взглядом людей вокруг, и, не найдя ничего высокого на болотной почве, вскарабкался на станок точильного круга.
Колхозники из Коорди одобрительно усмехнулись находчивости Муули.
Теперь Муули видел множество незнакомых ему лиц, молодых и старых, мужчин и женщин; они сомкнулись с так хорошо знакомой ему группой людей из Коорди. Он отыскал глазами в толпе Муруметса и Вао, Лаури, Татрика и Тааксалу, по плечи возвышающегося над шляпами мужчин, — все они стояли сейчас немного смущенные и как бы оробевшие. — и дружески улыбнулся им.
— Смотри-ка, как много стало сегодня людей на Змеином болоте, — одобрительно и громко сказал Муули. — Тут никогда не было столько людей… Знать, советская власть привела кожевников, железнодорожников, пекарей и всяких других профессий рабочих из соседнего нашего города помочь колхозникам построить новую жизнь в Коорди, помочь осушить Змеиное болото, создать на нем хлебородные поля — хлеб посеять на болоте…
— Я вижу, они привезли флаги с собой и большие портреты Ленина и Сталина, — задумчиво сказал Муули. — На Змеином никогда не реяли флаги. Советские люди принесли эти флаги в тайгу и пустыни, на север и юг… И всюду, куда несут они, по зову великого Сталина, новую жизнь, где открывают электростанции и шахты, заводы и новые поля, ставят они красные флаги. Так вот и сегодня, приступая к общей работе на Змеином болоте, мы распускаем флаги над ним… К работе, товарищи, за дело!
Он соскочил на землю в громе аплодисментов. Неся впереди флаги, позванивая лопатами и кирками, люди двинулись вперед. Длинной вереницей вдоль линии вешек растянулись они…
Йоханнес Уусталу, посовещавшись с Паулем, повел передовую бригаду из железнодорожников — опытных рабочих. Уусталу, как всегда во время работы, был в своей неизменной полинявшей синей робе; двигался средь множества людей как в собственной семье, — все его знали, и никого не удивляло его присутствие здесь. Такое уж дело у Йоханнеса — строить и строить новое!
Йоханнес Вао потянул задумавшегося Пауля за рукав:
— Не будем терять времени, — подмигнул он. — Знаешь, гости всегда по хозяевам равняются…
И снова кирки впились в землю, полетели комья с лопат.
Шумно стало на Змеином болоте от криков, от стука топоров и кирок, от непрестанного визга точила. Где-то впереди люди, расчищающие болото, разожгли костер. Огонь сначала принимался плохо, болотные цепкие травы шипели и гасли, пропитанная сыростью почва губила огонь, и корни, и сучья, сваливаемые в огонь, были сырые, но усилия и умение людей сделали свое, — костер разгорелся. Тогда в него стали бросать выкорчеванные пни, охапки кустарника и целые сосенки. Пламя загудело и, раздуваемое ветром, взмыло высоко, и дым столбом поднялся к самому небу. Было в этом хлопотливом жарком горении пламени, испепеляющем болотную поросль, мешающую вспахать поле, что-то родственное кипучей работе людей на болоте.
Костер увидели издалека Семидор и кузнец Петер, ремонтировавшие дамбу на старой мельнице.
— Горит, — с удовольствием сказал Семидор и сморщил красное, словно печеное лицо, в веселой улыбке. — Выжигают Змеиное под поле…
— Да… — согласился Петер, откладывая на минутку молоток и клещи, чтобы полюбоваться на столб дыма, встающий на горизонте. — Конец Змеиному болоту.
Когда солнце перевалило за полдень, люди из Коорди на короткое время приостановили работу и, усевшись тут же на краю канавы, развязали мешочки со снедью, прихваченной из дому, чтоб подкрепить силы.
Муули, проходя мимо, услышал веселый хохот в группе, окружающей Йоханнеса Вао, — тот, обсасывая баранью кость, что-то рассказывал.
— О чем речь? — поинтересовался Муули.
— Э, пустяки, о своем костюме рассказываю, — благодушно сказал Вао, взглядом указывая на рукав своего изрядно поношенного пиджака. — Такое ведь дело, я его у Янеса в Тарту пятнадцать лет назад купил… Так он мне все хорошим и крепким казался. А сегодня утром стал собираться — думаю, чего бы надеть похуже на работу? Лийна и говорит: «Надень свой старый костюм, его все равно выбрасывать скоро…» «Как, старый?» — думаю. Посмотрел как следует, и верно: на локтях просвечивает, воротник лоснится, и рукава вроде с бахромой… И верно, не годится уже… Как другие ткнули, так и сам заметил. Это я к тому говорю, что старая шкура до времени все новой кажется, и цепляешься за нее, а ведь беречь ее не стоит, лучше новую завести… Вот это я им и рассказываю…
И Йоханнес Вао с простодушной лукавинкой посмотрел на Муули из-под нависших своих бровей.
Муули покрутил головой, хотел что-то сказать, но не сказал, и, улыбаясь, тихо отошел.
Работы шли весь день до сумерек. В пятом часу дня по живой цепи донеслась сесть, что Йоханнес Уусталу дошел со своими железнодорожниками до «Трех сосен». Вода в канаве прибывала, хлюпала под ногами, сначала она была но щиколотку, потом поднялась выше. Многие разулись. На коротком летучем совещании Муули с бригадирами было решено непременно сегодня же пробиваться на соединение с магистральной сетью в полукилометре от «Трех сосен», чтоб дать выход воде. Если не удастся сегодня прорыть канал во всю ширину, то провести от «Трех сосен» хотя бы узкую канаву, с тем чтоб потом расширить ее.
Люди из Коорди, закончив свой участок, пошли вперед на помощь Уусталу. Они работали с веселой яростью, грязные, промокшие с ног до головы, но не чувствуя ни промозглого осеннего ветра, ни холода воды. В руках Тааксалу с треском сломалась лопата, он с сожалением оглядел черенки, бросил их и взял лом. Но скоро заметно погнулся и лом. На Вао было страшно смотреть, когда он, поднатужившись и густо наливаясь кровью, раскачивал валун и выдирал его из земли. Муруметс со свирепым лицом втыкал лопату в синюю глину и выбрасывал ее из канавы огромными кусками. Пауль по временам опасливо посматривал на небо — успеют ли, есть ли еще время?
Так в напряженной работе прошло еще несколько часов, показавшихся всем очень короткими.
Наконец впереди послышалось «ура» и по цепи дошло до колхозников из Коорди.
Пауль внимательно посмотрел на воду под ногами.
— Она движется! — закричал он.
И все кругом засмеялись, зашумели, заговорили…
— Вода движется, нашла выход!
В сумерках городские гости, провожаемые крепкими рукопожатиями и пожеланиями доброго пути, уехали на машинах. Стали собираться домой и колхозники, усталые до последней возможности, но радостные и возбужденные таким чудесным днем.
Костры остались гореть на Змеином болоте, озаряя кочкастую низину веселым живым светом и отражаясь в темной болотной воде, просачивающейся из болотных пор в канал, прорытый людьми за день. Чутким ухом можно было расслышать тихое журчание. Вода двигалась…
Долго еще ночью светил костер на Змеином болоте. Он был виден далеко, и крестьяне в соседних деревнях, глядя на сияние, говорили:
— То в Коорди горят костры… Колхозники болото расчищают под поле…
Ожидая Пауля, вышла и Айно на порог, бережно прижимая к груди закутанного в одеяло нового обитателя Журавлиного хутора, маленького Антса.
— Горит костер, гляди — свет… — сказала мать, осторожно снимая покрывало с лица сына. — Отец костер разжег, Антс…
Трехнедельный Антс сморщил лицо, но затем, когда алый свет, пляшущий на краю неба, отразился в его зрачках, он с изумлением раскрыл свои выпуклые чистые глаза, пустил пузырь изо рта, и Айно поняла, что он улыбается.