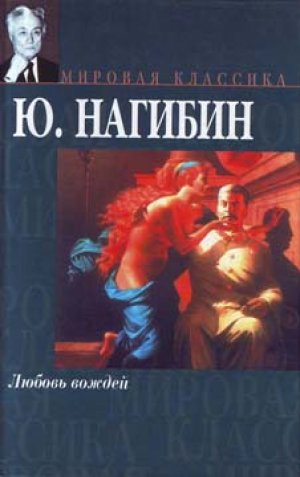
Праздник, по обыкновению, удался. Его ритуал был раз и навсегда установлен еще в те давние времена, когда страна впервые отмечала День своих покоезащитных органов. Сперва шеф душевно поздравил собравшихся и тех, кто по служебным заботам не мог присутствовать на вечере, потом его первый заместитель сделал получасовой доклад, в конце торжественной части зачитывались приветствия, а после короткого перерыва был дан большой концерт лучшими московскими силами. Программа концерта тоже не менялась: па-де-де из «Лебединого озера», ряд популярных эстрадных номеров — акробатика, жонглирование, фокусы, русские пляски, пародии на известных артистов, советские песни, военные и лирические, а завершалось все выступлением знаменитого тенора, который медленно выходил из-за кулис и вдруг раскидывал руки, словно хотел обнять весь зал, и с широчайшей силой, удивительной в сильно пожилом человеке, моляще-требовательно призывал присутствующих сеять разумное, доброе, вечное. И когда расплавленным серебром изливались последние слова: «Спасибо сердечное скажет вам русский народ», Афанасьич неизменно пускал слезу и наклонял голову, чтобы другие не заметили его слабости. Уловка не помогала, люди подталкивали друг дружку локтями, кивали на плачущего оперативника, но делалось это с доброй душой — Афанасьича любили и уважали, никому и в голову не приходило потешаться над милой и трогательной чувствительностью человека такой закалки.
Сморгнув слезы, Афанасьич украдкой следил за красивыми жестами певца. Дав истаять последней ноте, певец резко поворачивался к единственной ложе и делал такое движение, будто хотел пасть на колени в экстазе мольбы. И тогда Шеф делал ответное условное движение, имеющее якобы целью удержать артиста, не дать ему грохнуться стариковскими коленями на помост. Артист как бы против воли оставался на ногах, лишь ронял в глубоком поклоне голову с зачесанными через лысину пушистыми белыми волосами. И зал, восхищенный артистизмом обоих участников пантомимы, взрывался аплодисментами.
И на этот раз действие развивалось как положено. С удовольствием наблюдая за скрупулезно выверенным поведением артиста, Афанасьич вдруг озадачился его возрастом. Он уже был седым стариком, когда Афанасьич увидел его впервые. А ведь минуло четверть века, если не больше. Как сдали за эти годы все остальные участники концерта! Беспощадным оказалось время к балетной паре; партнер едва удерживал на руках жилистое, потерявшее гибкость тело балерины, и страшна была ее улыбка, напоминающая оскал черепа; жонглер ронял шары и булавы, заменяя былую ловкость, покинувшую подагрическое тело, лихими вскриками, изящными поклонами и воздушными поцелуями. Старость не пощадила никого, но аудитория все равно любила их и не хотела менять на молодых. Здесь умели чтить традицию. Лишь над этим седым Орфеем быстротекущее было не властно.
Афанасьич еще думал о загадках времени, когда артист повернулся к ложе и — незаметно для людей средненаблюдательных и более чем отчетливо для острого глаза Афанасьича — удержался от условного коленопреклонения. Афанасьич оценил реакцию старого сценического волка, успевшего заметить, что сумеречная глубина ложи не скрывает осанистой фигуры Шефа, и посчитавшего ниже своего достоинства тратить самоуничижительный жест на его зама. Артист при его высочайшей репутации мог бы и перед Шефом не гнуться, если бы тот не был личным и задушевным другом Самого. Поэтому условное коленопреклонение относилось не столько к Шефу, сколько к его Другу. Тут скользящая память Афанасьича за что-то зацепилась. Он вспомнил, что певец стал участником праздничных концертов после того, как его обокрали. У него похитили старинные иконы, которые он собирал чуть не всю жизнь. Он заявил о пропаже, был принят Шефом, спел на концерте. Через некоторое время часть его коллекции нашлась. Артист снова отдался своей страсти. Больше его не трогали. Уже на следующем концерте был узаконен жест мольбы и благодарности.
Артист ушел со сцены на своих длинных, стройных ногах. Афанасьичу его походка показалась чуть тяжелее обычного. Наверное, он был разочарован отсутствием Шефа. Тот ушел сразу после торжественной части. Ему бы вовсе не приходить — на расстоянии паром дышит. Но Шеф всегда был таким — все для людей. Он знал, что без его доброго слова и праздник не в праздник. В таких случаях даже жена не может его удержать, а для него нет выше авторитета.
И до чего же по-глупому, по-досадному простудился Шеф. В воскресенье это было. Шеф пообедал в кругу семьи, а затем поспорил о чем-то с зятем. Башковитый мужик, в тридцать два года доктор философских наук, замдиректора Лесотехнического института, но с закидонами: обо всем свое мнение хочет иметь. Ну а Шефу это, естественно, не по душе, он куда старше и несравнимо опытнее — какую жизнь прожил: из ремесленников на самый верх номенклатуры! Шеф, как и Сам, кончал машиностроительный техникум, который впоследствии стал институтом, поэтому официально считается, что оба они инженеры. Но разве дело в дипломах, в бумажках? Шеф любому академику сто очков вперед даст. Ну а зять в своем молодом глупом гоноре не хочет этого понять. Не ценит отношения. Когда на управление пришли «мерседесы» — две двадцатки последнего выпуска, Шеф первым делом позаботился о зяте, а другую машину выделил овдовевшему тестю, чтобы была игрушка одинокому старику. Сам же остался при «феррари» чуть не трехлетней давности. Нынешние молодые все принимают как должное, никакой благодарности не чувствуют. Разругались вдрызг, и Шеф, чтобы унять расходившиеся нервы, поехал прокатиться на своей развалюшке. Выехал на Садовую, довольно пустынную по воскресному дню, только разогнался маленько, чтобы свеяло с души обиду, как свисток. Подходит гаишник лопоухий: превышение скорости, давайте права. Шефу до того смешным показалось, что у него права спрашивают, что он даже не обиделся. Видать, совсем молодой чувачок, начальство в лицо не знает. Шеф ему так со смешком: попробуй на такой машине без превышения ехать, это ж зверь! Ладно, больше не буду, повинную голову меч не сечет. А этот чудила заладил: права, права, и все тут. У Шефа, конечно, никаких прав с собой нет, он уехал как был: в брюках и полосатой пижамной куртке. Вот тебе права! — сунул ему шиш под нос. А гаишник тоже с гонором: вылазь из машины, ты в нетрезвом виде. Пойдешь на рапопорт. Тут Шеф всерьез озлился: не на придирки, а на непроходимую тупость парня. Любой дурак на его месте давно бы сообразил, кто перед ним. Много ли в Москве людей на «феррари» ездит, да еще с превышением и без прав? Шефу противно стало, что в его системе такой охламон работает. Он распахнул дверцу, вышел из машины. «Ты как смеешь меня тыкать? Пусть я все правила нарушил, обязан мне „вы“ говорить. Тебя чему учили, дуботол? Гнать тебя в шею из ГАИ!» Тут парень наконец увидел генеральские лампасы и заткнулся. Но коли Шеф разойдется, его не остановишь. В общем, парня в тот же вечер отправили в Потьму, а Шеф, бедняга, зачихал и заперхал, еще бы — на дворе ноябрьская стынь, а он в тапочках.
И с каким-то особым теплом вспомнилось Афанасьичу, что он увидит сегодня Шефа. Никто из присутствующих не увидит: ни замы, ни помы, ни другие начальники, а он увидит, хотя человек маленький, в сорок восемь лишь до капитана дослужился. Впрочем, он не считал свое звание таким уж низким. Когда после детдома его призвали в армию и направили в органы правопорядка, то и звание старшины казалось недосягаемым. Он не принадлежал к числу бойких умников, расторопных ловкачей, умеющих быть на глазах, брал только исполнительностью. Правда, любое задание ему надо было подробно растолковать, «разжевать», говорили нетерпеливые начальники, иначе он не терялся даже, а бездействовал, как механическая игрушка, которую забыли завести. Но если толково и подробно объяснить, что к чему, у Афанасьича не случалось ни промаха, ни осечки, как и на учебных стрельбах. Это было еще одно качество, обеспечивающее, счастливую, хоть и скромную, службу Афанасьича. Верный глаз и твердая рука делали его непременным участником различных соревнований по пулевой стрельбе, где он неизменно завоевывал призы. Начальству это, естественно, льстило: кубки, бронзовые статуэтки и вымпелы Афанасьича украшали клубный музей славы. Но чуждый спортивного честолюбия и сильно загруженный Афанасьич был рад, когда его освободили от участия в соревнованиях. Тренировок он, впрочем, не бросал, держал себя в форме. И сейчас, на пороге пятидесяти, Афанасьич был крепок, как кленовый свиль, и надежен, как мельничный жернов. И все же только нынешний Шеф угадал, что Афанасьич годен на что-то большее, нежели обычная рутинная служба с ночными дежурствами, топтанием возле ресторанов и других опасных мест человеческого скопления, и вечный старшина Афанасьич за десять лет прошел путь до капитана. Красивое, хорошее звание, другого ему и не надо.
Афанасьич вышел из зрительного зала. В фойе попискивали скрипочки, покрякивали трубы — музыканты настраивали инструменты. Праздничные танцы в клубе всегда проходили под оркестр, хотя тут имелась превосходная японская техника, Но разве сравнить по чистоте и нарядности звука живые инструменты с проигрывателем. Афанасьич даже в молодые годы не был любителем шаркать ногами, он спустился в буфет, где собиралась публика посолиднее.
Его появление было сразу замечено. Послышалось: «Афанасьич, к нам!..», «Афанасьич, белого или сухарика?..», «Афанасьич, просим к нашему шалашу!..», «Афанасьич!.. Афанасьич!..». Афанасьича замечали в любом многолюдстве: в буфете или в концертном зале, на собрании или в зоне отдыха, куда выезжали по воскресеньям целыми семьями. Афанасьич не обладал привлекающей внимание внешностью: среднего роста, бесцветный, лысый, рыхловатый; последнее было обманчивым: глянешь — тюфяк, тронешь — гибкая сталь. Он как-то растворялся в окружающем, но сослуживцы узнавали его спиной. И вот уже тянутся со стаканами, бокалами, рюмками. Культяпый нос Афанасьича чует запах гнилой соломы — виски, раздавленного клопа — просковейский коньяк, мочи — московское пиво, бензина — «Столичная», матушка. Хочется отведать и того, и другого, но нельзя, он перед делом никогда не пьет, ни грамма, хотя на редкость крепок к выпивке. Впрочем, эту свою крепость Афанасьич ни разу не подвергал серьезной проверке, будучи по природе своей трезвенником, но твердо знал, что его с ног не собьешь. Он любил жизнь в ее чистом, незамутненном виде: работу, сослуживцев, Шефа, последнего до обожания, свою опрятную, как у девушки, однокомнатную квартиру, телевизор, особенно фильмы о войне, хорошие книги про шпионов, репродукции в «Огоньке» и оперетту. Женщины для него не много значили. А может, справедливо другое: слишком много значили, он всегда был влюблен в какую-нибудь недоступную красавицу, в Софи Лорен, английскую королеву, Эдиту Пьеху или Галину Шергову. Впрочем, один женский образ преследовал его с молодых дней, когда в кинотеатре повторного фильма он посмотрел довоенную картину о зажиточной и веселой колхозной жизни. Героиня фильма, задорная, с темной как смоль головой, дерзко вздернутым носом и легкой, доброй улыбкой, стала такой же властительницей его сердца, как Дульсинея Тобосская — сердца Дон Кихота. Правда, Рыцарь Печального Образа и помыслить не мог о другой женщине. Афанасьич же допускал совместительниц. Но остальные воображаемые возлюбленные как бы накладывались на этот изначальный, фоновый образ, ничего не отнимая у него, а подруги из живого тела не имели над ним власти. Лишь эфемерные образы владели его душой, делая ее сильнее и чище. Не питая иллюзий, он хотел быть достойным своих избранниц и не расходовал себя на плоскую обыденщину.
В последние годы он довольствовался вдовой летчика-испытателя, называя ее в интимных мужских беседах: «Одна чистая женщина, которую я навещаю». Эта женщина, его ровесница, выглядела намного моложе своих лет, была опрятна, обходительна, ничего не требовала, сама ставила бутылку и ужин и при этом смотрела так, будто Афанасьич ее облагодетельствовал. Однажды Афанасьичу захотелось выяснить, чем он сумел так обаять чистую женщину, которую навещал. Она долго думала, наморщив маленький лобик, а потом сказала застенчиво: «Вы непьющий». Странное дело, Афанасьич никогда не мог вспомнить, как она выглядит. Возникал некий женский абрис и тут же заполнялся чертами его Главной избранницы, той, что просвечивала сквозь все иные прелестные и недоступные образы. Никто, конечно, не подозревал, что пожилой капитан, недалекий исполнительный службист, скучноватый в общении, но заставляющий уважать себя за спокойную надежность и прямоту поведения, живет в идеальном мире, сотканном его воображением.
Афанасьич мягко отверг все предложения выпить, ребята не настаивали, сразу поняв, что в день, когда им положено отдыхать и веселиться, Афанасьичу надо выполнять ответственное задание. Его всегда удивляла чуткость, с какой его сослуживцы угадывали такие вещи. Мало ли почему человек, и вообще-то почти не пьющий, отказывается от рюмки: голова болит, устал, в гости собрался, но они безошибочно распознавали ту единственную причину, которая исключала уговоры. Вот и сейчас разом отстали, но в их потеплевших взглядах читались понимание и ласка.
Он еще немного потолкался среди своих, как бы заряжаясь их теплом, их дружеским участием. Не потому, что нуждался в поддержке, он всегда полагался только на самого себя, а потому, что был теплым человеком, отзывчивым на всякое добро. При этом он не имел близких, друзей, и это тоже коренилось в его идеализме. Афанасьич боготворил Шефа, находился в постоянном внутреннем общении с ним, на других просто не оставалось чувства.
Афанасьич чурался услуг служебных машин. Даже маленькие привилегии, которыми не располагает простой народ, разлагают душу, а Афанасьич заботился о своей душе. Да и хотелось пройтись неспешно по вечернему осеннему городку, еще раз пережить в себе праздник и настроиться на встречу с Прекрасной Дамой. Да, жизнь так богата и непредсказуема, что свела скромного капитана с экранным Чудом, явившимся ему четверть века назад.
Тот старый фильм был черно-белый, и Афанасьичу пришлось самому дописывать ее облик, наделяя его красками. Он был уверен, что черные ее волосы отливают вороненым блеском, смуглые скулы рдеют, полные губы румяны, что радужки глаз жемчужные, а не серые и не голубые. Ее длинные ресницы круто загибались вверх, открывая все глазное яблоко. Афанасьич никогда не встречал такого распахнутого, открытого, не таящего ничего про себя взгляда…
Его удивляло, почему он раньше не видел фильмов с этой артисткой, ведь она была знаменитостью еще до войны. Оказывается, в сорок шестом ее посадили, поэтому фильмы с ее участием были запрещены. Позже, уже в эпоху волюнтаризма, выяснилось, что посадили ее зря — это было проявлением культа личности. Ее выпустили, реабилитировали, она опять стала сниматься, правда, уже в других ролях. Теперь она играла не юных комсомолок, а женщин в возрасте: больничных нянечек, магазинных кассирш, ткачих со стажем, заведующих молочными фермами. Она несколько пополнела, утратила летучую стройность, как-то осела, но осталась улыбка, остались широко распахнутые глаза, а нос все так же задорно смотрел в небо, утверждая, что владелице его все нипочем. И чувство Афанасьича к ней не уменьшилось, хотя стало несколько иным: меньше сосущей тяги к недостижимому, больше сердечности, участия, какой-то уютной теплоты. Он смотрел на экран, где она уже не любила, не страдала, не ждала, как прежде, а ругалась, командовала, переживала за порученное дело или за непутевую дочку. Афанасьич смотрел на экран и шептал: милая, милая, милая!.. Она правда была милая, но всю милоту ее Афанасьич постиг, когда встретился с ней не на экране, а в настоящей, непридуманной, но чудесней всех сказок жизни. Скажи ему кто раньше, что это возможно, Афанасьич спорить не стал бы, разве что улыбнулся б грустно или пожал плечами. Но жизнь такие номера откалывает, что ни в каком кино не увидишь.
Это случилось совсем недавно. За минувшие годы ее дочь выросла и года два назад перебралась на постоянное местожительство за рубеж. Никаких препятствий ей не чинили. Да и какие могут быть препятствия при коллективном руководстве и возвращении к ленинским нормам? Дочь огляделась, люто затосковала по матери и принялась звать ее к себе. Та долго не решалась покинуть родину. После долгих уговоров съездила в гости: покаталась по стране, согрелась возле дочки и вернулась домой. Снова снималась, выступала в концертах и вдруг разом собралась в отъезд. Это как-то странно совпало с исчезновением ее собаки, пуделька Дэзи, сучонки дипломированной, лауреата разных международных и союзных конкурсов. Неужели только Дэзи ее держала? Старой собаке не перенести было перелета. Так или иначе, едва Дэзи пропала — может, украли, а может, помирать ушла, старые породистые собаки не хотят кончаться на глазах любимых хозяев, жалея их, и находят себе укромное место, — артистка сразу подала бумаги в ОВИР. Ее не удерживали.
Она уже взяла билет, когда Афанасьич зашел к ней узнать, все ли в порядке. Она была удивлена таким вниманием, но Афанасьич объяснил ей, что ничего странного тут нет: она человек знаменитый, и о ней проявляют заботу.
Надо, чтобы она благополучно уехала. В наше время все возможно: любые провокации, врагам хочется еще больше накалить мировую ситуацию. Похоже, она ничего толком не поняла, но испугалась — все же человек битый. Но старалась вида не показать, смеялась, таращила свои жемчужные глаза и приговаривала: «Кому нужна старая баба?» — «Какие же вы старые?» — сохлым от волнения голосом возражал Афанасьич. Он чувствовал: она знает, что нравится ему. Если бы она знала, чем на самом деле является для него!.. Она брала его за руку, говорила, что с таким защитником ничего не боится. Он просил ее быть осторожнее, держать дверь на цепочке и не открывать незнакомым людям. Уходя, проверять замки, а еще лучше — не оставлять квартиру пустой. Она продолжала смеяться, и, похоже, ей была приятна его забота. Она предложила выпить по рюмке коньяка за знакомство. «Я на работе», — напомнил Афанасьич.
Он ушел со смятенным сердцем. Ему уже не хотелось вспоминать, какой она была в молодости, она была прекрасна ему в своем нынешнем образе, другого не нужно. Удивительно пригожая стояла осень. Ноябрь — самый дождливый и неприютный месяц в Москве. Особенно в последние годы. Уже в первой декаде начинает сыпаться снег, когда — крупяно-мелкий, он сразу истаивает, едва коснувшись земли, когда — большими медленными хлопьями, плавно опускающимися на асфальт, крыши, деревья, пешеходов. Но и это белое убранство недолговечно, быстро исходит в слякоть. А сейчас город был сух и опрятен, слабый теплый ветер порой шуршал по асфальту черным сухим листом, деревья все еще не отряхнулись. Хорошо было идти притихшим вечерним городом. Афанасьич впервые обратил внимание, как пустынна Москва даже в погожий субботний вечер. Начало десятого, а город словно вымер, редко-редко мелькнет торопливая фигура прохожего, гуляющих и вовсе не видать. А с другой стороны, чего по улицам слоняться — не весна, не лето. Люди сидят дома, в тепле, смотрят телевизор, а молодые в кино, в дискотеках, и театры и рестораны заполнены — нормальная городская жизнь. И все-таки странной печалью тянуло от пустынных, молчащих улиц, которым не прибавляли жизни автомобили и троллейбусы. И тревожно горели неоновые ядовито-зеленые и кроваво-красные письмена, наделяя ночь косноязычной загадочностью: «апека», «парикхерая», «астроном», «улочна», «ыры», «ясо», «светское шпанское». Афанасьич начал играть, что занесло его на далекую планету, где азбука та же, что у нас, даже слова похожие, но все же другие, и неизвестно, что они значат. Жаль, что все закрыто и не узнать, что такое в этом мире «ыры», «ясо» и «улочна». Тут инопланетянин, который при всех отвлечениях внешней жизни всегда был начеку, заметил, что опаздывает, и вскочил в автобус.
— Кто там? — послышался за дверью милый голос.
Афанасьич вобрал в себя его звучание, просмаковал интонацию, в которой было недоумение, капелька тревоги, но куда больше ожидающего любопытства. Как это похоже на нее, от каждого жизненного явления ждать какой-то нечаянной радости. Вот кто-то постучал в дверь — звонок не работал, — и она, дрогнув напряженными нервами, в следующее мгновение подумала сердцем — не рассудком — о чем-то добром.
— Кто там? — повторила она, и по голосу чувствовалось, что она приняла молчание стоящего за дверью человека за милую игру.
— Афанасьич, — сказал Афанасьич и улыбнулся, зная, что она тоже улыбнется.
Дверь отворилась, и улыбки двух людей встретились.
— Милости просим, — сказала она. — Вы обо мне совсем забыли. Думала, так и уеду, не попрощавшись.
— Как можно! — Афанасьич всплеснул руками. — Вы не думайте, что о вас забыли. Мы вас охраняли, за квартирой приглядывали.
— Заходите. — Она жестом пригласила его в комнату.
— Да ничего… — засмущался Афанасьич. — Я так постою.
— Будет вам! Тоже — красная девица!
Актриса видела, как неловко, застенчиво просовывается Афанасьич мимо нее в комнату — квартира была малогабаритной, и двум людям трудно разминуться в крошечной прихожей. Видела и все понимала про него: поклонник, один из тех, кто остался ей верен, полюбив по старым фильмам, когда она была смуглолицым чудом. Странно, что таких людей оказалось довольно много в самых разных слоях: ее радостно узнавали шоферы такси, продавцы магазинов, старые интеллигенты, пенсионеры, полунищие старухи меломанки, реже всего граждане эпохи рока. Конечно, и Афанасьич был из числа «ушибленных». «Охраняли!.. Приглядывали! — передразнила она про себя. — Рассказывай сказки. Придумают себе службу, чтобы на доярку Лизу вблизи поглядеть. Гляди на здоровье, больше не придется». Ей стало грустно. Ей и вообще было грустно с того самого дня, когда она решила ехать, поняв, что без дочки не проживет, но случались мгновения самые непредсказуемые, и боль предстоящей разлуки шилом прокалывала сердце. Ну какое ей дело до этого и всех других «мусоров»? Зла особого она от них не видела, ей сломали хребет другие силы, но с тех пор всякий институт власти стал ей малоприятен. И ничего привлекательного в нем нет: мешковатая фигура, простецкое лицо, культяпый нос… нет, что-то располагающее все-таки было — в самой нелепости фигуры, в открытой и доверчивой некрасивости, в смешной застенчивости было что-то такое родное, что дух перехватывало. И до взвоя не хотелось лощеных, прилизанных, безукоризненно воспитанных и ловких джентльменов, пропади они пропадом! Нечто схожее она испытала утром, когда ее обхамила зеленщица в грязной лавчонке. И обхамила-то без нужды и повода, просто по пьяной разнузданности. Она хотела возмутиться, и вдруг — уколом под лопатку, а ведь этого больше никогда не будет, ни вонючей лавочки, ни бледных капустных кочанов и черной картошки, ни сизого носа и сивушного дыхания, ни акаюшего московского говора: «Ишь, растапырилась! Паари еще, вабще не абслужу!» Сестра моя, родная кровью и бедой, никто не знает, кто из нас несчастнее… И она подумала об Афанасьиче: «Если он захочет поцеловать меня, пусть поцелует». Но знала, что тот не осмелится.
Они прошли в комнату. Она только начала собираться, но жилье уже потеряло обжитость и уют. На выгоревших обоях остались яркие квадраты от снятых гравюр и фотографий. И люстры хрустальной уже не было, с потолка свисал лишь обрывок шнура, освещалась же комната настольной пластмассовой лампой. Не стало и персидского ковра, спускавшегося со стены на диван, и старинного чернильного прибора на маленьком дамском письменном столе. И вот по этой уже отлучившейся от ее существования комнате Афанасьич понял до конца, что она действительно уезжает, уезжает, и все тут, навсегда, Господи!.. Она его о чем-то спрашивала, он машинально отвечал, сам не слыша себя, только зная, что отвечает впопад.
Она села за столик. Афанасьич хотел присесть на стул, но загляделся на фотографию, висевшую над туалетным столиком. Он еще в первый раз заметил эту фотографию, а сейчас прицепился к ней взглядом, будто видел в первый раз. Доярка Лиза: платочек, челка, улыбка, комбинезон с лямками, легкая кофточка в цветочках.
— Что вы уставились, Афанасьич? — спросила она.
— Карточка…
Она засмеялась.
— Эту я вам не дам. Почему — секрет. Но есть похожая. Из того же фильма. Хотите, подпишу?
— А можно?
Она открыла средний ящик стола, нашарила там карточку и стала надписывать. Афанасьич, как завороженный, шагнул к туалетному столику. Он оказался у нее за спиной и, оглянувшись, увидел ее голову, склонившуюся над столом.
Холодный ум, горячее сердце, твердая рука… Может, это и верно, но не для Афанасьича. К моменту, когда надо было нанести удар, ум его был так же раскален ненавистью, как и сердце. Эта ненависть сцепляет все существо человека в единый волевой клуб, дающий безошибочную верность глазу и крепость руке. Промахнуться можно, стреляя в собственный висок, а тем паче с расстояния, пусть самого малого. Сука!.. Изменница!.. Сионистка!.. Все предала… заботу Родины… бесплатное обучение и медицинскую помощь… Конституцию… Октябрь… Первомай!.. Вот тебе заграница!.. Вот тебе дочь-невозвращенка!..
Слова будто взрывались в черепной коробке Афанасьича. Все, что втемяшивали в слабый детский мозг детдомовские воспитатели и учителя и что осталось незыблемым, как бы потом ни менялась жизнь, все, что совпадало с этими первыми и самыми прочными истинами из последующих научений, усиливая их непреложность, в должную минуту дарило Афанасьича небывалой цельностью, подчиняя его нервную, умственную и мускульную системы одному поступку и делая из него безукоризненный инструмент уничтожения.
Он мгновенно отыскал точку на затылке склонившейся над столом головы, где разделялись темные крашеные волосы, седые у корней, и в эту точку, в сшив черепных костей, направил выстрел. Пуля, разрушив мозг, выйдет через тонкую кость глазницы, не повредив при этом глаза. Он ее подберет, ибо никогда не нужно оставлять вещественных доказательств. Пусть ему ничего не грозит, но работать надо чисто.
Простреленная голова дернулась и ударилась о крышку стола, это было конвульсивное движение, женщина не успела осознать случившегося, не испытала ни испуга, ни боли, просто перестала быть. Теперь она никуда не уедет и ляжет в родную землю, как положено русскому человеку.
Половина дела была сделана. Афанасьич надел резиновые перчатки, какими пользуются на кухне опрятные хозяйки, достал из серебряного стаканчика, стоящего на столе, ключи от письменного стола и отомкнул крайний верхний ящик. Он не сомневался, что искомое окажется там. В первый свой приход он заметил быстрый взгляд, брошенный хозяйкой дома на этот ящик. Не было хуже хранилища, но именно здесь должна была она держать свою драгоценность. Это вывернутая наизнанку осмотрительность: чтобы всегда была под рукой. Беспечная, шалавая, незащищенная, она не могла всерьез позаботиться о сохранности ценной вещи. А если б и придумала для нее тайник, то наверняка не смогла бы потом найти. Зная себя, она боялась этого куда больше, чем неправдоподобного в ее чувстве жизни нападения злоумышленников.
Афанасьич вынул драгоценность, выслезившую ему глаза своим блеском, и пошарил в ящике в поисках футляра, но его не оказалось. «Вот непутевая!» — покачал головой. Он уже не чувствовал гнева, являвшегося при всей своей естественности рабочей предпосылкой. Он опустил драгоценность в карман пиджака, подобрал пулю, принес из кухни мокрую тряпку и тщательно вытер все предметы, на которых могли остаться его следы. Тряпку он выжал и повесил на батарею.
Вот вроде и все. Афанасьич надел пальто, шляпу, повязал шарф и в последний раз оглянулся на убитую. Она как будто спала, положив правую, поврежденную часть головы на столешницу. Волосы прикрывали рану, а другой глаз был широко открыт и, круглый, блестящий, жемчужный, таращился удивленно. Да ведь таким и всегда казался ее распахнутый взгляд. Последняя неожиданность жизни не успела стать переживанием.
Афанасьич подошел и осторожно вытащил фотографию из-под ее головы. «Милому Афанасьичу перед разлукой на добрую память». А расписаться не успела, только первую букву вывела, и острие шариковой ручки проткнуло бумагу. Конечно, фотографию с капелькой крови следовало уничтожить, но может человек хоть раз в жизни сделать что-то для своего сердца, не думая о бесконечных правилах, предписаниях и запретах? Афанасьич стер кровь и положил карточку в партийный билет — для сохранности.
Надо было идти, он и так опаздывал, но что-то не отпускало Афанасьича. Он смотрел на любимое лицо и ждал. А потом понял, чего ждет. Смелости в себе самом, чтобы подойти и поцеловать ее прощально. Коснуться губами ее щеки возле носа на чистой половине, куда не вытекла кровь, почувствовать теплоту еще не остывшей кожи и тот нежный сладкий запах пудры и духов, что щекотал ему ноздри даже на расстоянии, и будет чем жить до самого конца. Но как же так — без разрешения?.. Воспользоваться ее беспомощностью… нет, этого он себе не позволит.
Он с усилием посмотрел на нее, повернулся и вышел, погасив за собой свет. На лестничной площадке снял резиновые перчатки, сунул их в карман, надел обычные кожаные, поднял воротник пальто и сбежал по лестнице. Он вышел из подъезда, пересек двор, не встретив ни одного человека.
Через двадцать минут он переступил порог квартиры Шефа.
— Что так долго? — недовольно спросил Шеф, собственноручно открывший дверь.
От него сильно пахло коньяком, но простуды как не бывало. Шеф умел выгонять каждую хворость с помощью винной терапии.
Был он в генеральских брюках и пижамной куртке — его любимый наряд на отдыхе. В таком виде он трапезовал в кругу семьи, принимал гостей, но сейчас дело шло к одиннадцати, к тому же Шеф был простужен, и ему естественно было бы сменить брюки на пижамные штаны, а сверху накинуть халат. В его полумобилизованности проскальзывали тревога, готовность к действию. Неужели он допускает мысль, что Афанасьич подведет и придется вмешиваться?.. Горько сознавать, что тебе не доверяют.
— Так вот управился, — угрюмо сказал Афанасьич, проходя следом за Шефом в кабинет.
Сколько раз он тут бывал и не переставал поражаться великолепию этого музея, дворца, комиссионного магазина, не знаешь, как даже назвать. Красное дерево, бронза, хрусталь, ковры — под ногами, на стенах, на диванах, картины в золоченых рамах, гравюры, старинное оружие: мечи, кинжалы, пистолеты, щиты и копья. Даже рыцарский шлем был с золотым гребнем. А на письменном столе, опиравшемся на львиные лапы, — целая выставка: фигурки из мрамора, бронзы, дерева, малахита, шкатулочки с мелкими картинками, охотничий набор, нож и вилка в футляре из красного дерева, хрустальная чернильница с серебряной крышечкой, золотой резной стаканчик с гусиными перьями, какими еще Пушкин писал, фотографии в красивых рамках и самая большая цветная — супруги Шефа. Такая, и только такая, женщина может быть супругой Шефа. «Русская Венера» называют ее в управлении: вся розовая, сливочная, кремовая. Щеки румяные, губы алые, бровь соболиная, и ведь никакой косметики не применяет, вся натуральная. Она на двадцать лет моложе Шефа, значит, ей уже за сорок, а ей и тридцати не дашь. Говорят, что маленькая собачка до старости щенок, а жена Шефа дородна, осаниста, на полголовы выше мужа, и при этом легка на ногу, быстра, как ртуть, и даже гибка, хотя талию ее едва ли обхватишь. Когда она ходит с сыном и дочерью, то выглядит их старшей сестрой. Шеф наглядеться на нее не может. Конечно, никому в голову не придет назвать Шефа подкаблучником, просто тут полное любовное взаимопонимание, когда двое чувствуют и думают как один человек. А то, что Шеф любит подчеркивать свое смирение перед умом и вкусом Мамочки, так это от растроганности души большого и сильного человека, не боящегося признать чужое, пусть и мнимое, превосходство. Говорят, Шеф не был счастлив в первом браке, жена сильно уступала ему по развитию. Это не было так заметно, когда Шеф учился в техникуме на инженера и делал первые служебные шаги, но в дальнейшем ее отсталость стала несовместима с его положением. И тут судьба улыбнулась Шефу, хотя оплатил он эту улыбку временной задержкой в продвижении по служебной лестнице. Аморалку приписали. На помощь пришел старый друг по техникуму.
— Докладывай! — сказал Шеф, и непривычно официальный, суховатый тон выдал его беспокойство.
Афанасьич расстегнул пальто и простецким жестом вытащил из кармана сверкающее чудо.
— Докладываю, — сказал он и, широко размахнувшись, положил драгоценность на зеленое сукно письменного стола.
Шеф посмотрел, зажмурился и двумя пальцами прижал заслезившиеся глаза.
— Да… — произнес он тихо, — умели в старину делать вещи…
Можно было подумать, что вся операция была затеяна, чтобы убедиться в мастерстве старых ювелиров. Шеф потрогал драгоценность, но в руки не взял.
— Ты чего в пальто? — обернулся он к Афанасьичу. — Небось не в забегаловке.
Афанасьич послушно снял пальто и шляпу.
— Да брось на кресло, — сказал Шеф и пошел к этажерке с книгами.
Основная библиотека Шефа: философские труды, собрания сочинений классиков русской и зарубежной литературы, книги по искусству и литературные произведения его Друга — хранилась в больших, тяжелых, наглухо закрытых шкафах красного дерева с бронзовой отделкой, а эта красивая этажерочка приютила литературу особого назначения. Шеф достал пухлый том в сафьяновом переплете и вынул из него квадратную бутылку, в другом томе оказались высокие серебряные рюмки. Шеф налил всклень и протянул рюмку Афанасьичу:
— Держи!
По напряженности руки и слишком сосредоточенному взгляду Афанасьич понял, что волнение еще не оставило Шефа. Неужто он до сих пор не постиг, что у Афанасьича проколов не бывает? Афанасьич мягкой рукой взял за донце налитую выше края рюмку, жидкость держалась поверхностным натяжением, приблизил губы и втянул коричневый колпачок.
— С праздником, — сказал Шеф. — Будь здоров!
Оба выпили, и Афанасьич опрокинул рюмку над лысиной, показав, что в ней не осталось ни капли. От второй рюмки Афанасьич отказался.
— Нельзя. Хочу еще в клуб заглянуть.
— Ну и что? В такой день не грех.
— Какой пример я дам молодежи? Надрался, скажут, старый пес.
— Голубь ты! — Шеф глядел умиленно. — По тебе вообще не видно, пил ты или нет. Полрюмочки!..
Они выпили. Афанасьич споловинил. Шеф взял целую. И сразу почувствовалось, что его отпустило. Он убрал бутылки и рюмки и присел на краешек письменного стола.
— Думал ли ты, Афанасьич, сколько ценностей ушло и до сих пор уходит из нашей страны?
— Много, поди.
— Очень много. Ужасно много. Непростительно много! Ты знаешь мою супругу. И знаешь, какой она культуры человек. Ведь все она. — Он обвел рукой вокруг себя. — Я-то технарь, винтики-шпунтики, сопроматы и рейсшины. Потом уже, как с людьми стал работать, добрал маленько. Но рядом с Мамочкой — пентюх. А ведь она тоже Институт культуры не кончала. Но знаешь, это дело такое… врожденное. Вот и про эту цацку, — он уже приручил драгоценность и свободно касался пальцами, — Мамочка разузнала. Ее разведка работает получше моей. И кабы не она, уплыло бы народное достояние на Запад. Ты не знаешь, Афанасьич, как нас обобрали капиталисты, пользуясь бедностью молодого Советского государства. У Хозяина-то не было иного выхода.
Взгляд Шефа скользнул в угол кабинета, где на тумбочке стояла в тени фотография «Ленин и Сталин в Горках».
Афанасьичу всегда тяжело было смотреть на эту карточку, смонтированную из разных снимков. Когда два человека снимаются вместе, они либо смотрят друг на друга, либо в одну точку, а здесь их взгляды не фокусировались, как не сопрягались и позы. Афанасьича огорчало, что не потрудились сохранить настоящей фотографии вождей, когда они вместе. Ведь известно по старым замечательным фильмам, что Ленин шагу не мог ступить без Сталина.
— Не было другого выхода, — развивал свою мысль Шеф. — Страна задыхалась без валюты. И Рафаил, и Цициан, и этот, который весь черный, становились тракторами, машинами, станками. Индустриализация, одним словом. А что потом было? Расхищали страну кто во что горазд. Хрущ раздарил фирмачам Алмазный фонд, Катька Фурцева любому гастролеру Маневича совала. А Маневич, не поверишь, одни квадраты малевал, сейчас в той же цене, как этот… мать его, на языке вертится, ну, черный весь. А уж после фарцовщики за дело взялись. Ихняя специальность — иконы. Пограбили по церквам да по крестьянству — будь здоров! Но чумее всех для русской культуры отъезжанты. Сколько предметов на Запад ушло: ожерелий, браслетов, колец, диадем, бриллиантов, изумрудов, сервизов — подумать страшно. Россию никому не жалко. — Голос Шефа дрогнул. — Я это к тому, чтобы ты чувствовал, какое большое дело делаешь. Уж мы-то не уедем, не выпустим из рук, что России принадлежит.
Афанасьич чувствовал: это были лучшие минуты его жизни. Шеф обладал редким умением очаровывать людей, которые ему служили. Он уже не раз дарил Афанасьича такими вот экскурсиями в большой мир культуры, истории, политики. И жалко было, что Шеф вдруг свернул с серьезного разговора на ненужное личное и стал выспрашивать Афанасьича, задал ли тот посмертного щупака своей клиентке. «Скажи честно, ты подержался?..» Правда, к этому времени Шеф до конца дочитал пухлый том из своей особой библиотеки. Отмолчаться не удалось, и Афанасьич сказал с укоризной: «Как вам такое в голову пришло?» «А ты же обмирал по ней», — трезвым и холодным голосом отозвался Шеф. Ну откуда он мог знать? Ни с ним, ни с кем другим Афанасьич сроду не говорил о своих чувствах. На то он и Шеф, а не «подшефный», что обладает даром видеть тайное, что открыта ему подноготная окружающих. Иначе не мог бы рядовой техник, пусть и с инженерским дипломом, стать одним из первых лиц в государстве. Только на дружбе с Самим далеко не уедешь, мало, что ль, у него таких дружков по всей стране.
— А, покраснел! — В голосе Шефа не было торжества, настолько он был уверен в своей догадке. — Ишь, скромняга! А ничего особого в этом нет. Мамочка рассказывала, во время Великой Французской революции аристократки платили палачу, отдавали перстни, золотые кресты, ожерелья, — Шеф кинул взгляд на драгоценность, — чтобы он не имел их после казни. И не только простые принцессы, сама Мария Антуанетта откупилась от палача, забыл его фамилию. Надо у Мамочки спросить. Она все помнит. Вот голова! Я ее Коллонтайкой зову. Знаешь, кто такая Коллонтай?
— Нет.
— Надо знать историю партии. Первая советская женщина-посол и… последняя. Пламенная революционерка. Одна из всей ленинской гвардии, которая не села. У нас на Украине говорят: що це за ум, що це за розум!
И вдруг, как это не раз бывало, он перестал травить и серьезным, деловым голосом заговорил о предстоящем деле, намеченном на послезавтра. Афанасьичу предстояло выяснить отношения с профессором ГИТИСа, уезжавшим к сыну в Канаду. Он не обладал громким именем, но в узком кругу специалистов пользовался уважением как один из самых удачливых «старушатников» Москвы. «Старушатниками» называются коллекционеры, которые шуруют среди старух, порой берут над ними опеку и тянут до самой смерти, получая в наследство всякую рухлядь, в которой нередко оказываются предметы высокой ценности. Не было случая, чтобы «старушатник» не оправдал потраченных на старуху сил и средств. Эта специальность требует терпения, выдержки и умения наступать на горло не собственной, а чужой песне, когда слишком затянувшаяся, бесполезная, мучительная и для себя, и для других жизнь толкает мысль опекуна к повышенным дозам снотворного или сильнодействующей комбинации крепких лекарств. Настоящий «старушатник» чтит Уголовный кодекс и не идет на открытую распрю с ним. Старушки всегда отходят чисто, не придерешься, до последнего вздоха считая опекуна своим бескорыстным другом. Театральный профессор скопил за долгую терпеливую жизнь кое-что, но было у него и настоящее сокровище: собрание древнекитайских эмалей. Они имеют какое-то специальное название, но Шеф запамятовал и долго сокрушался, поминая Мамочку-Коллонтайку и называя ее своей памятью. Дело не в названии, надо воспрепятствовать увозу исконной русской ценности на Запад. И Шеф считал, что операцию хорошо провести под шум, который подымется в городе в связи с гибелью артистки. Обывательская мысль наверняка устремится к таинственной и дерзкой банде, и это воспрепятствует возникновению темных слухов и грязных сплетен.
Афанасьича побочные соображения не интересовали, а суть задания он давно уже усвоил. Хладнокровие Афанасьича чем-то задело Шефа. Он спросил, глядя в упор:
— А если тебе, прикажут меня замочить, как поступишь?
— Никто мне такого не прикажет, — спокойно ответил Афанасьич.
— Нет, а все-таки… Представь себе такую ситуацию.
— Как я могу ее представить, если выше вас никого нет?
— Ну а понизят меня? — домогался Шеф, сам не зная для чего.
— Я вас очень уважаю, — тихо сказал Афанасьич.
Шеф не понял застенчивого сердца Афанасьича и затосковал. «Ну, договаривай. Уважать-то уважаешь, а долг служебный выполнишь. И не верхний я вовсе, есть повыше меня. Да и не в этом дело… Нет у нас личной преданности, только креслу. Пора на покой этому судаку. Жаль, что нельзя его просто на пенсию: годы не вышли и знает слишком много. Второго такого не скоро найдешь. Но как говорится, незаменимых людей нет».
— Ладно, Афанасьич, ты побежал. Не то в клуб опоздаешь. Хочешь на посошок? Вольному воля. Была бы честь предложена. Бывай!
Он вышел вслед за Афанасьичем в прихожую, затворил за ним дверь, наложил засовы, вернулся в кабинет и по внутреннему телефону попросил жену зайти к нему.
И она пришла. Она вшумела в комнату, «как ветвь, полная цветов и ягод», так, кажется, у Олеши? И, как всегда, ее появление отозвалось сушью в горле. Ее спелая, налитая прелесть, уму непостижимые формы неизменно заставали его врасплох. Она была чудесна двадцатилетней, но с годами, особенно шагнув в зрелость, делалась все лучше и лучше, как бы стремясь к заранее предназначенному наисовершеннейшему образу. Иные женщины перегорают в молодости, большинство — к сорока (тридцать девять не возраст — состояние, которое длится годами), а Мамочка широко отпраздновала свое сорокалетие и в том же победном сиянии двинулась дальше.
Высокая должность и соответствующий ей чин, то особое положение, в которое его ставила дружба с Самим, весь достаток были выслужены им самоотверженным трудом, бессонными ночами, личной верностью, беззаветной преданностью социализму в его нынешней, завершенной, как спелое яблоко, форме (в этом немалая заслуга его Друга по техникуму-институту), но Мамочку, если начистоту, он не заслужил. Она была ему не по чину. И когда пятнадцать лет назад Высокий друг положил на нее глаз — тогда свежий, карий, а сейчас похожий на тухлое яйцо, — он не ревновал и даже не переживал, приняв как должное. Мамочка была создана, чтобы царить. Все же царицей она не стала — жениться по любви не может ни один король. Осталась с ним, не только не нарушив, но еще более укрепив узы верной, хоть и неравной, дружбы. Мамочка была для него трофеем, который каждый день надо завоевывать заново. Что он и делал.
— Опять наглотался? — проницательно определила Мамочка.
В другое время он стал бы изворачиваться, врать, но сейчас верил в свои козыри.
— Маменция! — сказал он развязно. — Докладываю: задание выполнено, противник уничтожен, взяты трофеи.
И протянул ей сноп ослепительных искр. Мамочка отличалась завидным хладнокровием, но сейчас она дрогнула. Всем составом и по отдельности: качнулся высокий, как башня, шиньон («шиньонским узником» называл его Сам в добрую минуту, явно на что-то намекая) и в разные стороны метнулись под капотом тяжелые груди.
— Да-а, это предмет, — сказала она осевшим голосом. — Так бы тебя и поцеловала.
— За чем же дело стало?
— Не выношу сивухи… Ладно, я тебя сегодня приму, только прополощи рот.
— Будет сделано, товарищ маршал!
— Подумать страшно, что такая красота могла уплыть за бугор. Вот уж верно: что имеем, не храним…
— …а потеряв, не плачем, — подхватил муж и добавил с невинным видом: — Может, сдадим в Алмазный фонд?
— Еще чего! Чтобы ее стащили? Нет уж, у нас сохранней будет. Как там с театралом?
— С каким театралом?
— Ну, с отъезжантом. Из ГИТИСа.
— Все нормально. Послезавтра Афанасьич его навестит.
Она сказала задумчиво:
— Не нравится мне твой Афанасьич. Больно глубоко залез.
В унисон бились их сердца и трудилась мысль. Если у него еще оставались какие-то сомнения насчет Афанасьича, то теперь они исчезли без следа.
— Не беспокойся, Мамочка, я уже принял решение.
Она взглянула не него с неподдельной нежностью. Конечно, он был не блеск, впрочем, как и все нынешние мужики: выпивоха, необразованный, малокультурный, но под шапкой у него кое-что имелось. А жить можно с любым, только не с дураком. Нет, дураком он не был.
— Долго не канителься, — сказала она. — А то я усну…
Тяжелодум Афанасьич тоже не был дураком. Весь долгий путь от дома Шефа до клуба он думал о странном вопросе, которым тот ошеломил его перед уходом. Вопрос этот был покупкой, но Афанасьич не купился, поскольку никогда не злоумышлял против Шефа. А вот Шеф себя выдал. Он чего-то боится, не доверяет Афанасьичу и хочет от него избавиться. Афанасьичу в голову не приходило подвергать сомнению правовую сторону своей секретной службы. Он исполнитель, что прикажут, то и делает, остальное его не касается. Нечего ломать мозги, отчего да почему переменился к нему Шеф. Важно одно — это приговор. Но от приговора до исполнения есть время. Можно опередить Шефа и самому нанести удар. Замочить Шефа, конечно, очень нелегко и… жалко. Эдак вовсе один останешься. Чистая женщина — для спанья, а душа осиротеет. А если Мамочку? Небось это она сбила Шефа с толку. Бабы подозрительны, да и не умеют ценить мужской дружбы. Ее убрать куда проще и безопасней. Подымать волну не станут. Спишут на самоубийство. А Шеф поймет намек. Поймет, что Афанасьич обо всем догадался, но не захотел его губить. А коли так, почему не сохранить партнерство? Старый друг лучше новых двух.
Успокоившись на этот счет, Афанасьич отворил тяжелую дверь клуба и шагнул в тепло, свет, музыку.