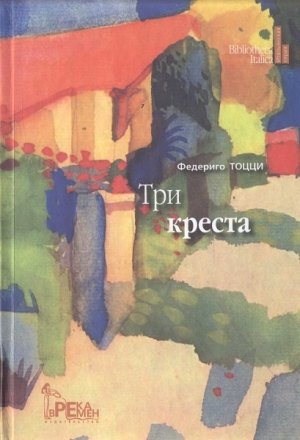
ОБ АВТОРЕ
ФЕДЕРИГО ТОЦЦИ (Federigo Tozzi, 1883–1920) — итальянский прозаик, поэт, драматург. Его отец, в прошлом крестьянин, сумел стать хозяином двух земельных владений в окрестностях Сиены. Восприимчивый к прекрасному подросток много страдал от вспышек его необузданного характера и нежелания понять тягу сына к культуре. Три года Тоцци учился в Школе изящных искусств в Сиене, затем четыре года в техникуме, которые не окончил. В 1902 г. он вступил в Социалистическую партию, но вскоре из нее вышел.
В 1908–1909 гг. Тоцци работал служащим государственных железных дорог в Понтедере и Флоренции, о чем впоследствии написал в «Воспоминаниях служащего» (1920), опубликованных посмертно в 1927 г.
После смерти отца Тоцци вынужден был заняться управлением хозяйством и переселился в Кастаньето близ Сиены, где жил до 1914 г. В 1911 г. вышла его первая книга — сборник сонетов и баллад «Зеленая волынка» (1911), а в 1912 г. — сборник небольших поэм «Город Дев» (1913). Поэзия Тоцци свидетельствует о влиянии на его творчество Г. Д’Аннунцио, она проникнута мистическими и религиозными мотивами. Увлечение старой сиенской религиозной литературой и особенно личностью Св. Екатерины Сиенской вылилось в издание трех антологий (1913–1918). К этому же периоду относится увлечение Тоцци Ф. М. Достоевским и русской литературой. Первые опыты в прозе — письма к Анналене (1902–03; 1906–08), опубликованные посмертно под названием «Вспаханная новь» («Novale», 1925).
Дальнейшее формирование Тоцци происходило под влиянием католического писателя Доменико Джулиотти, вместе с которым в 1913 г. он основал католический журнал «Ла Торе» («La Torre», «Башня», вышло 6 номеров), вступивший в яростную полемику с либеральными литературными журналами «Ла Воче» («La voce», «Голос», 1909–1915, сотр. Дж. Папини, Дж. Преццолини, А. Соффичи, Ш. Слатапер, Б. Муссолини) и футуристическим журналом «Лачерба» («Lacerba», сотр. Д. Папини, А. Соффичи).
В 1914 г. Тоцци переехал в Рим, где за шесть оставшихся ему лет опубликовал все свои лучшие произведения. В 1917 г. Тоцци издал лирический дневник «Животные», написанный во фрагментарной манере. В 1919 г. вышел в свет его первый роман «С закрытыми глазами». Оба произведения были созданы еще в 1913 г. в Сиене, в них писатель заявил о себе как о незаурядном мастере психологической прозы. В 1918 г. Тоцци в чрезвычайно короткий срок написал романы «Поместье» (1921) и «Три креста» (1920) — о том, как денежные отношения разрушают человеческую природу (они были опубликованы посмертно). Эти три романа — самые значительные, но и самые спорные произведения Тоцци. В них он переосмысливает опыт классического романа XIX века в свете психологической прозы начала XX века. Главные черты его творчества — автобиографичность, тяготение к анализу сложных душевных состояний. При внешней бесстрастности повествования Тоцци достигает большой выразительности стиля. Тоцци испытал влияние Дж. Верги. Также Тоцци является автором двух сборников новелл «Молодость» и «Любовь».
Перед смертью писатель работал над романом «Эгоисты», оставшимся незаконченным. В последние годы написаны несколько комедий, драм и одноактных пьес (они тоже изданы посмертно). Практически во всех произведениях Тоцци речь идет о хорошо знакомых ему людях — тосканских крестьянах и мелких собственниках, о трудных, порой невыносимых отношениях между людьми. Особенное место в его книгах занимает Сиена с ее многовековой историей и неповторимым очарованием. Подлинная слава пришла к писателю, когда его давно не было в живых. С полным основанием он считается одним из лучших итальянских романистов начала XX в.
Федериго Тоцци — автор романов Закрыв глаза (Con gli occhi chiusi, 1913, опубл. 1919), Три креста (Tre croci, 1918, опубл. 1920), Поместье (II podere, 1919, опубл. 1921), Эгоисты (Gli egoisti, 1920, опубл. 1923), Адель (Adele, незаконч., опубл. 1979), повести Записки служащего (Ricordi di un impiegato, 1911, опубл. 1920), новелл и эссе (сборник Молодость (Giovani, опубл. 1920, и другие), книги прозаических миниатюр Звери (Bestie, 1913, опубл. 1917), сборников стихов Зеленая волынка (La zampogna verde, 1911), Город Дев (La città delle Vergine, 1912, опубл. 1913) и др., драм Слепок (L’incalco, опубл. 1923) и др.
ТРИ КРЕСТА
I
— Никколо́! Проснись же, наконец!
Никколо дремал, полусидя: он удобно примостился на стуле, спрятав руки в карманы брюк и прислонившись головой к стеллажу стоящего позади книжного шкафа; рядом громоздился старинный сундук, заставленный вазами, тарелками и картинами: в книжной лавке братьев Гамби он был достопримечательностью для посетителей. В ответ на настойчивые призывы Джулио Никколо проворчал что-то невнятное, натянул шляпу пониже на лицо и опять закрыл глаза.
— Эй ты, бесстыдник! Все утро спишь — зла на тебя не хватает!
Никколо звучно причмокнул, затем открыл глаза и посмотрел на брата.
— Да что ты привязался? Знаешь ведь: у меня сейчас предобеденный сон!
— Мне пора в банк. Сегодня утром истекает срок векселя.
Никколо фыркнул.
— Ну и иди! Стоило ради этого меня будить.
— А за товаром кто присмотрит?
— Какой идиот вздумает в этот час покупать книги? Ладно, иди, я присмотрю!
Пока Джулио искал свой цилиндр, Никколо встал, прошелся до двери, будто хотел с разбегу броситься прочь из лавки, затем вернулся и сел на прежнее место.
Он был высокий и тучный, бороденка с проседью, пухлые губы и пасмурно-серые глаза.
Уже в который раз Джулио сам отправлялся в банк вместо того, чтобы послать кого-то из братьев.
— А где же Энрико? Вечно все приходится делать нам, будто он ни при чем! — Никколо попытался изобразить сочувствие.
— Бродит по улицам. Где же ему еще быть? Как раз самое время для прогулки.
— А меня ты, значит, упрекаешь в том, что я сплю?
Джулио чуть заметно улыбнулся, потом надел очки, чтобы рассмотреть повнимательнее подпись на векселе:
— Ну как, по-твоему, похоже?
Никколо молча пожал плечами.
— Да, получилось превосходно! — похвалил сам себя Джулио с деланным восторгом.
Брат только опустил голову и еще раз ухмыльнулся; затем нервно забарабанил ногой — так, что закачался и сундук, и все, что лежало сверху.
— Прекрати! Сейчас все разобьется!
— И пускай…
Джулио почесал подбородок и посмотрел на брата с недоумением:
— С тобой каши не сваришь! Теперь, дорогой мой, при всем желании, отступать слишком поздно. Остается надеяться, что нам удастся достать денег, чтобы оплатить векселя!
— А если в банке обнаружат, что ты… что мы подделываем подписи?
Из трех братьев Гамби Джулио был самым угрюмым, но при этом самым решительным и предприимчивым: он твердо верил, что доходы от книжной лавки в скором времени помогут им справиться с долгами и тогда не придется больше рисковать. Джулио придумал уловку с векселями, научился подделывать подписи. После подобных разговоров с Никколо он падал духом, но в банк все-таки шел: им необходимо было выиграть время. Впрочем, сам по себе этот ритуал уже стал привычным для Джулио: главное — быть пунктуальным. Он даже гордился тем, что три года все шло так гладко: за это время братья выручили более пятидесяти тысяч лир, и никто ничего не заподозрил; даже сам кавалер Горацио Никкьоли, который действительно когда-то оказал им услугу, подписав пару векселей, ни о чем не догадывался. Он по-прежнему был их другом и каждый вечер непременно заходил в лавку поболтать.
Джулио был моложе Никколо и выше ростом, только без бороды и совсем седой. Его розоватое лицо украшали пока еще золотистые усы, а голубые глаза по цвету напоминали какой-то драгоценный камень. Джулио был самым образованным из братьев, к тому же — самым трудолюбивым: с утра до ночи мог сидеть в лавке. Никколо исполнял обязанности антиквара и почти все время проводил в окрестностях Сиены: колесил по старым поместьям и деревушкам в поисках интересных вещиц.
Энрико занимался переплетом в одной из мастерских неподалеку от книжной лавки. Роста он был небольшого и носил темные усы; характер имел грубый и заносчивый.
Из трех братьев женат был только Никколо; они жили все в одном доме, вместе с двумя молодыми племянницами-сиротами.
Отец Гамби был удачлив в делах, да и им на первых порах везло; однако постепенно книжная лавка стала приносить все меньше и меньше дохода.
Джулио надел цилиндр, предварительно смахнув с него пыль, замер в нерешительности, глядя на лежащий на столе вексель и задумчиво поглаживая подбородок, наконец, схватил вексель и убрал в карман. Никколо наблюдал за ним, бормоча себе под нос ругательства и проклятия.
— Нечего возмущаться!
— А что ж мне остается?
— Ничего. Успокойся и смирись.
— Да я не хочу провести остаток жизни в тюрьме!
У Никколо был мощный, звучный голос, и когда он кричал, трудно было понять, всерьез это или в шутку. Джулио не обиделся и ответил спокойно и сдержанно:
— Не волнуйся, в тюрьму пойду я один.
— Лучше возвращайся поскорее, а то меня того и гляди здесь удар хватит, пока тебя нет!
Джулио вышел на улицу и направился в банк, придерживая в кармане вексель, чтобы не потерять; он старался держаться уверенно и шел, высоко подняв голову. Пусть все видят: ему нечего бояться.
Никколо снова развалился на стуле, вытянув свои длинные ноги аж до самой середины лавки, и принялся мусолить во рту сигару, то и дело сплевывая на пол. Он даже не шевельнулся, когда на пороге показался посетитель, хотя они были хорошо знакомы и в былое время ходили вместе на охоту.
— Как поживаете? — спросил вошедший.
— Хорошо. А вы?
— Да вот, простудился немного.
Никколо слегка улыбнулся и сделал вид, что встревожен:
— Надо быть внимательнее к своему здоровью!
Пока синьор Риккардо Валентини разглядывал книги, Никколо, как ни в чем не бывало, снова закрыл глаза. Вообще клиенты, давно знавшие братьев, обычно не обращались к Никколо, предпочитая дождаться Джулио, чтобы купить понравившуюся книгу.
— Хорошая у вас жизнь, сидите себе целый день! — сказал Валентини.
— Да, не жалуюсь. А вы, поди, завидуете?
— Я? Ну что вы. Напротив, я только рад за вас.
— Да, я живу на широкую ногу назло всем тем, кто мечтает видеть меня нищим. Что мне до них? Пусть лопнут от злости!
Синьор Валентини тихонько засмеялся. Никколо же продолжал:
— У меня на обед сегодня дрозды и куропатки. Я заказал вино в одном из лучших погребов Кьянти, если бы вы его попробовали — диву бы дались. Господи! Люблю себя побаловать! Что может быть важнее в жизни, чем такие вот удовольствия? Да, в душе я аристократ — не то, что вы!
— Не то, что я? Ну еще бы! У меня забот по горло. Вот сегодня, к примеру: заболел управляющий — так мне пришлось приехать в Сиену. И дела все неотложные, да и как иначе, когда тридцать имений на твоем попечении? Не говоря уже о финансах.
Никколо, довольно потирая руки от таких признаний, продолжал дразнить Валентини:
— Вино и пунш! Я сам готовлю пунш. Пол-литра рома зараз! Вот это жизнь!
Бешеная радость охватила Никколо. И когда он смеялся так дико и неистово, то почему-то делался обворожителен.
— Джулио ушел на свидание с одной милой девушкой, вот он вернется — тогда закроем, наконец, эту клетушку и пойдем обедать. М-м-м — да, обед будет что надо! Жаль, у меня только один желудок, второй был бы очень кстати! Я заказал нашей служанке килограмм пармезана и еще особых груш, каждая фунт весом. Готов поспорить, что вы были бы не прочь разделить со мной такую трапезу!
Синьор Валентини засмеялся, похлопав Никколо по плечу. Затем спросил:
— Скажите, откуда у вас такая статуэтка Мадонны — та, что на сундуке?
Никколо нахмурился.
— Или, может, не хотите раскрывать секрета?
— Напротив. С вами я готов поделиться: эта Мадонна попалась мне в одном из крестьянских домов. И за это сокровище я отдал всего-навсего сто лир!
Он вскочил и завопил в каком-то странном восторге:
— Сто лир! Жалкие сто лир! Да он мне ее даром отдал! Есть же на свете такие идиоты!
— И за сколько вы ее продаете?
— Я-то? — прогремел Никколо, затем добавил пренебрежительно:
— Вчера один англичанин предлагал за нее четыре тысячи лир, четыре тысячи!
— И вы согласились?
— Да я за нее все шесть выручу.
Последние слова Никколо произнес тихо и задумчиво. Он, было, сел, успокоившись, но вдруг снова вскочил и закричал, топнув ногой:
— Сто лир! Ну, разве не идиот? Нужно быть круглым дураком, чтобы так продешевить!
Тут Никколо в очередной раз огорошил гостя своим смехом, который больше напоминал судороги.
В эту минуту вошел Джулио. Он бросил на Никколо пристальный взгляд из-под полей шляпы, которую всегда машинально натягивал на глаза, возвращаясь из банка.
— Что это ты разошелся?
Никколо резко осекся и, не ответив ни слова, бросился прочь из лавки.
II
Он шагал по улице с важным видом, высоко подняв голову; на все приветствия отвечал сквозь зубы, презрительно и односложно, будто куда-то торопился. Дойдя до фруктовой лавки на улице Кавур, он окинул взглядом лотки с фруктами, слегка повел головой, будто поправляя воротничок рубашки, но не остановился. Аромат фруктов манил Никколо, буквально сбивал с ног, однако он продолжал идти вперед, сам не зная куда, и то и дело сталкивался с прохожими. Какая-то неведомая сила все-таки заставила его повернуть обратно: из головы у него не шли только что увиденные фрукты, которые казались самыми вкусными и сочными на свете. Никколо чуть не плакал, в кармане у него не было ни гроша. Оставалась последняя надежда: попросить денег у брата.
Синьора Валентини в лавке уже не было.
— Ну и что здесь надо было этому бездарю? Попадись он мне еще раз — вот уж угощу его тумаками!
— Чем он тебе не угодил? — спросил Джулио с улыбкой.
— Ха! Еще не хватало, чтобы он сделал мне какую-нибудь гадость. Просто я его не желаю ни видеть, ни слышать — разве этого мало?
— Да ты никого не можешь ни слышать, ни видеть. Сумасшедший просто! И в кого ты такой?
Тут Никколо схватил брата за руку, скрежеща зубами, и взмолился, как капризный ребенок:
— Джулио, дорогой мой! Ты не представляешь, какие я только что видел яблоки и груши — полжизни готов отдать, лишь бы их попробовать! Просто чудо…
Джулио, посмеиваясь над его алчностью, спросил:
— Что, и впрямь так хороши?
— Божественны! И кожура так лоснится… Пока их не попробую — на другую еду и не посмотрю!
— Вот Энрико вернется — пошлем его за фруктами.
— Да, да! Пусть возьмет нашу утреннюю выручку и купит! У него, небось, тоже слюнки потекут, как их увидит.
— Не сомневаюсь!
Вошел Энрико, хлопнув дверью, — еще недавно братья могли себе позволить держать продавца, который открывал дверь перед посетителями. Энрико внимательно осмотрелся. Вид у него был недоверчивый и даже агрессивный.
— Где ты был? — поинтересовался Джулио.
— С какой стати я должен перед тобой отчитываться? Ты мне не отец! Я же не лезу в твои дела?
— Да, тебя наши дела не волнуют! — вмешался Никколо.
— Помолчал бы хоть раз! — огрызнулся Энрико. Он гнусавил, растягивая слова. — Вечно ты со своими колкостями. Я тут наткнулся на Валентини — непонятно, зачем он вообще приходит в лавку, если никогда ничего не покупает. Он и читать-то, небось, не умеет! И что ему дома не сидится? Приходит, только пол зря топчет — а мы потом чини его на свои деньги. Появлялся бы дома чаще — не пришлось бы его жене утешаться с фермером!
— Ты серьезно? Откуда ты знаешь? Вот потеха!
— Знаю — и все тут. Что бы я ни рассказал, вы обязательно спросите, откуда я знаю! Можете не верить, мне все равно.
Джулио открыл ящик стола, отсчитал десять лир и протянул их Энрико:
— Сходи, купи у Чичи яблок и груш, два кило.
— А почему я? У вас что, ног нет?
— Это он решил тебя отправить, — сказал Джулио, кивнув на Никколо. Тот сидел и обиженно молчал, глядя в сторону.
— Хорошо, схожу, но только загляну еще к мяснику за горгонзолой.
— Делай, как знаешь.
Энрико направился к выходу.
— Лишь бы ты убрался подальше и не путался под ногами! — прокричал ему вслед Никколо.
И, когда брат уже вышел, добавил:
— Ему лишь бы дурака валять.
Воцарилась тишина. Слышно было только, как Джулио, сидя за столом, тихонько постукивает очками по промокашке. Так прошло полчаса.
— Благодаря сегодняшнему векселю, у нас теперь на пять тысяч лир больше.
— Ты это мне? — спросил Никколо.
— А кому же еще?
— Мне все равно. Знать ничего не желаю.
— Не хочешь себе портить кровь?
— Джулио! Хватит! У меня и так сердце болит, словно в него нож вонзили!
— Знаю. Мне и самому не легче.
От этих слов Никколо вдруг смягчился, в его голосе послышалась нежность — казалось, еще немного, и он кинется брату на шею:
— Только любовь спасает нас, если бы не она, я уже давно, наверное, превратился бы в животное… в жабу! И не смотри на меня так! — добавил он в ответ на растроганный взгляд Джулио.
— Девочкам нужна зимняя одежда, — сказал тот.
— Так давай купим, немедленно! Ради них я готов отказаться от новых ботинок! От всего на свете! Готов умереть с голоду!
Во время таких порывов Никколо выпячивал грудь, так что казался еще выше, и принимался метаться взад и вперед, будто в лавке ему было слишком тесно. Довольный собой, он бросал гордые и пламенные взгляды, шумно вздыхая, будто только что спас племянниц от смерти. Он нервничал.
— Девочки — самое святое, что у нас есть. Разве не так?
— Я и сам все время говорю это.
— А Энрико… Он тоже так думает?
— Черт возьми, разумеется!
— И где только его так долго носит?
— Да он всего-то десять минут, как вышел, — Джулио посмотрел на часы.
— Я, пожалуй, пойду, увидимся дома. Не задерживайся! — сказал Никколо.
Оставшись один, Джулио решил подготовить несколько квитанций. В этот момент зашел молодой француз, искусствовед, приехавший в Сиену изучать творчество художников пятнадцатого века, — он каждое утро заглядывал в лавку, возвращаясь из Государственного Архива. По обыкновению хорошо одетый, он держал в руках трость с набалдашником из слоновой кости в золотой оправе. Глаза его были бирюзового цвета, а улыбку обрамляли тяжелые светлые усы.
— Добрый день, синьор Низар.
— Здравствуйте!
— Какие новости?
— Вот, нашел кое-что интересное про Маттео ди Джованни[1]. Просто неслыханно! Это будет настоящим открытием! Не представляете, как я рад!
— Позволите полюбопытствовать? — спросил Джулио.
— Эта находка очень пригодится для книги, над которой я сейчас работаю!
— В таком случае не буду допытываться — лучше вам пока не раскрывать своих карт.
Джулио испытывал какое-то благоговение перед тем, что происходило в жизни других; и ему всегда было приятно, когда с ним откровенничали. Многие считали его человеком, которому можно доверять. Для Джулио же все они были частью того мира, который они с братьями навсегда утратили, запятнав себя подделкой подписей. С некоторых пор он все острее ощущал моральную ответственность за это и не смел требовать от окружающих уважения — оно было бы ему только в тягость. Джулио робел, избегал старых знакомых, чтобы не обмануть их доверие.
Приговор совести вынуждал его замыкаться в кругу семьи; всем же прочим он улыбался, но как-то сдержанно, натянуто, и от этого еще больше страдал. Никколо в друзьях не нуждался и каждый раз упрекал брата, когда тот проявлял к кому-либо чрезмерное радушие:
— Ты ведь понимаешь, что нас с этими людьми разделяет что-то, чего они нам никогда не простят. Так что нечего и нам с ними церемониться.
Джулио слушал Низара, спрятав руки в карманы и не поднимая глаз, — так нищий, проведя полчаса в компании богача, чувствует себя счастливее, чем прежде. Но если бы Низар протянул ему руку для рукопожатия, он почувствовал бы себя неловко.
В тот день Низар, который всегда считал, что сиенцы скупятся на книги, решил немного позлословить и спросил:
— Как идет торговля?
Джулио только покачал головой:
— Не знаю, сколько мы так еще протянем…
В один миг удовольствие, с которым Джулио только что слушал Низара, уступило место боли. Как несправедливо, что он должен терпеть лишения и не может, как его гость, спокойно работать! В голове Джулио то и дело рождались разные планы, от которых он всякий раз вынужден был отказываться — воспоминание об этом больно ранило его самолюбие. Низар тем временем продолжал:
— Хорошо еще, что в прежние времена вы неплохо заработали и теперь не нуждаетесь в деньгах!
Джулио, с трудом сдерживаясь, отвечал:
— Да, несомненно, это была большая удача! Но я, честно говоря, даже думать об этом не хочу. Будь что будет!
Низар, решив, что Джулио, по скупости и мелочности своей, прибедняется, рассмеялся.
— Вы мне не верите.
— Но позвольте, синьор Джулио, не хотите же вы убедить меня, что…
— Я никогда не говорю… то есть будь моя воля — никогда в жизни не сказал бы неправды! — Тут он вдруг погрузился в свои мысли. Низар посмотрел на него и спросил, как заговорщик:
— Может, вы боитесь, что я доложу о вас в фискальную службу, и вам увеличат налог?
В эту минуту дверь отворилась: вернулся Энрико. Сияя от счастья, он держал в охапке фрукты.
— Ну вот, не хватает только горгонзолы! — сообщил он. — А еще говорите, что я думаю только о себе. Только попробуйте еще раз назвать меня эгоистом!
Низару забавно было видеть замешательство Джулио, которое, однако, улетучилось при виде фруктов:
— Да, груши, и правда, восхитительны!
— Ну, я домой? Или нужно еще что-то купить? — спросил Энрико.
Брат кивнул ему на дверь, и тот вышел.
Когда Энрико что-нибудь покупал, то почему-то становился еще заносчивее — на вопросы отвечал сквозь зубы и не считал нужным прощаться.
— Да, изобилие на столе — наша слабость. У нас в семье все такие — даже Модеста, моя невестка, и та пристрастилась к хорошей еде.
Джулио не терпелось поскорее попасть домой: он боялся, что иначе ему ничего не достанется; да к тому же первый, как известно, всегда выбирает самый лакомый кусок. Если бы не Низар, он давно закрыл бы лавку, хотя и ожидал еще одного клиента. Джулио уже жалел, что договорился об этой встрече, и не без досады воскликнул:
— Не понимаю, как люди могут выбрасывать столько денег на жалкую горстку печатных листов! Я сижу здесь целыми днями, как пленник, света белого не вижу — мне и дотронуться-то противно до этих книг! Как было бы здорово сжечь их в один прекрасный день, все до единой!
— Но вы же образованный человек, неужели вы это серьезно?
— Я устал от своей образованности — хватит! Мне сорок лет, а кажется, будто восемьдесят, да что там… все сто! Вижу, вы опять мне не верите!
Низар только развел руками и, улыбаясь, сказал, что охотно верит. Но Джулио уже был в своих мыслях — он не мог вспомнить, купили ли они пармезана для макарон: «Вот уж Никколо разозлится, если обед будет приготовлен не так, как положено!» Он представил себе, как брат будет ссориться с женой, осыпая ее упреками. А потом молча встанет из-за стола и весь день не будет с ней разговаривать. Племянницы, Кьярина и Лола, тихонько посмеются, а Энрико, как всегда, скажет, что это чудовищная бестактность. Джулио замер посреди комнаты во власти собственных фантазий, на лице его было написано довольство.
Послышался дружный звон колоколов. Словно не веря своим ушам, Джулио вышел на улицу — городские часы торжественно отбивали полдень, с соседней Пьяцца Толомеи им вторила церковь Сан Кристофоро. Народ постепенно заполнял улицы города, чиновники спешили в конторы.
— Ну что ж, мы закрываемся! — сообщил Джулио с довольным видом.
Низар откланялся и зашагал в сторону дома: он арендовал виллу неподалеку от Порта Камоллия.
Пять минут спустя часы повторно пробили полдень; Джулио казалось, что на этот раз они обращаются именно к нему, и каждый удар был для него весел и сладок, как сахарный леденец.
III
После обеда Никколо по обыкновению бывал в хорошем расположении духа, но стоило кому-то сказать что-то лишнее, как он опять приходил в ярость.
Закончив трапезу, Джулио, как правило, занимался с племянницами, Энрико же уходил вздремнуть часок-другой.
— Как же меня раздражают все эти ваши разговоры! — бушевал Никколо. — А ведь я превосходно себя чувствовал! Оставьте меня в покое, лучше поговорю сам с собой — все равно вы меня не понимаете!
Никколо медленно вышел из дома, тяжело дыша; лицо его было покрыто испариной, хотя на дворе стоял октябрь. Как и братья, он страдал от подагры и, наевшись до отвала, с трудом волочил ноги.
Очутившись на улице, Никколо попытался придать себе веселости, однако если кто-то из прохожих отвечал ему улыбкой, он тут же мрачнел, словно его оскорбили.
Прогулка в парке Лицца[2] заняла у Никколо ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы выкурить сигару; после этого он направился в лавку, где его уже поджидал давний друг Витторио Корсали, страховой агент.
— Знаешь, я сегодня что-то не настроен разговаривать. Это так утомительно!
— Не понимаю, как я мог тебя утомить, я еще и рта-то раскрыть не успел…
— Какая разница! Меня и молчание сегодня раздражает!
— Мы тут потолковали с твоим братом Джулио: у меня есть для тебя выгодное предложение.
— Не нужно мне никаких предложений! Обсуждайте, что хотите, только без меня! Ничего сегодня не желаю слышать, даже жужжанья мух!
Он вызывающе засмеялся. Смех был буйный, страстный и горький одновременно.
— Зайду в другой раз, когда ему станет лучше… — сказал Корсали, обратившись к Джулио.
Тут Никколо окончательно рассвирепел:
— Я предупреждал тебя, чтобы ты молчал! Что здесь непонятного! Или вытолкать тебя в шею? — он тяжело дышал, кусая себе пальцы.
Корсали, обиженный таким приемом, несмотря на настойчивые призывы Джулио не принимать сказанное всерьез, решительно направился к двери. За его спиной снова раздался хохот — на этот раз добродушный, и Корсали застыл от удивления.
— Ты что, шуток не понимаешь? — сказал Никколо.
— С друзьями так не шутят.
Никколо задели эти слова, он посмотрел на Витторио хмуро и вызывающе.
Корсали носил белесые усы, был тощим и лысым; когда он разговаривал, то имел странную привычку скалить зубы, что делало его похожим на лису.
— Сделай милость, скажи, когда будешь готов поговорить, — сказал Джулио брату.
— Когда угодно, только не сегодня.
— Завтра я должен ехать в Радикондоли[3] по делам страховой компании. Там у приходского священника я видел серебряное распятие…
Последние слова заинтересовали Никколо. Он резко обернулся и спросил:
— Он его продает?
— Именно поэтому я и пришел.
Никколо, казалось, разозлился, будто Корсали в чем-то провинился:
— По-твоему, оно мне понравится?
— Думаю, да.
— Ты в таких делах не разбираешься, я тебе не доверяю.
— Уж совсем за простака меня держишь!
— И сколько он просит? Скряга, небось? — спросил Джулио.
— Вроде как двести.
Никколо задрожал от возмущения:
— Передай этому священнику, пусть подавится своим распятием! Я с такими, как он, дел иметь не хочу, я покупаю только у тех, кто не умеет торговаться. Увижу его у нас в лавке — поколочу, честное слово! Так и скажи! Пусть держится от меня подальше!
Никколо готов был, казалось, растерзать несчастного гостя. Неожиданно он улыбнулся и спокойно растянулся на стуле, поглядывая то на брата, то на Корсали; глаза его сияли, он словно приглашал их посмеяться вместе с ним. Им передалась его безмятежная, ребяческая радость. Заметив это, Никколо как будто оскорбился и закричал не своим голосом:
— Не желаю с вами разговаривать!
Затем, нарочито не обращая внимания на Корсали, обратился к Джулио:
— Ты отправил счета?
— Осталось положить в конверт квитанции.
— Чего же ты ждешь?
— Сегодня все сделаю.
— Ничего не забыл указать?
— Я все переписал, как было в книге.
— А даты?
— И даты тоже.
— Хотелось бы знать, почему они не платят.
— Да просто люди поступают, как им удобно!
Никколо стукнул рукой по сундуку, так что звякнуло кольцо на мизинце, и зевнул:
— Что-то у меня голова болит: все эта острая подлива.
— Ты же просил, чтоб было побольше перца!
— Что у нас на вечер, цыпленок?
— Кажется.
— Если нет — пойду ужинать в ресторан.
— Как хочешь, кто тебе запрещает. Уже не в первый раз…
— А у тебя, Витторио, что сегодня на ужин?
— Да что Бог пошлет — бульончик, кусок вареного мяса и, может быть, головка сыра — самая малость, я ведь ем, как птичка.
Никколо усмехнулся:
— А я вот на завтра, пожалуй, куплю индейку. Я, знаешь ли, вареное мясо просто на дух не переношу!
Он повеселел и даже принялся рассказывать какую-то смешную историю. У него всегда в запасе был новый анекдот, после которого он сам хохотал до слез, приговаривая:
— Вот потеха! Кто, если не я, повеселит вас хорошим анекдотом!
Джулио тоже смеялся, но сдержанно. Никколо не унимался:
— Просто помереть можно со смеху! Аж слезы из глаз! Ой, живот болит! Прошлой ночью моя жена проснулась оттого, что я смеялся во сне — это мне приснился тот анекдот, что я давеча рассказал. Ты вот у Джулио спроси! За мной бы записывать!
Тут вошел Энрико, и Никколо помрачнел. Энрико брел спросонок, словно ошалев, покачиваясь, даже налетел на один из книжных шкафов.
— Какой же я рассеянный! Все потому, что плохо спал: у нас под окнами мраморщик что-то долбил, да так громко! Ведь знает, что люди отдыхают, имел бы хоть немного уважения! Так нет же, как нарочно. И какая необходимость так громыхать!
— Должно быть, мрамор привезли — работа есть работа.
— Чудовищная бестактность! Ведь он не один на свете! Мне до его мрамора дела нет — как и до его рогов! Жена, говорят, каждый день их ему наставляет!
— А ему какое дело до того, что ты спишь?
— Что значит — какое? Со мной все согласятся. Готов на что угодно поспорить — любой порядочный человек меня поддержит! Работал бы себе потихоньку — пожалуйста, сколько хотите! Не будить же людей! Я еле сдержался, проходя мимо, но в другой раз молчать не стану! Эх, доброта — враг мой! Ты что, высосал весь коньяк? — спросил он Никколо.
— Не нравится — покупай себе отдельную бутылку.
— Так и сделаю! А еще братья называются — хоть бы рюмку оставили.
— Выпей воды.
— Воды? Лучше провалиться мне на месте, чем взять хоть каплю в рот! Этой водой только подмываться!
Энрико даже изменился в голосе, что случалось с ним в минуты крайнего раздражения:
— Вы нарочно надо мной издеваетесь. «Выпей воды!» Разве это по-братски? Скажите, Витторио? Ничего, я сумею поставить вас на место! Я себя в обиду не дам! А еще говорят, что я обидчивый — да как тут не обидеться?!
— Сходи лучше проверь, как идут дела в переплетной мастерской.
— Я буду делать то, что считаю нужным. Это мое право. В конце концов, не из моей же кожи делают переплеты! Хотите ссоры — пожалуйста, двое на одного — что ж, ради Бога!
— Никто и не думал с тобой ругаться — напротив, мы всегда готовы тебя выслушать! — вмешался Джулио.
— Конечно, потому что вам нечего возразить!
— Зачем же возражать?
— Значит, вы продолжаете настаивать на своем?
— Послушай, Энрико, у меня нет никакого желания повышать голос.
— У тебя нет, а вот у него есть!
— Джулио, скажи ему — пусть лучше убирается подобру-поздорову! — отозвался Никколо, схватив попавшуюся под руку старинную вазу.
— Хочешь разбить вазу о мою голову? Хочешь подраться — пожалуйста, только вазу не трогай! Не думай, что я испугался — просто надо беречь вещи! Она из тонкого фаянса, дунешь — разлетится в дребезги. И потом — посмотрите, какие вмятины остались от его ног на сундуке! Да он просто вандал неотесанный!
Витторио с трудом сдерживал смех.
— Сделайте милость, перестаньте! Не надо братоубийства!
— Он рад разорвать меня на части! — сказал Энрико.
— Не говори глупостей, — вмешался Джулио.
— Ты всегда на его стороне. Пусть поставит вазу на место. Подумать только, он не слышит! Я ухожу. Как меня вообще сюда занесло!
Он с досадой посмотрел на аккуратно составленные книги и вышел.
Тут Никколо дал себе волю.
— Совсем распустился! Я ему покажу!
— Не надо принимать его в штыки!
— По мне так лучше бы сгинул раз и навсегда!
— Ну, зачем же так? — сказал Корсали примирительно.
— Мое дело, зачем! Лучше не спрашивайте! Если бы не он, все было бы совсем по-другому! Я давно мечтаю, чтобы мы с Джулио остались вдвоем!
— У нас общее дело, мы должны разделить эту ношу — все трое…
Хотя Корсали не понял намека Джулио, Никколо весь задрожал и поспешно перебил брата:
— Замолчи!
Джулио понял свою неосторожность. Его смущение не ускользнуло от Корсали:
— Ладно, не буду вмешиваться в ваши дела. Хотя я как-никак ваш друг, а не какой-то там недоброжелатель или сплетник…
Джулио попытался разрядить напряжение.
— Это все Никколо — навыдумывал глупости…
— Замолчи, я сказал! — прогремел тот, топнув ногой.
— Да что ты на меня напустился?
— Хватит, молчи! — и, словно чтобы его лучше поняли, закрыл себе рот ладонями.
Корсали был явно заинтригован, однако понимал, что вряд ли ему удастся что-то выведать.
— Вижу, вам неудобно при мне говорить — я, пожалуй, пойду.
— Нет уж, пожалуйста, останься! — закричал Никколо. Джулио покраснел, как девушка.
— Лучше бы вы хохотали, как давеча над шуткой, — заметил Корсали.
Тут Никколо взорвался окончательно:
— Я?! Чтоб я хохотал? Да это просто клевета, какой свет не видывал! Я никогда не смеюсь, слышишь? Никогда!
— Да ты просто не помнишь!
— Хватит! Хватит! Хватит! Если я сказал никогда — значит, никогда!
Джулио сделал знак Корсали, чтобы тот вышел. Когда братья, наконец, остались одни, Никколо разрыдался.
— Что с тобой?
— Я так больше не могу!
Джулио встал из-за стола, по его щекам тоже катились слезы.
Они старались не смотреть друг другу в глаза.
IV
Кавалер Горацио Никкьоли, городской асессор и глава нескольких благотворительных учреждений, по обыкновению появлялся в лавке с добродушным видом, ожидая найти неизменно теплый прием. Он чувствовал себя здесь хозяином, однако старался этого не показывать, так как действительно хорошо относился к братьям Гамби.
Никкьоли имел привычку глядеть из-под очков, слегка наклонив голову и как-то по-детски сложив губы в трубочку.
Он заглянул на следующий день после ссоры и потихоньку поинтересовался у Джулио:
— Как идут дела?
Джулио покраснел и ответил:
— По-прежнему.
— Надеюсь, ничего плохого?
— Нет, что вы!
Никколо, видя, как они шепчутся, спросил униженно:
— А со мной почему не изволите разговаривать?
— Да я с обоими рад поговорить. Просто вы вечно сидите там, на стуле… Бедный синьор Никколо!
— Здесь мне удобнее!
Никколо хотел было отпустить в адрес Никкьоли какую-нибудь колкость, но улыбнулся и промолчал. Джулио был как на иголках, ему стоило огромных усилий скрывать свое волнение. Он охотно уклонился бы от беседы, придумав, что ему нужно за марками, и задержался бы дольше положенного. Вот Энрико всегда делал вид, что очень занят, и сразу улепетывал, провожаемый гневными взглядами Никколо.
Иной раз Никкьоли ставил братьев в тупик своим радушием.
— Джулио, дай ему стул! — сказал Никколо.
— Сейчас принесу свой.
— Сиди! Уж лучше я встану…
Но даже не пошевелился и продолжал:
— Вы всегда желанный гость в нашей лавке, и мы будем рады, если вы задержитесь подольше.
Кавалер был, очевидно, растроган, братья же продолжали умасливать его вопросами:
— Как поживает ваша жена?
— Прекрасно, спасибо.
— А ребенок?
— Не поверите, растет на глазах!
— Что за славный малыш!
Кавалер так восхищался своим маленьким наследником, что не мог подобрать нужных слов:
— Чудо, а не ребенок! Красивый… сильный… то есть как бы это сказать… крепкий! Прекрасно сложен — такие ножки, а ручки… И развит не по годам! Умнее нас с вами! Только скажешь ему — агу… агу — сразу отвечает! Третьего дня четырнадцать месяцев исполнилось! Папина гордость!
Никколо сделал вид, что чихнул, стараясь скрыть ухмылку.
Кавалер продолжал, ничего не заметив:
— Джулио, я собирался пройтись, не хотите ли составить мне компанию? Расскажу вам про своего мальчугана!
Джулио посчитал, что невежливо отказываться, и надел цилиндр:
— Я сейчас.
— О нем я могу говорить часами. Он — самое дорогое, что у меня есть!
Никколо кивнул головой в знак одобрения.
Джулио и Никкьоли прошли через Порта Камоллия и направились по Страда Ди Пескайа, чтобы затем вернуться в город со стороны Порта Фонтебранда. Дорога спускалась вниз, исчезая за покрытыми высоким кустарником холмами, которые служили Сиене укрытием и защитой. Справа в долине, за длинным склоном, покрытом виноградниками, раскинулась деревня. Возле Мадоннино Скапато открывался вид на базилику Сан Доменико, величественная громада которой алела на холме. В розовой дымке неба монастырь св. Катерины, расположенный несколько поодаль, казался пурпурным в обрамлении двух темных кипарисов с острыми верхушками. Поток воды, разбиваясь на маленькие ручейки и лужи, шумно стекал с холма на улицу под дружный шелест кривых тополей, усеянных молодыми побегами. Под ними расстилалась такая сочная зеленая трава, что Никкьоли на мгновение остановился и воскликнул:
— С удовольствием променял бы свои поля в Монтериджони на эту красоту!
И тут же вновь пустился в разговоры о ребенке. Он уже в который раз подробно описывал роды своей жены — сколько вызвали врачей, какие возникли осложнения и какие были приняты меры. А сколько кормилиц они перепробовали, пока не нашли ту, у которой хватало молока! Затем Никкьоли перешел к воспалению десен: у малыша резались зубки. Он вытащил из кармана записную книжку в белой картонной обложке с позолоченными краями и показал ее Джулио:
— Вот, видите — все записываю, чтобы ничего не забыть. Наш мальчик никогда не плачет, даже ночью — так представьте себе, как перепугалась моя жена, когда он вдруг заплакал… она ведь у меня женщина чувствительная, нервная… Нам даже в голову не пришло, что это зубки… Мы тут же послали за нашим семейным доктором, который, надо отдать ему должное, приехал незамедлительно… На редкость добросовестный и надежный врач. Мы к другим уже давно не обращаемся. Ах да — ведь у малыша к тому же еще поднялась температура! Мы просто места себе не находили, свекровь даже предлагала поставить ему пиявки… Я был против, хотя вообще-то считаю это неплохим средством… Жена рыдала… В общем, шуму было!
Никкьоли старался ни на минуту не терять взгляд собеседника, чтобы тот не отвлекся и не пропустил чего важного.
Когда они вернулись в лавку, Джулио был совсем измучен. Кавалер же радостно сообщил Никколо:
— Эх, славно же мы прогулялись! Спросите у брата.
— Охотно верю.
— В следующий раз и вас с собой возьмем, даю слово!
— Да у меня ноги болят…
— Ноги болят? Даже я, в моем-то возрасте…
— Мы все трое страдаем подагрой. Это у нас семейное… — вмешался Джулио.
— Простите за откровенность, но это, по-моему, просто стыдно… Вот если бы у меня была подагра…
Кавалер осекся и не знал, что добавить. Минут пять он сидел хмурый и задумчивый, потом сказал:
— Если бы у меня была подагра… я бы все сделал, чтобы выздороветь! Я не стал бы сидеть сложа руки!
При этом он так уставился на братьев, что тем оставалось только кивнуть в знак согласия.
Джулио не покидало странное ощущение, что кавалер нарочно пытается их разговорить, чтобы проникнуть к ним в душу. Во всех бедах он винил себя, и ему постоянно казалось, что Никкьоли что-то подозревает. Поэтому при каждом его появлении Джулио закрывал глаза и думал, что это конец. Никколо тоже робел, но пытался отвлечься, впадал в апатию, отвечал невпопад, словно был глуховат или просто не понимал, о чем речь. Кровь ударяла ему в голову, и он потом целый день не мог прийти в себя, особенно если кавалер засиживался у них.
От постоянного напряжения Джулио в конце концов стал слаб здоровьем, осунулся; но прошлого не вернешь! Да, когда-то он отличался изысканными, даже благородными манерами, а теперь вот приходилось носить один и тот же лоснящийся синий костюм, весь в заплатах.
Никкьоли, наконец, заговорил, стараясь казаться деликатнее:
— Наверное, излишне напоминать вам, но если вдруг дела в лавке пойдут не очень хорошо, то я желал бы первым знать об этом. Вполне уместно с моей стороны требовать от вас подобной искренности в обмен на услугу, которую я вам оказал… Сами понимаете, хоть я в некотором роде… человек обеспеченный, но все же деньги любят счет…
Никколо молча взял в руки стопку книг и смахнул с них пыль. Джулио тоже молчал. Кавалер очень удивился и, приняв их молчание за обиду, поспешил оправдаться:
— Поймите, я с вами как друг говорю, и надеюсь, что у вас нет оснований сомневаться в моей искренности… Только не подумайте, будто я раскаиваюсь в том, что подписал вексель… И, конечно, с моей стороны нет никакой спешки. Я готов полностью положиться на вашу порядочность… У меня и в мыслях не было вас в чем-то подозревать!
Джулио готов был броситься перед Никкьоли на колени — лишь бы тот не продолжал. Никколо тем временем тщетно пытался засунуть книги в шкаф, где очевидно было слишком мало места.
В это время с улицы послышался ритмичный шаг — мимо проходил полк солдат. Все трое невольно начали разглядывать идущих сквозь стеклянную дверь лавки; каждый погрузился в свои мысли, которые становились всё тягостнее. Вдруг оркестр заиграл марш. Задрожали стекла, заставив всех присутствующих встрепенуться. Они слушали в оцепенении, и праздничная музыка оркестра звучала каким-то нелепым диссонансом с переполнявшими их чувствами.
Когда музыка затихла, в воздухе повисла прежняя неловкость: нужно было закончить неприятный разговор.
— Зря вы так, право, я совершенно спокоен… Я это не для красного словца говорю… — начал было Никкьоли.
— Если нужно, мы вернем вам все деньги через два месяца! — перебил его Никколо. Его слова прозвучали столь решительно, что трудно было им не поверить.
Никкьоли чувствовал, что задел чужое самолюбие, и оттого был несколько раздосадован:
— Вы меня, как всегда, неправильно поняли!
— Кавалер никого не хотел обижать! — вмешался Джулио. — Тебе и слова сказать нельзя… Простите его ради Бога — сам не знает, что говорит. Он у нас такой вспыльчивый… — В голосе Джулио звучала приторная мягкость, так что ему самому сделалось противно, однако кавалер, напротив, остался весьма доволен:
— Мы ведь с вами знакомы с детства, и я глубоко вас уважаю и ценю вашу порядочность, как никто другой. Да что уж там, ради вас я даже от куска хлеба готов отказаться… если бы не нужно было кормить семью! И мне ничего не надо взамен — ничего, кроме вашей искренней дружбы! Надеюсь, я этого заслуживаю.
Никколо попытался обратить все в шутку:
— Да вы не слушайте меня, глупого!
Но кавалер не унимался, и еще добрые полчаса мучил братьев своими излияниями. Когда он, наконец, захлопнул за собой дверь, Джулио вздохнул с облегчением:
— Слава Богу!
— А что если рассказать кавалеру про поддельный вексель? — предложил вдруг Никколо. — Готов поспорить, он бы его оплатил. Ты разве не слышал? Он считает себя нашим благодетелем!
— Какая разница, кем он себя считает! Нельзя этим пользоваться, да и кто сказал, что ему можно верить?
— Но почему бы не попробовать?
— Да потому что я прекрасно знаю, чем это может закончиться!
— Джулио, милый, послушайся меня хоть раз в жизни! Он оплатит вексель, я уверен, что оплатит!
— А кто возьмет на себя ответственность все ему рассказать, может быть, ты?
— Я? Пока он сам что-то не заподозрит, я — могила!
Тут вошел Энрико, прихрамывая.
— Дайте мне двадцать лир на рыбу! Там на рынке продают живых угрей и превосходную акулу — мясо просто белоснежное!
— Ты как раз вовремя! Еще раз оставишь нас наедине с кавалером, клянусь — ноги твоей больше не будет в нашем доме!
Увидев, что Джулио смеется, Энрико понял, что ссоры на этот раз удастся избежать.
— И о чем же вы с ним беседовали? Не понимаю его — что ни день, тащится сюда, как в исповедальню. Какая чудовищная бестактность! Заняться ему нечем — вот и проводит время в пустой болтовне. А теперь, если изволите дать денег, я отправлюсь за рыбой. Хочу сам выбрать. Да, придется попотеть, чтобы дотащить ее до дома!
— Сказал бы лавочнику — пусть принесет.
— Ну уж нет, этому типу я не доверяю. Разве не помнишь, какую он нам в тот раз подсунул тухлятину! А ведь я на рынке специально отбирал по одной, самые свежие! Никому нельзя верить! Давайте скорее, а то еще чего доброго меня опередит какой-нибудь знатный синьор или трактирщик…
Джулио вытащил из бумажника двадцать лир. Энрико поспешно убрал их в карман; вид у него при этом был несколько вороватый.
— Только и разговоров, что о ребенке. Неужели кавалер и впрямь считает себя его отцом? В жизни не видывал таких идиотов!
И все трое дружно ухмыльнулись.
V
Модеста была женщиной скромной и непритязательной; она полностью посвятила себя семье, все прочее было ей неведомо и чуждо. Полноватая, но шустрая и энергичная, она проводила дни в заботах по дому — в этом она не знала себе равных. К каким только уловкам ни прибегали иной раз племянницы, чтобы выманить Модесту на прогулку хоть ненадолго. Она была высокая и тучная, как Никколо. Мужчины доставляли домой съестные припасы, она же с радостью выполняла свою основную обязанность — готовить. Однако в последнее время Модеста утратила былое спокойствие и жизнерадостность, так как чувствовала, что от нее что-то скрывают.
Как-то раз, пока муж умывался, Модеста спросила:
— Ты все время жалуешься, что дела в лавке идут плохо, почему же тогда мы продолжаем жить на широкую ногу?
Никколо давно ждал и боялся этого вопроса, однако постарался ответить как можно непринужденнее:
— Занимайся своим делом. Моя жена не должна лезть, куда не следует.
Она хотела было возразить, но только усмехнулась. Никколо продолжал, стараясь казаться веселым:
— Твое дело — чулки вязать!
Модеста робела, но молчать уже не было сил.
— Я уверена, ты чего-то недоговариваешь.
Никколо захохотал.
— Ты чем-то озабочен в последнее время и не раз говорил, что мы в любой момент можем оказаться на улице!
— Не раздражай меня с утра! Я встал в таком чудесном настроении, а ты хочешь мне его испортить.
— Ты просто смешон!
— А ты зануда!
— Я не зануда, я действительно волнуюсь.
— А мне что прикажешь делать? Если волнуешься — сходи к врачу! Еще раз повторяю, дай одеться спокойно, сделай милость!
Она направилась в кухню готовить горячий шоколад, Никколо же поспешно надел пиджак.
В другой раз Модеста не осмелилась бы упорствовать, однако тревога придавала ей храбрости. Она поспешила принести шоколад в комнату, и, воспользовавшись тем, что они с мужем были вдвоем, заявила:
— Я сегодня же пойду к кавалеру Никкьоли.
— Иди, никто тебе не запрещает!
Никколо старался держать себя в руках, зная, что жена скоро угомонится. Мысль о братьях вселяла в него уверенность. Он сидел с надутым видом и глотал шоколад, хотя тот обжигал ему язык, — лишь бы уйти поскорее.
— Ты ведь знаешь, как я тебя люблю, и при этом пытаешься скрыть от меня очевидное, после стольких лет брака! Смотри, про Никкьоли я не шучу!
— Так это угроза? И ты еще смеешь хвастаться перед всеми, какая ты образцовая жена!
Модеста притихла: сама виновата. Как она могла подумать, что муж ее обманывает, это просто нелепость! И все-таки женская интуиция не давала ей покоя. Как-то раз ей приснился счастливый номер в лотерее, и она, со свойственным ей слепым упрямством, раз за разом разыгрывала одну и ту же комбинацию цифр.
С минуты на минуту в гостиную должен был спуститься Энрико за кофе и бутербродами. Тогда она решила расспросить его обо всем — с Джулио разговаривать было бесполезно: он непременно все передаст мужу.
Энрико дичился Модесты, был всегда мрачен и немногословен в ее присутствии, а порой откровенно груб. В то утро он был угрюм, как никогда, и явно не настроен беседовать, однако Модеста все-таки решилась спросить:
— Ну и как в лавке, доход нынче хороший?
— У тебя муж есть, у него и спрашивай! Молоко, похоже, прокисло…
— Никколо ничего мне не рассказывает!
— И поэтому ты решила обратиться ко мне?
— Рано или поздно я все равно узнаю!
— Уж вы-то, женщины, это умеете.
— Еще бы!
— Слушай, дай позавтракать спокойно! Ты бы лучше масла на бутерброды не жалела, а то приходится потом самому домазывать… И вообще, что за чудовищная бестактность — приставать с разговорами в самый неподходящий момент!
Модеста теперь уже не знала — может, тут и вправду есть основания для подозрений? Он смотрел на нее, презрительно нахмурившись, как смотрят на заклятого врага. Иногда Энрико становился по-настоящему неприятен Модесте, но она пыталась подавить в себе это преступное чувство. Разве можно сердиться на родных? Она принялась было упрашивать его, но тот сухо сказал:
— Пожалуйста, оставь меня!
Модеста послушно удалилась, внутренне ругая себя за то, что начала этот разговор.
Энрико же, вместо своей обычной утренней прогулки, отправился прямиком в лавку и, войдя, заявил:
— По-моему, твоя жена что-то подозревает!
— С чего ты взял? — спросил Никколо.
— Полагаю, для тебя это не новость.
Никколо, чтобы не выглядеть слабаком в глазах брата, ответил:
— Да ко мне она и подойти-то боится!
— Кому ты рассказываешь? Нам надо держаться сообща, Джулио тоже надо предупредить.
— Нам не в чем упрекнуть Модесту.
— Как это — не в чем? Не будь тряпкой!
— Хорошо, сегодня соберемся все вместе и поговорим с ней. И чтобы вы не думали, будто я хоть в чем-то вас выдал!
— Да ты наверняка и сам не заметил, как попался в ее сети!
— Можешь не волноваться — хоть она и женщина, но меня голыми руками не возьмешь!
— Да, с женщиной надо быть начеку! Нужно немедленно поставить ее на место!
— Я и так не даю ей спуску.
— Оно и видно — поэтому она подкараулила за завтраком, когда я меньше всего этого ожидал!
— Успокойся, она ничего не знает, а если знает — задушу собственными руками!
— Я всегда обращался с ней учтиво, по-родственному, но теперь она у меня попляшет!
— Нет уж, со своей женой я сам разберусь!
Узнав обо всем, Джулио всплеснул руками:
— Мы пропали! Это конец! Женщины лукавее дьявола! Подумать только, а с виду такая кроткая… Видимо, подслушала наш разговор! Помните, когда мы вчера вечером переговаривались…
— Сегодня перед ужином потребуем от нее объяснений, — сказал Никколо.
— Да, нечего с ней церемониться!
— Может, лучше поговорить по-хорошему, — предложил было Джулио.
— Ну, раз такое дело — я в этом не участвую, сами разбирайтесь! — отрезал Энрико.
— И все-таки, что лучше — кнут или пряник… — размышлял вслух Джулио.
— Я всегда говорил … — начал было Энрико.
— Хватит! — перебил его Никколо. — Я сам решу. Вы должны стоять рядом и поддерживать меня.
Энрико кивнул головой в знак согласия и направился к выходу. Джулио беспокоила мысль о том, что придется открыто запретить невестке вмешиваться в их финансовые дела.
— И кто ее надоумил? Сама она вряд ли додумалась бы. Всегда была смиренна, как ягненок, никогда не задавала лишних вопросов, и вот тебе на!
— Бабские фантазии, готов поклясться — она ничего не знает!
— Будем надеяться.
В полдень Никколо отослал племянниц и служанку на кухню и позвал жену в гостиную.
— Ты сегодня весьма огорчила нас своими расспросами, — сказал он, затем обратился к братьям, чтобы те подтвердили его слова.
Модеста почувствовала себя совершенно безоружной. В глубине души она сознавала свою правоту, но предпочла бы умереть — лишь бы не стоять вот так перед ними. Ей и в голову не приходило, что муж может подвергнуть ее такому испытанию. Будь они одни, бедняга, пожалуй, кинулась бы перед ним на колени: ноги у нее подкашивались, казалось, она вот-вот упадет в обморок. Увидев, что Модеста стоит перед ними ошарашенная, напуганная, Джулио чуть было не бросился просить у нее прощения, Энрико уже готов был во всем сознаться — из трусости, Никколо же внутренне боготворил жену в эту минуту. Она думала, что братья возмущены, что они теперь презирают ее, но скажи она хоть слово — все трое, наверное, сквозь землю провалились бы.
Наконец Модеста робко прошептала:
— Не обращайте внимания, я говорила глупости…
— Вот именно! — перебил ее Энрико.
— В следующий раз будь благоразумнее, — добавил Никколо.
Джулио было так стыдно, что он не проронил ни слова.
Тогда она, радуясь, что ее простили, побежала на кухню сказать племянницам, чтобы подавали суп.
За обедом Модеста чувствовала себя счастливой, как никогда, она смеялась, пыталась развеселить других. Она как будто была пьяна, хотя выпила совсем немного. Никколо вторил ей, подтрунивал над Джулио, который был чересчур серьезен. Со стороны его смех мог показаться оскорбительным, но он словно предчувствовал, что скоро уже не сможет посмеяться от души. Никколо отдал бы десять лет жизни за возможность рассмеяться в лицо кассиру или директору банка. Смех его был глухой, но сочный, нетерпеливый, такой протяжный и ленивый, раскатистый и нахальный, что у присутствующих даже мурашки пробежали по телу. Глаза Никколо блестели, теперь он смеялся во весь голос, это раздражало Энрико, а Джулио все больше падал духом. На мгновение всем показалось, что даже тарелки смеются, звучно подпрыгивая на столе. Такая всеобщая радость была не к чему.
— Ладно, хватит! — сказал Джулио.
— Нет, нет, — закричали в один голос Кьярина и Лола, — пожалуйста, смейтесь!
Тут Энрико вернул всех с небес на землю:
— Прекратите балаган!
Никколо выругался в ответ, однако притих, а вслед за ним и все остальные — лишь Кьярина с Лолой продолжали тихонько хихикать.
— Ты остер на язык, я знаю, — сказал Энрико, обращаясь к Никколо. — Но будь добр — брань прибереги для кабака, в присутствии девочек я такого не потерплю! Сиди себе носом в тарелке и помалкивай.
— Если не нравится… — начал было Никколо, но тут поспешил вмешаться Джулио:
— Давайте не будем спорить из-за пустяков, лучше выпьем по бокальчику, и всякая охота браниться пройдет! Смех все-таки куда лучше ссоры!
Никколо принял смиренный вид, глядя на него, трудно было опять не рассмеяться. Племянницы смотрели на него в наивном восхищении.
Модеста встала, подошла к Никколо и поцеловала его в затылок. Он поспешно вытер салфеткой место поцелуя, и, оттолкнув жену, сказал:
— Таких вольностей ты не должна себе позволять. Совсем распустилась!
VI
Становясь старше, Кьярина и Лола с каждым годом все больше привязывались друг к другу.
Они были похожи — обе дурнушки, низенькие, коренастые, полноватые — только Кьярина чуть постарше. Одеты они были всегда просто, так как одежду шили себе сами, и не отличались изяществом манер. Говорили девушки вполголоса, даже если были одни, так как не хотели, чтобы кто-то услышал, о каких пустяках они болтают. Когда тетя заставала племянниц за разговором, они замолкали, хихикая и перемигиваясь. Впрочем, таить им было нечего, кроме девичьего стыда и невинности. Они каждый раз обещали друг другу быть сдержаннее, особенно в те дни, когда их дружба нуждалась в защите от посторонних ушей. Сестры довольствовались тем, что у них были одни и те же мысли, и поклялись друг другу, что так будет всегда. В этом они находили свое, особое, счастье.
Кьярина и Лола любили загородные прогулки, поэтому тетя раза два в неделю брала их с собой, и они направлялись по тихой улочке в сторону деревни.
Проходя мимо колледжа, девочки всякий раз надеялись увидеть возле входа директрису, прощавшуюся с очередной воспитанницей, за которой приехали родители. Они усмехались и невольно ускоряли шаг, а потом им приходилось ждать возле Порта Туфи отставшую от них тетушку.
Они шли, держась за руки и лишь изредка оборачиваясь, чтобы еще раз взглянуть на кирпичный школьный забор, увитый пышным плющом. Вдоль противоположной стороны тянулась ограда, почти вровень с землей. Над центральным сводом Порта Туфи возвышались старинные выцветшие солнечные часы — высокий пролет ворот из серого камня был когда-то перестроен. Вдоль Страда деи Туфи по обе стороны тянулись темно-красные стены с желтоватыми пятнами, за ними зеленели виноградники и оливковые деревья. Здесь почти всегда было безлюдно, и лишь изредка тишину нарушало скрипение лестницы: это фермер взбирался по ней, чтобы собрать плоды смоковницы. Слева ограда упиралась в несколько домов грязновато-красного цвета с маленькими окошками: их можно было разглядеть через деревянную калитку с покатой крышей; сразу за домами находилось кладбище Мизерикордия. Девочки спускались по Страда дель Мандорло, среди олив. Пройдя немного еще, они обычно останавливались в условленном месте, присаживались на низенький заборчик и, в ожидании тети, любовались открывавшимся отсюда видом Сиены.
В тот день небо было серое, но ясное. Туман искрился, пронизанный лучами солнца. Поля у подножия Монте-Амиата казались, как никогда, скучными и однообразными. Контуры холмов стирались, почти неразличимые в дымке. Кипарисы тоже были в тумане, кроме разве что самых ближних. Сиена будто парила над обрывом. Городская стена вонзалась в желтоватую землю, поросшую сорной травой; с другой стороны стена шла почти прямо и делала поворот ближе к Порта Сан Марко. Панораму города венчала остроконечная колокольня церкви Сан Никколо дель Кармине.
Сестры спускались по склону, прислушиваясь к звуку собственных шагов. Справа и слева длинные ряды изгородей постепенно сужались, так что дорога превращалась в тропинку. За Порта Романа холмы сменялись полями, вдали же, словно очерченные лиловой полосой, виднелись голубоватые холмики, на склонах которых ровными рядами чернели кипарисы.
Девочки миновали большой дом с декоративным окном и зелеными ставнями; на его полинявшем от влажности фасаде красовались белые пятна известковых заплат.
Мимо проковылял хромой почтальон с грязной поношенной сумкой через плечо и пригоршней улиток, завернутых в платок; во рту у него торчала перевернутая трубка. Кьярина и Лола проводили его гримасами и, не нарушая молчания, продолжали свой путь. Вскоре им навстречу показались два священника: один маленький и коренастый, второй сухопарый и вытянутый, словно оливковая косточка — пара эта выглядела довольно забавно.
Чуть дальше сестер приветствовал своим желтым от лишайника фасадом еще один особняк: с обеих сторон его окружали доходящие до самой крыши кирпичные опоры, так что вся конструкция напоминала пирамиду.
В этом месте дороги изгороди были уже не такие стройные: они торчали вкривь и вкось, дыбились и трескались, угрожая обрушиться в любой момент.
Кьярина и Лола принялись напевать песенку, но как-то фальшиво и невпопад; они то и дело сбивались и начинали заново.
Глядя на своих беспечных племянниц, Модеста сказала:
— Куда вы так спешите, аж взмокли!
— Мы хотели прогуляться до капеллы.
— Это далеко, да и возвращаться придется в гору.
— Не волнуйся, если что — мы тебя понесем!
Модеста была задумчива, она мысленно возвращалась к недавней сцене в гостиной. Да, это была ее вина, ее ошибка, которая могла навлечь на нее неприятности. Постепенно она успокоилась и обрела былую уверенность: что поделать, значит, на этот раз интуиция подвела ее…
Девочки не спешили возвращаться: они хотели сообщить тете важную новость, но не решались, ждали подходящего момента. Собственно, говорить следовало Кьярине, так как секрет касался лично ее, но в этом сестры не были уверены: вдвоем все-таки не так страшно.
— Может, лучше ты ей расскажешь? — взмолилась Кьярина. — Мне как-то неловко…
— А если я надумаю выйти замуж, что тогда?
— Тогда я буду говорить от твоего имени, сама знаешь! Ну, пожалуйста, а то я заплачу…
— Может, отложим разговор до дома?
— Если мы и дальше будем тянуть, то никогда не решимся. Ой, гляди, ежевика — такая спелая и сочная!
— К ней так просто не подобраться.
— Да, тут все руки себе исколешь!
Они прошли улицу Страда дель Мандорло и подходили к капелле. Прямо перед ними, за ежевичной изгородью, росло десятка два кипарисов, все разной высоты. Капелла была похожа на будку: две узкие каменные ступеньки вели к двери, сверху от которой было вырезано небольшое окошко, покрытое ржавой решеткой. Ветхая черепичная крыша была увенчана фигурами св. Бернардино и св. Катерины, напоминавшими облезлых каменных кукол.
— Интересно, в этой капелле служат мессу?
— Туда только священник поместится.
— Это точно! Должно быть, прихожане стоят перед входом.
Чуть поодаль, в начале следующей улицы, между двух кипарисов виднелся деревянный расписной крест с петухом. У его подножья, на ступеньках, сидели две женщины и ели виноград.
Когда Кьярина и Лола были маленькие, они всегда останавливались перед крестом, чтобы прочитать молитву. Сейчас их охватило волнение, растерянность и даже чувство стыда за то, что они стоят тут вдвоем, без тети, — будто украдкой.
— Может, тебе лучше не выходить замуж?
Кьярина отвернулась от креста и отошла в сторону:
— Почему ты мне это сказала именно здесь?
— Разве это грех?
— Не знаю, а что если да?
— Лучше пойдем!
В душе Кьярины боролись два чувства: ее настойчивое желание поговорить и священный трепет перед крестом.
— Тетя, должно быть, устала, — сказала она.
— Тем лучше! Пока она будет отдыхать, я как раз с ней поговорю. Сейчас или никогда!
— Смотри, если она рассердится — ты будешь виновата!
— Хорошо, беру вину на себя.
Тем временем подоспела Модеста, запыхавшись от ходьбы. Лола взяла ее под руку:
— Тетя, Кьярина должна тебе кое в чем признаться.
— И для этого ей нужны посредники?
— Да, без меня ей не справиться.
— Вечно вы дурачитесь, даром что одной уже пятнадцать, а другой — семнадцать лет!
Тут Кьярина с разбегу дала Лоле тумака.
— Ай, больно же!
— Так тебе и надо, не можешь держать язык за зубами!
— Ой-ой-ой, как больно!
— Так, хватит с меня ваших выходок, выкладывайте, наконец!
— Пусть Кьярина сама рассказывает. Я даже слушать не стану.
Тем временем Кьярина уже обливалась слезами, не стесняясь присутствия незнакомых женщин, смотревших на нее с любопытством.
Модеста, снова вспомнив о вчерашней ссоре, сказала:
— Даже не пытайтесь вывести меня из себя, вам это не удастся. Стыдно должно быть, ведь вы уже совсем взрослые, невесты, можно сказать!
— Невесты, значит? — засмеялась Лола.
Модеста задумалась было, не сказала ли она чего лишнего, но Лола перебила ее мысли:
— Как раз об этом Кьярина и хотела поговорить с тобой!
Она произнесла эти слова серьезно, выпрямившись от волнения, будто натянутая струна.
Тем временем Кьярина перестала плакать и наградила свою поверенную очередной порцией тумаков. Модеста с трудом разняла сестер и, обратившись к старшей, спросила:
— Это правда? Отвечай, да или нет?
Лола, хныча от боли, заголосила вместо сестры, чтобы досадить ей:
— Правда, правда!
Тут Кьярина, которая не знала, куда себя девать от смущения, бросилась сестре на шею и, вся дрожа, обняла ее крепко-крепко. В этом порыве было столько нежности, что Лола уже раскаивалась в собственной мстительности, и, прижав к себе Кьярину, пообещала себе никогда, никогда не оставлять ее.
Не обращая внимания на женщин, которые теперь смеялись, Модеста обняла и расцеловала своих племянниц.
Лола рассказала ей, что один молодой человек, служащий из Агентства по управлению государственным имуществом, давно влюблен в Кьярину и теперь, убедившись во взаимности своих чувств, намерен просить ее руки.
Домой все трое вернулись вне себя от радости. Модеста дала слово Кьярине, что будет держать новость в секрете, однако в тот же вечер рассказала обо всем Джулио. Тот, задумчиво теребя подбородок, ответил:
— Нужно выяснить хорошенько, кто он такой.
— Наверное, стоит предупредить Никколо?
— Я бы подождал. Вряд ли он отнесется к этому серьезно, да еще, чего доброго, станет подтрунивать над Кьяриной.
Что до Кьярины, то та боялась даже выходить к ужину, однако после долгих уговоров сестры уступила. За столом она чувствовала себя неловко, а заметив, что дядя Джулио, как никогда, серьезен, совсем ушла в себя.
— Пойдем, поиграем на пианино, — предложила Лола после ужина.
— Что-то не хочется…
— Боже мой, да перестань ты, наконец!
— Не могу, мне не по себе… Нужно как-то отвлечься…
— Вот я и говорю — давай поиграем!
— Нет, я буду волноваться еще больше!
— А ты закрой глаза, — предложила Лола.
— Не могу, не могу.
— Давай я сама тебе их закрою. Ну как, полегчало?
Кьярине хотелось остаться наедине со своими чувствами.
— Я и сама не могу понять, что со мной происходит.
— Может, ляжем спать пораньше?
— Нет, я хочу посидеть в темноте. И чтобы окно было открыто. Постараюсь успокоиться.
Из окна спальни виднелись поля, раскинувшиеся от Порта Овиле до Порта Писпини. Уже почти стемнело, и деревня была окутана серым маревом. Лишь над стенами Сиены на небе оставалась полоска света, которая постепенно растворялась во мраке. В садах гулял ветер, врываясь в пределы городских стен. Где-то раздался стук закрывающейся ставни: он облетел сады глухим эхом и замер под сводами Фонтана Фоллоника[4], которые до половины ушли в землю и были покрыты мхом, омываемым тонкими струйками воды. Бездушная, мертвая громада городских домов тихо дремала и не слышала, как листья старой липы под окном одной из спален задумчиво падали вниз один за другим, срываемые легкой девичьей рукой.
Лола сидела в гостиной с учебником. Кьярина повернулась спиной к окну и внимательно посмотрела на распятие из черного дерева и слоновой кости, венчавшее изголовье кровати, — подарок ко дню ее первого причастия.
VII
Слова Модесты не давали Джулио покоя. Особенно его волновало то, что они не могли дать за девушкой даже самого скромного приданого. Джулио был не прочь познакомиться с будущим женихом и ждал, что тот со дня на день появится в лавке: им предстоял серьезный разговор. Впрочем, что толку беспокоиться? Раз уж все идет вкривь и вкось, остается только покориться судьбе и не ждать от нее милости. Однако Джулио все же решил поставить братьев в известность. Энрико заявил, что это все бабские выдумки, которым и верить-то не стоит, Никколо тоже счел разговоры о свадьбе глупостью, которую лучше выбросить из головы. Тогда Джулио решил взять дело в свои руки и попытаться как-то помочь Кьярине. Это внезапно пробудившееся мужское начало, желание защитить слабого придавало ему сил и было как бальзам для совести. Сама жизнь давала ему возможность перешагнуть через свой эгоизм, преодолеть свое одиночество и совершить поистине высоконравственный поступок!
Джулио решил поговорить с Никколо наедине.
— Ты ведь так привязан к девочкам, что плохого в том, что одна из них хочет устроить свою жизнь?
— Джулио, сам знаешь: я в эти пустяки ввязываться не стану.
— Но почему?
— Да потому, что теперь, когда я оказался на краю пропасти, у меня только один интерес — пить и есть вдоволь!
— Ешь, кто тебе мешает! Причем тут это?
— И что же я, по-твоему, должен делать?
— Этот молодой человек служит в Агентстве по управлению государственным имуществом — попытайся что-нибудь разузнать о нем, ты же знаком с директором.
Никколо рассмеялся.
— Ты считаешь, я подхожу для подобных разговоров?
Тут он вскочил и, подбоченившись, прогремел:
— Если это очередной охотник за приданым — нас голыми руками не возьмешь! Здесь ловить нечего! Лучше пусть подыщет себе другую невесту!
Крики Никколо сходили лавиной, сопровождаемые раскатами смеха, резкими и угрожающими:
— Кому она нужна бесприданницей? Да никому!! А если этот ее возьмет — то он круглый идиот, и я первый скажу ему это прямо в лицо! Зачем было отдавать девчонку в школу, шла бы лучше в монахини! Я не раз вам это повторял, и скажи еще, что я не прав!
— Какая разница, дело прошлое.
— В общем, поступайте, как хотите. Я остаюсь при своем мнении.
Он опять разразился каким-то особенно ядовитым смехом.
Тут вошел незнакомый молодой человек с рыжеватыми усами и в очках. Одет он был довольно прилично.
— Ищете какую-то книгу? — насмешливо спросил Никколо.
— Я бы хотел поговорить с одним из вас. Но не знаю точно, с кем…
— Мой брат в вашем распоряжении!
Никколо надел пиджак и поспешил уйти.
Джулио встал из-за стола.
— Меня зовут Бруно Паллини, — представился юноша, — я бухгалтер и уже год работаю в Агентстве, здесь в Сиене.
— Я вас слушаю, — ответил Джулио, слегка поклонившись.
Тот помолчал немного.
— Я впервые имею честь говорить с вами, но… Я пришел, чтобы просить у вас руки вашей племянницы Кьярины.
При этих словах глаза его лихорадочно заблестели, и даже очки задрожали от волнения. Он ждал ответа с замиранием сердца.
— Не вижу никаких к тому препятствий, если моя племянница не против. Однако должен вам сообщить, что… наша девочка не располагает большим приданым… на данный момент.
— Это не имеет ровно никакого значения, — поспешил заверить его молодой человек.
— Что ж, тогда почему бы и нет! Сегодня же мы обсудим этот вопрос с ней и с ее тетей.
— Когда я могу узнать ваше окончательное решение?
— Когда вам будет удобно. Сегодня вечером или завтра утром… Лучше завтра утром.
Юноша хотел было задержаться, но не знал, что еще сказать. Тогда он смущенно улыбнулся, робко пожал будущему родственнику руку и вышел.
Джулио так и остался стоять, как вкопанный, теребя оправу очков, размышляя о том, что теперь будет.
В этот момент на пороге показался Костанцо Низар: вид у него был ликующий и важный; в руках он держал золотистую хризантему и какой-то свиток.
— Не помешал?
— Да что вы, рад вас видеть! Всего пару минут назад здесь был один молодой человек — просил руки Кьярины, моей старшей племянницы.
— Какая жалость, что я не зашел раньше! А то с удовольствием познакомился бы с этим прекрасным юношей! — Низар был большим любителем расточать комплименты.
— Во всяком случае, он производит приятное впечатление и настроен серьезно. Должно быть, с юга — сейчас оттуда многие приезжают работать.
— Богат?
— Не знаю, пока не спрашивал.
Низар решил, что на этом тема исчерпана и перешел к делу.
— Я, собственно, хотел узнать, нет ли у вас подшивки Burlington Magazine[5], — мне нужна статья Беренсона, посвященная Сассетта[6]. Вы уж меня извините, что перебил.
— Одну минуту, сейчас посмотрим.
— Пожалуйста, я никуда не спешу.
Вернулся Никколо: на лице его красовалась ехидная ухмылка. Он прошел молча и сел на прежнее место.
— Это был тот самый молодой человек, он спрашивал о Кьярине, — сказал Джулио.
— Я так и знал. Потому и улизнул как раз вовремя.
— А вы-то сами как, довольны? — спросил Низар. Он улыбался, его голос звучал шутливо, точнее, скрипел, как скрипели его ботинки, всегда новые, гладкие, начищенные до блеска.
Никколо посмотрел на него и засмеялся. Теперь его смех был спокойнее, однако в нем по-прежнему слышались издевательские нотки. Он надвинул шляпу на глаза, так что поля касались бровей, и ответил:
— По-вашему, мне больше делать нечего, кроме как думать о чужих свадьбах?
Низар выразил надежду, что Никколо воздерживается от подобных шуток в присутствии племянницы. В этой щепетильности гостя было что-то женское. Он уже подготовил свою дежурную улыбку в ожидании ответа и, не дождавшись, захихикал, сжав руки и согнувшись так, словно его щекотали:
— Право же, это слишком! Вечно вы такого наговорите, Никколо!
Джулио посмотрел на Низара с извиняющейся улыбкой и проговорил как можно мягче:
— Прошу вас, не обращайте внимания.
Никколо же издал едкий, язвительный смешок:
— Да мне-то что!
Затем склонил голову набок и через пару минут захрапел.
Низар полистал, стоя за прилавком, номер Burlington Magazine, затем тихонько коснулся тростью спящего Никколо, чтобы попрощаться. Тот даже не пошевелился. Когда же Низар закрыл за собой дверь, он зевнул шумно и протяжно:
— Интересно, кто придумал, что картины обязательно должны висеть в музеях? Лучше бы дали их мне — я бы все продал! Эх, дорогой мой Джулио, будь у нас хоть одна картина известного художника — не прозябали бы в нищете.
— Да уж, — задумчиво ответил тот. — Но ведь к ним не подберешься — все заперты за семью замками.
— А что если торговать поддельными древностями? — Никколо разразился своим трубным смехом, потом широко зевнул:
— Раньше хоть в деревне было чем поживиться, и вот на тебе — чиновники со своими проверками, описями. Совсем нас разорили!
Затем спросил уже несколько спокойнее:
— И что он тебе сказал?
— Кто?
— Ну, тот тип, который приходил насчет Кьярины.
— Ах, ты об этом! У меня уже из головы вылетело…
— Ну, так что он сказал? — Никколо терял терпение.
В этот момент входная дверь заскрипела, заставив братьев обернуться: это был Никкьоли. Так и не получив ответа на свой вопрос, Никколо вновь поспешил притвориться спящим.
— Я по дороге столкнулся с Низаром, он сказал, ваша Кьярина выходит замуж. Мои поздравления! Вы извините, если я недостаточно весел для такого события — просто у моего мальчика кашель…
Джулио улыбнулся:
— Похоже, уже вся Сиена знает, что к нам приходили свататься.
— Да, слухи в нашем городке разлетаются быстро! Представьте себе: как-то встретил на улице друзей — оказалось, они уже знают, что я уволил свою служанку за то, что та не ладила с малышом.
— Подумать только!
— Такова Сиена, что поделать — на то воля Господа! Может, я и живу здесь только из желания знать о других больше, нежели о себе самом. В большом городе никогда столько не узнаешь! А у нас в крови это любопытство, ничем его не искоренить! Скажу вам по секрету — я бы вообще выгнал из Сиены всех приезжих. Нам и без них хорошо, ведь мы одного поля ягоды! А что Никколо, опять спит? — спросил кавалер мягко и даже как-то робко.
— Как видите. И так весь день!
— Расскажите-ка мне про вашего будущего зятя, хороший человек?
— Да я пока о нем не расспрашивал.
— Я всегда к вашим услугам, только назовите имя — тут же все разузнаю, с преогромным удовольствием!
Джулио продиктовал ему имя.
— Положитесь на меня — уже через час вы будете знать, сколько ему лет, из какой он семьи и вообще, стоящая ли это партия.
На этом кавалер откланялся.
— Хватит притворяться! — сказал Джулио брату.
— Я, между прочим, спал, и даже сны видел!
Они зажгли газовую лампу, так как в лавке было уже темно. На улице мелькали знакомые лица: кто-то шел мимо, кто-то останавливался поглазеть на витрину. Никколо, сидя на своем привычном месте, от скуки принялся обсуждать прохожих:
— Это тот самый безумец, которому пришлось бежать из Сиены, когда выяснилось, что он присвоил себе братово наследство… Видишь тех двух женщин? Одна из них — вон та, дурнушка — вышла замуж только потому, что ее отец согласился выплатить долги будущего зятя. А вот и графиня — принципиально не берет в дом прислугу женского пола, и правильно делает — не то, что маркиза: та застала собственного мужа с гувернанткой. Про этого священника, каноника из Собора, я слышал, что он путается с тетушкой молодого человека, который давеча скупил у нас все книги по химии. А это любовница барона — того, что ездит на автомобиле; погоди, сейчас увидим и его… Ну, что я тебе говорил? Вот он, собственной персоной! Небось, назначил ей свидание, — Никколо потирал руки от удовольствия.
— А вот и гувернантка, любовница маркиза — что же тут удивляться, ты только посмотри на нее: молодая, хорошенькая! А маркиза-то погляди, ходит расстроенная — тут совпадение налицо. От меня ничто не ускользнет! Вот эта девушка с крашеными волосами — содержанка одного богатого графа, помещика из Поджибонси. Кто, как не он, покупает ей все эти дорогие наряды? А отец ее только рад… Мне это поведал один ее старый знакомый. Уф, до чего же омерзительна эта пожилая синьора, смотреть противно, как она вечно шамкает: зубов во рту совсем не осталось. То ли дело баронесса — та себе вставила новые: говорят, ездила во Флоренцию к одному американскому доктору и потратила кругленькую сумму. Зато теперь вот прогуливается с офицерами!
Тут Никколо вдруг помрачнел.
— А вот и наш братец пожаловал.
Действительно, в лавку вошел Энрико, прихрамывая больше обычного.
— Что пришел?
— Надо — вот и пришел.
— Полноте, — сказал Джулио, обращаясь к Никколо.
— Я слышал, приходил тот самый молодой человек свататься к Кьярине?
— Ты-то откуда знаешь?
— Что значит — откуда? Она как-никак моя племянница. Ну, что скажешь?
— Да ничего особенного.
— Что говорит, как себя держит?
— Худенький, волосы рыжие, немного малахольный, но в целом выглядит порядочно.
— И что это его к нам принесло! Будем надеяться, это подарок судьбы! И потом он первый — он же и последний, выбирать особо не из чего!
— И что я должен ему ответить?
— Ну, если у них любовь, то зачем же его прогонять! А ты, Никколо, видел его?
Никколо принялся вытирать пыль с сундука, делая вид, будто занят и ничего не слышал. Тогда Энрико сказал:
— По мне, чем жениться — лучше пулю в лоб!
— Как видишь, некоторые думают по-другому.
— Да, потому что они глупы, — Энрико произнес последние слова шутливым тоном, словно готовя публику к своей очередной выходке. — Тоже мне, радость — жениться, чтобы потом у тебя выросли рога!
Сказав это, он сморщился, как мышка, и визгливо засмеялся, брызгая слюной.
VIII
Энрико с самого детства был нахален и дерзок: про таких обычно говорят, что ничего путного из них не выйдет. Только угрозами можно было его образумить — он боялся, как бы его не выгнали из дому. В последнее время Энрико стал особенно непокладист; вообще-то жилось ему с братьями неплохо, особенно с тех пор, как в доме появилась хозяйка, так что он старался вести себя сдержаннее. Поначалу он пытался командовать и держался развязно, однако будучи, по сравнению с братьями, человеком недалеким и ограниченным, присмирел. В глубине души он по-прежнему был о себе высокого мнения, и самолюбие его сильно страдало от чужого неодобрения. Энрико постоянно казалось, что братья обсуждают, критикуют его за глаза. Он был мнителен, и даже как будто кичился этой своей болезненной подозрительностью.
Теперь, когда истекал срок очередного векселя, Энрико сильно беспокоился, смогут ли они оплатить столь крупную сумму или, по крайней мере, погасить ее частично уже проверенным способом.
— Джулио, ты всегда действовал осторожно и наверняка, надеюсь, ты и теперь придумаешь, как нам выкрутиться, — самому Энрико нечего было предложить, так что он в который раз пытался свалить ответственность на брата под видом притворного доверия.
— На этот раз нам остается только одно — молить Бога о помощи.
— Бога? Ты что, издеваешься?
Энрико презрительно ухмыльнулся и вышел, оставив брата наедине с горестными мыслями. На улице он столкнулся с Никколо:
— Твой братец просто размазня, я так и знал, что он нас всех подставит!
— Да как у тебя только язык поворачивается! — ответил тот возмущенно.
Энрико выругался себе под нос и направился в кабак. Там он до поздней ночи играл в брисколу, жалуясь приятелям, какое это несчастье — иметь непутевого брата, который ничего не смыслит в жизни. Те молча слушали его излияния, мало интересуясь тем, кто прав, а кто виноват в их семейных распрях.
— Вот ты бы как поступил на моем месте? — спрашивал Энрико у очередного товарища, делая ход. — Лучше уж вообще не иметь братьев, чем таких, которые тебя и в грош не ставят!
Затем, когда настала его очередь мешать карты перед новой партией, он сжал колоду в руках и заговорил с таким искренне обиженным видом, какой у него обыкновенно бывал во время приступов подагры:
— Вы, должно быть, думаете, что мне живется, как у Христа за пазухой — ничего подобного! Каждый день для меня — мученье! Взять бы и бросить все, уехать куда-нибудь, но как, скажите? Ведь мы столько лет живем под одной крышей, а теперь я уже чувствую, что старею… Бог свидетель: ни один из вас бы не выдержал на моем месте! Я, впрочем, сам виноват: вечно потакаю им во всем, стараюсь быть мягким, а они почитают это за слабость, вот и обращаются со мной, как с юнцом! Прийти сюда, выпить глоток вина и сыграть партию — единственное мое утешение, других радостей у меня нет! Что же в этом предосудительного? А послушать моих братьев — так я просто олух, достойный презрения и ни на что не годный. Джулио должно быть стыдно: ведь я ни разу не бросил их на произвол судьбы, как бы плохо ни шли наши дела.
Тут товарищи, которым уже порядком наскучили эти разговоры, потребовали, чтобы Энрико раздавал карты.
— Нет, сегодня я больше играть не буду, что-то мне не по себе… — он положил колоду на стол. Затем стал жаловаться на судьбу хозяину кабака. Тот слушал его с пониманием, кивая головой.
— Не секрет, я не любитель театров, да и на воскресные концерты не хожу — что там интересного! Гуляю себе спокойно по улицам и никого не трогаю.
— А с невесткой ладите? — спросил хозяин.
— Да, и это полностью моя заслуга. Я ей слова лишнего не говорю, разве что за столом, вежливости ради. Она меня не трогает, и я ее тоже. Ни разу ей не нагрубил, и вообще всегда стараюсь во всем уступать. А они еще смеют говорить, что у меня скверный характер, злословят на каждом углу о моем поведении!
— Удивительно, ваш брат Никколо всегда казался мне добродушным и веселым малым.
— С другими да, возможно, меня же он на дух не переносит! И Джулио тоже хорош, поступает, как ему заблагорассудится, а остальные должны с ним соглашаться. Если бы не он, мы с Никколо наверняка смогли бы поладить. Все обязанности в доме лежат на мне: сходить в магазин, распорядиться на кухне… Моя жизнь — самопожертвование, для семьи я готов на все, и в этом моя беда и слабость! Надо было мне жениться и жить в свое удовольствие! Все равно нашу лавку скоро закроют и переплетную мастерскую тоже! Что ладно, пойду, а то они, небось, бесятся, что меня так долго нет.
Хозяин не успел ответить, так как в этот момент на него обрушились с жалобами и ругательствами трое посетителей, которым не принесли вовремя бутылку вина.
Энрико остановился возле книжной лавки и, прислонившись к стене, задумался. Он шел с твердым намерением все высказать братьям, но не находил ни одного весомого довода. В глубине души он понимал, что жаловаться ему не на что. Энрико стало не по себе оттого, что он стоит на улице совсем один, и он решительно направился к двери, ожидая увидеть в лавке Низара и Корсали. Зная, что эти двое очень дружны с братьями, он почему-то решил во что бы то ни стало завоевать их расположение.
Войдя в лавку, он услышал голос Низара, который утверждал, что Пинтуриккьо, по его мнению, сильно уступает Перуджино в мастерстве. Пытаясь казаться любезным, Энрико обыкновенно соглашался со всем, что ему говорят, так что и теперь воскликнул:
— Именно так, вы абсолютно правы! Устами чужестранца глаголет истина!
— Тебе-то почем знать? — ухмыльнулся Никколо.
— Раз говорю, значит, знаю, и побольше твоего!
Тут Никколо залился хохотом, который имел свойство передаваться окружающим и потом еще до самого вечера звенел в ушах. Низар тоже засмеялся, словно расстроенная флейта.
— Ты чего это вдруг? — спросил Джулио.
Энрико взглянул обиженно и ответил:
— Посмотрим еще, кто тут у нас самый умный! Это все ерунда, детские шуточки, ничего больше. Хотел бы я поглядеть на тебя через пару дней, когда разговор пойдет действительно серьезный. Недолго осталось ждать! А что я согласился с Низаром — так ничего удивительного, он гораздо образованнее вас!
Джулио побледнел: его больно кольнули слова Энрико.
— Готов заявить тебе прямо здесь, при свидетелях: лично я умываю руки, — не унимался тот. — Сам знаешь, о чем я.
— Вечно вы со своими семейными тайнами: из-за любого пустяка готовы ругаться! — вмешался Корсали.
— А ты вообще молчи, ты и понятия не имеешь, на что я намекаю! А кому надо, тот все прекрасно понял. Имеющий уши да услышит!
Джулио охватила дрожь, он уже не владел собой: голова была будто в тумане, он не разбирал, что происходит вокруг, хотя разговор шел на повышенных тонах. Никколо же сжимал кулаки в карманах, с трудом сдерживая ярость.
— Хорошо, хорошо, — сказал Корсали. — Но к чему намеки? Если все действительно так серьезно, могли бы подождать, пока мы уйдем, а потом уже разбираться между собой.
Низар помрачнел: он не понимал, в чем дело, но заметил, как на смертельно бледном лице Джулио привычный румянец принял серовато-синий оттенок; облокотившись на письменный стол и опустив голову, он ждал, когда утихнет ссора.
Корсали пытался образумить братьев:
— Раньше я всегда охотно вас навещал. А теперь что? Вечно устраиваете скандалы, мне как гостю даже неловко. Хватит злиться друг на друга, лучше выскажите все откровенно, и дело с концом!
Низар не решался уходить: ему хотелось поддержать Джулио. Он чувствовал, что тот прав, и внутренне негодовал на Энрико, однако старался не подавать виду.
— А что, — закричал Энрико, — может, объяснишь уважаемым гостям причину моего гнева? Давай, выкладывай, мне уже все равно!
— По-твоему, это я во всем виноват? — спросил Джулио и, не дожидаясь ответа, продолжал:
— Что ж, я готов взять вину на себя. Что скажешь, Никколо?
Тот вздрогнул и выронил изо рта сигару.
— Готов нести этот крест вместе с тобой, по-моему, это справедливо! Все страдают по-разному: кто-то плачет, а я вот смеюсь.
— Все, кроме него, — ответил Джулио.
— Он просто не ведает, что говорит!
— Ошибаетесь! — парировал Энрико.
— Друг мой, — сказал Никколо, обращаясь к Низару, — сделайте одолжение, выведите его отсюда!
— Что ж, пойдемте, — сказал Низар, приглашая Энрико к выходу.
Тот, казалось, был польщен вмешательством Низара и покорно последовал за ним. Какое-то время они шли по улице молча, наконец, Энрико не выдержал:
— Видите, как они со мной обращаются! При вас постеснялись, а то давно бы вытолкали меня в шею!
Низар не отвечал: ему претили эти жалобы. Не находя в нем поддержки, Энрико стал резок, даже откровенно груб:
— Не буду больше стеснять вас своим присутствием. Вернусь лучше в кабак, меня ждут друзья!
Низару хотелось крикнуть ему вслед что-нибудь обидное, но он промолчал и поспешил обратно в лавку. Тем временем Корсали, заполняя неловкую паузу, болтал без умолку всякие глупости. Братья его не слушали: Никколо внимательно разглядывал вещи, лежавшие на сундуке, будто что-то потерял, Джулио же никак не мог проглотить горькую обиду.
— Ну вот, отправился в кабак, — сообщил Низар, не скрывая своего презрения.
— Скатертью дорога! — ответил Корсали.
Видя, что братья молчат, Низар поспешил откланяться. Чуть позже и Корсали последовал его примеру.
Энрико нашел своих друзей за игорным столом: они уже начали партию, так что ему пришлось ждать в сторонке. Чем больше он вспоминал недавнюю ссору, тем больше убеждался в собственной правоте. Энрико чувствовал себя победителем, словно речь шла об игре в брисколу. Да что там брискола — его братья и карт-то не различают, а уж сыграть у них точно смелости не хватит. Отныне он их и словом не удостоит, они для него — пустое место. Так он просидел до позднего вечера в одиночестве, потягивая вино и внутренне возмущаясь, однако затем, несмотря на все свои угрозы и обещания, вернулся домой.
Дверь открыла Модеста.
— Братья дома? — заботливо поинтересовался Энрико.
— Да, уже за столом.
— Я сейчас.
Он вошел в столовую и, извинившись за опоздание, сел ужинать.
IX
Джулио сильно исхудал, лицо его осунулось: он был заметно подавлен, словно больной, который до конца не оправился от тяжкого недуга.
Заглянув в лавку на следующий же день, Низар застал братьев все в том же мрачном оцепенении.
— Полноте! Все не так плохо, зачем убиваться понапрасну?
Услышав его сквозь сон, Никколо попытался открыть глаза и ответить, но язык отказывался ему повиноваться: мешало неприятное, вяжущее ощущение во рту. Неужели Низар догадался? Впрочем, какая теперь разница.
Джулио достаточно было взгляда, чтобы все понять. Он повернулся, достал с полки книгу и, открыв ее на знакомой странице, протянул гостю, указав пальцем нужные строки: Fili, sic dicas in omni re: Domine, si tibi placitum fuerit, fiat hoc ita[7]. Затем тут же закрыл книгу и поставил на прежнее место.
— Как по-вашему, разве не истина то, что здесь написано?
Низар хотел было возразить, однако счел неуместным завязывать праздную дискуссию: его до глубины души поразило, что Джулио дал ему прочитать строки из книги «О подражании Христу». Теперь он уже не сомневался, что дела в книжной лавке действительно плохи и что последствия не заставят себя ждать.
— Только им троим известна правда. Что ж, раз не хотят рассказывать — значит, не доверяют, — подумал Низар с досадой и, опасаясь, как бы ему не передалась чужая печаль, поскорее распрощался.
Никколо вскочил со своего стула и стал потягиваться, выпятив грудь. Бывали минуты, когда он, стремясь помочь Джулио, придумывал всякие детские небылицы. Вот и теперь, потянувшись хорошенько, он будто почувствовал себя выше и заговорил:
— Давай продадим лавку и подыщем другое ремесло. Я отправлюсь в Милан, в Турин, в Рим — куда угодно! Найду покупателя, приведу его сюда — и вот, выход найден! — от радости Никколо хлопнул в ладоши и даже закружился на месте, оставив на полу след от каблуков. — Главное, не терять ни минуты!
Джулио только покачал головой. Он сидел, спрятав руки в карманы брюк и разглядывая лежащую перед ним на столе промокашку. Глаза его блестели, а взгляд выражал столько скорби, что растрогал бы кого угодно.
Не прошло и минуты, как в голове у Никколо созрел уже новый план:
— А что если попросить синьора Риккардо Валентини подписать вексель? — Он старался говорить как можно более серьезно и убедительно.
— Ну, подпишет он один раз, а на второй откажет. Нам бы с векселями Никкьоли разобраться — настоящими и поддельными…
— Да, что верно, то верно. Лучше рассказать кавалеру всю правду.
— Положим, еще месяц как-нибудь протянем, а дальше что?
— Будем бороться до последнего.
— Мы уже все перепробовали.
— Ничего, продержимся как-нибудь.
Джулио открыл ящик письменного стола, будто надеясь обнаружить там спасение для себя и братьев. Он пошарил среди стопок бумаги, затем вытащил застрявшую между деревянными листами булавку и принялся колоть себе кончики пальцев.
— Может, пойти к директору банка и признаться? Я сам поговорю с ним, попрошу дать нам немного времени, чтобы хоть как-то поправить положение.
— Порой мне кажется, что ты бредишь.
— Я готов отправиться в тюрьму за кражу, за что угодно, но только не за подделку векселей! Уж лучше удавиться!
Джулио находился в каком-то возбужденном, лихорадочном состоянии. Почему-то в тот момент он думал скорее о братьях, чем о себе, точнее говоря, о Никколо, так как Энрико явно не заслуживал его заботы.
Никколо все больше распалялся:
— Да как это можно, чтобы мы с тобой, взрослые люди, не смогли выпутаться из этой переделки! Над нами весь город будет смеяться. И наплевать на них, лишь бы только на глаза мне не показывались! Да, многие будут торжествовать, радоваться нашему банкротству!
— Замолчи! Не произноси больше этого слова!
Никколо огляделся в ужасе.
— Разве мы здесь не одни? — Тут он отшвырнул свою табуретку со всей силы, она отлетела и сломалась. Он выбежал из лавки, как сумасшедший.
Джулио взял бечевку и принялся чинить сломанную табуретку.
Никколо бежал вниз по улице Виа дель Ре, как безумный, так что чудом не расшибся. Дома он, весь дрожа, поцеловал племянниц и сказал жене:
— Модеста, ты не хлопочи сегодня с ужином! Я не голоден, тебе надо иногда отдыхать. Хлеб, луковица и немного воды — больше ничего не надо.
Модеста испуганно переглянулась с племянницами.
— Что с тобой? Никак заболел?
Никколо тем временем метался из комнаты в комнату, словно что-то искал.
— Что, Кьярина, приходил уже твой жених? — спросил он, не останавливаясь.
— Ждем к ужину, — ответила та, улыбнувшись.
Он ласково потрепал ее за подбородок и вдруг уставился в потолок.
— Никколо, да что происходит? Ты меня с ума сведешь. Нужно позвать врача.
— Причем тут врач? Я пришел повидать вас и заодно взять свою шляпу. Странно, мне казалось, я давеча повесил ее в этой комнате.
Не теряя ни минуты, он вышел из комнаты и прошел дальше, так что Модеста и племянницы едва поспевали за ним.
— А теперь-то ты куда направился?
— Это я вас должен спросить, что вы повсюду за мною ходите? Может, я хочу остаться один, жить в одиночестве? Может, мне надоело быть семейным человеком, нас тут слишком много!
Модеста не приняла всерьез его слова и решила отшутиться, хотя как-то неуверенно:
— Значит, ты решил меня покинуть! Посмотрим еще, кому хуже будет!
Тот засмеялся истерически, направился к выходу и, захлопнув дверь перед носом у жены, сбежал вниз по лестнице. Он чувствовал себя виноватым: как он мог из-за глупой прихоти бросить Джулио одного в такую минуту?
— Как ты тут без меня? — спросил он, вернувшись в лавку.
Джулио улыбнулся.
— Да вот, стульчик починил, а теперь нужно занести в реестр новую партию книг.
— Что за книги?
— Романы, повести…
— Развлечение для бездельников. К черту! — крикнул Никколо, кусая ногти. — Взял бы этих писак и отлупил бы хорошенько!
— Ну и чудак ты!
— А о векселях ты, я смотрю, и думать забыл?
Джулио, который действительно отвлекся было от тягостных мыслей, вновь помрачнел:
— Дай мне хоть минуту вздохнуть свободно!
— Я уж понял, что только я себе места не нахожу.
— Места не находишь? Отчего же? Что ты такого сделал, может быть, достал денег?
— Не надо сарказма.
Джулио был на удивление спокоен, Никколо ожидал, что брат вот-вот улыбнется и скажет, наконец, что нашел решение. Однако он ошибся.
— На этот раз мы неотвратимо катимся в пропасть, ничто уже нам не поможет, — в голосе Джулио звучала горечь.
— Но ведь раньше удача всегда была на нашей стороне.
— Да, а теперь она покинула нас, и нужно это признать.
— Что ж, я, в отличие от Энрико, готов нести этот крест вместе с тобой.
— Я думал, может, хоть вам удастся спастись…
— Спастись?
— Ты прав, если дело коснется меня, то и вам не избежать той же участи.
Никколо чувствовал, как его опутывает со всех сторон безутешная, монотонная тоска. Чтобы стряхнуть ее, он принялся шевелиться, нервно вертеться на стуле, как иной раз летом, пытаясь избавиться от назойливой мухи, он бегал по комнате и хлопал кулаком, где попало.
— Ты бы вышел, подышал немного. Не обязательно сидеть здесь из-за меня, — сказал Джулио.
В его словах слышалась забота и боль, которую он давно носил внутри, не желая разделить ее с братьями.
— Я прекрасно себя чувствую, даже аппетит не потерял! Будь у нас сегодня на ужин жаркое из полдюжины вальдшнепов — клянусь тебе, съел бы все до последней косточки. Никому не доставлю удовольствие видеть себя подавленным. Лучше сожгу дотла эту лавку! Не надо падать духом, Джулио!
— Ты как будто меня утешаешь — это ни к чему. Я человек честный и порядочный — сейчас более, чем когда-либо. Я ничего больше не жду — ни от людей, ни от Бога. Сознавать свое падение — вот в чем высшая сила воли! Это своего рода гордость, вывернутая наизнанку, однако все-таки гордость! Я никогда не пытался пробиться в жизни — просто старался сохранить то, что нам досталось от отца. И если мне это не удалось, то не моя в том вина, но я готов взять ответственность на себя: хочу умереть с чистой совестью. Видно, судьбой мне уготован печальный конец, и нужно принять его достойно. Кто-то, возможно, разочаруется во мне, но какое теперь это имеет значение? Я такой, какой есть, и мне жаль, если я ввел кого-то в заблуждение. Нельзя требовать от человека, чтобы он пошел против своей природы, на все воля Господа. Если я и совершил что дурное, то не со зла. Я подделывал подписи — да, но что же еще мне оставалось, если моя собственная подпись в этом мире ничего не значит?
Никколо пробурчал что-то в знак одобрения, затем грубо выругался, но Джулио не слышал его. Он был поглощен идеей смерти и самопожертвования и продолжал бичевать себя:
— Если бы все они знали, что я подделываю подписи, то и руки мне не подали бы при встрече. Но мне уже все равно.
Тут Джулио осекся, ему не хватало воздуха. Тогда заговорил Никколо.
— Ты мне брат, и я лучше всех знаю тебя. Только я могу тебя выслушать и понять. Но ты не должен обращать на меня внимания. Просто следуй своей дорогой, а я побреду за тобой потихоньку… Тссс, гляди-ка: вот он опять притащился, чертов боров!
Вошел Энрико. Его жирный загривок, обтянутый толстой кожей, и впрямь делал его похожим на борова. Вид у него был как никогда хмурый и свирепый.
Джулио спросил равнодушно:
— Зачем пожаловал?
Тот помялся немного, потом сказал:
— Завтра воскресенье, почему бы нам не приготовить дроздов на вертеле? Я тут видел у Чичи — дичь что надо, хорошие, жирные!
— Я завтра не буду обедать дома, — отрезал Никколо.
— И куда же ты собрался?
Никколо посмотрел на Энрико вызывающе:
— Во Флоренцию. Соскучился по печеной фасоли, в Сиене ее так вкусно не делают!
Тогда Джулио, обращаясь к обоим, проговорил тихо:
— Что ж, решено: завтра ты побалуешь себя фасолью во Флоренции, а ты купишь у Чичи дроздов на обед. Надеюсь, теперь все довольны?
X
В воскресенье Джулио и кавалер Никкьоли в очередной раз отправились на прогулку. Никколо уехал во Флоренцию, накануне вечером он старательно избегал братьев, чтобы те вдруг не вздумали его отговаривать.
Он всегда так поступал, пропадал, чтобы избежать объяснений: коли вобьет себе что-то в голову, лучше с ним не спорить.
— Ну, что скажете? Может, пройдемся от Порта Овиле к Порта Писпини? — спросил кавалер.
— Не знаю, — ответил рассеянно Джулио. — Как скажете.
Воздух пронизывали сладкие запахи, а поля вокруг глядели по-весеннему. Время сбора винограда подходило к концу, почти все калитки были открыты, кое-где еще виднелась колючая проволока.
Сиена вся состоит из прямых линий — цепи крыш, ряды фасадов одинаковой высоты, но ближе к окраине города прямые линии сглаживаются, становятся более мягкими, округлыми. И только здесь, между Порта Овиле и Порта Писпини, Базилика Сан-Франческо и Церковь Санта Мария ди Провенцано с окружающими их высокими домами пересекли бы под прямым углом череду прямых линий на глазах у наблюдательного путника, если бы спуск в этом месте не был особенно пологим. Городские стены с пустыми ветхими башенками словно текли вдоль дороги, ведущей из города, расширяя его пространство. Чуть дальше дорога изгибалась вдоль стены, так что Сиена терялась из виду, но затем вновь напоминала о себе громоздящимися друг на друга фасадами. А вдали вырисовывалась, нависая над городом, Торре дель Манджа[8].
— Полюбуйтесь на нашу красавицу Сиену! — сказал кавалер.
Но Джулио было не до этого. Хорошенько поразмыслив обо всем накануне встречи с Никкьоли, он решил, что просить его об еще одной подписи было бы безумием, наверняка это покажется подозрительным. К тому же с некоторых пор он как-то особенно робел перед кавалером, словно пытался искупить свой обман излишне почтительным, раболепным поведением. Однако теперь, когда они прогуливались рука об руку, Джулио подумал: а что, если все-таки согласится? Конечно, это лишь отсрочит долги на какие-то пару недель, но… Ласковый, снисходительный тон кавалера придал Джулио решимости:
— Я хотел в который раз попросить вас об одной милости…
— Конечно, чем смогу!
Внутри у Джулио будто все перевернулось. Он продолжал, словно во сне:
— Не затруднит ли вас одолжить нам еще немного денег…
Кавалер побледнел.
— Сколько вам нужно?
— Тысяч десять лир. Мы нынче совсем без гроша.
От неожиданности кавалер побледнел еще сильнее. Тут Джулио понял, какую ошибку совершил, проговорившись. Он хотел было исправиться, сказать, что на самом деле все на так плохо, но, посмотрев на Никкьоли, понял, что упал в его глазах раз и навсегда. Тогда Джулио взмолился по-ребячески, пытаясь убедить своего спутника, что речь шла не более чем о прихоти — так, ничего важного, просто хотели позволить себе небольшую роскошь. И улыбнулся, чтобы рассеять всякие подозрения. Но кавалер будто и не заметил улыбки. Его настроение резко изменилось, он шел молча, потупив взор. Его задумчивость не обещала ничего хорошего. Он даже ускорил шаг, словно хотел поскорее избавиться от неприятного ему общества. Он, должно быть, разгневан? Все, их дружбе конец? Или он пойдет в банк, чтобы все разузнать?
Когда подошло время прощаться, кавалер едва пожал руку Джулио.
— Наверное, презирает меня, — подумал тот, не зная, что ошибается в своих предположениях.
Вернувшись домой, Джулио застал Энрико и племянниц за игрой в шашки. На ноге у Энрико был горчичник: ночью его опять мучили приступы подагры. Модеста сидела у окошка и вышивала.
Джулио заперся у себя в комнате. Да, его жизнь давно уже превратилась в набор машинальных действий. Ничто не трогало его; голоса, доносившиеся из соседней комнаты, не волновали, словно наталкиваясь на какое-то препятствие и замирая на полпути. Бедняга даже огляделся, чтобы проверить, не выросла ли впрямь вокруг глухая стена, отделяющая его от других. Не было больше ни волнения, ни печали: правда предстала перед Джулио во всей своей жестокой очевидности и, кружась в водовороте мыслей и воспоминаний, шептала ему, что ничего уже не изменишь. Все вокруг рассыпалось, как песочные замки, а он сидел молча и смотрел: всякое проявление воли отныне казалось преступлением. Джулио приятно было видеть, как радуются другие, чужое счастье представлялось ему естественным. Он с удовольствием отпустил Никколо во Флоренцию, да и сам с трудом верил, что завтра истекает срок очередного векселя. Когда закрываешь глаза перед лицом неизбежности, кажется, что беда где-то далеко.
Тем временем голоса в гостиной стихли. В дверном проеме появилась голова Энрико.
— Ты виделся с кавалером?
— Да, мы гуляли целых два часа. А что?
— Хотел узнать, не сболтнул ли ты лишнего. Ему нельзя доверять: с такими нужно быть начеку!
— По-твоему, я стал бы посвящать его в наши проблемы? У него и своих хватает. Это было бы просто бестактно с моей стороны.
— Значит, все в порядке.
— Я же не вчера на свет родился!
— Да я так спросил, на всякий случай. Нужно же мне знать, как себя вести, если вдруг его встречу.
— Что бы он ни спросил, делай вид, что ничего не знаешь.
— Как скажешь. Хватит сидеть одному, пойдем с нами: Модеста с девочками собираются на прогулку.
— Зачем? Мне и здесь неплохо. — В голосе Джулио звучало сомнение.
— Ну, как знаешь.
Голова исчезла, и дверь захлопнулась. Джулио посетила странная мысль: а что, если он сейчас выйдет на улицу и закричит, как сумасшедший? Или разбежится и кинется вниз с высокой стены? А может, просто станет бегать по улицам Сиены так быстро, что никто его не поймает? Его одолевало желание сделать что-то сумасбродное, чтобы все удивились.
— Да, — подумал он, — человек может сильно измениться. Как болезнь — она стучится в двери, когда ее вовсе не ждешь!
Но Джулио не пошевелился, и, глядя на него в ту минуту, трудно было что-либо заподозрить. Он досадовал на племянниц за то, что те, как обычно, зашли поцеловать его на прощанье — к чему эти сантименты?
— Должен же быть какой-то высший смысл в нашей повседневной жизни! А то выходит, что я за сорок лет ничего не создал, ничего, что соответствует моему характеру, что способно радовать душу! Другие уверены, что я такой же, как и они, — потому что я им это внушил! Им было бы неприятно узнать правду! Все так привыкли видеть во мне то, что им угодно, а я не хотел их разочаровывать и продолжал жить, приспосабливаясь, обрекая себя на пресловутую нормальность. Но правильно ли это? Может, моя откровенность пошла бы им на пользу. Теперь я понимаю, как зыбко мое существование: достаточно одного решающего события, вроде векселя, чтобы то, что когда-то казалось мне нерушимым и правильным, в одно мгновение потеряло всякую силу. Но если я выйду из привычных рамок, дам волю своей страстной натуре, то вынужден буду идти, куда глаза глядят, прочь из этого дома. Проявить волю — значит, преодолеть нерешительность и апатию, показать другим свое истинное лицо, порвать с прошлым. Но мои близкие — часть меня самого, а потому всякое личное искупление для меня бессмысленно: я в ответе не только за себя и за свою совесть, но и за грехи других.
Джулио хотелось снять с себя страдания, возложить их на кого-нибудь другого, а самому остаться в стороне и наблюдать. Продолжать такую жизнь не имело смысла, смерть была единственным выходом.
— Они хотят, чтоб я умер. А я покорно следую их воле и даже не думаю сопротивляться. Почему?
Он не находил причины, и мысли уносили его далеко, к годам юности, когда страданиям еще не было места в его жизни. Теперь же, в момент отчаяния, они словно оскверняли собой и это неприкосновенное, девственное прошлое. И юность казалась чем-то нереальным, словно она была всего лишь прекрасным сном, плодом воображения.
Джулио вышел из комнаты с таким лицом, что Энрико поинтересовался, все ли в порядке.
— У меня? Разумеется, лучше не бывает!
Никколо провел весь день во Флоренции, слоняясь по улицам. Он старался как-то ободрить себя, делал вид, что его ничто не заботит, и прогуливался, подняв голову и выпятив грудь, словно знатный синьор, гордый своим положением и прибывший в город с важным визитом. Время пролетело быстро, Никколо и не заметил, как уже возвращался обратным поездом в Сиену, и только теперь он подумал, что, возможно, должен был остаться и поддержать Джулио, но тут же мысленно нашел себе тысячу оправданий.
— Было бы неразумно с моей стороны поддаться переживаниям раньше времени. По крайней мере, сегодняшний день я провел с пользой!
Когда поезд прибыл, уже смеркалось. Никколо не спешил возвращаться домой, он пропустил вперед других пассажиров и носильщиков с чемоданами и остановился на выходе из вокзала, словно турист, впервые оказавшийся в Сиене. Молча, заложив руки за спину, он глядел на базилику Сан Франческо, окутанную сумерками.
Напротив, в каком-нибудь километре от базилики, холм был еще залит светом, а посередине стелилась ковром до самых гор голубовато-безмятежная долина, поблескивая светло-серыми бликами. Над равниной возвышался кипарис, казалось, он парил в воздухе: уступа, на котором он рос, не было видно. Ниже базилики Сан Франческо холм Овиле был усеян маленькими домиками, которые будто соскальзывали вниз вдоль сточных каналов.
Никколо оглянулся, чтобы убедиться, что за ним не наблюдают, и, вновь приняв спесивый и надменный вид, направился домой, заходя по дороге в каждую лавку, где продавались всякие вкусности. Дома он первым делом сообщил с ликующим видом:
— Какой чудесный день, я отлично провел время!
И затем добавил снисходительно-сочувственно:
— А вы тут, небось, скучали!
XI
Никкьоли по-прежнему ничего не подозревал, но просьба Джулио возмутила его: кавалеру казалось, что братья злоупотребляют его дружбой. Однако позже, обдумав все, как следует, и успокоившись немного, он решил, что не стоило спешить с отказом — необходимо было хорошенько все взвесить и попытаться помочь, если конечно не обнаружатся какие-то непредвиденные обстоятельства. Ему было неловко, что он так высокомерно повел себя с Джулио, однако природная самоуверенность не позволяла ему подозревать Гамби в мошенничестве. Чтобы сохранить твердость и не выдать своего раскаяния, Никкьоли решил на некоторое время прекратить свои визиты в книжную лавку и в понедельник, хоть и без особой надобности, направился в свою усадьбу в Монтериджоне: пусть его ищут, сколько им угодно. Великодушие — это прекрасно, но нужно и меру знать!
В понедельник утром братья пришли в лавку. Энрико ворчал себе под нос, у него были мешки под глазами, и вообще он выглядел разбитым и подавленным.
— Срок векселя истекает через два часа.
Тут Никколо, который все это время сидел, запрокинув голову, напустился на него:
— Да замолчи ты, наконец!
— Полно вам ругаться, у меня и так голова кругом, — сказал Джулио мягко. Он сидел, подперев голову исхудалыми руками, лицо его было сосредоточено: нужно было срочно что-нибудь придумать. Никколо смотрел на него с надеждой, держа наготове радостный смешок.
— Придется опять подделать подпись, — сказал Джулио.
Братья ничего не ответили: они ожидали более удачного предложения и были явно разочарованы. Джулио понял это и замолчал.
— И ничего получше тебе в голову не приходит? — спросил тогда Энрико, чувствуя единодушие со стороны Никколо.
— Мы ведь именно так и поступали все это время.
— Но когда-то это должно прекратиться!
Тут Никколо встал и подошел к столу, за которым сидел Джулио.
— Дай мне денег: пойду куплю вексель.
— Только не надо торопиться, — сказал Энрико.
Джулио достал было деньги, затем убрал их обратно в деревянную миску, старательно утрамбовав пальцами. Никколо был доволен собой: он выразил желание купить вексель и показал себя храбрецом. Ему нравилось быть предприимчивее, сообразительнее других. Однако, видя нерешительность братьев, он снова плюхнулся на стул и, уперев ноги в пол, стал нетерпеливо качаться на нем. Не найдя в кармане даже половинку сигары, чтобы занять чем-то руки, он стал ковыряться пальцем в носу.
Джулио сидел, повернувшись к Энрико и потупив взор. Он чувствовал, как глаза его закрываются сами собой.
— Неужели этот подлец Никкьоли не может нас вытащить? — спросил Энрико.
Джулио покачал головой.
— Нужно все-таки попытаться, спросить.
Джулио покраснел.
— Я разговаривал с ним вчера.
Никколо с силой качнулся, так что стул заскрипел под ним, и закричал:
— Ты что, совсем спятил?
— А что я такого сделал?
Никколо вновь преисполнился своей хамоватой храбрости. Он прошелся до двери и обратно, и так несколько раз.
— Хватит, — сказал ему Энрико. — Носишься тут, аж сквозняк устроил!
Тот уселся на прежнее место и прокричал:
— Теперь так и буду сидеть, с места не сдвинусь!
Джулио собирался было сказать Энрико, чтобы тот сбегал за векселем в ближайший табачный киоск, но тут появился Корсали: ему не терпелось рассказать очередную сплетню про своих жильцов, подобные истории обычно веселили братьев Гамби. Но на этот раз Никколо напустился на беднягу:
— Что тебе здесь надо? Не видишь, что ты не вовремя?
— А что стряслось?
— Прочь отсюда!
— Могли бы быть и повежливее!
Никколо зарычал и затопал ногами. Джулио сделал знак гостю, что они не готовы его принять.
— Если я могу чем-то помочь, то я… — начал было Корсали.
— Смотрите на него, он явно не собирается уходить. Вечно является бесцеремонно, когда его вовсе не звали, и еще требует к себе почтения. Это все вы виноваты, — Энрико обращался к братьям, — это к вам он повадился ходить. Я бы такого и на порог не пустил!
Корсали был возмущен.
— Ты-то что развизжался, чем я тебе не угодил? Конечно, пока я был вам нужен…
— Мне ни от кого ничего не нужно, — заявил Никколо. — Тем более от господ. Пошел вон, тебе говорят!
— Джулио, я тебе удивляюсь!
Тот только вздохнул. Тогда Корсали направился к двери, осыпая братьев проклятиями.
Досада на незваного гостя сплотила братьев: наступила одна из редких минут любви и согласия.
— Иди, — сказал Джулио, зная, что Энрико не будет перечить.
Оставшись вдвоем, Джулио и Никколо ощутили, как раздражение к Корсали рождает в них нежность друг к другу: эти два чувства сливались воедино. Когда подоспел Энрико с векселем, Джулио был в приподнятом настроении. Он расправил бумажку, выбрал ручку и попробовал перо большим пальцем. Руки его дрожали.
— Погодите, мне нужно успокоиться.
Братья стояли рядом, опершись на книжный шкаф. Джулио зажег сигарету и, докурив ее до половины, сказал:
— Ну, теперь я в порядке.
Он сжал руки в замок, затем собрал пальцы правой руки в кулак и решительно взялся за ручку. Слегка окунув перо в чернильницу, он поднес его к векселю, и, аккуратно придерживая листок левой рукой, стал уверенно выводить подпись. Джулио писал увлеченно, не отрываясь, хотя совесть у него была неспокойна, в душе все переворачивалось, словно от какого-то неведомого вторжения. Закончив, он повертел в руках вексель, чтобы хорошенько разглядеть подпись, и протянул его братьям — те нашли работу превосходной, сравнив копию с подписью Никкьоли. Теперь надо отнести вексель в банк. Чувствуя, как им овладевает страх, Джулио попытался себя успокоить: «Дело сделано, глупо отступать или сожалеть о содеянном. Нужно взять вексель и отнести его в банк, иначе к чему все это? Я как ребенок, который не может собраться с мыслями». Но долго думать ему не пришлось, братья торопили его:
— Не будем терять времени! Осталось всего полчаса, тебе пора!
Джулио покорно взял вексель и вышел. По дороге в банк уверенность покинула его, и, чем ближе он был к цели, тем медленнее шел. Может, еще не поздно вернуться назад или разорвать проклятую бумажку? Он вообразил себе это на секунду и понял, что отступать некуда. Теперь все дороги закрыты перед ним, и остается только одна — в банк. Поднимаясь по его вычищенным парадным лестницам, Джулио ощущал хорошо знакомый конторский запах. Он поспешно приветствовал знакомых посетителей и встал в очередь: возле учетного окна было много народу. Джулио даже в голову не пришло уйти — напротив, он всячески старался показать, что спешит. Когда, наконец, подошла его очередь, он протянул служащему вексель с дежурной улыбкой, как опытный коммерсант с хорошей репутацией.
— Все в порядке?
— Да, все отлично, — ответил служащий, кинув вексель в общую корзину.
Джулио вышел из банка в прекрасном расположении духа: «И на этот раз все прошло гладко!» Но его веселость была какой-то неловкой, неуверенной. Джулио чувствовал себя истощенным, словно человек, который только что оправился после долгой и тяжелой болезни и должен снова привыкнуть к окружающей жизни, которая кажется ему слишком тусклой, устаревшей. И, вновь оказавшись в вихре повседневных забот, Джулио спешил поделиться своими чувствами.
В лавке был Низар. Явно не понимая, что происходит, он говорил тихим голосом, словно среди присутствующих царил траур: не желая оставлять ради других свою природную жизнерадостность, он все-таки считал уместным придать ей более корректный и сдержанный тон, чтобы никому не докучать.
Джулио дал братьям знак, что все прошло гладко, затем несколько неуклюже направился к своему письменному столу, прислушиваясь к разговору. Он нагнулся к столу и, почти коснувшись щекой его поверхности, аккуратно сдул с него пыль, которая была особенно заметна, так как свет падал сбоку. Визиты Низара обыкновенно радовали Джулио: с ним всегда можно было поговорить о древней живописи, похвастаться своими познаниями библиофила, приправив их нотками тонкой и добродушной иронии. Джулио доставляло огромное удовольствие показывать гостю редкие книги, бережно перелистывая страницу за страницей. Будучи знатоком старинных гравюр, он без труда узнавал их и улыбался, по-женски выпятив нижнюю губу.
Низар почувствовал, что Джулио как будто подменили, и счел нужным оставить братьев одних. Любезности ради, он произнес одну из своих фраз, которые всегда так искусно умел подбирать в зависимости от обстоятельств, и засим удалился.
— Завтра узнаем, примут ли вексель, — сказал Джулио.
— Я более чем уверен! — ответил Никколо.
Энрико отрицательно покачал головой, затем взорвался:
— Не примут — так я их там всех перебью. Чертовы воришки! Что им стоит сделать людям одно маленькое одолжение? Посмотрел бы я, как они поступили бы на нашем месте!
— Ой-ой-ой, да что ты понимаешь! — возразил Никколо. — Раз ты говоришь, что не примут — значит, точно все будет прекрасно! Я так и вижу, как господа из банка разглядывают наш вексель. Что ж, мы, в конце концов, добропорядочные люди, нас не в чем подозревать!
Джулио подхватил в каком-то наивном восторге:
— Буду думать об этом векселе день и ночь, и мои мысли сделают его настоящим!
— Значит, зря мы давеча беспокоились. Если придет Корсали — извинитесь перед ним за меня. Я ведь не хотел его обидеть, — сказал Энрико.
— Ты куда?
— Пойду, сыграю партию-другую в брисколу. А то я сам не свой!
Никколо то ли от радости, то ли от нервов стал напевать какую-то сальную песенку. Джулио слушал его и вдруг почувствовал резкую боль внутри, словно его разрубило пополам. Он только закрыл лицо руками и ничего не сказал брату.
XII
Одному из банковских служащих показалось странным, что его друг Никкьоли в который раз подписывает вексель для Гамби, и он не преминул поделиться с кавалером своими сомнениями.
Тот не мог поверить собственным ушам, его настолько потрясла эта новость и столь ужасными казались ее последствия, что даже жене не удавалось его успокоить. И дело было не только в деньгах: Никкьоли утратил всякое уважение и доверие к людям. Жена убеждала его, что даже в случае полного банкротства Гамби не пройдет и года, как он сможет возместить себе потерю шестидесяти-семидесяти тысяч лир доходами от ренты. Она гладила мужа по голове, он целовал ей руки, но затем снова впадал в истерику и не знал, бежать в лавку прямо сейчас или подождать до завтра, чтобы немного прийти в себя. Жена никуда не пустила Никкьоли, он провел бессонную ночь, тихонько рыдая, и уснул под утро от полного нервного истощения.
Проснулся кавалер с намерением немедленно отправиться в лавку и излить на мошенников весь свой гнев и презрение. Никкьоли брел по улице, будто во сне: он взмок и ощущал сильную слабость. Чтобы как-то приободриться, он решил прежде зайти к Корсали.
Гамби уже были в курсе, что вексель не принят и против них выдвинуто обвинение. Казалось, об этом знал весь город; люди останавливались у витрин лавки и громко спорили: кто-то говорил про девяносто тысяч, а кто-то убеждал, что тут все сто. Энрико зашел в кабачок, чтобы договориться о партии на вечер, — его подняли на смех. Он поскорее побежал предупредить братьев, которые, впрочем, уже и так заметили толпу зевак возле лавки. Все катилось в пропасть.
Услышав новость, Джулио потерял сознание. Никколо бросился к брату и принялся обнимать его и звать по имени, пытаясь привести в чувство. Энрико, дабы избежать прилюдного позора, предпочел потихоньку улизнуть и запереться дома. Когда он все рассказал Модесте, та не сдержала крик отчаяния, а следом за ней заголосили и племянницы.
Тем временем Джулио пришел в себя. Ему хотелось разрыдаться, но не было сил, словно он уже выплакал все слезы. Никколо лихорадочно метался из угла в угол, осыпая проклятиями всех и вся. Голос его напоминал треск срубленного дерева, а привычный смех сделался еще язвительнее и жестче.
В этот момент дверь распахнулась — это был Никкьоли. Следом за ним вошел Корсали, который, казалось, все готов был отдать, лишь бы не видеться с Гамби, которые давеча так его оскорбили. Никколо остановился и заметно побледнел. Джулио снова лишился чувств. Кавалер обратился к Никколо:
— Я пришел высказать все, что думаю о вас, однако не стану этого делать. Я как-никак человек милосердный!
Никколо сделал ему знак замолчать, указывая на Джулио, распростертого на письменном столе.
— Да и какой смысл взывать к людям без стыда и совести! — с этими словами Никкьоли направился к выходу.
Корсали, который все это время старался держаться подальше, распахнул перед ним дверь и, выбегая следом, прокричал:
— Я еще вернусь!
В другой раз Никколо рассмеялся бы ему вслед, но при виде бездыханного тела Джулио кровь в нем закипала от негодования. Он приподнял брата и аккуратно уложил на стул. «Была бы здесь Модеста! Я даже не знаю, чем помочь».
Джулио открыл глаза.
— Что случилось? У меня голова кружится. Посмотри, очки не разбились?
Никколо протянул ему очки:
— Нужно быть сильным, Джулио.
Тот попытался улыбнуться.
— Никкьоли уже ушел, так быстро?
— Да, почти сразу.
— Что он тебе сказал? Мне следовало самому поговорить с ним!
— Да ничего особенного. Не будь он идиотом — оплатил бы вексель и не стал бы брать грех на душу, обрекая нас на нищету!
— Что-то мне нехорошо…
Возле витрины собралась толпа любопытных. Никколо подбежал к стеклу и, глядя на них, загоготал. Те, растерявшись, поспешили разойтись.
— Они думают, я так просто позволю наступить себе на горло! Черта с два! Ничто не заставит меня пресмыкаться, даже банкротство! И тебе, Джулио, не следует раскисать — ты ведь знаешь, я этого терпеть не могу. Бери пример с меня — у меня даже руки не трясутся!
В доказательство своих слов Никколо вытянул вперед руку, но она так сильно дрожала, что он поспешил спрятать ее за спину.
— Что за мерзкие людишки, всюду суют свой нос, считают чужие деньги! Да чем они лучше нас?
И, глядя на Джулио заговорщически, продолжал:
— Мне для счастья достаточно вот этого сундука. Поставлю его к себе в комнату и буду любоваться, сколько душе угодно.
Джулио не отвечал — ему казалось, его пронзили в самое сердце. Он с радостью принял бы самые тяжкие муки, однако с ужасом понимал, что стал нечувствителен ко всему. А если нет спасительного страдания, зачем жить? Как он теперь будет существовать среди книжных шкафов, в окружении братьев, которые его не понимают? Разве он сможет говорить с Модестой и племянницами, глядя им в глаза, как раньше? Теперь-то он познал свою сущность лучше, чем кто-нибудь другой, и тревоги последних дней уступили место какому-то туманному, сладостному спокойствию. Благодать снизошла на него и очистила его мысли.
— Как я завидую тем, кто верует! — сказал он, наконец.
— Верует? — переспросил Никколо надменно.
— Верует в Бога.
Тут Никколо совсем потерял терпение.
— Ты, брат, явно не в себе сегодня. Должно быть, у тебя жар… Дай-ка пощупать пульс.
— Да это я так, не обращай внимания. Пойдем домой — отныне нам нечего скрывать.
— Ты прав, нужно поскорее рассказать Модесте, пусть привыкает жить с этой правдой и ведет себя достойно. А вздумает хныкать — так она мне больше не жена. Я сам заткну ей рот, собственными руками! Кстати, не найдется ли у нас дома бутылочки вина?
Как Никколо ни храбрился, было заметно, что он в отчаянии. Он до ужаса страшился наказания, однако все еще чувствовал в себе силы сопротивляться и был способен на крайность. Заложив руки за спину, с незажженной сигарой во рту, Никколо стоял возле окна витрины и пристально смотрел на каждого, кто задерживался поглазеть, пока те не опускали взгляд и не проходили мимо. Потом он сказал, не без горечи в голосе:
— Джулио, подойди и ты, взгляни им в глаза.
— Да хватит тебе, не обращай внимания. Пора закрываться и идти домой. А там будь что будет. Наверное, опечатают лавку, а потом…
— Что потом?
— Поживем — увидим.
— Да, поживем — увидим.
Они вместе вышли из лавки, чего не делали много лет; двигались с трудом. Джулио старался вести себя, как ни в чем не бывало, Никколо же глядел нагло и развязно. Проходя по Виа дель Ре, Джулио остановился.
— Какое зловоние от этих конюшен… Зря мы здесь пошли!
Они свернули на Виколо ди Сан Вирджилио и вышли к Палаццо Пикколомини[9], который почти вплотную примыкал к Торре дель Манджа, словно когда-то они были единым целым. Каменный дворец с зарешеченными окнами всегда производил суровое впечатление, которое несколько смягчали своим видом Лоджии, пылившиеся за старой железной оградой.
Никколо поглядел вверх, на окна, в глазах его заиграл лукавый огонек:
— Вот бы пробраться туда, к пергаментам![10] Это вам не какой-то там вексель!
Дойдя до дома, Никколо потерял всякое желание шутить: видя, как ключ поворачивается в замочной скважине, он все больше мрачнел. Перед тем, как войти, Джулио попросил брата положиться на него во всем. Даже если Модеста примется причитать, не следует ей грубить — в конце концов, для нее это удар. И он неуверенно отворил дверь.
Модеста, похоже, давно поджидала их у порога. Она тут же бросилась мужу на шею, захлебываясь от рыданий, чуть было не повалив его. Никколо терпеть не мог женских истерик, он вытирал себе лицо, мокрое от ее слез:
— Джулио, убери ее от меня, а то мне придется применить силу!
В этот момент племянницы окружили Джулио так стремительно, что он еле удержался на ногах. Он был тронут и хотел бы, чтобы те никогда не разжимали объятий, однако велел им взять под руки тетю и проводить ее в гостиную. Он не ожидал, что Энрико все разболтает.
— Видишь, как она расчувствовалась… И ведь ни слова упрека! — сказал Никколо.
— Иди же к ней!
Никколо прошел в гостиную и сел рядом с женой. Вид у него был несколько глупый: он молчал и, видно, не знал, куда себя деть. Когда Модеста, в порыве чувств, заглянула ему в глаза, то он всеми способами старался отвести взгляд и сидел с рассеянным видом, будто так ему было проще успокоиться.
— И почему вы раньше мне не сказали? А ведь я предчувствовала что-то нехорошее… Неужто я не заслужила твоего доверия?
Никколо скривился в ответ и закрыл глаза.
— Я бы помогла вам советом.
Он было вскочил, потом снова упал на прежнее место.
— Я бы не позволила вам столько тратить!
Тут Никколо поднялся решительно и ответил насмешливым и не терпящим возражений тоном:
— Оставим этот разговор до завтра.
Джулио в своей комнате чувствовал себя одиноко, как никогда. Он поел хлеба, смоченного в вине, и вернулся обратно в книжную лавку. Заперев дверь, он стал перебирать бумаги и готовить счета для регистра. Работал он сосредоточенно и четко, словно своими действиями мог еще что-то исправить. В душе его воцарилось спокойствие, такое спокойствие, которое бывает в тягость и пугает, словно затишье перед бурей.
Вечером Джулио не стал ужинать и, шатаясь, доковылял до кровати. Он погрузился в сладостный сон, просыпаться было вдвойне горько: вот бы уснуть навечно!
Никколо и Энрико тем временем пытались найти общий язык, и все без толку: один говорил одно, другой другое, ни один не желал пойти навстречу другому. Энрико вел себя, как слабоумный, пытался игнорировать существование поддельного векселя и всячески открещивался от разговоров, дескать, словом делу не поможешь. Он даже не стал открывать переплетную мастерскую; узнав причину, рабочие разбрелись по домам. Никколо хотелось побыть с Джулио, но тот решительно отказал ему. Да и Низара, как назло, нигде не было.
Тогда Никколо принялся дурачиться с племянницами, а Модеста сидела рядом на диванчике, заткнув уши.
То и дело в комнату заходил Энрико, потом исчезал и садился на свое привычное место у окна, уперев локти в подоконник и зевая.
За обедом он сказал:
— Самое ужасное, что мы теперь не будем есть так же вкусно, как раньше. А все прочее — ерунда.
XIII
На следующий день, лежа в постели, Джулио предавался размышлениям. «Пора покончить с бесплодными иллюзиями: моя жизнь никогда теперь не будет такой, как прежде. Ожидать смерти мне неоткуда, а продолжать жить значило бы обрекать себя на добровольное мучение, хотя, надо признать, в последние дни мои страдания несколько притупились. Не может быть, чтобы у меня недостало смелости сделать с собой то, что я не смог бы сделать с другими. Может, я совершу ошибку, но я просто обязан пройти через испытание смертью. Сегодня ночью я вдруг ощутил, что больше не принадлежу этой жизни, а лишь наблюдаю за ней со стороны, и мне стало так легко! Никогда еще я не спал так спокойно!»
Это было как облегчение после перенесенной раны. «Я мог бы, — думал он не без удовольствия, — выброситься из окна или утопиться в реке. Но я этого не сделаю: есть другой способ свести счеты с жизнью».
Джулио оделся и вышел. Утро было прохладное и влажное. Он остановился возле церкви Сан Мартино, наблюдая, как какая-то хромая женщина, одной рукой опираясь на палку, а другой хватаясь за перила, взбирается по ступенькам. Раньше он никогда не замечал в людях столько упорства и нетерпения в сочетании с радостным ожиданием. Должно быть, сама судьба послала Джулио эту встречу: видя чувства этой простой, неряшливой женщины, он отчаивался еще больше. Завтра книжную лавку опечатают, и у него остается совсем мало времени.
На углу он столкнулся с Низаром. Тот сокрушенно взглянул на него:
— Мне так жаль, такое несчастье…
Джулио нервно улыбнулся, так что черты его стали почти неузнаваемы:
— Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Я иду в лавку — не хотите ли составить мне компанию? Если, конечно, мое общество вас не смущает.
Низар согласился, хотя и не без колебаний. Словно по негласному уговору, они свернули на Виа делле Терме, где было не так людно.
Высокие, вытянутые домики Фонтебранды[11] создавали ощущение тесноты и однообразия, а переулки были похожи на овраги, из которых можно было разглядеть зеленевшие вдали холмы, усеянные черными кипарисами. Дойдя до площади Сан Доменико, они остановились: здесь можно было поговорить спокойно. Неподалеку мальчишки пытались вскарабкаться на ель, сиротливо возвышавшуюся посреди запущенного скверика. Окна красной церкви были выложены кирпичом, а башня испещрена трещинами от основания до самого верха. Узкая полоска травы спускалась почти от самой крыши вниз по закрытой арке и, постепенно расширяясь книзу, сливалась с зеленью лужайки.
Оказавшись на площади, Джулио жадно вдыхал свежий воздух. Он вдруг почувствовал себя свободным, словно ребенок, который с присущей ему непосредственностью готов рассуждать о тех вещах, в которых ничего не смыслит. Джулио переполняла искренность, ему хотелось все рассказать Низару про поддельные векселя. Тому казалась ужасающе циничной эта странная беспечность, однако он решил не нарушать чужого спокойствия и старался вести себя, как ни в чем не бывало. Низар повел Джулио к Крепости, чтобы полюбоваться Сиеной[12].
— Вы только поглядите, какая игра красок — вечером такого не увидишь! Всегда стараюсь бывать здесь, пока солнце еще высоко.
С крепостной стены и правда открывается великолепный вид на собор, окруженный высокими башнями. В Фонтебранда дома раздваиваются кверху, оставляя просвет посередине, и, словно приклеенные к холму у подножия собора, вереницами спускаются к полям, петляя меж огородов и постепенно исчезая за обрывом. Кажется, что здания поменьше громоздятся на более массивных постройках, а вместо улиц есть только разрозненные домики, которые складываются в причудливые геометрические фигуры неправильной формы. И на фоне этого лепного узора крыши постепенно редеют по мере того, как дома продвигаются ниже по склону. В этот час поля выглядели особенно величественно, а Сиена возвышалась над ними молчаливо, неприступная и задумчивая, переглядываясь с горными вершинами на горизонте до самого Корнате ди Джерфалько.
Джулио пожирал взглядом Сиену, словно страстный поклонник: никогда он так не гордился красотой родного города. Низар заметил это и поспешил увести беднягу, дабы пощадить его нервы.
— Будь моя воля, остался бы тут навечно! — сказал Джулио.
— Странное дело, что вы, сиенец, раньше здесь не бывали.
— Да уж, разве что мальчишкой… Но тогда я многого не понимал.
— Уж теперь-то наверняка будете сюда заходить.
— Кто знает? Одному Богу известно, сколько нам осталось… Помнится, когда я был молод, стоило мне оказаться в одиночестве без дела хоть на полчаса, как меня охватывало странное, тревожное сомнение. В такие минуты я не знал, жив ли я на самом деле. Мне сложно объяснить вам это чувство… Это похоже на сладостно-болезненное ощущение, которое испытываешь во сне, когда понимаешь, что это не более чем сон, но в то же время страстно желаешь, чтобы все происходило на самом деле. И ты видишь самого себя как бы со стороны и оттого не можешь слиться воедино с собственной грезой, насладиться ей. Окружающая действительность рождала во мне похожее чувство: мне начинало вдруг казаться, что я существую лишь в каком-то продолжительном, навязчивом сне, к которому привык настолько, что принимаю его за реальность. Одним словом, сама жизнь казалась мне иллюзорной.
Низар не отвечал, такие разговоры ему были не по душе. Он нахмурился и молча отошел в сторону. Джулио продолжал:
— Сегодня мы стоим с вами у стен Крепости, и я вдруг понял, как ужасна была моя жизнь в последние годы. Но я не хочу возвращаться в прошлое, начинать все заново, хочу только, чтобы память меня не тревожила.
— Да, понимаю, — ответил Низар, криво улыбнувшись и досадуя на себя за то, что согласился пройтись. Он надеялся узнать кое-какие интересные подробности про поддельные векселя, а вынужден выслушивать излияния, похожие на бред! Чтобы выпутаться из неловкой ситуации, Низар сказал, что ему надо зайти в Сан Доменико взглянуть на одну из работ Маттео ди Джованни. Войдя в церковь, он усмехнулся сам себе: с его-то чувствительной натурой взялся утешать сумасшедшего! Через несколько минут он уже разглядывал в капелле интересующее его полотно, совершенно забыв о своем недавнем собеседнике.
Джулио так и остался стоять, опьяненный каким-то горьким восторгом. Он чувствовал, как внутри него шевелится что-то злое, нехорошее, угрожая взять над ним верх. Сознание Джулио как будто распалось на множество элементов, которые затем срослись вместе хаотично, и ему никак не удавалось привести их к общему знаменателю, совладать с ними. Очевидно, его «я» состояло не из чувств, менявшихся каждую минуту, а из неких постоянных величин, рождавших чувства. Теперь единственной постоянной величиной стала для него смерть. Джулио не испытывал желания попрощаться с родными — ему необходимо было остаться в одиночестве, освободиться от всех земных привязанностей. Переступив порог книжной лавки, он словно оказался в новой для него реальности.
Внутри было темно, ставни были закрыты. Джулио зажег газ, и шум газовой горелки заставил его вздрогнуть. Он окинул взглядом лавку, ему хотелось биться о каменные стены, ведь они принуждали его лгать, привели к гибели.
В дверь постучали: это был Никколо. Открыть ему? Нет, они уже слишком далеки друг от друга. Джулио подождал, пока тот ушел, затем открыл ящик письменного стола и вытащил толстую бечеву, которой скрепляли охапки книг. Он не понимал до конца, что делает. Забравшись на табуретку, Джулио проверил, достаточно ли крепко прибит крючок на одной из балок. Нет-нет, он вовсе не собирается себя убивать! Он продел бечеву и завязал свободный узел, затем слез вниз, чтобы поглядеть. Джулио разглядывал веревку с улыбкой, это была шутка, но вдруг почувствовал неодолимое желание поддаться ее зову, просунуть шею в петлю. В бреду он принялся разговаривать с веревкой, умолял не искушать его, но снять ее с крючка не решился. Пусть висит как напоминание о его грехах! Джулио показалось, что возле лавки толпятся люди. Он видел, как они подходят со всех сторон, колотят в дверь — еще немного, и они ворвутся. В исступлении Джулио бросился к двери, чтобы подпереть ее, чем можно, но видел, что засовы вот-вот упадут под тяжелыми ударами. Старинные вещи, лежавшие на сундуке, кричали: «Ты от нас не уйдешь! Ты такой же, как мы!» «Подождите, — отвечал он им, — мне нужно поставить подпись!» И тут Джулио увидел свою подпись, которая кружилась по полу в адской пляске; он попытался было поймать ее, но она проворно скользнула под шкаф. «Видите! Она сама выскользнула у меня из рук!»
Джулио потушил свет и, не отдавая себе отчета в том, что делает, забрался на табуретку и просунул голову в петлю. Почувствовав, как ему сдавило горло, он хотел было закричать, но не смог.
XIV
Судья велел снять тело Джулио и отнести в Анатомический Институт. Через пару дней его разрешили похоронить на кладбище Латерино[13]. Энрико и Никколо шли за вощеными похоронными носилками, глядя с подозрением на прохожих и внутренне желая, чтобы все поскорее закончилось, словно кто-то мог в любой момент прийти и арестовать их вместе с покойным братом. Могильщик помог положить тело в гроб. Затем подоспел священник — коренастый, лицо загорелое, как у крестьянина, башмаки, подбитые гвоздями. Он облачился в ризу и благословил очередного гостя.
Пол маленькой капеллы был усеян гнилыми лепестками, облетевшими с похоронных венков, братья осторожно ступали, сняв шляпы и глядя под ноги.
— Как же это он? — спросил священник, кивнув в сторону Джулио и слегка покраснев.
— Удавился, — ответил Энрико, Никколо возмущенно промолчал.
Священник распрощался с ними, схватил зонтик и шляпу и поспешил домой: дел, как обычно, было много и нельзя было терять ни минуты.
Небо было желто-серое, а воздух такой влажный, что по железным кладбищенским воротам стекали вниз капли; могильные плиты блестели, верхушки кипарисов исчезали в тумане. Казалось, светало, хотя было уже десять часов утра. Постепенно пелена тумана, окутывавшая Сиену, рассеивалась, вырисовывались синеватые контуры домов, которые затем обретали свой привычный цвет. И, наконец, осталось лишь легкое сверкающее облачко на горизонте.
— У меня ноги подкашиваются, — пожаловался Никколо.
— Да у меня у самого колени ноют — проклятая подагра. Но что поделать, придется потерпеть, — ответил Энрико.
Могильщик подозвал двух товарищей, чтобы те помогли ему опустить гроб. Затем все трое энергично заработали лопатами. Никколо и Энрико молча утирали слезы, им было, о чем горевать: на их глазах исчезало под комьями земли тело брата, принявшего за них страдание, взявшего их грех на себя. Когда все закончилось, Никколо сказал:
— Ты, наверное, пойдешь домой короткой дорогой… Я, пожалуй, прогуляюсь до Сан Марко.
— Хочешь — пойдем вместе?
Никколо не ответил и, ускорив шаг, оставил брата позади. Он брел по улицам, почти касаясь стен домов, зашел купить сигару туда, где не знали, что он только что с похорон. Потом разыскал Корсали и без труда договорился с ним насчет работы — на должность страхового агента всегда нужен человек, хорошо знающий окрестности и готовый к разъездам, так что Никколо был идеальным кандидатом.
У Модесты оставалась еще сотня-другая лир, припасенных на черный день. За ужином Никколо объявил брату:
— Я уже подумал, как жить дальше, о жене и о девочках я позабочусь. А вот тебе придется устраивать свою жизнь самому.
— Пожалуйста, дай мне немного времени!
— Мы с женой подыщем дом поменьше, для тебя там не будет места. Так что сегодня вечером ты должен собрать вещи.
Никколо давно вынашивал это желание, и теперь, после смерти Джулио, его ничто больше не останавливало.
Модеста, при всем своем добросердечном нраве, в глубине души понимала, что муж прав. Энрико не удалось от нее ничего добиться — Никколо зорко следил за ними и пресекал всякие попытки брата завязать разговор:
— Не заставляй меня повторять то, что и так очевидно!
Тут Энрико совсем отчаялся:
— Одолжи мне хоть немного денег на первое время, пока я не подыскал себе комнату!
Никколо был непреклонен. Но тут Модеста не выдержала и, выйдя из комнаты, где ей велено было сидеть, протянула Энрико сто лир.
Тот схватил деньги и побрел прочь из дома, шатаясь, словно пьяный.
Братьям был вынесен оправдательный приговор: во время судебного заседания они в один голос уверяли, что ничего не знали о затее Джулио, и даже пустили слезу. Между тем дела их по-прежнему были плохи: кавалеру Никкьоли стоило огромного труда достать хотя бы половину той суммы, которая значилась в векселе, подписанном его рукой.
Энрико не удосужился разузнать насчет жилья; не прошло недели, как от денег, данных ему Модестой, не осталось и гроша. Он не мог отказаться от своих пристрастий и по-прежнему проводил вечера в кабаке, где плакался, что брат пустил его по миру. Приступы подагры мучили его, и выглядел он очень плохо. Завидев кого-нибудь из бывших клиентов книжной лавки, Энрико начинал выпрашивать деньги, особенно у тех, что побогаче. Господа старались не замечать его или притворялись, что заняты разговором. Но Энрико терпеливо выжидал, затем следовал за ними и, когда подворачивался удобный момент, заставал их врасплох своими жалобами:
— Никколо хватило совести отнять у меня все, выставить меня за дверь. Пусть теперь моя ненависть терзает его заживо, поделом ему! Я ведь и работать-то не могу из-за этой проклятой подагры. Если не верите, вот, взгляните, какие узлы у меня на пальцах, больно смотреть! Да еще и уремия… Я так совсем погибну!
Между тем Никколо после процесса с каждым днем чувствовал себя все свободнее. В прежние времена, собирая антиквариат, он много путешествовал по окрестным городам, повсюду у него были друзья, готовые пригласить на обед — он принимал их предложение как награду за тягости и лишения, которые испытывала его семья. Никколо сильно постарел за последнее время, но к нему вернулось хорошее настроение, он частенько бил в себя в грудь, приговаривая:
— Все-таки я везучий!
По городу он ходил по-прежнему, высоко подняв голову, непринужденно и с достоинством; часто можно было видеть, как он бодро шагал в сторону почты, и глаза его блестели больше, чем раньше.
Нужда неожиданно постучалась в двери дома Гамби, они с горечью вспоминали былое.
Кьярина по-прежнему была помолвлена, но вид у нее был еще более тихий и смиренный, чем раньше; они с Лолой больше не смеялись вдвоем, как когда-то. Каждый день девушки сопровождали Модесту в церковь, где она ставила свечку Мадонне и долго молилась при свете серебряных лампад, склонившись посреди богатого убранства собора и устремив взор к алтарю. Мадонну с трудом можно было разглядеть за блестящим стеклом, однако религиозное благоговение переполняло несчастную женщину: казалось, только благодаря вере в ней еще теплится жизнь.
Никколо была не по душе ее набожность, однако он не решился упрекать жену. Сам же он продолжал существовать в свое удовольствие, излучая всем своим видом жизнерадостность, насмешливую и несколько нервозную. Единственной отдушиной для Никколо стали обеды у знакомых, по возвращении домой, он частенько хвастался отведанными им нынче блюдами перед Модестой, жевавшей краюшку хлеба, у нее после этого кусок в горло не лез. И все же она приободрялась, видя довольство мужа и восхищаясь его изобретательностью. Но вскоре, месяца два спустя после смерти Джулио, радость Никколо омрачилась: его стали мучить сильные мигрени. После них он долго не мог прийти в себя, тут было не до шуток. Вскоре к головным болям прибавилась еще и бессонница — на утро Никколо чувствовал такую слабость, что не мог никуда ехать и проводил целый день в постели; изредка, чувствуя уколы совести, он брел, прихрамывая, в Страховое бюро, чтобы привести в порядок счета. От бессонницы жизнь стала как бы вдвое длиннее: Никколо проводил время в кровати, предаваясь горестным размышлениям, и дни его тянулись чудовищно медленно.
— Что ж, Модеста? Я теперь совсем перестал смеяться, да? Смех затих, и дом наш будто умер вместе с ним. Раньше мой хохот сотрясал его, и всем становилось легче. И почему я не взял с собой сундук из книжной лавки! Было бы хоть куда смотреть, пока я тут лежу… Стоял бы сейчас вот здесь, у стены, украшал бы комнату!
Он повернулся к окну.
— Что-то все плывет перед глазами, сил нет…
Модеста, суетясь вокруг с очередной подушкой, своей заботой только раздражала Никколо, а уж когда она начинала рыдать, то он принимался ее передразнивать, надеясь услышать через открытую дверь звонкий смех племянниц из соседней комнаты.
— Вы меня в могилу сведете своими слезами! Если вы хоть немного меня любите, то делайте, как я говорю!
Однако в другой раз, когда девочки смеялись, он поднимал на них хмурый взгляд и говорил:
— Что это вы себе позволяете?!
Никколо мог часами лежать с удрученным видом, не говоря ни слова. Он надеялся выздороветь к весне — тогда можно будет лечиться горячими ваннами. Но с каждым днем ему становилось хуже.
Теперь бессонные ночи Никколо проходили в бреду. Сначала Модеста не обратила на внимания на его галлюцинации, приняв их за дурной сон, но прибежали проснувшиеся девочки. Все трое стояли вокруг и слушали с ужасом. Никколо бормотал что-то бессвязное и непристойное, ему казалось, что его заперли в книжной лавке и заставляют раскачивать из стороны в сторону тело повесившегося брата. То вдруг ему чудилось, будто его раздели и приказали ползать на четвереньках. И каждый раз он хохотал с пеной у рта. Приступы стали повторяться все чаще, а когда они заканчивались, то голова его раскалывалась от боли. Однако днем Никколо по-прежнему выходил из дома и бродил в одиночестве по улицам, а мальчишки, возвращавшиеся домой после школы, улюлюкали ему вслед. Он не обижался, а, наоборот, был как будто горд, рассказывая жене об этих прогулках, словно вернулся с праздника. Модеста сильно опасалась, как бы он не помутился умом, и умоляла его показаться врачу. Ее слова несколько отрезвляли Никколо, но было заметно, что ему приходится делать огромное усилие над собой. На его побледневшем, осунувшемся лице часто застывала гримаса, как у слабоумного или паралитика.
Как-то ночью, во власти очередного припадка, Никколо свалился с кровати и принялся кричать, сидя на полу посреди разбросанных стульев. Его крик то звучал пронзительно, порывисто, жутко, то превращался в тихий, заунывный стон, то вдруг разливался мягко и радостно, словно песня без слов.
Никколо никак не мог угомониться: в те редкие минуты, когда бред отпускал его, он вспоминал былые дни и жаждал выздоровления, однако через несколько секунд его рот снова кривился в ужасной гримасе, и он корчился в судорогах. Приступ, длившийся почти три часа, был настоящей пыткой для девушек и Модесты. Постепенно бедняга терял голос, его хрип стал похож на сдавленный смех, захлебнувшийся в приливе крови.
XV
О том, что с Никколо случился апоплексический удар, Энрико узнал одним из первых. Новость, как когда-то известие о векселях, застала его в кабаке за стаканом вина. Энрико изменился почти до неузнаваемости: руки и ноги его опухли, а посиневшие губы извергали ругательства и проклятия. Он только почесал свою голову, зудевшую от вшей, и сказал:
— Вот теперь я верю, что есть в мире справедливость! Пытался сжить меня со свету, а сам сдох первым, как собака! Слышали? Мой брат, этот подонок, сыграл в ящик! Посмотрел бы я сейчас на его толстуху-жену, небось, убивается, причитает над ним! Но я не так глуп, как Джулио, чтобы, раскачиваясь под потолком, благословлять всех своими пятками!
— И много тебе, думаешь, еще осталось? — отозвались в темном углу его товарищи. — Уж мы тебя помянем, не сомневайся, если хозяин не пожалеет вина!
— Мне теперь наплевать. Это раньше я жил по-барски…
— Ну, полно строить из себя господина!
— Однако прежде никто из вас не смел обращаться со мной непочтительно!
Энрико отвернулся и выглянул на улицу через стеклянную дверь, приподняв занавеску. В этот момент один из дружков тихонько подкрался и вылил ему за шиворот стакан воды. Тот аж подпрыгнул от неожиданности:
— Что же вы делаете, вы так меня и впрямь в гроб вгоните! Я ведь еще не оправился от уремии!
— Да ну тебя! Опять завел старую песню!
— Я правду говорю, ничего не придумываю!
Видя, что обижаться и спорить бесполезно, Энрико снова плюхнулся на табуретку и, повернувшись к ним спиной, обратился к хозяину, который стоял у входа, прислонившись к двери.
— Вы только представьте себе: сегодня граф, у которого рога на голове, пожалуй, еще больше, чем кошелек, дал мне всего-навсего одну лиру. А ведь я тащился за ним через весь город, умоляя подать на пропитание! Был бы я сам синьором, показал бы таким, как он, у него рога такие длинные, что продавать можно!
— Вот и займись, подходящая для тебя работенка!
Хозяин давно уже обращался к Энрико на «ты», как и все остальные, тому ничего не оставалось, кроме как делать вид, что ему это по душе.
— Я бы подался носильщиком на вокзал или кузнецом в мастерскую, но куда там, с моим-то здоровьем! Да и благородная душа не позволяет…
— А ночуешь ты где?
— Сплю на скамейке в Лицце, под елками. Только вот нынче похолодало, и ревматизм с подагрой совсем меня одолели: кости скрипят и ноют, а от невралгии даже случаются обмороки. Иной раз от боли всю ночь глаз не могу сомкнуть. Тут и одеялом не укроешься: любое прикосновение доставляет мне страдание, стоит тронуть меня пальцем — и я вздрагиваю от боли! Так что я частенько слезаю со скамейки и брожу туда-сюда, глядишь, и не так холодно. Под утро усталость берет свое, и я, наконец, засыпаю, но тут приходят садовники, и снова мне нет покоя!
— Ты бы нашел себе укрытие получше, чтобы хоть в дождь было, где спрятаться!
— Одно время я спал в гротах вдоль Страда ди Пескайа. Однако туда по ночам наведывались влюбленные парочки, а иной раз захаживал справить нужду какой-нибудь бродяга, так что потом невозможно было дышать… В Лицце как-то почище и понадежнее. Вам, как погляжу, не терпится узнать всю мою подноготную!
— Да, спесь из тебя ничто не выбьет — как был заносчив, так и останешься до конца своих дней! Ладно, проваливай отсюда, может, удастся еще выклянчить денег. Поторопись, пока синьоры не разошлись по домам.
Энрико медленно поднялся и крикнул своим друзьям, сидящим в углу:
— Эй, вы ничего не хотите мне сказать?
Те не ответили. Он подошел поближе:
— Я спрашиваю, вы ничего не хотите мне сказать?
Тогда один из них протянул ему сигаретный окурок:
— На, держи! Помогает забить голод!
Энрико взял бычок и стал мусолить во рту. Костюм его давно превратился в лохмотья, от пуговиц остались одни нитки.
Не зная, куда деваться, Энрико направился к кладбищу. Сторож не хотел пускать его, приняв за вора. Тот сильно оскорбился и, по-волчьи оскалив зубы, по-прежнему поражавшие своей белизной, заявил:
— Ты, видно, не узнал меня? Месяц назад я приходил сюда хоронить брата, который покончил с собой. А сегодня я пришел проститься с другим своим братом.
— Как фамилия?
— Никколо Гамби.
— Его похоронили сегодня с утра.
— Где его могила?
— В самом конце, на старом кладбище, которое перекапывают по распоряжению властей. Могила свежая, так что ее легко узнать.
— Хорошо, я пойду.
— Погоди, — сказал сторож по-прежнему недоверчиво. — Я провожу тебя, мне как раз нужно подготовить место для новой могилы.
Накрапывал ледяной дождик, от которого бросало в дрожь. Все старое кладбище было перерыто, надгробные плиты стопками лежали вдоль забора, а кресты были свалены у подножья колонны. Кипарисы благоухали, будто дождь вымывал из них все соки, а птички порхали и садились на ограду.
Сторож приветствовал могильщика свистом и указал Энрико могилу:
— Ты точно уверен? — переспросил тот.
— Разумеется, первую неделю я их все наперечет помню. Ну, так что?
— Я побуду тут еще, чтобы запомнить хорошенько, — отвечал Энрико. Он потоптался вокруг могилы и даже потрогал ногой землю, затем отошел в сторону. Сторож все это время не спускал с него глаз.
Выйдя с кладбища, Энрико остановился возле калитки: он вспомнил, как, казалось бы, совсем недавно распрощался на этом самом месте с Никколо, и каждый пошел своей дорогой. И вот брата уже нет в живых! Руки его сжались в кулак.
Порта Латерина, ведущая к кладбищу, была уже остальных и, казалось, специально была создана, чтобы проносить умерших. Энрико хотел вернуться в город другим путем, однако увидев, что караульный строго смотрит на него из своей будки, все-таки вошел здесь.
Слева он увидел Дом для престарелых. Один старичок, одетый в черное, сидел на ограде спиной к дороге; рядом стояла сестра-монахиня. Ах, если бы за Энрико похлопотал какой-нибудь уважаемый синьор, он бы тоже тут поселился!
Старик живет себе в этом приюте, укрытый от дождя и ветра. А он не ел уже почти сутки и с трудом волочит ноги, так что мочи нет!
Модеста, потеряв мужа, тянула лямку, кое-как зарабатывая на хлеб шитьем, но ей было больно видеть, как Энрико погибает в одиночестве, она частенько подкарауливала его на улице, чтобы всучить пару лир. Тот брал нехотя и продолжал брести, не глядя на нее, она шла рядом, пытаясь его образумить:
— Ты все упрямишься, не хочешь обратиться к Богу. Мой бедный муж умер, даже не исповедовавшись, а Джулио повесился… Им обоим, должно быть, сейчас несладко. Хоть бы ты подумал об их грешных душах.
Энрико только морщился и еще больше скрючивался, чтобы спрятаться от ее слов. Но Модеста не отставала:
— Ты бы пошел к Собору, там тебе помогут. Подождал бы у входа, пока святой отец закончит мессу, все равно весь день бродишь без дела!
Ей думалось, что если Энрико станет просить подаяния у каноников, то рано или поздно и сам зайдет в церковь. Но тот о священниках даже слышать не хотел и отвечал хрипло:
— Хватит, оставь меня!
— Может, тебе постирать что? Ты приходи, я тебе хоть штаны подштопаю, а то совсем износились!
Постояв немного и не дождавшись ответа, Модеста возвращалась домой, расстроенная, но с чистой совестью.
Энрико не навещал их, потому что стеснялся показаться племянницам на глаза. Едва он замечал их на улице, тут же старался скрыться, заходил в какую-нибудь лавку и ждал, пока те пройдут мимо.
— Не хочу осквернить их ангельский взор своим присутствием, — откровенничал он порой с приятелями, сидя в кабаке.
Только на самых пустынных и грязных улицах Сиены он чувствовал себя, как дома: часто останавливался передохнуть на Виа дель Соле, в Саликотто[14], но здесь нужно было быть начеку, чтобы на тебя не капало с железных проволок стираное белье, или чтобы, чего доброго, не огрели случайно брошенным из окна старым башмаком и не окатили сверху помоями. Иногда он мог часами сидеть и смотреть, как развевается на ветру чье-то поношенное тряпье.
В начале февраля его поместили в Богадельню. Как это было ни оскорбительно, он уступил: все лучше, чем помирать с голоду на помойке, глядя, как тощая бездомная собака, дрожа от холода, копается в куче мусора и, найдя обглоданную кость, грызет ее с таким аппетитом, что у него у самого слюни наворачиваются.
В Богадельне Энрико вымыли, дали широкую красную пижаму и шапочку, вышитую синим, и отвели в огромную спальню, где стояло около сотни кроватей и ни одно место не пустовало: всюду были люди, одетые в красное, как и он. Энрико готов был сквозь землю провалиться от стыда и унижения.
За обедом он внимательно разглядывал тарелки соседей: ему все казалось, что другим досталось больше.
Поскольку Энрико был из тех, кто помоложе, ему вместе с другими сотоварищами поручали собирать в саду срезанные ветки олив и относить их на площадку, где росли в теплицах лимоны.
Он беспрестанно думал о племянницах и больше всего на свете жаждал их увидеть, но те не подозревали о его желании и, боясь смутить дядю, целыми днями стояли у ворот, вглядываясь издалека в окна Богадельни и не решаясь войти.
Как-то утром, собирая сухую листву, Энрико сказал своим помощникам:
— Чувствую, недолго мне осталось. Если, когда меня уже не будет, сюда придут мои племянницы — скажите им, что последние свои дни я провел в труде!
Те, подняв глаза от работы, посмотрели на него с недоумением.
— Ведь, как-никак, и у меня есть хоть капля совести. Эти бедные девочки, я знаю, единственные, кто в это верит.
Старики бросили работу и слушали его внимательно. Кто-то хотел улыбнуться, но едва пошевелил губами, будто сведенными судорогой.
— Сколько месяцев не видимся, — продолжал Энрико и про себя подумал: «Небось, если б пришли, не пожалели бы для дяди бутылочку вина».
Между тем Энрико был уже серьезно болен: подагра отравляла его кровь, и как-то ночью он тихо умер от очередного приступа, сам того не заметив. К утру его тело стало ледяным, как мраморный пол трапезной.
Лола и Кьярина положили на постель Энрико два букетика цветов: справа и слева. Сальная свечка сгибалась, догорая алым пламенем, будто на фитилек попала капля крови умершего.
Девушки молились, стоя на коленях по обе стороны кровати, сложив руки рядом с цветами. С их молитвами покойный становился чище, добрее.
На следующий день они разбили глиняную копилку, и на эти деньги Модеста заказала три одинаковых деревянных креста, чтобы поставить их один подле другого на кладбище Латерино.
1918
О РОМАНЕ «ТРИ КРЕСТА»[15]
Роман «Три креста» писался сложно, импульсивно, в конце октября — начале ноября 1918 года, и был опубликован в дни смерти Тоцци в марте 1920 года. Повествование разворачивается в пятнадцати кратких главах. Романное действие сконцентрировано и стремительно движется к финальной катастрофе.
Однако в основе романа на этот раз лежит не автобиографический материал, как в романах «Закрыв глаза» и «Поместье», а случай из сиенской хроники событий. Для этого романа характерно явное тяготение к трагической объективности.
Возможно, источником вдохновения Тоцци была греческая трагедия. Он следует законам театральной структуры, основанной на диалоге и исключающей предшествующие события. Действие начинается, когда экономический крах братьев Гамби входит в заключительную фазу, и фальшивые подписи на векселях уже поставлены. Внимание заостряется на самых ярких, кульминационных моментах драмы. Тоцци соблюдает каноны классической трагедии: единства места — почти все действие происходит в книжной лавке, принадлежащей главным героям, — и единства действия — персонажи показаны редуцированно, отсутствуют отступления и второстепенные события. Время повествования также сконцентрировано и укладывается в несколько месяцев. Персонажей всего девять, они разделены на три группы, по три — в каждой. Главные герои — три брата Гамби: Никколо, Энрико и Джулио, которые живут в условиях полного спада их книжной торговли. Три женщины в доме, две племянницы и жена Никколо Модеста, символизируют простой и чистый домашний мир. Трое посетителей книжной лавки — кавалер Никкьоли, подпись которого на векселях подделывал Джулио, исследователь французского искусства Низар и друг Корсали — представляют традиционное общество с его обычаями, социальный коллективный ракурс, в котором и разворачивается драма. Триадная система персонажей очень точно выявляет логику построения и организации романа, акцентируя тяготение к морализму, более очевидное, чем в предыдущих двух романах. В романах «Закрыв глаза» и «Поместье» структуру определяла более простая схема бинарных оппозиций: протагонисты — антагонисты, — между братьями Гамби, кавалером Никкьоли, другими посетителями лавки постоянно вводится посредничество третьего персонажа. Поиски смысла жизни Джулио, инстинктивность, грубость и непоследовательность двух других братьев противопоставлены показной порядочности и условностям кодекса поведения Никкьоли, Низара и Корсали, неподлинности привычной жизни общества, так что между Джулио и кавалером Никкьоли не существует никакой почвы для столкновений и никакого сходства. Образы братьев имеют моральный смысл, они противопоставлены чистоте, невинности, племянниц, питаемых религиозным чувством, и, в меньшей степени, Модесты.
Эта разъясняющая этико-религиозная тенденция определяет тип повествования. В романе «Три креста», как и в романе «Поместье», автор стремится к полной объективности, с вторжением всезнающего рассказчика, который интерпретирует поведение персонажей с точки зрения этики. Например, в главе VI уточняется, что Лоле и Кьярине таить было нечего («впрочем, таить им было нечего, кроме девичьего стыда и невинности»). Комментарий рассказчика носит ясный и оптимистичный характер, формируя сложную структуру романа. Собственно, такой тип комментария со стороны рассказчика напоминает шпионство, но важно учесть, что, хотя сюжет «Трёх крестов» отличается сильнейшим негативизмом, у автора не пропадает желание создать позитивный импульс. Действительно, как заметил Максиа[16], роман содержит в себе другой роман, не потому, что, как считает этот критик, должно различать историю краха семьи Гамби и рассказ о Джулио, но потому, что сквозь сюжет автор приводит братьев к пограничной точке, в драматическую ситуацию невозврата, когда не остаётся возможности для поисков смысла существования, противостоящих «испытанию смертью». Одновременно автор помещает нас в мир смыслов уже существующих, привычных, мир, который может дать спокойствие и ясность жизни — мир существования Лолы и Кьярины. Создание позитивного полюса повествования доверено автором образам двух девушек, довольно бесцветных, периодически появляющихся на страницах романа, лишенных элементарного психологического анализа. Добавленные автором детали в финальной главе подчёркивают этот позитивный аспект. «Первый роман» разворачивается в закрытой душной книжной лавке или — иногда — в доме трех братьев, где они дают волю своему гурманству, или на улочках Сиены. «Второй роман», напротив, разворачивается в деревне, в которую отправляются три женщины в VI главе, и, что знаменательно, они видят там деревянный крест, «с раскрашенным петухом на верхушке»; другой крест, из слоновой кости, притягивает взгляд Кьярины в заключение той же главы. Во «втором романе» возникают «букеты цветов», которые в конце Лола и Кьярина кладут на кровать умершего Энрико.
С одной стороны, следовательно, мы имеем чёрную пропасть, которую несет в себе человек, находящийся лицом к лицу с «испытанием смертью», с другой стороны, появляется новая составляющая — религия Тоцци, восходящая к католической традиции. Это высокая оценка смирения, простоты, братства, которую мы встречаем в эпизоде с Джакко и телёнком в романе «Закрыв глаза». В романе «Поместье» превалируют ясные уроки Верги, в сочетании с религиозным восприятием мира ветхозаветного типа. В романе «Три креста» отмечается, прежде всего, влияние Достоевского и Пиранделло, в соединении с мировоззрением трактата «О подражании Христу» — книги, которую читает Джулио в романе. От Фомы Кемпийского Тоцци воспринимает призыв, несмотря на горечь — повторить жертву страстей Христовых, но также — и это главное — указание на смирение и простоту живого мира и необходимость всецело довериться истинам евангельского учения. Это послание автор стремится передать через образы Лолы и Кьярины.
Два «романа» соединяются в конце. В черновом варианте романа две девушки появлялись в конце в пассивной роли «сострадательной донны». В окончательном варианте в последней главе, благодаря дополнительным эпизодам, героини уже активно действуют, не только принося цветы и молясь у смертного одра Энрико, но и покупают на свои сбережения, простосердечно хранившиеся в глиняной копилке, три одинаковых креста, и ставят их на могилы трёх братьев. Такой сюжетный поворот не представляется излишним и не указывает открыто на новозаветные истины, как замечает Максия[17]. Напротив, он привносит дополнительные значения: благодаря действиям героинь становится понятно, что смерть трёх братьев понимается в обнадеживающем смысле. Парадоксальным образом, Джулио совершает акт милосердия, принося себя в жертву, и смерть двоих его братьев приобретает смысл. Самоубийство Джулио повторяет страдания на Кресте в сниженном виде, содержит в себе вечное. Как хорошо сказал Максиа, Джулио олицетворяет «современного Христа, уменьшенного, искаженного, доведённого до самоубийства», не без «родового проклятья»[18]. Религиозное измерение, более близкое к православному, и религиозная традиция выявляются только через присутствие в «Трёх крестах» «второго романа» Лолы и Кьярины и благодаря дополнению на полстраницы в конце книги. Это не ограничивает ценность моральной альтернативы, представленной в двух девушках, но служит своего рода «обожению» трёх братьев Гамби, проявляя глубокий смысл их жизни, которую все трое, каждый по-своему, сознательно или бессознательно, искали, не постигая глубин жребия и судьбы. Возможно, критика слишком инстинктивно и слишком утилитарно до сих пор понимала «обожение» Джулио. Оно, несомненно, присутствует в романе как эффективный вектор смысла. Он делается своего рода героем, сознательно приносящим себя в жертву. Двое других братьев оказываются предателями, быстро ему изменившими, словно на воображаемой Голгофе, создаваемой финальными строчками романа, они представляли собой двух разбойников, но, в таком случае, кто из двоих спасётся?
В реальности трудно найти сравнения более убедительные, чем евангельский сюжет. Ни Джулио не является носителем идеи спасения, ни братья не могут полностью идентифицироваться с разбойниками или с предателями Христа. Жизненные ситуации носят более сумбурный, сложный и противоречивый характер.
Роман писался, когда в творчестве Тоцци ещё не было противоречия между «идеологией тайны» и «смыслом жертвы»[19]. Обе концепции ценны не в смысле идеологии, а в смысле стремления углубить перспективу восприятия собственной судьбы. Слова Христа, которые Джулио цитирует из книги «Подражание Христу» в начале IX главы «Fili, sic dicas in omni re: Domine, si tibi placitum fuerit, fiat hoc ita» («Сын мой, да скажешь ты во всяком деле: Господи, если тебе будет угодно, будь здесь и сейчас»), означают необходимость принятия всякого страдания в жизни без возражений, по собственной воле. Единственное, чем может гордиться Джулио, что он, не сопротивляясь, принимает свой жребий. Его последнее желание заключается в изъявлении воли: «Сознавать свое падение — вот в чем высшая сила воли! Это своего рода гордость, вывернутая наизнанку, однако все-таки гордость!.. Нельзя требовать от человека, чтобы он пошел против своей природы, на все воля Господа».
Уместно вспомнить слова Тоцци, сказанные о Пиранделло: «Только в человеческих чувствах смысл существования, и только чувства достойны определять действия и уход из жизни». «Уход из жизни» состоит не в сознании, что он неминуем; или в действиях, которые заканчиваются, а в том, как человек ощущает течение жизни. Несмотря на грубые манеры, на злость и скотство, Никколо и Энрико в высшей степени присуще ощущение жизни. Роман не заканчивается самоубийством Джулио, но продолжается еще в двух главах, посвящённых братьям Никколо и Энрико. Страницы, описывающие смерть братьев, — самые возвышенные в книге.
В момент наиболее острого прозрения Джулио Тоцци использует прием расщепления сознания, как у Пиранделло. Приём заключается в разъединении личностного глубинного бытия и социального. Как и Достоевский, Тоцци дал собственную интерпретацию подобного расхождения между сущностью и кажимостью, а также свой способ изображения экстремальных ситуаций, ситуаций «на пороге». В X главе, в монологе Джулио, «безысходный бред» является результатом познания бытия, связанного с соблюдением определенных условностей, бытия, «сжатого жёсткой регулярностью» требований социальной адаптации. Джулио познал самого себя, то есть признал свою «слабость» в приверженности правилам и установкам коллективного существования. С этой точки зрения, возможны два пути: «безразличие» или принятие страдания, которого требуют законы общества, принятие смерти. Второй путь, которого требуют от него «другие», ему самому кажется «предпочтительным и неизбежным», необходимым без видимых рациональных объяснений, его захватывает тёмная сила судьбы.
С другой стороны, размышляя, Джулио постепенно утверждается в необходимости смерти и формулирует это достаточно убедительно, проясняя всё для себя самого. «Сознание, — рассуждает Джулио, — это не индивидуальный факт, а коллективный продукт». Это рассуждение перекликается со знаменитым отрывком из IX главы романа Луиджи Пиранделло «Покойный Маттиа Паскаль», в котором утверждается, что сознание — это не «замок», а «площадь», то есть соединение и влияние многих отношений, проекция коллектива, зависимость от других («Однако мои близкие — это часть меня самого, а потому всякое личное искупление для меня бессмысленно: я в ответе не только за свою совесть, но и за грехи других». Продолжать такую жизнь не имело смысла, смерть была единственным выходом. «Это они хотят, чтоб я умер. А я покорно следую их воле и даже не думаю сопротивляться. Почему?» Он не находил причины…»).
«Другие» «заставляют» его умереть, потому что составляют часть его сознания, существуют внутри него, с их законами и с объяснением вины, которая провоцирует их насилие. Джулио сдаётся, глубоко сознавая, что эти законы несправедливые и ничтожные, что кодексы поведения являются неподлинными и условными. И всё же нет другой возможности, потому что либо придётся стать безразличным и выключиться из общения («вынужден буду идти, куда глаза глядят, прочь из этого дома»), либо принять решение, которое реализует идею выхода из сообщества и смерти. Такой выбор связан с «другими», и его поступок становится коллективным деянием, осуществляющим влияние извне, отбирающим у него всякое пространство индивидуальной свободы («Проявить волю — значит преодолеть нерешительность и апатию, показать другим свое истинное лицо, порвать с прошлым»). Человек вне социального общения был бы полностью свободен, но такое условие совпадает с необходимостью смерти. В одном смысле или в другом, рациональным путём спастись невозможно: или стремиться к абсолютной свободе и смерти или принимать социальные законы с их кодексами, со страданием, которое помогает их изменениям, и со смертью, которую требуют вина и искупление. Монолог Джулио существует внутри индивидуальной логики, экзистенциальной и пессимистичной, где социальное измерение имеет только негативный смысл.
Трудно увидеть в позиции Джулио утверждение позитивной «идеологии жертвы», для которой «единственная возможность, существующая для людей — эффективная коммуникация вне стереотипов, — то есть согласие со стороны одного и принятие другими «принесения его в жертву». Принесение жертвы становится необходимым фактором «стабилизации общества», «единственной альтернативой насилию против других и против взаимного угнетения» (Ф. Феррони). В действительности, смерть Джулио не имела позитивных мотиваций, тема жертвоприношения братьев также не вполне раскрыта, не их спасение интересовало Джулио, его интересовало собственное понимание смерти. Ему пришлось принять смерть как рок, как шаг; которого невозможно избежать. Необходимость принесения себя в жертву — чувство, которое формирует сокровенную часть души, её «тайну», и которое может быть психологически развёрнуто не как идеология. «Другие», существующие внутри нас и обусловливающие наше сознание, непобедимы, даже если мы считаем себя вправе аннулировать их законы. Привычные герои Тоцци противоречиво отвергают и принимают отцовскую модель, следовательно, принцип власти, а с ним и социальные нормы. По сути, они не в состоянии поставить им преграду. Противоречие вызывает паралич, все следуют своей судьбе без «какого-либо сопротивления» и теряют все возможности, в том числе и перспективу смерти — «истины чувства». Джулио же открывает для себя единственную возможность и перспективу в конце своего монолога, и, следовательно, оказывается во власти исключительно важного психологического и экзистенциального прозрения.
Размышления Джулио продолжаются в XIII главе. Незадолго до самоубийства, гуляя с Низаром, он подтверждает и углубляет значение своего предыдущего монолога, признавая, что жил в «условной реальности», но «начать всё с начала» он не хочет. «Опыт смерти» изолирует его от общества и помогает оценить свободу, предлагая ему посмотреть на вещи новым взглядом («теперь уже никогда моя жизнь не будет такой, как прежде»). С другой стороны, убивая себя, он подчиняется традиционным правилам внешнего добродетельного мелкобуржуазного поведения. Теория Пиранделло о том, что жизнь не соприкасается с кристаллической структурой социального существования, развивается Тоцци и уточняется его собственной культурой отрицания. Так, подвижность изменяющейся жизни в размышлениях Джулио — одно из «чувств» («Было очевидно, что в основе его «я» лежали не чувства, которые менялись каждую минуту, а некие постоянные величины, на почве которых рождались эти самые чувства»).
Джулио чувствует, что соприкосновение со смертью открывает самый глубокий уровень существования, но не рационализирует это. Известно только, что он совершает это открытие: «силы подсознания настолько сильны, насколько темны». Смысл жертвы и смысл тайны души представлены одновременно, более того, одно рождает второе. В глубокой религиозности тайна души и чувство совпадают, что всегда демонстрирует идеологический дискурс Тоцци.
С другой стороны, в жизни Никколо и Энрико смысл жертвоприношения отсутствует совершенно. Автор обращается к теме деградации персонажей и использует метафоры, характеризующие животных: хрюкать, реветь по-ослиному, оскаливаться и т. д., характеризуя поведение двух братьев. Однако и для них не исключена возможность искупления. В них обоих ощущается нежная забота о племянницах, это чувство — отдушина человечности, которая в перспективе смерти подтверждается и расширяется.
Никколо живёт в сильном напряжении, всегда волнуется, громко кричит, любит посмеяться над семейными событиями, но не видит смысла признать свою вину ни до, ни после самоубийства брата. Когда приближается его смерть, в бреду ему видится, что он толкает тело повешенного. Так проявляются загнанные внутрь него угрызения совести, а с ними возникает желание наказания и искупления («Ему казалось, что его заперли в книжной лавке и заставляют раскачивать из стороны в сторону тело повесившегося брата. То ему вдруг чудилось, будто его раздели и приказали ползать на четвереньках. И всякий раз он хохотал с пеной у рта.»).
Смех, самое яркое проявление весёлости, сопровождает его по закону противодействия до последнего вздоха («Постепенно бедняга терял голос, его хрип был похож на сдавленный смех, захлебнувшийся в приливе крови»). И это моральное измерение придает трагичность его концу, оставляя в стороне натуралистическое описание и медицинскую патологию.
Энрико также исчерпывает бездонную чашу крестных испытаний деградацией, опускается, живя в грязи и бедности, без дома или убежища, продолжая постоянно клясть в трактире «мерзавца» Никколо и «безмозглого» Джулио, для которого бедность находилась в сакральной связи со смертью: «Но уж я-то не так глуп, как Джулио, чтобы, раскачиваясь под потолком, благословлять всех своими пятками!» (Курсив — автора статьи).
В несчастье он не меняется, оставаясь в плену собственной наглости и абсолютной изолирующей слепоте. Хозяин точно подмечает: «Да, спесь из тебя ничто не выбьет — как был заносчив, так и останешься до конца своих дней!». Когда Модеста уговаривает его обратиться к Богу, он строит ей «противную гримасу». И всё же он имеет гордость, и достоинство, прислушиваясь к собственным чувствам. Поэтому он отказывается пойти с Модестой в дом: «Энрико не навещал их, потому что стеснялся показаться племянницам на глаза». И в трактире он заявляет: «Не хочу осквернить их ангельский взор своим присутствием». Этот грубиян обладает тонкой душой.
В богадельне, чувствуя приближение смерти, он говорит соседям: «— Чувствую, недолго мне осталось. Если, когда меня уже не будет, сюда придут мои племянницы — скажите им, что последние свои дни я провел в труде!
Те, подняв глаза от работы, посмотрели на него с недоумением.
— Ведь, как-никак, и у меня есть хоть капля совести. Эти бедные девочки, я знаю, единственные, кто в это верит».
В конце романа показаны молящиеся племянницы. Образы Лолы и Кьярины придают смысл жизни братьев. Они выражают идеологическую точку зрения автора. Обретение трёх крестов невозможно воспринимать иначе как знак судьбы. Женщины в своей простоте и простодушии это поняли. Присутствие Бога в большей степени ощущается в деградации Никколо и Энрико, чем в показной добродетельности кавалера Никкьоли и Низара. Другая цитата из «Подражания Христу» может прекрасно охарактеризовать Никколо и Энрико: «Non est creatura tam parva et vilis, quae Dei bonitatem non rapresentet» («Нет такого бедного и низкого создания, которое обошла бы милость Господа»).
«Подражание Христу» повествует о мистической оставленности человека Богом, его отказ от себя самого, отказ от науки и теоретического знания во имя превосходства простоты и смирения. Роман показывает оригинальное идеологическое приближение Тоцци к традиции, скажем так, православной в отличие от католицизма. Долго ожидаемые разъяснения позитивных идеологических мотиваций поступка Джулио указывают на зависимость его чувства от тёмных сил. Квинтэссенцией существования является парадоксальное мистическое, религиозное измерение.
Когда в начале XIII главы Джулио вышел из дому, чтобы больше не возвращаться, его внимание привлекла хромая. Русские формалисты называли такой прием «свободным мотивом», замедляющим «окончательное решение», то есть то, что протагонист должен совершить («Джулио оделся и вышел. Утро было прохладное и влажное. Он остановился возле церкви Сан Мартино, наблюдая, как какая-то хромая женщина, одной рукой, опираясь на палку, а другой хватаясь за перила, взбирается по ступенькам. Раньше он никогда не замечал в людях столько упорства и нетерпения в сочетании с радостным ожиданием. Должно быть, сама судьба послала Джулио эту встречу: видя чувства этой простой, неряшливой женщины, он отчаивался еще больше».)
Эта хромая открывает религиозную «тайну». В её энергии, в её жадном и сильном, почти радостном нетерпении Джулио чувствует возможность понимания, но затем оно исчезает и нарастает разочарование. Сила послания Тоцци состоит именно в загадочности этой тайны.
Бог в душе Джулио проявляет себя в экзистенциальном беспокойстве. Но как быть с уроком «Подражания Христу»? Сам по себе роман о трёх братьях Гамби, исключая, разумеется, племянниц, не является назидательной историей спасения. Роман намекает на возможность спасения. В нём обозначен, в драматической форме, предел индивидуальной деградации Никколо и Энрико и экзистенциального отчаяния Джулио.
Сквозной мотив еды как возмещения и замены эмоционального удовлетворения постепенно устраняется (эта тема присутствовала также в романе «Закрыв глаза» и рассказе «Муж и жена»). В центре повествования вновь оказывается мир глубоких сущностей.
«Три креста» — роман напряжённый, быстрый, самый компактный из всего, написанного Тоцци. Повествуя о внутреннем переломе личности, о «тайне» жизни, это произведение не имеет ни таинственного очарования романа «Закрыв глаза», ни пессимизма и надежд романа «Поместье».
Романо Луперини[20]
Перевод с итальянского Екатерины Фейгиной
ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ф. ТОЦЦИ
Закрыв глаза (Con gli occhi chiusi, 1913, опубл. 1919)
Три креста (Tre croci, 1918, опубл. 1920)
Поместье (Il podere, 1919, опубл. 1921)
Эгоисты (Gli egoisti, 1920, опубл. 1923)
Адель (Adele, незаконч., опубл. 1979)
«Записки служащего» (Ricordi di un impiegato, 1911, опубл. 1920)
Сборник Молодость (Giovani, опубл. 1920) и др.
«Звери» (Bestie, 1913, опубл. 1917)
«Зеленая волынка» (La zampogna verde, 1911)
«Город Дев» (La città delle Vergine, 1912, опубл. 1913) и др.
«Слепок» (L’incaico, опубл. 1923) и др.
БЛАГОДАРНОСТИ
Издательство благодарит директора Итальянского Института культуры в Москве профессора Адриано Дель Аста и атташе по вопросам культуры Раффаэлло Барбьери за поддержку в реализации проекта.