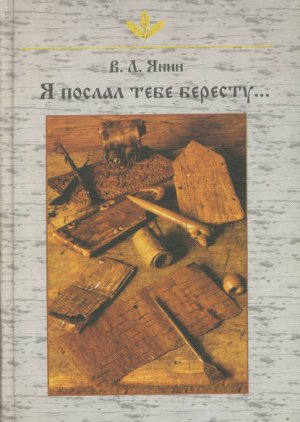
Спасибо, что вы выбрали сайт ThankYou.ru для загрузки лицензионного контента. Спасибо, что вы используете наш способ поддержки людей, которые вас вдохновляют. Не забывайте: чем чаще вы нажимаете кнопку «Благодарю», тем больше прекрасных произведений появляется на свет!
Посвящается светлой памяти Ивана Георгиевича Петровского, неизменному вниманию которого Новгородская экспедиция обязана многими успехами
Рецензенты: доктор исторических наук Б. А. Колчин, кандидат исторических наук М. X. Алешковский.
Предисловие
В этой книге рассказывается об одном из самых замечательных археологических открытий XX века — находке советскими археологами новгородских берестяных грамот.
Первые десять грамот на березовой коре были обнаружены экспедицией профессора Артемия Владимировича Арциховского в 1951 году. С тех пор прошло двадцать четыре года, и каждому из этих лет, наполненных активными и волнующими поисками новых грамот, сопутствовал неизменный успех. В иные годы археологи привозили из Новгорода в своем экспедиционном багаже до шестидесяти — семидесяти новых берестяных писем. Сейчас, в январе 1975 года, когда пишутся эти строки, коллекция новгородских грамот на бересте включает пятьсот двадцать один документ.
За двадцать четыре года образовалась целая библиотека книг и статей, посвященных берестяным грамотам. Ее основу составляет подробное, многотомное (вышло уже шесть томов) издание грамот, осуществляемое А. В. Арциховским. Находка берестяных грамот вызвала отклик ученых разных специальностей — историков и языковедов, литературоведов и экономистов, географов и юристов. И в написанных этими учеными книгах и статьях на десятках языков открытие берестяных грамот названо сенсационным.
В самом деле, эта находка имела все основания для сенсации. Она открывала почти безграничные возможности познания прошлого в тех отделах исторической науки, где поиски новых видов источников признавались безнадежными.
Издавна историки, занимающиеся исследованием средневековья, завидуют историкам новейшего времени. Круг источников, находящихся в распоряжении исследователя, например проблем истории XIX века, многообразен и практически неисчерпаем. Официальные государственные акты и мемуары, статистические сборники и газеты, деловая переписка и частные письма, произведения художественной литературы и публицистики, картины и здания, этнографические описания и целый мир дошедших до наших дней предметов материальной культуры — этот обширный комплекс свидетельств способен дать ответ на любой вопрос, возникающий перед исследователем.
И львиная доля свидетельств принадлежит здесь слову. Слову — рукописному и напечатанному, размноженному в тысячах экземпляров, стоящему на полках библиотек и архивов. Чем ближе к нашим дням, тем разнообразнее состав исторических источников. Когда в 1877 году поставленная под острие телефонной диафрагмы с припаянной к ней иглой телеграфная лента сказала голосом Эдисона «алло, алло», к слову написанному добавилось слово звучащее, а с изобретением звукового кино движение истории стала фиксировать и говорящая кинолента. Источников по истории новейшего времени так много, что исследователи, каждый из которых не в состоянии познакомиться с ними в полном объеме, ищут способов делать правильные выводы по сравнительно небольшим группам документов или же прибегают к помощи счетно-решающих устройств, постепенно накапливая и классифицируя в них нужную информацию.
Иначе обстоит дело с источниками, позволяющими заглянуть в отдаленные века нашего прошлого. Здесь чем дальше в глубь столетий, тем меньше письменных свидетельств. Историк, работающий над проблемами русской истории XII–XIV веков, располагает лишь летописями, сохранившимися, как правило, в поздних списках, очень немногими счастливо уцелевшими официальными актами, памятниками законодательства, редчайшими произведениями художественной литературы и каноническими церковными книгами. Собранные вместе, эти письменные источники составят ничтожную долю процента от количества письменных источников XIX века. Еще меньше письменных свидетельств уцелело от X и XI веков. Малочисленность древнерусских письменных источников — результат одного из страшнейших в деревянной Руси бедствий — частых пожаров, во время которых не однажды выгорали целые города со всеми их богатствами, в том числе и книгами.
Однако историку средневековья приходится постоянно преодолевать не только трудности, связанные с малочисленностью источников. Эти источники, кроме того, отражают прошлое односторонне. Летописцы совершенно не интересовались многими вещами, волнующими современных историков. Они отмечали лишь те события, которые были для них необычными, не замечая привычной глазу и уху бытовой обстановки, с детства окружавшей их. Медленно развивавшиеся исторические процессы, хорошо видимые только с большого расстояния, проходили мимо их внимания. Зачем записывать то, что известно каждому? Зачем останавливать внимание читателей — на том, что знает уже не только он, но знали его отец и деды? Иное дело — война, смерть князя, выборы епископа, постройка новой церкви, неурожай, наводнение, эпидемия или солнечное затмение.
То же самое касается и официальных актов. Вот пример. Многие столетия Новгород заключал договор с каждым приглашаемым на его престол князем. Князь целовал крест городу в том, что будет свято соблюдать существующий порядок взаимоотношений между собой и боярской властью. Но послушайте, как звучит формула этой присяги: «На сем ти, княже, хрест целовати к всему Новугороду, на чем целовали первой князи, и дед твой, и отец твой. Новгород ти держати по пошлине, како держал дед твой, и отец твой». «Пошлиной» здесь называется традиционный порядок (как «пошло» с давних пор). И князю и новгородцам этот порядок был хорошо известен. Его не считали нужным снова и снова излагать в договоре.
Между тем для современного историка важнее всего реконструкция именно той картины, которая каждый день открывалась взору средневекового человека. Его интересует, как жили и о чем думали много веков тому назад люди, принадлежавшие к разным классам и сословиям. Каковы были источники их существования? Какие исторические процессы воздействовали на них? Какими были их взаимоотношения? Чем они питались? Как одевались? К чему стремились?
При попытке ответить на эти вопросы кое-что удавалось сделать с помощью скрупулезного анализа тех немногочисленных крупиц, которые были рассыпаны по страницам древних рукописей. Однако чаще всего решение проблемы повисало в воздухе из-за недостатка письменных свидетельств. Существовали ли какие-нибудь способы расширить круг письменных источников по истории средневековой Руси? Еще лет пятьдесят тому назад на такой вопрос ответили бы отрицательно.
Потом за дело взялись археологи. Они расчистили остатки древних жилищ, собрали обломки посуды, изучили остатки древней пищи, узнали, какими приемами пользовались наши предки при изготовлении оружия и орудий труда, украшений и утвари. Они восстановили в деталях окружавшую средневекового человека обстановку, чтобы для нас яснее стал он сам, подобно тому, как если бы мы зашли в незнакомый дом и, не застав в нем хозяина, составили представление о нем по его вещам.
Археологические раскопки во многом дополнили летопись, прояснили фон летописного рассказа. Но возможности археологии не беспредельны, и раскопки не оживили человека, не заставили зазвучать его голос, хотя сделали наши представления о нем более правильными. По-прежнему остается справедливой мысль поэта: «Молчат гробницы, мумии и кости, — лишь слову жизнь дана: из древней тьмы, на мировом погосте, звучат лишь Письмена».
Поэтому эффект находки берестяных грамот был потрясающим. Одна за другой из земли извлекались грамоты, в которых люди, умершие пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот и девятьсот лет тому назад, писали о своих повседневных заботах, в каждой строке фиксируя то, что никогда не попадало ни в летописи, ни в акты, ни в церковные книги. И самое важное заключалось в том, что это были не случайные, редкостные находки, а категория массовых вещей, исчисляемых при раскопках десятками и сотнями. Архив ценнейших исторических сведений, записанных самими средневековыми людьми, оказался лежащим под ногами современных людей, под асфальтом и газонами ныне существующего большого города.
Публикуя первые десять грамот, А. В. Арциховский писал: «Чем больше будут раскопки, тем больше они дадут драгоценных свитков березовой коры, которые, смею думать, станут такими же источниками для истории Новгорода Великого, какими для истории эллинистического и римского Египта являются папирусы». Сейчас, когда число берестяных грамот достигло пяти сотен, особенно хорошо можно оценить эти слова.
Важно и то, что берестяные грамоты найдены именно в Новгороде — городе Александра Невского, Садка и Василия Буслаева. Новгород был одним из крупнейших центров древней Руси, отличаясь тремя еще не до конца изученными особенностями. Он не был монархией, княжеством, каким были Киев, Владимир или Москва, а был республикой. «Великой русской республикой средневековья» называл его Маркс. Город был теснейшим образом связан с главными центрами международной торговли и сам был одним из таких центров. И, наконец, в отличие от большинства древнерусских столиц, он был центром громадной округи, где городская жизнь почти полностью сосредоточивалась в самом Новгороде. Все эти особенности нуждались в тщательном изучении, которое до находки берестяных грамот было чрезвычайно сложным.
Сенсационным было и само повторяющееся с каждой новой находкой берестяной грамоты чудо конкретно-исторического открытия, одно из самых поразительных чудес человеческого познания. Через много веков мы первыми знакомимся с людьми, память о которых полностью истреблена временем спустя какое-нибудь столетие после их смерти. На протяжении многих веков, ни один человек на Земле не знал о них, прошедших по жизни, казалось бы, без следа. И вот теперь мы слышим голоса этих людей, вникаем в их заботы, видим их перед собой.
В истории Новгородской экспедиции годы открытия берестяных грамот были самыми волнующими. Эти годы сформировали коллектив исследователей, для которых получение берестяных писем из других веков стало обычным делом, сохранив при этом всю остроту первооткрытия. Этот коллектив не стареет, пополняясь молодыми исследователями. И если они имеют все основания завидовать тем, — кому довелось когда-то первыми держать в своих руках исписанный берестяной лист, то нам — участникам экспедиции 1951 года — приходится завидовать тому, кто с таким же волнением возьмет в руки тысячную берестяную грамоту.
После первого издания этой книги прошло десять лет. За эти годы найдено много новых грамот, появилось немало исследований, заставивших иначе понять и некоторые документы из старых находок. Возникли и новые проблемы, порожденные открытиями последних лет. Рассказ о берестяных грамотах нуждается в продолжении, которое читатель и найдет здесь.
1975 год, январь
Глава 1
Новгород, Дмитриевская улица, раскопки…
В течение двенадцати лет почтовым адресом Новгородской экспедиции Академии наук СССР и Московского университета было: «Новгород, Дмитриевская улица, археологические раскопки…». Сейчас это место легко найти. Большой квартал, ограниченный улицами Дмитриевской, Садовой, Тихвинской (ныне ул. Комарова) и Декабристов, застроен новыми многоэтажными домами. Издалека видно стоящее на углу Садовой и Дмитриевской здание универсального магазина. Начинаясь почти от самого места раскопок, над Волховом повис мощный стальной мост.
А в 1951 году, когда археологи размечали сетку будущего раскопа, здесь был пустырь, заросший бузиной и лопухами. Из бурьяна торчали ржавые обрывки искореженной арматуры, трава кое-где пробивалась сквозь сплошные развалы кирпичной щебенки, которая покрывала пустырь, оставленный фашистскими факельщиками на месте цветущего города. Шел седьмой послевоенный год. Новгород с трудом поднимался из руин, разравнивая и застраивая пожарища. Но уже видны были контуры будущего города. Росли не только новые здания, но и темпы нового строительства. Нужно было спешить и археологам, чтобы до прихода строителей успеть взять от древнего города все, что может уничтожить Новгород современный. Так и повелось: экспедиция разбивала новые раскопы, а на старых, полностью исчерпанных археологами, уже поднимались дома.
Разумеется, когда мы забивали первые колышки, размечая раскоп, никто из нас не думал, что с этим раскопом будут связаны двенадцать лет жизни и работы, что небольшой участок, который было решено здесь раскопать, раздвинет свои стены на всю площадь квартала. Правда, каждый из нас был уверен, что великие открытия ожидают нас именно здесь, на этом пустыре. Без такой уверенности не стоит начинать экспедицию, потому что только энтузиазм рождает успех.
Как выбирается место для раскопок? Известно ли заранее, что будет найдено на новом месте? Конечно, никто не может до раскопок сказать, какие именно здесь откроются шедевры искусства или невиданные древние предметы. Археологии всегда свойствен азарт. Но из этого не следует, что археологи приходят на новое место с завязанными глазами, испытывая лишь свою удачливость. У каждой экспедиции имеется научная задача, одним из важнейших условий для решения которой бывает правильный, всесторонне обоснованный выбор места раскопок.
Начало раскопок на Дмитриевской улице. Снимок сделан в 1951 году за две недели до открытия берестяных грамот.
Главной задачей Новгородской экспедиции в 1951 году было изучение типичного для средневекового Новгорода жилого района. Археологам предстояло изучить городскую усадьбу, установить ее планировку, назначение различных типов построек, проследить историю усадьбы на протяжении возможно длительного времени. Кроме того, необходимо было собрать коллекцию характерных для новгородского слоя древних вещей и установить по возможности точные даты этих типичных предметов, чтобы в дальнейшем с их помощью датировать слои в будущих раскопках.
До начала раскопок было хорошо известно, что планировка средневекового Новгорода существенно отличалась от современной. Нынешняя прямоугольная сетка улиц была заведена только во второй половине XVIII века при Екатерине II, когда многие русские города перекраивались на петербургский манер. Наш квартал и ограничивающие его улицы Дмитриевская, Садовая, Тихвинская и Декабристов возникли около двухсот лет тому назад. Сохранились в небольшом количестве планы Новгорода середины XVIII века, снятые еще до перепланировки. На них старые, уже не существующие улицы носили те названия, которые постоянно встречаются в древних летописях при описании средневековых событий. Квартал, расположенный на углу Садовой и Дмитриевской улиц, на этих планах прорезала с севера на юг одна из крупнейших улиц древнего Новгорода — Великая, а с востока на запад в пределах того же участка Великую пересекали две средневековые улицы — Холопья и Козмодемьянская.
Перепланировка города в XVIII веке оказалась делом благодатным для современных археологов. И сейчас и в древности жилые постройки тяготеют к красным линиям улиц, а в некотором удалении от улиц располагаются дворы. Следовательно, чем ближе к уличной мостовой, тем больше в земле остатков домов и наполнявшей их утвари. В древности дома были чаще всего деревянными и их фундаменты не отличались мощностью. Поэтому строительство нового дома почти не затрагивало лежащих ниже древних остатков. Когда в XVIII–XIX веках началось массовое строительство городских кирпичных домов, то для их капитальных оснований и подвалов рыли глубокие котлованы, уничтожая древние напластования порой на значительную глубину. Новые долговечные здания, если даже под ними и сохранялись остатки древних построек, надолго делали их недоступными для изучения. Но в XVIII веке новые улицы прошли по другим участкам, они чаще всего легли на места древних дворов и пустырей, а скопления древностей, наиболее интересные для археологии, оказались на территории новых дворов, где угроза их разрушения стала минимальной.
Раскоп, разбитый в 1951 году, был назван Неревоким. С таким именем он и приобрел свою славу. Для жителя современного Новгорода наименование «Неревский» ничего не скажет. Но в средние века оно бы точно обозначило район, где были начаты эти археологические работы. Новгород в средние века делился на пять концов — самоуправляющихся поселков, которые в своей совокупности и образовывали федерацию, известную всей Европе под названием «Новгород». Каждый из этих поселков был как бы «государством в государстве». Решая совместно важнейшие вопросы государственного управления, пять новгородских концов постоянно враждовали друг с другом, часто выступая один против другого с оружием в руках, заключая временные политические союзы, объединяясь и снова ссорясь. Концы назывались Плотницким, Славенским, Людиным, Загородским и Неревским. На территории древнего Неревского конца некогда и были расположены Великая, Холопья и Козмодемьянская улицы.
Древний план Новгорода, изображенный на Знаменской иконе конца XVII века.
Избранный для раскопок участок находился в 250 метрах от новгородского Кремля. В непосредственной близости к нему располагались по крайней мере шесть древних церквей. Сейчас их нет, но они существовали еще в XVIII веке и обозначены на планах того времени. Возле одной из этих церквей, согласно летописному рассказу, в древности собиралось вече Неревского конца.
Таким образом, приступая к работам на Дмитриевской улице, экспедиция имела представление о том, что было здесь в средние века. Привлекала нас и мощность культурного слоя, достигавшего на углу Дмитриевской и Садовой улиц толщины в семь с половиной метров.
Что такое культурный слой?
Представьте, что вы стоите на краю гигантского Неревского раскопа, работы в котором ведутся на уровне напластований XI века. Нужно, правда, оговориться, что никто из участников экспедиции не мог никогда увидеть этого раскопа в полном объеме. Работы велись поочередно на отдельных участках двенадцать лет. Но теперь, завершив их, мы можем мысленно вообразить всю открывшуюся картину.
Общая площадь раскопа достигает гектара — десяти тысяч квадратных метров. Раскоп, имея сложную форму, тянется с севера на юг 150 метров, а с запада на восток ПО метров. С севера на юг, образуя плавный изгиб, раскоп пересекают мощные мостовые Великой улицы. Мы можем совершить по ней прогулку. Если мы будем двигаться с юга на север, то через тридцать метров выйдем на перекресток с такой же мощенной сосновыми плахами Козмодемьянской улицей, а еще через сорок метров Великую пересекут мостовые Холопьей улицы. Задумав прогуляться по всем трем открывшимся в раскопе улицам, мы к моменту возвращения проделаем путь в полкилометра, потому что общая протяженность мостовых, относящихся к одному и тому же времени, составляет в раскопе 250 метров. Путешествуя по древним улицам, мы видели по сторонам остатки деревянных домов, сохранившиеся на высоту одного-трех венцов, усадебные частоколы, уцелевшие в своей нижней части, остатки ворот, ведущих во дворы восьми усадеб. Сходя с мостовой, мы ставили ногу на пласты щепы XI века, а вернувшись с прогулки, можем отряхнуть со своей обуви золу девятьсотлетней давности. Я не отметил только одного обстоятельства: чтобы проделать эту прогулку, нам нужно было спуститься вниз на шесть-семь метров.
Все эти мостовые и остатки срубов, стоя на краю раскопа, мы видели как бы с высоты птичьего полета. И вот здесь самое время ответить на вопрос, который каждому археологу был задан на раскопках по меньшей мере несколько сот раз: «А как же все это ушло под землю?»
Да никак! Ни одно из виденных нами бревен не уходило под землю. Напротив, земля наросла на них. Одним из важных для археологии свойств человеческой жизнедеятельности является обязательное образование культурного слоя везде, где человек живет более или менее продолжительное время.
Человек приходит поселиться на новом месте, где до него ни одна нога не ступала. Он строит дом, обтесывая бревна и бросая на землю щепки. Он топит печь и, выгребая из нее золу, выбрасывает ее рядом с домом. Он ест мясо и швыряет себе под ноги кости. Он разбил горшок и черепки втоптал в грязь. Он потерял монету. У него прохудился сапог, и за порог полетела рваная подметка. Потом у него сгорел дом. Человек разровнял пожарище, оставив в земле обгорелые бревна нижних венцов, привез песку, чтобы присыпать золу и головешки, и построил новый дом, снова оставив вокруг него слой свежепахнущих щепок. В древности не вывозили на поля навоз, и он оставался лежать под пожарищами хлевов. Так из года в год медленно, но непрерывно происходит образование культурного слоя на местах человеческих поселений. Археологи шутят, говоря, что чем некультурнее человек, тем толще оставленный им культурный слой.
Однако в действительности мощность этого слоя зависит от двух обстоятельств — от интенсивности человеческой жизнедеятельности и от степени сохранности в почве органических веществ. Именно органические вещества — дерево, кость, кожа, остатки пищи, одежды — составляют главную часть отходов человеческого существования. Там, где они не сохраняются, культурный слой, как правило, тонок, хотя бы поселение существовало длительное время. В Новгороде органические вещества сохраняются хорошо, поэтому культурный слой толст. Но не везде степень сохранности «органики» там одинакова. На Неревском конце эта сохранность идеальна. Бревна восьмисотлетней давности, извлеченные из культурного слоя, можно и сейчас использовать для временных построек, а по древним уличным настилам свободно могла бы пройти, не повредив их, грузовая автомашина.
Вид с севера на перекресток Великой я Холопьей улиц. Мостовые, хорошо видные на снимке, сооружены и 1268 году.
Не подвергаясь гниению, культурный слой на Неревском конце рос в средние века на один сантиметр в год. За пятьсот пятьдесят лет, с середины X века до конца XV века, он вырос здесь на пять с половиной метров, а за следующие четыреста лет еще на два метра. Причиной прекрасной сохранности «органики» является повышенная влажность нижних слоев новгородской почвы. Эта влажность предохраняет попавшие в землю органические вещества от доступа воздуха. А без воздуха процессов гниения не происходит, поскольку отсутствуют условия для существования микроорганизмов, вызывающих разрушение органических веществ.
Внимательный читатель, несомненно, спросит, почему же в позднейшее время новгородский культурный слой рос вдвое медленнее. В самом деле, слои XVI–XX веков в Новгороде не отличаются особой мощностью. Отвечая на этот вопрос, нужно назвать две главные причины. С XVI века на долгий срок упало значение Новгорода, его население уменьшилось, а жизнь горожан стала менее деятельной. Однако важнее другое обстоятельство. Новгород почти на всей его площади подстилают материковые слои плотной водонепроницаемой глины. Поэтому влага талых снегов и дождей до отказа насыщала его почву. Только зимой и жарким летом в нем было сухо. Но вот в XVII или XVIII веке новгородцы потеряли терпение. Они соорудили разветвленную систему деревянных водоотводов — дренажей, которая на некоторых участках функционирует и до сегодняшнего дня. Дренажи осушили верхние слои, отводя из них воду в Волхов. В эти слои открылся доступ воздуху и вместе с ним микроорганизмам. Верхние слои продолжали откладываться достаточно интенсивно, но так же интенсивно в них разрушались все органические вещества.
Итак, до XVII века в Новгороде было очень сыро. Вообразите себе, сколько эта особенность доставляла хлопот и расходов новгородцам, вынужденным, например, излишне часто мостить улицы. Уличные мостовые сооружались из толстых, до 25–30 сантиметров в сечении, сосновых плах, доставляемых в город за десятки километров, и постоянно поддерживались в чистоте. Мостовую настилали так, чтобы она несколько возвышалась над прилегающими участками. Но проходило двадцать — двадцать пять лет, культурный слой по сторонам мостовой нарастал на 20–25 сантиметров, и грязь в распутицу начинала переползать на мостовую, заливая ее. Нужно было делать новый настил, хотя старый мог бы служить еще не один десяток лет. Новую мостовую устилали прямо на старую. И так за 550 лет образования древнейшего культурного слоя с середины X века до конца XV века здесь, на Великой и соседних улицах, легли один на другой двадцать восемь ярусов мостовых — гигантская поленница из идеально сохранившихся сосновых настилов. И если подсчитать, то окажется, что за двенадцать лет раскопок расчищено было не 250 метров уличных мостовых, а 250 метров, умноженных на 28. Семь километров уличных настилов древнего Новгорода — вот результат этого умножения!
Семь километров уличных настилов. Остатки 1100 деревянных построек. Семьдесят тысяч кубометров культурного слоя, накопившегося за тысячу лет. И все на одном гектаре древнего города.
И несколько десятков тысяч древних вещей — деревянных и железных, кожаных и костяных, каменных и стеклянных, медных и свинцовых… Между толщиной культурного слоя и количеством находок, таким образом, существует прямая зависимость.
Еще одно важное обстоятельство во многом определило выбор места для раскопок в 1951 году. Вдоль Дмитриевской улицы тогда была выкопана глубокая канава для укладки водопроводных труб. Эта траншея прорезала поленницу настилов древней Холопьей улицы, которая в 1948 году неподалеку была также задета небольшим раскопом Новгородского музея. Поэтому еще до начала работ мы имели возможность уточнить не очень тщательные планы XVIII века и знали абсолютно точно, на каких именно участках под землей залегают мостовые этой улицы. Знать это было важно не только потому, что экспедиция с самого начала получала основание точно ориентироваться «а плане древнего города, но и еще по одной причине.
Экспедиции предстояло не только добыть из земли тысячи древних предметов, но и разобраться в их взаимосвязи. Расчистить остатки древнего жилища — это только небольшая часть дела. Нужно еще точно определить время существования этого жилища, выяснить, какие из найденных около него древних вещей происходят из него, а какие не имеют к нему прямого отношения, установить, какие из древних построек одновременны нашему жилищу, какие относятся к более раннему времени, а какие сооружены позднее. Как все это делается? И причем тут уличные мостовые?
Итак, культурный слой растет постепенно и последовательно. Сначала, если говорить о Новгороде, на нетоптанную до того почву, которую археологи называют материком, ложатся наслоения десятого века, затем одиннадцатого, двенадцатого и так далее до наслоений сегодняшнего дня. Значит, уже сама глубина залегания предмета, однажды попавшего в землю, может служить показателем его относительной древности. Вещи, попавшие в землю сто лет назад, залегают неглубоко, а те, которые были брошены пятьсот лет назад, лежат на большой глубине. Если, конечно, на этом месте не копали ям и не перемешали слой так, что древние вещи оказались наверху, а новые под ними. Впрочем, ям новгородцы копать не любили все из-за той же влажности почвы. Погребов там не было: они постоянно заливались бы водой. Колодцев почти не рыли: им угрожало бы загрязнение водами, омывающими культурный слой. Как правило, копали лишь канавки частоколов и ямы верей — столбов, крепящих ворота.
Так чего же проще? Зная, что культурный слой рос по сантиметру в год, достаточно измерить глубину залегания каждого предмета и переводить сантиметры в годы! Нет, рассуждая так, мы ошибемся. Представьте себе, что на протяжении одного столетия на раскапываемом участке было четыре пожара, а в следующем столетии — ни одного. Значит, в первые сто лет владельцы усадьбы четыре раза привозили строительный материал, тесали бревна, ставили срубы, четыре раза разравнивали пожарище, четыре раза привозили землю, чтобы засыпать золу и угли. А в следующее столетие ничего такого не было. Из-за четырех пожаров в первые сто лет отложились все полтора метра культурного слоя, а затем только полметра. В среднем получается сантиметр в год, но этот сантиметр — условный. Как же быть?
На помощь приходит сама структура культурного слоя. Культурный слой своему составу вовсе не однороден. Когда строится дом, то строительная щепа ложится на землю тонким слоем. Когда дом сгорает, то зола и угли разровненного пожарища также слоем покрывают двор усадьбы. Когда пожарище присыпают землей, то эта земля слоем ложится поверх золы. Когда же здесь копают яму, выброшенная из ямы земля ложится поверх засыпки пожарища. Если разрезать культурный слой по вертикали, то разрез окажется подобным гигантскому слоеному пирогу. Этот разрез археологи постоянно видят и „читают“ на четырех стенах раскопа. Сотни лежащих одна на другой прослоек позволяют правильно членить слой на хронологические уровни.
Совершенно ясно, что все предметы и сооружения, связанные с одной и той же прослойкой, относятся к одному и тому же сравнительно небольшому промежутку времени. Но как определить это время?
Здесь глазной основой всегда были сами вещи, (найденные в прослойках. С течением времени набор окружающих человека вещей меняется. С развитием моды исчезают одни типы украшений и появляются другие. С развитием техники выходят из употребления менее совершенные инструменты и появляются более совершенные. С изменением торговых связей на место одних видов привозных вещей приходят другие их виды. Изучая древние вещи, археологи научились их датировать. Правда, точность датировок не могла быть очень высокой, поскольку любая вещь может употребляться порой не один десяток лет. Однако, сопоставляя приблизительные даты разных предметов, найденных в одной и той же прослойке, возможно было датировать эту прослойку с точностью до ста лет. Можно ли добиться большей точности? Вот здесь-то и приходят на помощь уличные мостовые.
Двадцать восемь ярусов, лежащих один на другом уличных настилов, как бы образуют шкалу гигантского градусника, к каждому делению которого привязываются определенные прослойки культурного слоя. Благодаря этому мы получаем возможность говорить, что древние вещи, обнаруженные в такой-то прослойке, попали в землю, например, во время существования пятнадцатого яруса мостовой, что такой-то дом построен одновременно с сооружением четырнадцатого яруса мостовой, а другой дом сгорел в тот период, когда новгородцы ездили по мостовой, тринадцатого яруса.
Основываясь на приблизительных датах прослоек и связывая их с мостовыми, мы получим право утверждать, что, например, к XIV веку относится шесть ярусов мостовых, а к XIII веку только пять. Уже в этом заложена существенная возможность уточнить хронологию наших прослоек и вещей, датируя их не целым столетием, а началом, концом или серединой столетия.
Эти три обстоятельства — историческая характеристика места, толщина культурного слоя и наличие уличных мостовых — заставили экспедицию остановиться на районе Дмитриевской улицы. Все открытия были впереди, в том числе и то, о котором необходимо рассказать здесь же.
Каждому человеку хорошо известно, что, спилив дерево, можно легко установить его возраст. Для этого нужно сосчитать годичные кольца, хорошо видные на поперечном разрезе ствола.
Если дерево спилено в 1975 году, а годичных колец на нем тридцать, значит его рост начался в 1945 году. Но далеко не каждый человек знает, что, изучая годичные кольца дерева, срубленного много лет и даже веков тому назад, можно установить год, в который это дерево было срублено.
Культурный слой Новгорода, отложившийся за десять веков интенсивной жизни города, расчленен на прослойки, соответствующие разным ярусам моего них. На стенах раскопа археологи читают многие подробности застройки древних — усадеб.
Оказывается, годичные кольца, отложившиеся на дереве в разные годы, имеют разную толщину. Это зависит от множества причин — было ли лето влажным или засушливым, жарким или холодным, — а в конечном счете, от уровня солнечной активности и циркуляции атмосферы, то есть условий, действующих одинаково на больших пространствах земного шара. Чередование тонких и толстых колец создает неповторимые сочетания. Если, например, на срезе дерева очень тонкое годичное кольцо повторилось через семь лет, затем через четыре года, через девять лет и через двенадцать лет, можно быть уверенным, что такого чередования ни разу не встретится на срезах деревьев, срубленных в другие столетия, но оно повторится на срезах всех деревьев, росших одновременно с нашим в одном и том же достаточно большом районе земного шара.
Метод дендрохронологии — так называется способ определения дат по годичным кольцам — с успехом был применен в Америке. Там этому способствовало существование в лесах некоторых пород исключительно долголетних деревьев. Дугласова пихта и желтая сосна растут по тысяче лет, а возраст гигантской калифорнийской секвойи достигает 3250 лет. По срезам этих деревьев были рассчитаны циклы чередования из года в год климатических условий Америки за три тысячи лет вплоть до сегодняшнего дня. После этого достаточно было сравнить срез любого найденного при раскопках хорошо сохранившегося бревна с такой шкалой, чтобы установить его точную дату.
В наших лесах столь долговечных деревьев нет, а шкала, составленная на американском материале, для нас не годится — это ведь совершенно иной район земного шара. И БОТ В Новгородской экспедиции возникла идея заменить отсутствующую у нас секвойю поленницей уличных мостовых. В самом деле, мостовые настилались через каждые двадцать — двадцать пять лет, а использовались для них плахи столетних деревьев. Значит, сравнивая годичные кольца разновременных плах, можно постепенно нарастить их показания и получить единую шкалу чередования климатических условий для длительного времени», по крайней мере — для шестисотлетнего периода с десятого по пятнадцатое столетие, от которых дерево в Новгороде сохраняется достаточно хорошо.
За эту трудоемкую и кропотливую работу взялись археолог Борис Александрович Колчин и ботаник Виктор Евграфозич Вихров. Они изучили и сравнили между собой тысячи добытых в раскопках образцов древних бревен. Для начала им удалось получить относительную дендро-хронологическую шкалу.
Это значит, что экспедиция узнала взаимное старшинство древних мостовых. Выяснилось, например, что мостовая седьмого яруса была построена на четырнадцать лет раньше мостовой шестого яруса, а мостовая тринадцатого яруса — спустя тридцать лет после мостовой четырнадцатого яруса. Абсолютных дат еще не было.
Так выглядит «новгородская секвойя» — гигантская поленница древних мостовых, годичные кольца которых позволили датировать новгородские постройка с точностью до одного года.
Потом удалось получить и абсолютные даты. Для этого Б. А. Колчин изучил бревна, использованные некогда в фундаментах некоторых новгородских церквей, время постройки которых было достоверно известно из летописей. Эти сведения, заняв свое место на общей шкале, дали датировку всем даже самым отдаленным от них участкам шкалы. Уже на этой стадии экспедиция обрела уверенность в полном успехе воссоздания дендрохронологической шкалы, поскольку имелась возможность проверить ее при помощи летописи. Летопись много раз упомянула большие пожары в Неревском конце, называя годы этих пожаров. Но следы пожаров сохранились и в земле: некоторые мостовые оказались буквально вылизанными языками пламени и разрушены огнем настолько, что новгородцам требовалось сразу же настилать улицы заново. Когда дендрохронологические даты таких новых мостовых сравнили с годами летописных пожаров, совпадение оказалось поразительным!
А потом работа по составлению дендрохронологической шкалы вступила в завершающую стадию. Долгие годы велись поиски бревен XVI–XVIII веков, которые позволили бы довести шкалу до сегодняшнего дня и проверить ее еще раз отсчетом от современных деревьев. Экспедиция искала новые образцы уже не в земле, а в старинных постройках и в лесах, заполняя постепенно четырехвековой разрыв. День, когда была создана единая шкала из всех участков, стал днем торжества нового метода датировок.
Благодаря этой работе любое находимое при раскопках бревно хорошей сохранности получает абсолютную дату. А это значит, что каждый сруб, каждая мостовая лежат теперь в земле как бы с ярлыком, на котором написано: построено из бревен, рубленых в таком-то точно обозначенном году. Это значит, что все прослойки, связанные с мостовыми и срубами, можно теперь датировать с небывалой до сих пор в археологии точностью. Это значит, наконец, что все вещи, извлеченные из датированных прослоек, могут точно назвать свой возраст, вернее, время, когда они попали в землю: ведь в землю чаще всего попадают не новые вещи, а предметы, уже отслужившие свой век и выброшенные за ненадобностью.
В рассказе о выборе места раскопок, о культурном слое и о датировании вещей до сих пор ни разу не упомянуты берестяные грамоты. А этот рассказ имеет к ним самое прямое отношение. «Новгород, Дмитриевская улица, раскопки…» — это не только почтовый адрес, по которому сотрудникам экспедиции шли письма от их родных и знакомых. Это также адрес, по которому экспедиция получила первое берестяное письмо из глубины столетий, а вслед за ним еще четыре сотни берестяных писем. 402 грамоты из 521 были найдены в прямоугольнике, ограниченном улицами Дмитриевской, Садовой, Тихвинской и Декабристов. И рассказ о выборе места раскопок, о культурном слое и о датировании древних вещей — это также рассказ о выборе места, где будет сделано выдающееся открытие, о культурном слое, в котором столетиями лежали берестяные грамоты, чтобы потом стать достоянием науки, и о датировании одной из категорий древних вещей — берестяных грамот.
И еще несколько слов о самих раскопках. Новгородские раскопки — это большое современное предприятие, которое оглушает впервые попавшего на них человека непрерывным шумом транспортеров и гулом лебедок. В годы, когда работа Новгородской экспедиции приобретала наибольший размах, на раскопках бывало занято одновременно до трехсот землекопов, а наблюдения за слоем и находками вели свыше ста сотрудников и студентов. Новгородская археологическая экспедиция, впервые начавшая свои исследования еще в 1929 году (сперва в области, а с 1932 года в самом городе), давно уже стала крупным центром научной работы и студенческой учебной практики. Это также большой дружный коллектив людей, любящих свое дело и умеющих хорошо работать. И кроме того, это — один из новых центров культурной жизни Новгорода, каждую пятницу гостеприимно открывающий свои двери на еженедельные отчеты для всех, кто интересуется прошлым Новгорода и успехами в его изучении. И не только по пятницам. Интерес к работе экспедиции мы ощущаем каждодневно. Наверное, только дождливые дни проходят без того, чтобы раскопки не посетила одна, а то и несколько экскурсий. Учителя и школьники, — студенты и туристы — привычные наши гости. Есть у экспедиции и постоянные друзья, в основном из новгородской молодежи, которые сообщают нам о случайных находках древностей. И в коллекции берестяных грамот уже не одно письмо найдено ими.
Новгородские раскопки — большое современное предприятие, наполненное шумом машин и гулом голосов.
Глава 2
«Я послал тебе бересту, написав…»
Раскопки площадью в гектар! О таких масштабах работ в 1951 году никто не мог и мечтать. Тогда, в среду 12 июля, в квартале на Дмитриевской улице было начато вскрытие сравнительно небольшого участка в 324 квадратных метра. Небольшой раскоп позволил точно определить направление древней улицы и установить окончательно, что именно эта улица в средние века называлась Холопьей. Один за другим расчищались уличные настилы, вычерчивались планы первых открывавшихся в раскопе срубов. Студенты учились вести записи в полевых дневниках и упаковывать находки. Находок попадалось немного, а интересных и совсем мало. Однажды только были найдены подряд две свинцовые печати XV века — посадничья и архиепископская. Начальники двух участков, на которые был поделен раскоп, без особого воодушевления спорили, кому из них срывать земляную бровку, разграничивающую их владения и мешающую маневрировать транспортерам. Снимать бровку в знойный день — не самое интересное занятие: пыль летит по всему раскопу, и почему-то в этих бровках никогда не бывает порядочных находок.
И надо же тому случиться, что первая грамота на бересте была обнаружена как раз под злополучной бровкой! Нашла ее ровно через две недели после качала раскопок — 26 июля 1951 года — молодая работница Нина Федоровна Акулова. Запомните это имя. Оно навсегда вошло в историю науки.
Нина Федоровна Акулова.
Грамота была найдена прямо на мостовой XIV века, в щели между двумя плахами настила. Впервые увиденная археологами, она оказалась плотным и грязным свитком бересты, на поверхности которого сквозь грязь просвечивали четкие буквы. Если бы не эти буквы, берестяной свиток был бы без колебаний окрещен в полевых записях рыболовным поплавком. Подобных поплавков в новгородской коллекции насчитывалось уже несколько десятков.
Акулова передала находку Гайде Андреевне Авдусиной, начальнику своего участка, а та окликнула Артемия Владимировича Арциховского. Гайда никаких сколько-нибудь связных речей не произносила, будучи занята только мыслями о хрупкости свитка. Она и руководителю экспедиции показала грамоту из своих рук — как бы не поломал!
Главный драматический эффект пришелся на долю Артемия Владимировича. Оклик застал его стоящим на расчищаемой древней вымостке, которая вела с мостовой Холопьей улицы во двор усадьбы. И стоя на этой вымостке, как на пьедестале, с поднятым пальцем он в течение минуты на виду у всего раскопа не мог, задохнувшись, произнести ни одного слова, издавая лишь нечленораздельные звуки, потом не своим голосом выкрикнул: «Премия — сто рублей!» и потом: «Я этой находки ждал двадцать лет!». А затем, как сказала Н. Ф. Акулова спустя много лет с экрана кино, «тут такое началось, будто человек народился».
Вероятно, тогда, 26 июля, А. В. Арциховский был единственным, кто в какой-то мере предвидел будущие находки. Это сейчас, когда из земли уже извлечена пятисотая грамота, мы хорошо поняли величие дня находки первого берестяного свитка. А тогда открытие первой грамоты произвело впечатление на остальных именно своей уникальностью, тем, что грамота была просто единственной.
Впрочем, единственной она оставалась только один день. 27 июля нашли вторую грамоту, 28 июля — третью, а на следующей неделе — еще три. Всего до конца полевого сезона 1951 года было найдено десять берестяных грамот. Эти грамоты залегали в земле на разной глубине, одни — в слоях XIV века, другие — в слоях XII века. Большинство их сохранилось в обрывках. Таким образом, уже в 1951 году сделалось ясным одно из главнейших качеств новой находки. Открытие берестяных грамот не было связано с обнаружением какого-нибудь архива. Нет, они встречались в слое подобно таким привычным для археолога массовым категориям находок, как, например, железные ножи или стеклянные бусы. Берестяные грамоты были привычным элементом новгородского средневекового быта. Новгородцы постоянно писали и читали письма, рвали их и выбрасывали, как мы сейчас рвем и выбрасываем ненужные или использованные бумаги. Значит, и в будущем нужно искать новые берестяные грамоты.
Искать в будущем! Но ведь экспедиция работала в Новгороде не первый год. До войны раскопки, начавшись в 1932 году, продолжались с перерывами шесть сезонов, а после войны большие раскопки в течение двух лет велись в 1947 и 1948 годах на месте, примыкавшем к древней вечевой площади, пока в 1951 году они не были перенесены в Неревский конец. Почему же не находили грамот до 26 июля 1951 года? Может быть, их не искали? Может быть, их выбрасывали, не замечая на них букв? Ведь и в Неревском раскопе один исписанный свиток приходится на несколько сот пустых обрывков бересты.
Этот вопрос нужно четко разделить на два. Первый: искали ли раньше берестяные грамоты? Второй: могли ли их пропустить в прежних раскопках? Попытаемся ответить на оба вопроса.
Для того чтобы целеустремленно искать что-либо, необходимо быть твердо уверенным в том, что предмет поисков действительно существует. Было ли известно до 1951 года, что в древности писали на бересте? Да, такие известия имеются. Бот главнейшее из них.
Выдающийся писатель и публицист конца XV — начала XVI столетия Иосиф Волоцкий, рассказывая о скромности монашеского жития основателя Троице-Сергиева монастыря Сергия Радонежского, жившего во второй половине XIV века, писал: «Толику же нищету и нестяжание имеяху, яко в обители блаженного Сергия и самые книги не на хартиях писаху, но на берестех». Монастырь при Сергии, по словам Иосифа Волоцкого, так не стремился к накоплению богатств и был так беден, что даже книги в нем писались не на пергамене, а на бересте. Кстати, в одном из старейших русских библиотечных каталогов — в описании книг Троице-Сергиева монастыря, составленном в XVII веке, упоминаются «свертки на деревце чудотворца Сергия».
В некоторых юридических актах XV века встречается выражение: «…да и на луб выписали и перед осподою положили, да и велись по лубу». Конечно, луб — не береста. Но это сообщение важно потому, что оно лишний раз говорит об использовании в качестве писчего материала разной древесной коры.
В музеях и архивах сохранилось довольно много документов, написанных на бересте. Это позднейшие рукописи XVII–XIX веков; в их числе и целые книги. Так, в 1715 году в Сибири в сохранившуюся до наших дней берестяную книгу записывали ясак, дань в пользу московского царя. Этнограф С. В. Максимов, видевший в середине XIX века берестяную книгу у старообрядцев на реке Мезени, даже восхищался этим необычным для нас писчим материалом. «Только один недостаток, — писал он, — береста разодралась, от частого употребления в мозолистых руках поморских чтецов, по тем местам, где находились в бересте прожилки».
Артемий Владимирович Арциховский. Снимок 1952 года.
Известны были и отдельные древние грамоты на бересте. В Таллине до войны хранилась берестяная грамота 1570 года с немецким текстом. О берестяных грамотах в Швеции XV века сообщал автор, живший в XVII столетии; известно также о позднем их употреблении шведами в XVII и XVIII веках. В 1930 году на берегу Волги близ Саратова колхозники, роя силосную яму, нашли берестяную грамоту XIV века.
А вот любопытный отрывок, переносящий нас в другое полушарие: «…В этот момент березовая кора внезапно развернулась во всю свою длину, и на столе оказался пресловутый ключ к тайне, в виде какого-то чертежа, по крайней мере, в глазах наших охотников». Это отрывок из приключенческого романа американского писателя Джемса Оливера Кэрвуда «Охотники на волков», опубликованного в русском переводе в 1926 году. Действие романа происходит на бескрайних просторах Великой Канадской равнины.
Впрочем, об американской «исписанной бересте» русскому читателю было хорошо известно и раньше. Вспомним «Песнь о Гайавате» Лонгфелло в прекрасном переводе И. А. Бунина:
Глава, из которой взяты эти стихи, называется «Письмена».
Наконец, и в более отдаленные времена употребление бересты как писчего материала не было редким. Существует много свидетельств об использовании для письма древними римлянами коры и луба разных деревьев. В латинском языке понятия «книга» и «древесный луб» выражались одним словом: liber.
Об употреблении бересты для письма ученые до находки в 1951 году новгородских грамот не только знали, но даже обсуждали вопрос о том, каким способом в древности береста подготавливалась к употреблению. Исследователи отмечали мягкость, эластичность и сопротивляемость бересты разрушению, а этнограф А. А. Дунин-Горкавнч, который в начале нынешнего столетия наблюдал подготовку бересты у хантов, писал, что для превращения ее в писчий материал бересту кипятят в воде.
Итак, об употреблении в древности бересты в качестве писчего материала исследователям — историкам, этнографам и археологам — было хорошо известно. Более того, вполне закономерными были догадки о широком употреблении бересты для письма. Вспомните, что пишет Иосиф Волоцкий. Он связывает употребление бересты с бедностью монастыря. Значит, береста отличалась дешевизной по сравнению с пергаменом, а позднее — с бумагой. О том, что бумага и особенно пергамен стоили в древности очень дорого, сохранилось много свидетельств. Познакомимся с одним из них.
Писец, переписавший ка рубеже XIV и XV веков евангелие для Кирилло-Белозерского монастыря, по окончании своего труда записал свои расходы ка материал: «…на кожу преже того дал тожь три рубли…». Три рубля по тому времени были значительной суммой. Как мы потом узнали из берестяных грамот, за один рубль в XIV веке можно было купить коня. Недаром ненужные книги, написанные на пергамене, не выбрасывали, а тщательно соскабливали с них текст, чтобы снова использовать пергамен для письма.
Если береста заменяла пергамен именно из-за своей доступности, простоты выделки и дешевизны, то и пользоваться берестой в древности должны были во много раз больше, чем дорогими пергаменом и бумагой. А если так, то и шансов на находку такой бересты при раскопках должно быть очень много. Нашли ведь даже не при раскопках, а при рытье силосной ямы золотоордынскую берестяную грамоту!
И вот здесь появляется первое «но», которое настойчиво толкало исследователей в их поисках на неправильный путь. Все, без исключения, книги и грамоты на бересте, которыми наука располагала до 26 июля 1951 года, были написаны чернилами. А это значит, что шансы найти бересту, сохранившую свой текст, сокращались до минимума.
Длительное нахождение исписанной чернилами бересты в земле бесследно уничтожает ее текст. Береста сохраняется в двух случаях — когда к ней нет доступа влаги, как это было под Саратовом, или же когда к ней нет доступа воздуха. В Новгороде и других русских городах, в культурном слое которых береста сохраняется неплохо, очень сыро. Там уже на глубине полутора-двух метров слой до предела насыщен грунтовыми водами, изолирующими все нижележащие древние предметы от доступа воздуха. А попробуйте сунуть в воду исписанный чернилами лист и посмотрите, что из этого получится.
Только однажды в культурном слое русского города были найдены древние чернильные тексты. В 1843 году в московском Кремле при рытье погребов под лопатой землекопа оказался наполненный водой медный сосуд, в котором лежало восемнадцать пергаменных и два бумажных свитка XIV века. И только на семи листках, попавших в самую середину тугого комка, частично сохранился текст. Я. И. Бередников, издавший эти документы на следующий год после их обнаружения, писал: «Находясь под землею в наполненном водою сосуде, они более или менее повредились, так что на некоторых письмен вовсе не приметно».
Между прочим, существует часто повторяемое мнение о том, что якобы еще в 1894 году известному русскому фотографу Е. Ф. Буринскому удалось прочесть эти потухшие тексты. Однако — странное дело — ни в одном из изданий древних документов результаты работы Буринского не отразились вовсе. В действительности попытка Буринского успехом не увенчалась. Вот что пишет по этому поводу организатор работ по прочтению грамот академик Николай Петрович Лихачев: «Фотограф Буринский под моим наблюдением фотографировал один из пергаменных листов. Строки постепенно выявлялись, но содержание оставалось непонятным. Когда я заподозрил, что Буринский подрисовывает негативы, я отошел от дела, не препятствовал Буринскому напечатать снимок с частично „восстановленного“ им документа, но разочаровался и не ходатайствовал о продлении срока пребывания грамот в Петербурге».
Конечно, со временем кремлевские грамоты будут прочтены. И этот случай приведен здесь лишь для того, чтобы показать, как трудно прочитать побывавшие в земле чернильные тексты. А ведь кремлевские грамоты находились в сосуде и практически не размывались движущейся влагой. Что же можно увидеть на свитках, которые, оказавшись непосредственно в земле, испытывали на протяжении столетий непрекращающееся воздействие постоянно текущей воды!
Я хорошо помню, как в 1947 году, впервые попав на новгородские раскопки, мы — тогда студенты первого курса — после рассказа А. В. Арциховского об использовании в древности бересты для письма с надеждой и сожалением разворачивали берестяные ленты, которых встречалось немало. И в каждой из них предполагали вымытый всеми пролившимися над Новгородом за пятьсот лет дождями, испорченный до полной безнадежности в прочтении важнейший исторический документ. Но эта надежда по существу своему была верой в чудо. Возможную находку берестяных текстов представляли тогда иначе.
Найти исписанную бересту, сохранившую свой текст, думали тогда, можно лишь в редчайших условиях полной ее изоляции от влаги. Не так ли были найдены все древние чернильные тексты — от египетских папирусов, сохранившихся в гробницах, до рукописей Мертвого моря, два тысячелетия пролежавших в пещерах. Значит, нужно в самом раскопе искать каких-то невероятных почвенных ситуаций, каких-то естественных или искусственных «тайников», «карманов», чудом оказавшихся недоступными ни влаге, ни воздуху. Ничего подобного в новгородском слое не встречалось.
И вот когда 26 июля 1951 года в Новгороде нашли первую берестяную грамоту, оказалось, что на ее написание не было потрачено ни капли чернил.
Буквы ее текста одна за другой процарапаны, точнее — выдавлены на поверхности бересты каким-то заостренным инструментом. И пятьсот восемнадцать берестяных грамот, найденных вслед за первой, также были процарапаны, а не написаны чернилами. Только две грамоты оказались чернильными. Одну нашли в 1952 году, и до сих пор она разделяет судьбу кремлевских грамот, с величайшим сопротивлением поддаваясь усилиям криминалистов прочитать ее. Эта грамота найдена тринадцатой. Другая чернильная грамота № 496 обнаружена в 1972 году. Она заслуживает особого рассказа, и к ней мы еще вернемся.
Потом было обнаружено много и самих инструментов для писания на бересте — костяных, металлических и даже деревянных стержней с острием на одном конце, с лопаточкой на другом и с отверстием тля подвешивания к поясу. Иногда такие «писала» — так их называли в древней Руси — находили в сохранившихся кожаных чехлах. Оказалось, между прочим, что археологи встречались с такими стержнями часто, давно и на территории всей Руси — в Новгороде и Киеве, в Пскове и Чернигове, в Смоленске и Рязани, на множестве более мелких городищ. Но как только не окрещивали их в публикациях и музейных описях — и «булавками», и «инструментами для обработки кожи», и «ложечками для причастия», и даже «обломками браслетов». Предположение об истинном назначении этих предметов просто никому не приходило в голову.
Точно так же никто и не думал, что берестяная грамота в условиях влажного культурного слоя — практически вечный документ, что искать грамоты нужно не в особых, отличных от обычных для Новгорода почвенных условиях, а именно среди бересты, в сотнях обрывков встречающейся в насыщенных влагой средневековых новгородских слоях. Более того, чем скорее берестяной документ попадал в землю, тем лучше обеспечивалась его сохранность. В самом деле, если береста долго хранится на воздухе, она коробится, трескается и разрушается. Попав во влажную почву свежей, она сохраняет свою эластичность, не подвергаясь дальнейшему разрушению. Это обстоятельство оказывается чрезвычайно важным и для датировки найденных в земле берестяных грамот. В отличие от прочных, например, металлических предметов, долго находившихся в употреблении и попадавших в землю спустя многие годы после их изготовления, у берестяных грамот практически нет разницы между временем их написания и временем попадания в землю, вернее, эта разница минимальна.
Орудия письма на бересте. В центре — наиболее распространенный тип металлического «писала», слева — костяное «писало» с рельефным изображением звериной морды, справа — кожаный чехол для «писала».
На первый поставленный выше вопрос можно ответить так. Да, берестяные грамоты искали, но не ожидали массовых, характерных для культурного слоя находок, а надеялись на открытие редчайших, чудом сохранившихся документов.
Это только теперь становятся понятны некоторые не очень ясные сообщения источников. Например, такое. Арабский писатель Ибн ан-Недим сохранил для позднейших историков свидетельство, записанное им со слов посла одного кавказского князя в 987 году: «Мне рассказывал один, на правдивость которого я полагаюсь, что один из царей горы Кабк послал его к царю руссов; он утверждал, что они имеют письмена, вырезаемые на дереве. Он же показал мне кусок белого дерева, на котором были изображения; не знаю, были ли они слова или отдельные буквы».
Белое дерево, на котором вырезались письмена, — это, скорее всего, и есть грамота, процарапанная на березовой коре. Но поди угадай, что это такое, если ты ничего не знаешь о том, что берестяные грамоты были процарапанными.
Процарапанность оказалась важнейшим свойством, предохранившим навеки тексты грамот от уничтожения. С письмами и записками в древности обращались не лучше, чем сейчас. Их рвали и бросали на землю. Их затаптывали в грязь. Ими по прочтении растапливали печи. Но от брошенного в грязь современного бумажного письма уже спустя самый короткий срок не останется и следа, а процарапанное берестяное письмо, однажды попав в грязь, в благоприятных условиях пролежит в полной сохранности многие столетия.
Новгородцы в древности буквально ногами ходили по грамотам, брошенным на землю. Мы это хорошо знаем, во множестве обнаружив самые грамоты. Но это явление даже в XII веке обращало на себя внимание новгородцев. Сохранилась интересная запись беседы новгородского священника середины XII века Кирика с епископом Нифонтом. Кирик задал Нифонту много разнообразных вопросов, волновавших его в связи с богослужебной практикой. В их числе был такой: «Нет ли в том греха — ходить по грамотам ногами, если кто, изрезав, бросит их, а слова будут известны?». Здесь, конечно, речь не может идти о дорогом пергамене, который не выбрасывали, а выскребали и снова использовали. Здесь говорится о бересте.
Но если все это так, если по грамотам буквально ходили ногами, то много ли исписанной бересты пропущено в прежних раскопках? Раньше чем ответить на этот вопрос, нужно обратить внимание на несколько немаловажных обстоятельств.
Прежде всего, берестяные грамоты — это, как правило, не просто куски бересты, на которых нацарапаны надписи. Уже отмечено, что для письма бересту специально подготавливали, ее варили в воде, делавшей кору эластичнее, ее расслаивали, убирая наиболее грубые слои. Мы знаем теперь, что подготовленный для письма лист бересты чаще всего обрезался со всех сторон и имел аккуратные прямые углы. Наконец, надпись в подавляющем большинстве случаев наносили на внутренней стороне коры, то есть на той поверхности бересты, которая всегда оказывается снаружи, когда берестяной лист сворачивается в свиток.
А это значит, что берестяная грамота своими техническими признаками выделяется из кучи случайно надранной бересты, стружек и заготовок для лукошек, коробов и туесов. Во всех археологических экспедициях существует нерушимое правило — сохранять для внимательного просмотра все, что имеет на себе следы обработки рукой человека. Значит, вероятность пропуска хорошо выраженной берестяной грамоты немногим больше, чем вероятность пропуска любого другого древнего предмета, например поплавка, с которым внешне так схожа грамота на бересте. Однако среди десятков поплавков до 1951 года не встретилось ни одного исписанного. Хуже обстоит дело с обрывками берестяных грамот, которых встречается больше, чем целых. Из 521 найденной к настоящему времени в Новгороде грамот лишь 131 дошла до нас абсолютно целой, остальные 390 — обрывки. Обрывки, по своему историческому содержанию порой не уступающие целым грамотам, опознаются иногда с большим трудом. Какое-то количество их, особенно из числа мельчайших, могло в прежних раскопках оказаться пропущенным.
Здесь, пожалуй, уместно рассказать об одном интересном разговоре. Вскоре после того, как были открыты берестяные грамоты, один пожилой человек, бывавший в детстве в Новгороде, — а это было еще до революции, — и посещавший тогда частный музей новгородского краеведа и коллекционера В. С. Передольского, сообщил, что он видел в этом музее и берестяные грамоты. Под впечатлением этих необычных писем, вспоминает мой собеседник, он с другими мальчиками, своими товарищами, даже затеял игру в берестяную почту. Вряд ли это ошибка памяти. Нет ничего необычного в том, что берестяные грамоты могли оказаться в собрании любителя новгородских древностей еще в начале нашего столетия. Важнее другое. Если эти грамоты остались вовсе неизвестными науке, значит, скорее всего, это были ничтожные обрывки, на которых не удалось прочесть никакого связного текста.
Обратите внимание еще на одну важную деталь. Взглянув на план расположения грамот, найденных на Неревском раскопе, легко заметить, что насыщенность ими культурного слоя далеко не равномерна. На одних участках грамот много, особенно на некоторых усадьбах, населенных в древности наиболее активными адресатами. Другие же участки мало радовали археологов. Взять, к примеру, усадьбу «Г», расположенную в северной части раскопа. На большом участке этой усадьбы площадью в 450 квадратных метров, раскопанном в 1953–1954 годах, найдены только две берестяные грамоты. А на приблизительно таком же по площади участке усадьбы «Е» число грамот, найденных в 1956–1957 годах, достигло пятидесяти. Эта деталь лишний раз показывает, что даже в сборе массовых находок немаловажная роль принадлежит такому ненадежному и зыбкому фактору, как удача, если раскопки невелики.
А мы теперь, сравнивая все предшествующие раскопки с работами на Неревском конце, хорошо видим незначительность масштабов старых раскопок. За все сезоны работ Новгородской экспедиции с 1932 до 1948 года в разных районах Новгорода раскопано всего лишь около 1800 квадратных метров — в шесть раз меньше, чем потом на Дмитриевской улице. И состояние слоя при прошлых раскопках было во много раз хуже, чем здесь. Наиболее благоприятные условия для сохранности органических веществ были при раскопках на Ярославовом дворище, где в 1947 и 1948 годах экспедиция вскрыла около 800 квадратных метров. Но там толщина слоя не превышала четырех метров, к тому же ОЙ был сильно испорчен перекопами XIX–XX веков. При раскопках самых последних лет на некоторых участках мы вообще не нашли ни одной берестяной грамоты.
На второй поставленный выше вопрос, следовательно, можно ответить так. Да, какое-то количество берестяных грамот в старых раскопках могло оказаться незамеченным, но это количество ничтожно.
Хуже то, что и сейчас, когда о существовании и внешнем виде берестяных грамот уже хорошо известно, они в большом количестве гибнут при рытье строительных котлованов, водопроводных траншей, газопроводов, при массовых перемещениях культурного слоя Новгорода, неизбежных в строящемся и растущем городе. Почетный долг новгородских школьников и всех новгородцев, любящих свой город, его настоящее и прошлое, — наблюдать над выброшенной из котлованов и траншей черной землей. В ней содержатся не только щепки, обрывки кожи и черепки глиняных горшков, но и ценнейшие берестяные письма древних новгородцев. И пока выброшенная из котлована земля не потеряла влажность, эти письма еще могут быть спасены для науки. В 1969 году в Новгороде принято очень хорошее и важное постановление, воспрещающее производство земляных работ в черте древнего города без предварительных археологических раскопок. Однако планы реконструкции города гораздо шире, чем возможности археологов, и многое может быть потеряно для науки без благородной помощи самих жителей Новгорода.
Вернемся, однако, к рассказу о находках 1951 года. Что же было написано в первой ставшей известной науке берестяной грамоте? Какие грамоты увезли с собой археологи по окончании раскопок в дождливом сентябре?
Первая грамота, безжалостно изодранная и выброшенная на мостовую Холопьей улицы во второй половине XIV века, все же сохранила большие участки связного текста. Это вообще одна из самых больших грамот, когда-либо найденных в Новгороде. В ней тринадцать строк, а длина каждой строки — 38 сантиметров. Если вытянуть строки в одну линию, то получится пять метров! Правда, почти все строки изуродованы. Но содержание документа улавливалось легко… В нем были перечислены села, с которых шли подробно обозначенные повинности в пользу какого-то Фомы.
Первая берестяная грамота.
Первый результат оказался внушительным. До сих пор древнейшие сведения о системе феодального обложения в Новгороде относились лишь к концу XV века, когда Новгород уже утратил самостоятельность и навсегда стал частью Московского государства. А здесь — запись повинностей, сделанная на сто лет раньше!
В грамоте № 2 снова запись феодальных повинностей или долгов, но исчисленных не в деньгах и продуктах, как в первой грамоте, а в мехах. И плательщиками там оказываются карелы, а не русские.
Находка грамоты № 3 дала археологам первое древнерусское письмо шестисотлетней давности:
«Поклон от Грикши к Есифу. Прислав Онанья, молви… Яз ему отвечал: на рекл ми Ескф варити перевары ни на кого. Он прислал к Федосьп: вари ты пив, седишь на безатыцине, не варишь жито…».
Грамота оборвана. У нее нет конца, и из первой строки вырван большой кусок. Но взаимоотношения участников запечатленного в ней события понятны. Есиф, которому послана грамота, — господин, феодал, землевладелец. Грикша, автор письма, как это хорошо разъяснил Л. В. Черепнин, — приказчик Есифа. Федосья — зависимая от Есифа крестьянка; она сидит на «безатыцине», то есть пользуется каким-то выморочным участком земли, прежний владелец которого обязан был варить пиво в пользу Онаньи.
Прориси двух грамот из находок 1951 года. Наверху грамота № 3 — первое древнерусское письмо, попавшее в руки археологов. Внизу — грамота № 10, загадка, нацарапанная на ободке берестяного туеса XIV века.
Онанья потребовал у Грикши, а затем и у самой Федосьи, чтобы она варила для него пиво. Однако времена переменились. Выморочный участок оказался в руках Есифа, который поместил на него Федосью. На этот участок распространилось исключительное право Есифа взимать доходы в свою пользу — иммунитет нового владельца, отрицающий права любых других лиц на вмешательство в его владения. Вслушайтесь в текст грамоты — и вы услышите живой разговор, звучавший шесть веков тому назад. Грикша в своем письме цитирует и Онанью, и самого себя, не утруждаясь переводом прямой речи в косвенную.
Снова обрывки писем — одного, другого, третьего, четвертого. Вот «разновидность» документа, с которой, к сожалению, придется иметь дело чаще, чем хотелось бы, — грамота № 7. От нее сохранилось только начало: «Поклон от Филипа ко…». Такие «филькины грамоты» в несколько бессвязных слов десятки раз будут вызывать досаду.
Письмо с просьбой о протекции, письмо с приказанием взять у кого-то сапоги, письмо о покупке коровы, целиком сохранившаяся от XII века жалоба пасынка на своего отчима…
Еще одна разновидность берестяных надписей из находок 1951 года — грамота № 10. Это не письмо и не деловая записка, а ободок небольшого берестяного туеса. По ободку нацарапано:
«Есть град межу нобом и землею, а к ному еде посол без пути, сам ним, везе грамоту непсану».
Загадка. Вот она в переводе: «Есть город между небом и землей, а к нему едет посол без пути, сам немой, везет грамоту неписаную». Эту загадку загадывали еще в прошлом веке, да и в начале нынешнего, когда библейские легенды были общеизвестны. Город между небом и землей это ковчег, в котором Ной спасался во время потопа. Немой посол — голубь, посланный узнать, не показалась ли земля. А грамота неписаная — масличная ветвь, которую голубь несет в клюве как знак, что земля близка.
Таким образом, уже первый год открытия берестяных грамот продемонстрировал признаки большого разнообразия их типов. Хозяйственная запись и частное письмо. Жалоба и деловое поручение. Список повинностей и литературный текст.
Нужно ли объяснять, почему на следующий год экспедиция получила значительные средства и смогла, расширяя площадь раскопа, начать исследование участка в три с половиной раза большего, чем в 1951 году. А грамот на этот раз было найдено в семь с половиной раз больше — семьдесят четыре новых берестяных текста! И каких!
Главным видом берестяной грамоты по-прежнему оставалось частное письмо. Но в дополнение к уже известным по прошлому году разновидностям записей — еще несколько. Вот хозяйственное письмо приказчика своему господину — грамота № 17: «Поклон от ихаили к осподину своему Тимофию. Земля готова, надобе семяна. Пришли, осподине, человек спроста, а мы не смием имать ржи без твоего слова».
Л. В. Черепнин привел много свидетельств того, что в средние века семена для посева находились под особым контролем владельца земли. Ведь от их сохранности и правильного распределения зависели урожай и главные доходы владельца. Без специального распоряжения феодала даже его приказчик не рисковал поступить по своему усмотрению. «Пришли это распоряжение поскорее, — просит Михаил Тимофея, — земля уже вспахана».
Вот духовное завещание — грамота № 42: «Во имя отца и сына и святого духа. Се аз, раб божий Михаль, отхождя живота сего, пишю рукопсание при своем животе, что ми Кобилькеи 2 рубля ведати…».
Вот начало закладной грамоты — грамота № 45: «Се соцетеся Бобр с Семеном на полотеретея рубля на 3 годы полоцтевертынатця гривн, а рубл…» — «Сочлись Бобр и Семен на два с половиной рубля на 3 года 13 с половиной гривен, а рубль…».
Вот берестяной ярлык, привязывавшийся, вероятно, к каким-то вещам, чтобы обозначить их владельца, — грамота № 58. На ней только одно слово: «Маремеяне».
В первые годы открытия берестяных грамот, когда их было еще немного, а обобщения преждевременны, участники экспедиции испытывали главным образом ни с чем не сравнимое интеллектуальное наслаждение от первого знакомства с берестяными грамотами, их авторами и их адресатами. Мир живых людей, населявших древний Новгород и известных раньше в основном по летописному рассказу, расширялся с каждой новой находкой грамот. Находка некоторых берестяных документов запоминалась на всю жизнь. Вот как нашли грамоту № 53, одну из самых знаменитых в новгородской коллекции.
Это было в жаркий день, когда в слоях первой половины XIV века обнажились остатки частокола, ограждавшего усадьбу «А» со стороны Холопьей улицы. Верхушки обгорелых кольев, показавшиеся из-под земли, были облеплены вековой грязью, и несколько рабочих с ножами и кистями в руках принялись их расчищать. И вдруг хлынул ливень, да такой, что все, кто был на раскопе, ринулись под навес. Дождь лил минут десять, оставив после себя лужи и свежевымытые мостовые, частокол вдоль которых был полностью расчищен от вековой грязи. И на самой верхушке одного из кольев, в выгоревшей шестьсот лет назад лунке, чистая, вся в сверкающих на солнце каплях лежала грамота с великолепными по четкости буквами. Вот ее текст:
«Поклон от Потра к Марье. Покосил есмь пожню, и Озерици у мене сено отъяли. Спиши список с купнои грамоте да пришли семо; куды грамота поведе, дать ми розумно».
Петр уехал в село Озеры или Озеричи косить. Но местные жители отняли у него скошенное сено, заподозрив в нем самозванца, не имеющего прав на скошенный участок. Очевидно, Петр только что купил его и еще не был знаком своим новым соседям. Он просит Марью, жену или совладелицу, чтобы та списала ему копию с купчей грамоты.
А грамоты, получившие номера 43 и 49, решительно перечеркивают расстояние в шесть веков, отделяющих их от сегодняшнего дня до рубежа XIV–XV веков, когда они были написаны. Из-за строк берестяных листов отчетливо звучат живые голоса: мужской, решительный, не любящий ждать и привыкший распоряжаться, другой — женский, плачущий в тоске, ищущий сочувствия и утешения.
Грамота № 43: «От Бориса ко Ностасии. Како приде ся грамота, тако пришли ми цоловек на жерепце, зане ми здесе дел много. Да пришли сороцицю, сороцице забыле».
Борису, находящемуся где-то вне Новгорода, понадобился конь для разъездов. Он просит немедленно прислать ему слугу на жеребце. Очевидно, Борис богатый человек и у него много слуг. Если бы слуг было немного, он назвал бы по имени того, который ему нужен; здесь же Борис полагается на выбор самой Настасьи. Заодно она должна прислать ему забытую дома рубашку.
Грамота № 49: «Поклон от Ностасьи к господину, к моей к братьи. У мене Бориса в животе нет. Как се, господо, мною попецалуете и моими детми».
Та же Настасья и тот же Борис. Но Борис, скончавшийся накануне написания этого письма. И хотя мы, конечно, ни на минуту не сомневались, что и Борис, и Настасья умерли не менее пятисот лет тому назад, право же, получать письма с такими печальными известиями грустно даже спустя много веков после горестного в жизни Настасьи и ее детей события.
С одним из детей Бориса и Настасьи мы познакомились недели за две до находки только что прочитанных грамот. Имя этого сына, которого звали Иваном, прозвучало в грамоте № 15, сохранившейся в виде небольшого обрывка: «Челобитье от Нестерка господину Ивану Борисовичу… мя, господине, еси пожаловал».
Находка этих трех взаимосвязанных грамот показала заложенную в берестяных документах важнейшую особенность — способность определять принадлежность раскапываемых усадеб. Грамоты семьи Бориса связаны с усадьбой «А», которая, таким образом, во второй половине XIV века и в начале XV века принадлежала сначала Борису, а затем его сыну Ивану. Точно так же в 1952–1953 годах усадьба «Б», расположенная по другую сторону Холопьей улицы, дала несколько грамот, связанных с именами Фомы и Есифа, уже знакомых нам по первым находкам 1951 года. Эту способность грамот предстояло в последующие годы проверять на новых участках раскопа.
Прориси грамот № 43 и 49. Наверху письмо от Бориса к Настасье, внизу письмо Настасьи с извещением о смерти Бориса.
И еще вопрос, который занимал всех в 1952 году и тогда же был решен: как сами новгородцы, авторы и адресаты берестяных писем, называли исписанную бересту?
Впервые на этот вопрос ответила грамота № 24. Ее текст, сохранившийся в обрывке, гласил: «…человеком грамотку пришли тайно». О тайнах автора этого письма можно только гадать, но что самые письма он называет «грамотками» — вполне очевидно.
А в грамоте № 27 встретилось другое, более точное наименование: «Поклон от Фалея ко Есифу. Послал язо к тоби беросто, написав. Вышли за…» — «Поклон от Фалея к Есифу. Послал я тебе бересту, написав. Вышли за…». Значит, «грамотку» могли называть и просто «берестой». Так же она называется в обрывке грамоты № 43: «Кто придеть з беростом…». Напомню еще, что Борис в своем письме к Настасье называет свое берестяное послание «грамотой»: «Како приде ся грамота», — пишет он.
Так одна за другой, изо дня в день и из года в год из глубины веков на адрес экспедиции шли берестяные грамоты, раздвигая пределы познания прошлого. И уже с 1954 года источником получения грамот перестал быть только Неревский раскоп. Полтора десятка грамот пришло s науку исключительно благодаря активности энтузиастов, внимательно рассматривающих отвалы строительных котлованов Новгорода. Конечно, такие грамоты, вырванные из стратиграфической среды планомерных раскопок, многое теряют в своей ценности, но они и в этом случае остаются первоклассными историческими источниками. Главная заслуга сохранения для науки случайно найденных грамот принадлежит новгородскому археологу С. Н. Орлову, обнаружившему девять берестяных писем. А рядом с ним нужно назвать имена рабочих И. Е. Анишина, А. П. Семенова, Р. П. Филатовой, Клопова, школьников Судьина, А. Иванова, А. Дорохова, А. Алексеева, студентки Т. П. Кондратьевой.
Прорись грамоты Мг 27: «Поклоно от Фалея ко Есифу. Послало язо к тоби беросто, написав. Вышли за…». Конец XIV века.
Однако главным центром добывания драгоценной бересты вплоть до 1962 года оставался Неревский раскоп. Как же выглядит находка грамоты? Прежде всего, это много радостного шума. Раскопки оглашаются громким криком: «Грамоту нашли!». Все стремятся пробиться к ней и посмотреть, что на ней видно. Чаще всего любопытство карается разочарованием, потому что на поверхности развернутой и неотмытой грамоты многого не увидишь, разве только, что это и в самом деле грамота.
Место находки точно наносится на план, глубина залегания тщательно замеряется с помощью нивелира, а в полевом дневнике появляется подробное описание обстоятельств находки, ее взаимоотношения с близлежащими срубами, мостовыми и прослойками культурного слоя.
Тем временем доставленная в полевую лабораторию грамота опускается в горячую воду. Дело в том, что грамоту нельзя развертывать немедленно после находки — она может растрескаться и погибнуть. Ее нужно распарить в горячей воде и осторожно вымыть кистью.
Вымытая грамота осторожно расслаивается. Это крайне опасное, хотя и совершенно необходимое действие. При высыхании разные слои бересты ведут себя по-разному. Одни сжимаются больше, другие меньше. И если бересту оставить нерасслоенной, она, высыхая, покоробится, а написанный на ней текст утратит отчетливость, его «поведет».
Вслед за расслаиванием берестяное письмо просушивают начерно полотенцем и помещают между стеклами, под которыми ему суждено сохнуть, принимая постепенно форму плоского листа. Однако прежде, чем окончательно убрать грамоту под пресс, предстоит пережить еще один, самый волнующий момент — момент первого чтения грамоты. Процесс чтения грамот не поддается краткому описанию — ему посвящена вся эта книжка.
Не нужно только думать, что прочесть и особенно понять грамоту удается в тот день, когда она найдена. Ее приходится много раз брать в руки, проверяя сомнения, возвращаясь к сложным и неразборчивым местам. И если сначала ее читают только сотрудники экспедиции, то после издания круг ее читателей расширяется за счет самых пристрастных и взыскательных специалистов, предлагающих свои поправки и свое иногда неожиданное истолкование текста. Этот процесс вовлекает все новых и новых читателей, порождая книги и статьи, вызывая споры и определяя более глубокие решения. Очень важным этапом чтения и истолкования берестяных грамот стала прекрасная книга академика Льва Владимировича Черепнина «Новгородские берестяные грамоты как исторический источник», опубликованная в 1969 году. Многое в этой книге объяснено иначе, более точно, чем казалось исследователям в прошлые годы. Результаты работы Л. В. Черепнина много раз используются и в нашем рассказе.
Вернемся, однако, в полевую лабораторию. Существует еще одно условие, выполнение которого обязательно. Прежде чем грамота начнет сохнуть, медленно и неизбежно меняясь при высыхании, ее фотографируют и тщательно прорисовывают, создавая тем самым документы, способные до некоторой степени заменить подлинник, частое обращение к которому нежелательно: слишком ценны эти хрупкие берестяные листы. Все прориси грамот выполнены Михаилом Никаноровичем Кисловым.
Последний вопрос, на который нужно здесь ответить: где хранятся грамоты после их изучения и издания! Берестяные прямоты, найденные в 1950-х годах, переданы Новгородской экспедицией в Отдел рукописей Государственного Исторического музея в Москве. С созданием в Новгороде хранилища, способного обеспечить вечную сохранность берестяных документов для науки, их единственным получателем стал Новгородский историко-художественный музей-заповедник. Оба музея широко используют берестяные грамоты в своих экспозициях.
Глава 3
Устами младенца
Лет семьдесят тому назад маститый историк русской (культуры и лидер буржуазной кадетской партии П. Н. Милюков, резюмируя многолетние споры о состоянии грамотности в древней Руси, заявил о собственной позиции в этих спорах. Одни, писал он, считают древнюю Русь чуть ли не поголовно безграмотной, другие допускают возможность признать распространение в ней грамотности. «Источники дают нам слишком мало сведений, чтобы можно было с их помощью доказать верность того или другого взгляда, но весь контекст явлений русской культуры говорит скорее в пользу первого взгляда, чем в пользу последнего».
А вот та же мысль, изложенная другим историком на страницах гимназического учебника: «Тогда письменность ограничивалась списыванием чужого, так как немногие школы… служили лишь для приготовления попов».
С тех пор новые исследования и новые археологические находки постепенно изменяли послуживший Милюкову главным аргументом «общий контекст», формируя новое отношение к старой проблеме. Изучение высших достижений древней Руси в области литературы, зодчества, живописи, прикладного искусства делало все более несостоятельной мысль о том, что удивительные цветы древнерусской культуры цвели на почве поголовной безграмотности и невежества. Новые выводы о высоком техническом уровне древнерусского ремесла, изучение дальних торговых связей древней Руси с Востоком и Западом позволили отчетливо увидеть фигуру грамотного ремесленника и грамотного купца. Исследователи пришли к признанию более широкого проникновения грамотности и образованности в среду древнерусских горожан. Однако даже в год открытия берестяных грамот это признание сопровождалось оговорками, что все же грамотность была в основном привилегией княжеско-боярских и особенно церковных кругов.
Дело в том, что факты, накопленные наукой, были малочисленными и давали самую скудную пищу раздумьям исследователей. Важные теоретические построения питались главным образом умозрительными заключениями. Попы по самой природе своей деятельности не могут обходиться без чтения и письма — значит, они были грамотны. Купцы, обмениваясь с Западом и Востоком, не могут обходиться без торговых книг — значит, они были грамотны. Ремесленникам, совершенствовавшим свои навыки, нужно записывать технологическую рецептуру — значит они были грамотны.
Ссылались, правда, на найденные при раскопках — главным образом в Новгороде — бытовые предметы, с надписями изготовивших их мастеров или владельцев. Но таких надписей к 1951 году даже в новгородских раскопках было найдено не больше десятка. На весах дискуссионных мнений они вряд ли могли перевесить вековой скептицизм поборников мнения о поголовной неграмотности Руси.
И еще одно обстоятельство. Даже соглашаясь, что грамотность на Руси была достоянием не только попов, историки культуры признавали временем, благоприятным просвещению, лишь XI–XII века, а не последующий период, когда в тяжелых условиях монгольского ига Русь переживала трагический упадок культуры.
Как изменила все эти представления находка берестяных грамот: И какое она принесла обилие фактов!
Первый существенный результат открытия берестяных грамот — установление замечательного для истории русской культуры явления: написанное слово в новгородском средневековом обществе вовсе не было диковиной. Оно было привычным средством общения между людьми, распространенным способом беседовать на расстоянии, хорошо осознанной возможностью закреплять в записях то, что может не удержаться в памяти. Переписка служила новгородцам, занятым не в какой-то узкой, специфической сфере человеческой деятельности. Она не была профессиональным признаком. Она стала повседневным явлением.
Прорись грамоты № 377. Письмо от Микиты к Ульянице с предложением вступить брак. Середина XIII века.
Разумеется, разным семьям, населявшим раскопанный участок Великой улицы, была свойственна разная степень грамотности. Рядом с грамотными людьми жили неграмотные, и рядом с образованными семьями жили необразованные. Это естественно. Но для нас важнее то, что рядом с неграмотными людьми и семьями жило много грамотных людей и семей, для которых чтение и письмо стали таким же естественным делом, как еда, сон, работа. Уже само количество найденных грамот поразительно и способно навсегда зачеркнуть миф об исключительной редкости грамотных людей в древней Руси. Однако еще более внушителен состав авторов и адресатов берестяных писем. Кем и кому они написаны?
Феодалы пишут своим управляющим, ключникам. Ключники пишут своим господам. Крестьяне пишут своим сеньорам, а сеньоры своим крестьянам. Одни бояре, пишут другим. Ростовщики переписывают своих должников и исчисляют их долги. Ремесленники переписываются с заказчиками. Мужья обращаются к женам, жены — к мужьям. Родители пишут детям, дети — родителям.
Бот грамота № 377, написанная в середине XIII века и найденная в 1960 году: «От Микити к Улиааниц. Пойди за мьне. Яз тьбе хоцю, а ты мене. А на то послух Игнат Моисиев…». Это обрывок самого древнего дошедшего до нас брачного контракта. Микита просит Ульяницу выйти за него замуж, называя здесь же Игната Моисеевича свидетелем со стороны жениха.
Любопытно, что за все время раскопок найдено всего лишь два или три богослужебных текста — каких-нибудь полпроцента от всей прочитанной теперь бересты. Зато обычны такие письма.
Грамота № 242, документ XV века: «Цолобитье от Кощея и от половников. У кого коне, а те худе, а у (и)ных нет. Как, осподине, жалуешь хрестыян? А рожь, осподине, велишь мне молотите, как укажешь». Авторы письма — ключник и крестьяне-арендаторы, обрабатывавшие землю господина за половину урожая. Они жалуются на бедность и отсутствие коней: «У кого кони есть, те плохи, а у других вовсе нет».
Или грамота № 288, написанная в XIV веке: «…хаму 3 локти… золотнике зелоного шолку, другий церленого, третий зелоного желтого, золоти (их) белил на белку, мыла на белку бургалского, а на другую белку…». Хотя в письме нет ни начала, ни конца, можно с уверенностью говорить, что это запись и расчет заказа какого-то вышивальщика или вышивальщицы. Полотно, по-древнерусски «хам», нужно было выбелить бургальским (то есть городским) мылом и «белилами» и расшить разноцветными шелками — зеленым, красным и желто-зеленым.
В грамоте № 21, написанной в начале XV века, заказчик обращается к мастерице: «…озцинку выткала, и ты ко мне пришли, а не угодице с кым прислать, и ты у себе избели». Автор грамоты получил уведомление, что холсты, «озцинка», для него вытканы, и просит прислать их ему. А если прислать не с кем, то пусть ткачиха эти холсты выбелит сама и ждет дальнейших распоряжений.
Грамота № 125, брошенная в землю в конце XIV века, не указывает на занятия автора письма и его адресата, но, думается, что они люди небогатые: «Поклон от Марине к с(ы)ну к моему Григорью. Купи ми зендянцу добру. А куны яз дала Давыду Прибыше. И ты, чадо, издей при собе да привези семо». «Зендянцей» называлась хлопчатобумажная ткань бухарского происхождения по имени местности Зендене, где ее стали изготовлять раньше, чем в других селениях. «Куны» — древнерусское название денег. Если бы Григорий был богатым человеком, вряд ли его матери пришлось бы посылать деньги на покупку с оказией. У Григория денег могло не оказаться, и мать посылает ему нужную сумму из своих сбережений.
Примеры можно было бы приводить бесконечно. Их приносил и будет приносить каждый год раскопок. И вот что еще замечательно. Оказалось, грамотность в Новгороде неизменно процветала не только в домонгольское время, но и в ту эпоху, когда Русь переживала тяжелые последствия монгольского нашествия.
Из 394 грамот, найденных на Неревском раскопе в условиях, позволявших точно определить время их написания, в слоях XI века найдено 7 грамот, в слоях XII века их оказалось 50, в XIII веке в землю было брошено 99 грамот, в XIV веке — 164, а в XV веке — 74. Резкое уменьшение их количества в XV веке объясняется не какими-то событиями, нарушившими культурное развитие Новгорода, а тем, что в слоях второй половины XV века органические вещества уже почти не сохраняются. Там бересты нет, и, следовательно, 74 грамоты XV века найдены в слоях только первой половины этого столетия. Они падали в землю не сто, а лишь пятьдесят лет.
Такой неуклонный культурный прогресс был, нужно думать, особенностью Новгорода. И дело не только в том, что монгольское нашествие остановилось за сто верст от его городских ворот. Хотя Новгород и не испытал трагедии военного разрушения и разграбления своих жилищ и храмов, на него, как и на всю Русь, легло тяжкое иго Золотой Орды. Дело здесь в том, что именно к концу XIII — первой половине XV века относится эпоха расцвета «великой русской республики средневековья». Вечевой строй, который использовался боярами как орудие их власти над остальным населением, все же больше способствовал развитию активности народных масс в политической и культурной жизни, чем княжеское самовластье в других средневековых русских центрах. И не случайно расцвет культуры в Новгороде совпадает с эпохой расцвета республиканского строя.
Все это так — вправе сказать читатель. Но как доказать, что берестяные письма, добытые из-под земли, написаны собственноручно их авторами? И что их читали сами адресаты? Ведь вполне может быть, что читали и писали письма немногочисленные грамотные люди, писцы, профессионалы, зарабатывавшие своей грамотностью кусок хлеба. Что же — это очень серьезный вопрос. Попытаемся ответить на него.
Разумеется, какое-то количество писем исходит от неграмотных людей и написано по их просьбе грамотными. Таковы некоторые крестьянские письма. Их авторами названы ключники феодалов, но ключники пишут не от себя, а от жителей той или иной деревни, жалующихся своему господину. Какое-то количество писем исходит от грамотных людей, но написано не ими, а другим человеком. Таковы грамоты некоторых крупных феодалов, исходящих от одного человека, но написанные разными почерками. Важный господин диктовал свое письмо или поручал ключнику написать за него и от его имени. Однако в большинстве случаев в письмах, исходящих от одного и того же человека, почерк совпадает детально.
Это наблюдение все же не может быть решающим. Ведь большинство авторов известно нам по единичным письмам. И здесь уже не угадаешь, сам ли автор выдавливал буквы на бересте или сидел рядом с грамотеем, удивляясь бойкости его «пера». Решающие показания дала не береста, а находки, тесно связанные с ней, — костяные, железные, бронзовые и деревянные стержни — писала, которыми написаны все берестяные грамоты.
Таких писал на Неревском раскопе найдено свыше семидесяти. Далекий предок современной авторучки в средневековом Новгороде был не редким предметом, а такой бытовой вещью, как гребень или нож. И наивно думать, что семьдесят писал потеряно на Великой улице профессиональными писцами, пришедшими написать или прочитать письмо. Они потеряны людьми, жившими здесь и писавшими свои письма без посторонней помощи.
Фигура новгородца, к поясу которого привешено неразлучное с ним орудие письма на бересте, стала известной в результате раскопок, но ее смутное отражение на стенах новгородских церквей историки наблюдали и раньше, не различая, правда, важной для нас детали.
Стены многих новгородских средневековых церквей покрыты древними процарапанными надписями. Такие надписи — их называют «граффити» — в изобилии испещрили стены Софийского собора, знаменитых церквей Спаса-Нередицы, Федора Стратилата, Николы на Липне и многих других. Часть этих надписей служебного характера. Например, в церквах Спаса-Нередицы и Николы на Липне в алтаре, где во время богослужения помещались священнослужители, на стенах написано о днях поминания в молитвах разных умерших новгородцев. Но большинство надписей находится там, где во время службы помещались не церковники, а молящиеся. Своим происхождением граффити обязаны скуке церковного обряда. Вместо того чтобы молиться, прихожане извлекали из кожаных чехлов свои «перья» и царапали стены. Порой надписи кажутся благочестивыми: «Господи, помоги рабу своему», но чаще мысли владельца писала были далеки от благочестия. Он оставлял деловые записи, подобные записям на бересте. Так, на одном из столбов церкви Спаса-Нередицы нацарапано: «На Лукин день взяла проскурница пшеницю». Или рисовал картинки. Или повторял азбуку, особенно если ему было немного лет. Судя по расстоянию от пола, многие граффити нацарапаны детьми. И во всех случаях инструментом для письма на штукатурке служил стержень, изобретенный специально для писания на бересте. Вполне понятно, что до открытия берестяных грамот обилие надписей, процарапанных на церковных стенах, казалось загадочным, а в орудии письма на штукатурке предполагали только обыкновенный гвоздь или шило.
Граффито — надпись и рисунки, процарапанные в древности на стене церкви. Такие надписи наносились теми же писалами, что и тексты берестяных грамот.
Обнаружив столь широкое распространение грамотности в Новгороде, мы не можем не заинтересоваться, как эта грамотность пробивала себе дорогу, как происходило обучение грамоте. Кое-какие сведения можно было почерпнуть из известных и раньше письменных источников. Летопись под 1030 годом сообщает, что князь Ярослав Мудрый, придя в Новгород, собрал «от старост и поповых детей 300 учити книгам». В житиях некоторых новгородских святых, написанных еще в средние века, рассказывается о том, что они учились в школах, причем об этом говорится как о вещи, вполне обычной. Наконец, на знаменитом Стоглавом соборе в 1551 году прямо заявлено: «прежде сего училища бывали в российском царствии на Москве и в Великом Новгороде и по иным градам». Обилие берестяных грамот дало новую жизнь этим свидетельствам, показав, что обучение грамоте действительно было в Новгороде хорошо поставленным делом. Нужно было искать на самой бересте следы этого обучения, тем более что и в граффити новгородских церквей отразились упражнения маленьких новгородцев, царапавших азбуку во время скучного богослужения.
Первая такая грамота найдена еще в 1952 году. Это небольшой обрывок, получивший номер 74. На нем неуверенным, неустановившимся почерком нацарапано начало азбуки: «АБВГДЕЖЗ…». Потом писавший запутался и вместо нужных ему по порядку букв стал изображать какие-то их подобия.
Прорись грамоты № 199. Упражнение мальчика Онфима в письме и надпись по складам. На обороте берестяного днища рисунок Онфима с его именем.
Новая и самая значительная находка запечатленных на бересте ученических упражнений была сделана в 1956 году в памятные для всей экспедиции дни — 13 и 14 июля. В эти два дня грамоты шли из раскопа на лабораторный стол непрерывным потоком. Было распарено, вымыто и развернуто семнадцать берестяных лент. И шестнадцать из них обнаружены на каких-нибудь десяти квадратных метрах. Эта охапка берестяных листов была брошена в землю одновременно. Они залегали в одной прослойке, относящейся к пятнадцатому ярусу мостовой Великой улицы, в двух метрах от ее настилов. Опираясь на данные дендрохронологии, мы можем уверенно говорить, что ворох берестяных грамот, найденных 13 и 14 июля 1956 года, попал в землю между 1224 и 1238 годами, около 750 лет тому назад.
Мы будем знакомиться с этими грамотами в том порядке, в каком они появлялись перед участниками экспедиции. Первой нашли грамоту 199. Это не был специально подготовленный для письма лист бересты. Длинная надпись грамоты сделана на овальном донышке туеса, берестяного сосуда, который, отслужив, свой срок, был отдан мальчику и использован им как писчий материал. Овальное донышко, сохранившей по краям следы прошивки, было укреплено перекрещивающимися широкими полосами бересты. Вот эти-то полосы и заполнены записями.
На первой полосе старательно выписана вся азбука от «а» до «я», а затем следуют склады: «ба, ва, га, да…» и так до «ща», потом: «бе, ве, ге, де…» — до «ще». На второй полосе упражнение продолжено: «би, ви, ги, ди…» я доведено только до «си». Дальше просто не хватило места. Иначе мы прочли бы и «бо, во, го, до…», и «бу, ву, гу, ду…».
Способ учения грамоте по складам был хорошо известен по свидетельствам XVI–XVIII веков, он существовал у нас в XIX и даже в начале XX века. О нем часто рассказывали писатели, изображавшие первые шаги в овладении грамотой. Все знают, что буквы на Руси назывались «а» — «аз», «б» — «буки», «в» — «веди», «г» — «глаголь» и так далее. Ребенку было необычайно трудно осознать, что «аз» означает звук «а», «буки» — звук «б». И только заучивая слоговые сочетания: «буки-аз — ба, веди-аз — ва», ребенок приходил к умению читать и понимать написанное.
Мальчик, записавший азбуку и склады в грамоте № 199, просто упражнялся, ведь он уже умел читать и писать. В этом мы убедились, перевернув наше берестяное донышко. Там в прямоугольной рамке написано знакомым почерком: «Поклон от Онфима к Даниле».
Потом мальчик принялся рисовать, как рисуют все мальчики, когда наскучит писать. Он изобразил страшного зверя с торчащими ушами, с высунутым языком, похожим на еловую ветку или на оперение стрелы, с закрученным в спираль хвостом. И чтобы замысел нашего художника не остался непонятым возможными ценителями, мальчик дал своему рисунку название: «Я звере» — «Я зверь». Наверное, у взрослых художников иногда остается что-то от неуверенных в себе мальчиков. Иначе зачем прекрасным мастерам, вырезавшим в XV веке великолепные матрицы для свинцовых государственных печатей Новгорода, рядом с изображением зверя писать «А се лютый зверь», а рядом с изображением орла — «Орел».
Найдя первую грамоту, мы могли только догадываться, что этого мальчика звали Онфимом, что, выписывая слова поклона, подражая в этом взрослым, он адресовался к своему товарищу, вероятно, сидящему здесь же, рядом с ним. Ведь могло оказаться, что он просто скопировал начало чьего-то письма, случайно попавшего в его руки. Но следующая находка все поставила на место.
Грамота № 200 почти целиком заполнена рисунком маленького художника, уже знакомого нам своей «творческой манерой». Маленький художник мечтал о доблести и о подвигах. Он изобразил некое подобие лошади и всадника на ней, который копьем поражает брошенного под копыта лошади врага. Около фигуры всадника помещена пояснительная надпись: «Онфиме». Мальчик Онфим нарисовал свой «героизированный автопортрет». Таким он будет, когда вырастет, — мужественным победителем врагов Новгорода, смелым всадником, лучше всех владеющим копьем. Что же, Онфим родился в героический век новгородской истории, в век Ледового побоища и Раковорской битвы, в эпоху великих побед Александра Невского. И на его долю наверняка с лихвой досталось схваток и подвигов, свиста стрел и стука мечей. Но, помечтав о будущем, он вспомнил настоящее и на свободном клочке бересты рядом с «автопортретом» написал: «АБВГДЕЖSЗИIК».
Еще две грамоты Онфима — № 200 и 206. На одной нацарапаны начало азбуки и «автопортрет» Онфима — всадник, поражающий врага. На другой — «Онфим и его друзья».
В грамоте № 201, найденной в тот же день, 13 июля, мы познакомились и с соседом Онфима по школьной скамье. Здесь снова была выписана азбука и склады от «ба» до «ща», но почерк был другим, не онфимовским. Может быть, это упражнения Данилы, к которому Онфим обращался со словами привета?
Так художник начала XVIII века изобразил древний школьный урок.
Грамота № 202. На ней изображены два человечка. Их поднятые руки напоминают грабли. Число пальцев-зубцов на них — от трех до восьми. Онфим еще не умел считать. Рядом надпись: «На Домире взятие доложзиве» — «На Домире взять, доложив». Еще не умея считать, Онфим делает выписки из документов о взыскании долгов. Прописями для него послужила деловая записка, самый распространенный в средневековом Новгороде вид берестяной грамоты. И в то же время в этой грамоте хорошо чувствуется, как Онфим набил руку в переписывании азбуки. В слово «доложив» он вставил ненужную букву «з», получилось «доложзив». Он так привык в своей азбуке писать «з» после «ж», что рука сама сделала заученное движение.
В грамоте № 203 — законченная фраза, хорошо известная по надписям на стенах новгородских церквей: «Господи, помози рабу своему Онфиму». Это, вероятно, одна из первых фраз, с каких начиналось овладение письмом. Встречая ее на стенах рядом с процарапанными буквами азбук, мы должны всякий раз предполагать не столько благочестие писавшего — какое уж тут благочестие, если он царапает церковную стену во время богослужения, — а скорее всего его склонность к постоянному воспроизведению знаний, усвоенных в первых школьных упражнениях, склонность, встающую перед нами из большинства грамот Онфима, которые написаны им не для учителя, а для себя. Иначе вряд ли он стал бы и писать, и рисовать на одном листе бересты.
Рядом с надписью грамоты № 203 снова изображены две схематические человеческие фигуры. И снова у них на руках противоестественное количество пальцев — три или четыре.
Грамота № 204 — одно из упражнений в письме по складам. Выписывая склады от «бе» до «ще», Онфим предпочитает заниматься привычным для него упражнением, он не справился с попыткой написать какой-то связный текст, начинающийся словами «Яко же».
Грамота № 205 — полная азбука от «а» до «я». Здесь же начало имени «Онфим» и изображение ладьи — одной из тех, какие Онфим каждый день видел на Волхове.
Грамота № 206 — сначала бессмысленный набор букв, возможно, попытка изобразить дату, но попытка неудавшаяся, в чем вряд ли следует винить Онфима, еще не научившегося даже сосчитать пальцы на руке. Потом упражнение в письме по складам — от «ба» до «ра». И, наконец, внизу — семь взявшихся за руки человечков «в манере Онфима» с разнообразным количеством пальцев на руках.
Грамота № 207 — одна из интереснейших. Ее текст написан хорошо уже нам знакомым почерком Онфима: «Яко с нами бог, услышите да послу, яко же моличе твое, на раба твоего бог».
На первый взгляд, здесь только бессмысленный набор слов, подражающий церковным песнопениям. По первому впечатлению, Онфим заучил на слух какие-то молитвы, не понимая их содержания и смысла звучащих в них слов. И эту тарабарщину перенес на бересту. Однако возможно и другое толкование безграмотной надписи. Известно, что в старину обучение носило в основном церковный характер. Чтению учились по псалтири и часослову. Может быть, перед нами один из диктантов, еще один шаг Онфима в овладении грамотой после уже усвоенных упражнений в письме по складам.
Три рисунка мальчика Онфима.
Грамота № 208 — крохотный обрывок бересты с немногими буквами. Почерк снова выдает Онфима.
В грамоте № 210, также изорванной, изображены люди и около них остатки надписей, не поддающихся истолкованию. И, наконец, еще пять берестяных листов нельзя причислять к грамотам. На них нет ни одной буквы, поэтому они не включены в общую нумерацию исписанной бересты. Это рисунки Онфима. На одном неимоверно длинная лошадь, на ней сидят сразу два всадника. Наверное, отец не раз сажал Онфима сзади себя на коня. Рядом, в отдалении, еще один всадник, поменьше. Другой рисунок — батальная сцена. Скачут три всадника с колчанами на боках. Летят стрелы. Под копытами коней лежат поверженные враги. На третьем рисунке снова всадник. На четвертом — два человека, один из них со страшной рожей, с вытаращенными глазами, широкими плечами и крохотными ручками, похожий на какое-то кошмарное видение. На пятом рисунке два воина в шлемах, изображенных в полном соответствии с археологически известными шлемами XIII века.
Итак, мы познакомились с мальчиком Онфимом. Сколько ему лет? Точно установить этого нельзя, но, вероятно, около шести-семи. Он еще не умеет считать, и его не учили цифрам. Самый рисунок, пожалуй, указывает на тот же возраст. Эти наблюдения подтверждаются и некоторыми письменными свидетельствами, сохранившимися в известных ранее источниках. В житиях святых, составленных в средние века, рассказ об обучении грамоте «на седьмом году» превратился даже в своего рода шаблон. Тот же возраст называют и рассказы о времени обучения русских царевичей. Алексей Михайлович получил в подарок от своего деда патриарха Филарета азбуку, когда ему было четыре года. В пять лет он уже бойко читал часослов. Когда Федору Алексеевичу было шесть лет, его учитель получил награду за успехи в обучении царевича. А Петр I читал даже в четыре года. Это сведения XVII века. От более раннего времени сохранилось достоверное свидетельство об обучении в Новгороде в 1341 году грамоте тверского княжича Михаила Александровича, которому тогда было около восьми лет. Теперь же мы получили свидетельства еще более ранние.
Находки берестяных азбук продолжались и в следующие годы в других районах Новгорода. Обрывок азбуки конца XIII века обнаружен в 1967 году в Лубяницком раскопе на Торговой стороне Новгорода. В 1970 году тоже на Торговой стороне обрывок азбуки первой половины XIII века оказался в числе грамот раскопа на Суворовской улице. А в 1969 году, когда раскоп был заложен на Софийской стороне неподалеку от Неревского, в нем удалось найти самую старую пока цельную берестяную азбуку начала XII века.
Однако вернемся к Неревскому раскопу. На следующий год после того, как мы познакомились с Онфимом, в 1957 году были найдены и первые ученические упражнения в цифровом письме. Нужно сказать, что цифры в древней Руси не отличались от обычных букв. Цифру 1 изображали буквой «а», цифру 2 — буквой «в», 3 — буквой «г» и так далее. Чтобы отличить цифры от букв, их снабжали особыми значками, черточками над основным знаком, однако так делали не всегда. Некоторые буквы в качестве цифр не использовались, например «б», «ж», «ш», «щ», «ъ», «ь». И порядок цифр несколько отличался от порядка букв в азбуке. Поэтому, когда мы видим, например, такую запись: «АВГДЕЗ», мы, из-за того, что пропущены буквы «Б» и «Ж», знаем, что это цифры, а не начало азбуки. Именно с такой записью экспедиция встретилась в грамоте № 287, а в 1960 году в грамоте № 376. Кстати, последняя запись сделана также на донышке отслужившего свой срок берестяного туеса. Маленьких новгородцев не особенно баловали, для их школьных упражнений годилась любая береста. В обеих грамотах было лишь по нескольку цифр. А в грамоте № 342, найденной в 1958 году в слоях XIV века, воспроизведена вся система существовавших тогда цифр. Сначала идут единицы, затем десятки, сотни, тысячи и, наконец, десятки тысяч вплоть до обведенной кружком буквы «Д». Так изображалось число 40 000. Конец грамоты оборван.
Орнаментированная дощечка XII пека для писания по воску. Оборотная сторона том же дощечки. Воском заполнялась четырехугольная выемка.
Прорись грамоты № 342. Здесь изображены цифры от 1 до 40 000.
Со временем наверняка будут найдены и упражнения маленьких школяров в арифметике. Однако уже сейчас, когда мы убедились, что методы обучения грамоте в древнем Новгороде были в общем такими же, как и в XVI–XVII веках, мы гораздо яснее представили себе способ, при помощи которого грамотность в Новгороде сделала поразительные успехи в эпоху, в которой прежние исследователи видели только дикость и невежество.
Еще одна берестяная грамота ценна тем, что, воскрешая крохотный эпизод XIV века, перебрасывает мостик от обычаев и шуток школяров времени Ивана Калиты к обычаям и шуткам школяров современников Гоголя и Помяловского. В 1952 году на Неревском раскопе была обнаружена грамота № 46, сначала поставившая всех в тупик. В этой грамоте нацарапаны две строки, правые концы которых не сохранились. В первой строке следующий текст: «Нвжпсндмкзатсцт…». Во второй — не менее содержательная надпись: «ееяиаеуааахоеиа…».
Что это? Шифр? Или бессмысленный набор букв? Не то и не другое. Напишите эти две строки одну под другой, как они написаны в грамоте:
НВЖПСНДМКЗАТСЦТ…
ЕЕ Я ИАЕ У АААХОЕИА…
и читайте теперь по вертикали, сначала первую букву первой строки, потом первую букву второй строки, затем вторую букву первой строки и вторую букву второй строки и так до конца. Получится связная, хотя и оборванная фраза: «НЕВЕЖЯ ПИСА, НЕДУМА КАЗА, А ХТО СЕ ЦИТА» — «Незнающий написал, недумающий показал, а кто это читает…». Хотя конца и нет, ясно, что «того, кто это читает», обругали.
Дощечка для письма по воску с вырезанной на ней азбукой.
Не правда ли, это напоминает известную школярскую шутку: «Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю»? Представляете себе этого недоросля, который придумывал, как бы ему незамысловатее разыграть приятеля, сидящего рядом с ним на школьной скамье?
Чтобы закончить рассказ о том, как средневековые новгородцы обучались грамоте, нужно разобраться еще в одном интересном вопросе. Каждому человеку хорошо известно, как много бумаги требует обучение грамоте, как много каждый школьник пишет упражнений, выбрасывает испорченных листков. Вероятно, и в древности, чтобы научить малыша читать и писать, нужно было истребить массу писчего материала, который ни к чему было хранить. Грамоты Онфима лишний раз убедили нас в этом. Они написаны самое большее за несколько дней. А таких дней, из которых составлялись годы школьного учения, было очень много. Почему же среди берестяных грамот ученические упражнения встречаются сравнительно редко?
Ответ на этот вопрос был получен во время раскопок на Дмитриевской улице. Там в разное время и в разных слоях экспедиция нашла несколько дощечек, отчасти напоминающих крышку пенала. Одна из поверхностей таких дощечек, как правило, украшена резным орнаментом, а другая углублена и имеет бортик по краям, а по всему донышку образовавшейся таким образом выемки — насечку из штриховых линий. Каждая дощечка имеет на краях по три отверстия. Ей соответствовала такая же парная дощечка, и при помощи дырочек они связывались друг с другом орнаментированными поверхностями наружу.
На одной из дощечек, найденной в 1954 году в слое первой половины XIV века, вместо орнамента тщательно вырезана азбука от «а» до «я», и эта находка дала нужное толкование всей группе загадочных предметов. Они употреблялись для обучения грамоте. Выемка на них заливалась воском, и маленькие новгородцы писали свои упражнения не на бересте, а на воске, подобно тому, как сейчас при обучении применяется черная доска. Стало понятным и назначение лопаточки, почти обязательной на конце многочисленных писал, найденных при раскопках. Этой лопаточкой заглаживалось написанное на воске. Такая лопаточка находится в дальнем родстве с тряпкой, которой каждый из нас много раз стирал написанное мелом на школьной доске. Азбука, помещенная на поверхности одной из дощечек, служила пособием. На нее ученик смотрел, списывая буквы. И снова аналогия с современными пособиями — с таблицей умножения, которую печатают на обложках школьных тетрадей.
Ну, а если, обучаясь письму, маленькие новгородцы прибегали в основном к воску, то и редкость школьных упражнений на бересте не должна нас удивлять.
Понятным становится также, почему Онфим, уже умея писать, снова и снова выписывает на бересте азбуку и склады. Письмо на бересте было не первым, а вторым этапом обучения. Переход от воска к бересте требовал более сильного нажима, уверенной руки. И, научившись выводить буквы на мягком воске, нужно было снова учиться технике письма на менее податливой березовой коре.
Глава 4
«Послали карелы на Каяно море…»
В лето 1957 года, оказавшееся для археологов одним из самых удачных, принесло целый ворох новых берестяных писем. Шестьдесят девять грамот! Бывали дни, когда в горячей воде отмокало сразу по три-четыре куска исписанной бересты. Разумеется, и нетерпение участников экспедиции, жаждущих поскорее развернуть и прочесть новые грамоты, возрастало в такие дни. Особенно если по обрывкам слов на поверхности скрученного в тугую спираль свитка угадывалась особая значительность его текста. Так было с грамотой № 286, обнаруженной в слое середины века при вскрытии усадьбы, расположенной на углу древних Великой и Козмодемьянской улиц и условно обозначенной литерой «Е». Нам еще придется говорить и об условных обозначениях усадеб, план расположения которых показан в книге, и подробно об усадьбе «Е»: жившие в ней новгородцы за четыре столетия получили немало интересных писем, их найдено здесь свыше семидесяти. Пока же речь пойдет только о грамоте № 286. С первых минут ее находки, еще до того, как она попала в горячую воду и была развернута, ни у кого не осталось сомнения в том, что найден очень интересный и важный документ. На поверхности свитка, содержащего пространную шестистрочную запись, во второй строке отчетливо проступали многозначительные и многообещающие слова: «…князя Юрия…».
Две грамоты Григория. Наверху прорись грамоты № 283 — письмо Григория Дмитру о мирном договоре со Швецией. Внизу прорись грамоты № 278 — «присловня», написанные рукой Григория, карельского данника.
В самом начале этой книги говорилось о том, что берестяные грамоты составляют принципиально новый источник, впервые вводящий исследователя в круг таких средневековых отношений, которые почти не отражены в других исторических документах. Главное их достоинство в том, что они называют людей, о которых не упоминает летопись, и рассказывают о таких их действиях, которые для летописца не представляли никакого интереса. Однако эти люди жили и действовали в летописные времена, общаясь с хорошо известными по другим источникам историческими деятелями. Они населяли тот же мир, который под другим углом зрения был виден летописцу. Они были участниками или по крайней мере свидетелями важнейших политических событий, отраженных летописями. И поэтому очень важно, знакомясь по берестяным грамотам с древними новгородцами, увидеть их на фоне летописного рассказа. Берестяные письма, упоминающие известных исторических деятелей, — как мостики, ведущие из глубины раскопа в летописный рассказ.
Немаловажно и то, что упоминание известных истории лиц позволяет проверить датировку грамот, полученную другими принятыми в археологии способами. В 1957 году в Новгородской экспедиции еще не была разработана дендрохронологическая шкала, позволяющая теперь точно датировать слои и находки.
Упоминание в грамоте № 286 князя Юрия могло бы послужить для возможной проверки принятых тогда датировок. В XIV веке в Новгороде княжил только один Юрий — внук Александра Невского и старший брат Ивана Калиты московский князь Юрий Данилович. Но он действовал в первой половине XIV века и был убит в Золотой Орде своим соперником тверским князем Дмитрием Михайловичем еще в 1326 году. Для слоя середины XIV века грамота времени князя Юрия как будто несколько старовата. Хотя, впрочем, нет ничего невозможного в том, что ее какое-то время хранили, прежде чем выбросить. И чем позже ее выбросили, тем важнее должно оказаться ее содержание. Но может ли так случиться? Если бы грамота долго оставалась на воздухе, она не имела бы такой отличный вид.
…Сомнения, надежды и предположения сменяют друг друга, пока грамота, медленно восстанавливая эластичность и смывая шестисотлетнюю грязь, плавает в кипятке. Но вот она в последний раз промыта кистью, просушена полотенцем, зажата между стекол. Можно читать.
Однако сначала окинем ее взглядом. В каком состоянии дошла она до нас? Целиком ли сохранилась или утратила часть своего текста? Насколько четко написана?
Да, она сохранилась почти целиком. Слева отрезана узенькая полоска, уничтожившая по одной-две буквы в начале первых пяти строк, но эти буквы, по-видимому, удастся восстановить по смыслу. Небольшой разрыв наверху, в середине грамоты уничтожил по три-четыре буквы в первой и второй строках. Несколько незначительных прорывов есть и в других местах текста, но они вряд ли смогут существенно помешать чтению. Письмо написано четким красивым почерком, не лишенным изящества. С особым вкусом его автор выписывает буквы «у» и «з», позволяющие делать росчерки.
Давайте все же читать:
«…ригории ко Дмитру…». Первые две буквы отрезаны, но их легко восстановить: «От Григория ко Дмитру…». Предлог «от» писался тогда через давно вышедшую из употребления «омегу», над которой изображали маленькую «т». Вот так: тω — две буквы умещается там, где современный читатель видит место лишь для одного знака. Значит, автором письма и владельцем красивого почерка был Григорий, а адресатом Дмитр. О чем же пишет Григорий Дмитру?
Здесь, в самом начале письма, нас ждет первая существенная трудность: отсутствие трех букв, уничтоженных прорывом в грамоте. Сохранившаяся часть строки выглядит так: «М… орове». Естественнее всего предположить, что Григорий опешит поделиться с Дмитром известием о самочувствии: «М(ы зд) орове». Оставим это чтение как временное, чтобы вернуться к нему после того, как узнаем весь текст письма.
Дальше читается гладко «А ты ходи, не бойся». Куда ходить? И чего не бояться? Ничего не скажешь, в письме появляется интрига! Ага, вот в чем дело: «Мир взяле…». Все ясно. Дмитр должен был куда-то идти, но там не было мира, а теперь мир заключен, и можно идти не опасаясь.
Продолжаем читать: «Мир взяле на…». Снова разрыв, но на этот раз только в одну букву: «…тарой меже Юрия князя…». Этот пропуск заполняется легко: «Мир взяле на (с)тарой меже Юрия князя…». Теперь нужно остановиться и обдумать прочитанное. О чем же здесь все-таки идет разговор?
Несомненно, о заключении какого-то мира, условием которого оказалось признание старой границы, «старой межи», установленной еще при князе Юрии. Для нас это сообщение имеет и второй важный смысл. Мы увидели, что упоминание князя Юрия в грамоте не было прижизненным, что это имя связывается с прошлыми событиями. А это значит, что наше сомнение, не противоречит ли упоминание князя Юрия условиям находки, неосновательно. Грамота относится ко времени более позднему, чем 1326 год.
О каком же мирном договоре сообщает Григорий Дмитру? Ответить на такой вопрос — значит не только точно датировать грамоту, но и понять, с какой целью Григорий написал письмо, разобраться в его дальнейших сообщениях. А там еще четыре с половиной строчки текста — втрое больше, чем мы прочли.
Очевидно, нужно внимательно просмотреть летопись и другие источники, выяснить, с кем воевал и с кем заключал мир князь Юрий. А потом поискать в позднейшем времени, но в пределах XIV века ситуации, которые оказались бы сходными с теми, какие были при Юрии.
Юрий Данилович воевал всю свою жизнь. Только в тот период, когда он был новгородским князем, он вел кровопролитные войны со своими соперниками — тверскими князьями, с которыми и мирился неоднократно. Он воевал и заключал мир также со шведами, на которых новгородцы под его предводительством ходили дважды — в 1322 и 1323 годах. Наконец, его поход в 1323 году в Заволочье, на Двину, на устюжских князей закончился подписанием мира. Один из мирных договоров князя Юрия сохранился, правда не в подлиннике, а в позднейших копиях. Это известный «Ореховецкий договор» с Швецией, заключенный 12 августа 1323 года в крепости Орехове на Неве.
В каком-то из договоров Юрия и названа та «межа», которую потом, именуя ее «старой межой Юрия князя», подтвердили при заключении нового мирного договора. Но где была эта межа? Между новгородскими и тверскими землями? Или это рубеж, отделяющий новгородские земли от шведских владений, северный рубеж Новгородских земель? Или эта межа между владениями Новгорода и землями Устюга? Заглянем дальше в текст нашей грамоты. Не поможет ли он увереннее вести поиски?
Мы дочитали до слов: «…на старой меже Юрия князя». После них на бересте снова разрыв в три-четыре буквы. А потом именно те слова, которые нам так нужны: «…ця послала кареле…». Гадательно заполняем разрыв: «(Ньше)ця послале кареле…». Главное здесь для нас — упоминание карел. Оно означает, что мир, о котором пишет Дмитру Григорий, заключен не на тверских рубежах и не в Заволочье, а там, где живут карелы, — на северо-западной границе Новгородской земли, в тех областях, где новгородские интересы сталкивались со шведскими. В таком случае из мирных договоров князя Юрия нам интересен только один — договор со Швецией.
Нам очень повезло. Именно этот договор — единственный из мирных договоров князя Юрия — сохранился до нашего времени. Отложим пока в сторону берестяное письмо Григория и вчитаемся в строки Ореховецкого договора 1323 года. Вот его торжественное начало: «Се яз князь великый Юрги с посадником Алфоромеем и с тысяцким Аврамом, с всем Новымгородом докончали есм с братом своим с князем свейскым с Манушем Ориковицем» — «Это я князь великий Юрий с посадником Варфоломеем и с тысяцким Авраамом, со всем Новгородом заключили мир с братом своим с князем шведским Магнусом сыном Эрика».
«А приехали от свейского князя послове: Гернк Дюуровиць, Геминки Оргисловиць, Петр Юншин, поп Вымундер; а ту были от купець с Готского берега Лодвик и Федор и докончали есмы мир вечный и хрест целовали. И дал князь великий Юрги со всем Новымгородом по любви три погосты: Севилакшю, Яскы, Огребу — корельскыи погосты. А розвод и межя…». Вот то, что нам нужно: «А развод и межя…» — описание границы между новгородскими и шведскими землями, установленной договором князя Юрия.
«А розвод и межя: от моря река Сестрея, от Сестрее мох, середе мха гора, оттоле Сая река, от Сае Солнечный камень, от Солнычнего камени на Чермьную щелю, от Чермьной щелье на озеро Лембо, оттоле на мох на Пехкеи, оттоле на озеро Кангасъерви, оттоле на Перноярьви, оттоле на Янтоярви, оттоле Торжеярви, оттоле Сергилакши, оттоле Самосало, оттоле Жити, оттоле Кореломкошки, оттоле Колемакошки, оттоле Патсоеки, оттоле Каяно море». «Межа князя Юрия» проложена через девятнадцать пунктов. Она начинается у одного моря и заканчивается у другого. Нам нет нужды прокладывать по карте «межу князя Юрия» через все девятнадцать пунктов. Дело это сложное и не всегда возможное. Многие пункты спустя пятьсот лет утратили свои старые наименования. Да и что, например, можно сделать с таким указанием: «мох, а посреди мха гора»? Однако начальный и конечный пункты этой границы установить нужно.
Начальный пункт легко найти и на современной карте. Река Сестра течет на Карельском перешейке и впадает в Финский залив Балтийского моря. А вот что такое Каяно море, в которое «межа князя Юрия» упиралась своим противоположным концом? Этот вопрос потруднее, однако летописи помогают ответить на него.
Спустя более чем полтораста лет после заключения Ореховецкого договора, когда Новгород уже потерял независимость и стал частью Московского государства, в 1496 году, московский князь «ооподарь всея Руси» Иван III послал своих воевод князей Ушатых, Ивана Бородатого да Петра «за море Немец воевати Каян». Во время этого похода, увенчавшегося успехом, московская рать повоевала реки Кемь, Торму, Колокол, Овлуй, Сиговую, Снежну, Гавку, Путаш и Лименгу. Разыскав на карте эти реки, мы сможем установить местонахождение «Каянской земли», а около нее и «Каяня моря». Большинство этих рек называется так и сейчас. Вот некоторые из них: «Кемь» — Кеми-Иоки, «Торма» — Торнио-Йоки, «Колокол» — Каликс-Эльв, «Овлуй» — Оулун-Йоки, «Сиговая» — Сика-йоки, «Лименга» — Лимитен. Все эти реки находятся в северной Финляндии, впадают в Ботнический залив Балтийского моря, а рядом с ними стоит современный финский город Каяни. Единственное море, омывающее эту землю, — Ботнический залив, который, по-видимому, и должен быть отождествлен с «Каяним морем». Кстати, и один из ближайших к Каяну морю пунктов «межи князя Юрия» — Колемакошки — связывается с районом озера Колимаярви, расположенного недалеко от побережья Ботнического залива.
Итак, конечный пункт «межи князя Юрия» находился на северовосточном побережье Ботнического залива. Все, что располагалось к юго-западу от линии Сестра — Каяно море, принадлежало Швеции; все, что было расположено к северо-востоку от этой линии, принадлежало Новгороду.
Вернемся теперь к берестяной грамоте № 286. Пока мы выяснили только, что имел в виду Григорий, говоря о «старой меже Юрия князя».
Карта Новгородской земли и прилегающих к ней территорий.
Ни время написания этого письма, ни обстоятельства, в которых оно было написано, нам еще неизвестны. Чтобы эти обстоятельства установить, нужно узнать, как развивались события на шведской границе Новгородской земли после заключения князем Юрием Ореховецкого мира. Сначала мирная обстановка на границе упрочилась. Спустя три года после заключения Ореховецкого мира Магнус, который был не только королем Швеции, но владел также и Норвегией, заключил с Новгородом еще один мирный договор — от имени Норвегии. Этот договор подтвердил правильность существующего рубежа между Новгородом и норвежскими владениями Магнуса от Ледовитого океана до стыка норвежских, шведских и новгородских границ. «Также, если норвежцы в течение последних лет перешли древнее означение или рубеж земель, — говорится в этом договоре, — то должны оставить и отдать русским их землю, по крестному целованию. Также новгородцы не должны переходить древнее означение и рубеж земель, по крестному целованию, а если перешли, должны точно так же отдать норвежцам их землю».
В течение следующих одиннадцати лет на северных границах Новгородской земли царит мир. В 1333 году принадлежащие Новгороду города Ладогу в устье Волхова, Ореховый в истоке Невы, Корельский на Ладоге (позднее он назывался Кекогольмом, а сейчас наименован Приозерском), Карельскую землю и половину города Копорье новгородцы дают в кормление литовскому князю Наримонту Гедеминовичу, только что принявшему крещение и — пожелавшему служить Новгороду.
В 1337 году, однако, миру приходит конец. Зимой в исходе 1337 или в начале 1338 года, рассказывает летописец, карелы подвели немцев (так летописец называет шведов) и побили новгородцев много, и купцов из Ладоги, и тех христиан, которые жили в Корельском городке, а сами побежали в Немецкий городок и в нем тоже перебили много христиан.
Весной новгородцы во главе с посадником Федором Даниловичем пришли на Неву в Орехов и вели переговоры с шведским воеводой Стенем, но не добились в этих переговорах успеха и вернулись в Новгород. Шведы после этого начали опустошать Обонежье, сожгли посад в Ладоге, но крепость взять не сумели. В ответ «молодцы новгородские с воеводами» опустошили земли вокруг Немецкого городка, сожгли урожай и иссекли скот. Шведы из Городка, дождавшись ухода «молодцов новгородских», вышли из своих укреплений и попытались захватить Копорье, но встретили здесь решительный отпор жителей. Летописец рассказывает также о трусости князя Наримонта, который не только отказался приехать и защищать пожалованные ему Новгородом земли, но и сына своего вывел из Орехова, боясь за его жизнь.
Все эти события происходили на протяжении 1338 года вплоть до зимы, когда в Новгород пришли из Выборга от воеводы Петрика послы, заявившие, что размирье с Новгородом произошло без ведома короля Магнуса, что «все то подеял Стень воевода о своем уме». Удовлетворенные таким объяснением новгородцы, как сообщает летописец, послали «Кузму Твердиславица и Олександра Борисовича посольством, и привезоша мир, доконцавше по тому миру, что доконцали с великим князем Юрьем в Неве, а про Кобылицкую Корилу послати к свейскому князю».
Вот мы и добрались до искомой истины. Новгородские послы Кузьма Твердиславич и Александр Борисович зимой 1338–1339 года заключили, по поручению Новгорода, мир со шведами, подтвердивший правильность и действенность более раннего мирного договора между шведами и великим князем Юрием «в Неве». Но это ведь и есть договор 1323 года, утвержденный великим князем Юрием Даниловичем в построенной им крепости на Ореховом острове у истока Невы. Значит, именно Кузьма Твердиславич и Александр Борисович «взяли мир на старой меже Юрия князя», о котором пишет Дмитру Григорий. Значит, и наша берестяная грамота была послана Дмитру в связи с событиями 1338–1339 годов.
А что это за кобылицкая карела, вопрос о которой можно было решить только с самим Магнусом? Об этом некоторые подробности сообщает новгородская летопись.
Летом 1339 года новгородцы отправили «за море к свейскому князю» посольство с уже знакомыми нам Кузьмой Твердиславичем и Александром Борисовичем во главе. Кроме них в состав посольства входили их «други» и племянник новгородского архиепископа Матвей. Послы разыскали короля Магнуса в городе Людовле и «доконцаша мир по старым грамотам». А о карелах договорились так: «Если к вам бегут наши карелы, секите их или вешайте. Если ваши к лам побегут, то мы с ними поступим так же, чтобы они нас не ссорили друг с другом. А этих карел не выдадим: они крещены в нашу веру. И без того их мало уцелело, а то все погибли». Речь, стало быть, идет о православных карелах, которые составляли главную опору новгородцев в Карельской земле, о тех «христианах», которых много погибло за год до того в Карельском и Немецком городках, да и вообще, вероятно, во всей пограничной полосе, охваченной войной.
Теперь мы можем продолжить чтение берестяного письма. «(Ныне) ця послале кореле на Каяно море а…». Дальше небольшой разрыв и после него слова: «…омешай, не испакости каянецамо ни соби». По смыслу разрыв заполнить нетрудно: «а (не п)омешай, не испакости…». Григорий сообщает Дмитру, что карелы послали своих гонцов на Каяно море, и, когда Дмитр приедет, ему надо вести себя осмотрительно, чтобы не помешать и не напортить каяничам и себе самому. Речь, кажется, идет здесь вот о чем. Согласно договоренности с королем Магнусом, на территории, принадлежащие Новгороду, должны вернуться карелы-христиане. Вероятно, большая часть их убежала за новгородские рубежи, как, впрочем, и многие некрещеные карелы. Каяничи должны уговорить их вернуться, однако договор о взаимной выдаче и наказании бежавших карел существует и вызывает всеобщий страх. В этих условиях Дмитру, когда он приедет к карелам-каяничам, нужно вести себя осторожно, чтобы не спугнуть тех, кто перебежал или собирается прийти из-за шведского рубежа, и не восстановить против Новгорода верных ему карел.
Если это соображение правильно, то мы можем догадываться, что Григорий написал свое письмо Дмитру уже летом 1339 года, после встречи новгородских послов с Магнусом в Людовле. Он хорошо осведомлен о действиях, предпринятых карелами в одном из самых удаленных от Новгорода уголков Новгородской земли, и первым сообщает Дмитру о заключении мира, об успехе новгородского посольства в Людовле у короля Швеции и Норвегии. Можно думать, что «мир был взят» официально и окончательно только после того, как сам Магнус признал «старые грамоты» и утвердил договор, заключенный новгородцами с воеводой Петриком. В таком случае, очевидно, Григорий принадлежал к свите послов, к числу тех их «другов», о которых упомянул летописец.
А кто такой Дмитр? Почему он должен ехать к карелам, где ему придется думать не о спокойной жизни, а об осторожности, проявлять дипломатическую изворотливость, чтобы не навредить, между прочим, и самому себе? Что об этом говорится в письме Григория?
«Присловия возми, а (к) и поймало дани лонескии…». Такого термина — «присловия» — в словарях древнерусского языка нет, а в словарях живого языка он означает «присказку», «прибаутку». Но, как мы уже убедились, Дмитру в его поездке вовсе не до прибауток. Значение термина «присловия» в общем понятно из общего смысла фразы. «Присловия возьми, как собрал прошлогодние дани». «Лонеские» значит прошлогодние. «Поймало» значит собрал. А «присловия», по-видимому, мы должны понимать как «памятную записку», на которую можно ссылаться при сборе новых даней в этом году. «Возми и мои», — пишет далее Григорий. Здесь, конечно, имеются в виду такие же «присловия», но составленные Григорием.
Теперь многое прояснилось. И Григорий, и Дмитр — оба сборщики дани с подвластных Новгороду областей. Такие сборщики дани в древней Руси назывались «даньниками». Новгородская летопись еще под 1169 годом упоминает некоего Даньслава, который ходил на Двину за Волок «даньником с дружиною», а под 1216 годом в той же летописи сообщается о смерти в бою Семена Петриловича — «терьского даньника». Терский данник собирал дани на Терском берегу — так назывался тогда южный берег Кольского полуострова. А Григорий и Дмитр были «карельскими даньниками» Новгорода, собиравшими дани на Карельском перешейке и по всему шведскому рубежу Новгородской земли.
Вернемся к чтению письма Григория. «А уцюеши, а не пойду к Но…и, ты тогодъ иди». Здесь небольшой, но, к сожалению, невосполнимый разрыв, который пришлось обозначить многоточием. Но этот разрыв не мешает понять, что Григорий дает указания Дмитру, как тому быть, если Григорий почему-либо не явится на условленный пункт встречи с Дмитром: «Если станет ясным, что я не пойду к. Но (…) и, ты тогда иди (без меня)». «А дома здорово, а на меня вестей перечиня…о». Здесь самое трудное слово «перечинять». Л. В. Черепнин так объясняет его: «Значение глагола „чинити“ многообразно; в таких сочетаниях, как „чинити ведомо, знаемо“ он означает „извещать“». Тем более это значение применимо к сочетанию слов «вестей перечинять». По-видимому, смысл фразы можно понять так: «(Я знаю), что дома все в порядке, меня об этом уже известили». Зато последняя фраза письма понятна без перевода: «Аже возможете, пособляй мне цимо». «Цимо» значит — чем.
Откуда и куда написана эта грамота? Л. В. Черепнин считает, что Григорий написал ее в Новгороде, вернувшись туда из Людовля, а Дмитр, следовательно, находился где-то вне Новгорода. Вряд ли с этим можно согласиться. Во-первых, грамота ведь найдена в Новгороде. Трудно представить, чтобы Дмитр, получив ее где-то вдали от Новгорода, потом привез ее туда. Во-вторых, сам Григорий, несомненно, был новгородцем. Как важный чиновник Новгородской республики он и жить должен был в Новгороде. Но он пишет, что его известили, что дома все благополучно. Значит письмо написано вне дома. Он как бы предупреждает недоумение Дмитра, который вправе был удивиться, почему это Григорий не спрашивает его о домашних делах после долгого отсутствия. Наконец, Григорий просит Дмитра захватить с собой прошлогодние «присловия» и Дмитровы и свои, а эти «присловия», нужно думать, хранились там, где Дмитр и Григорий жили постоянно.
Можно поразмышлять о месте, где Григорий написал это письмо. Вернемся к началу грамоты. Разрыв в первой строке «М…орове» был предположительно восстановлен как «М(ы зд)орове». А может быть, здесь речь идет о более важных для Дмитра вещах. Ему, наверное, небезынтересно было знать, откуда пишет ему Григорий, откуда он, не заезжая в Новгород, намеревается выехать к месту их встречи. Ведь этот разрыв можно заполнить и иначе, например: «М(ы на Н)орове» или «М(ы в Н)орове». Норова или Нарова — так называлась пограничная с шведами новгородская волость на реке Нарве, которую никак не могло миновать посольство, возвращавшееся от Магнуса в Новгород. Это, к тому же, и пункт, в котором должны были разойтись дороги Григория, если бы он пожелал идти к карелам, и посольства, которому предстоял путь домой.
Вот мы и дочитали нашу грамоту до конца. Из-за ее шести строчек перед нами встали поросшие соснами дали озерной Карелии, мшистые скалы Финляндии, свинцовые волны Ботнического залива — Каяня моря, пламя жарких схваток на далеких северных рубежах Новгорода, санные обозы шведских послов на снежных дорогах Новгородской земли, посольские ладьи новгородцев и два новгородских «даньника» Григорий и Дмитр, о которых ки один человек в мире не знал ровным счетом ничего на протяжении последних пяти столетий, хотя им было что рассказать о своем времени.
Наше знакомство с Григорием на прочтении его письма не кончается. Просматривая другие грамоты, найденные на усадьбе «Е» в слоях середины XIV века, мы невольно остановимся на одной берестяной записке, которая привлечет наше внимание теми же лихими росчерками букв «у» и «з», какие нам так понравились в письме Григория. Сравнивая последовательно все буквы в грамоте № 278 и только что прочитанном письме Григория к Дмитру, мы уверенно можем сказать: да, это почерк одного человека, знакомого нам карельского «даньника» Григория, Обе грамоты найдены хотя и не в один день, но в одну неделю. Их разделяют какие-нибудь восемь метров по прямой, хотя грамота № 278 и попала в землю лет на двадцать позднее письма Дмитру. О чем же пишет Григорий в этой своей записке? А вот о чем:
«У Икагала у Кривца 3 кунице. У Иголаи дове и в Лаидиколе полорубля и 2 кунице. У Леинуя в Лаидиколе 6 бел. У Филипа у деяка 30 бел. У Захарии и в Калинина полосорока и 5 и 5 бел. У Сидуя у Авиници 4 куници. У Миките Истовнои у Еванова 6 куници. У Муномела в Куроле у Игалина брата полорубля и 2 куници. У Лег…».
Записка не разорвана. Она не дописана Григорием. Это список повинностей. Белы и куницы, которые в нем упомянуты, — названия денег того времени. Имена, названные в записке, в большинстве своем карельские: Икогал, Иголай, Леинуй, Сидуй, Муномел Игалин брат. Названия населенных пунктов — Лаидикола, Курола — тоже карельские. Можно догадываться, что русские имена принадлежат крещеным карелам. Во всяком случае, Икогал, Иголай, Леинуй и остальные карелы с языческими именами живут в местности, где есть православная церковь. Ведь среди прочих лиц в грамоте назван и Филипп дьяк. Именно так и должен был выглядеть список даней, те «присловия», о которых говорилось в письме Григория Дмитру.
А вот еще два «присловия» из тех же слоев середины XIV века, правда, найденные не на усадьбе «Е». Одно из них обнаружено на мостовой древней Холопьей улицы еще в 1951 году, в год открытия берестяных грамот. Это грамота № 2: «Аекуев бела росомуха. У Фоме 3 куници. У Мики 2 куници. У Фоме соху даль, дару куницю. Вельяказа 4 куница. Игугмор на Волоки куница. У Мятещи 2 куници. У Вельютовых 2 куници. У Воземута 2 куници. У Филипа две куници. У Наместа 2 бели. У Жидили куница, Воликом острове куница. У Вихтимаса 2 белки. У Гостили 2 куници. У Вельюта 3 куници. У Лопинкова 6 бел.»
Другое «присловие» найдено не при раскопках, а в котловане строившегося рядом универсального магазина. Там, в котловане, ни о каких слоях говорить не приходилось, грамота была выхвачена из-под ковша экскаватора и датировку получила на основании особенностей ее букв. Ее номер 403, она найдена в 1960 году и гласит: «У Марка коробея. У Гымуева брата полуторе белки в Сандалакши. У Мунданахта 2 беле. У Пюхтино коробея, то в Погии. У Наймита белка». А ниже: «Соромо гулкия», «Вели кяски», «Кисело хапала», «Царево социле кохти», «Кюзу веле кадо нин далы».
Снова карельские имена, карельские деревни, карельские слова. И снова перечень повинностей…
Прежде чем проститься с Григорием, заглянем еще раз в летопись. Напомню, что в 1333 году новгородцы пожаловали новокрещенного литовского князя Наримонта карельскими землями. Когда новгородцы решили пригласить его к себе, они отправили к нему послов — Григория и Александра. Конечно, невозможно доказать, что наш Григорий и тот, который ездил в Литву, — одно и то же лицо. Имя Григорий было в Новгороде одним из самых излюбленных. Однако наш Григорий тесно связан с Карельской землей, а это говорит в его пользу: кто-то из послов ведь должен был подробно рассказать Наримонту о его будущем уделе. Наш Григорий — возможный участник посольства к королю Магнусу, дипломат. Наконец, фактически распоряжаясь государственными доходами с огромной территории, он принадлежал к числу влиятельных лиц в новгородской боярской администрации. А это ведь тоже обстоятельство, говорящее в его пользу.
Глава 5
Еще «карельские» грамоты
Кроме четырех берестяных грамот с карельскими именами и «карельскими сюжетами», о которых только что было рассказано, экспедиция добыла на Неревском раскопе еще четыре «карельских» письма. Эти четыре грамоты найдены на усадьбе «Е», но три из них происходят из слоев самого конца XIV века и начала XV века, а одна извлечена из слоя середины XIII века.
Разложим-ка теперь на столе все восемь наших «карельских» грамот и посмотрим, что из этого получится. А получается то, что из восьми грамот шесть происходят с усадьбы «Е». Если при этом учесть, что из остальных двух одна найдена вне раскопа, а другая в древности была потеряна на улице, то ту же мысль можно выразить еще определеннее. На восьми из раскопанных полностью или в значительной своей части усадеб не было найдено ни одной грамоты, своим содержанием связанной с карелами, и только на усадьбе «Е» такие грамоты встречены. И встречены в заметном количестве. Элемент случайности тут роли играть не может. Ведь на Неревском раскопе и около него найдено в общей сложности свыше четырехсот берестяных грамот, а вот «карельские» концентрируются только на одной усадьбе.
Если бы все эти грамоты нашли в одном слое, все было бы понятно. Мы сказали бы, что это часть единого «архива», принадлежащего человеку, тесно связанному с Карелией. Но тут этого не скажешь. Из шести «карельских» грамот усадьбы «Е» одна попала в землю в середине XIII века, две — в середине XIV века и три — на рубеже XIV и XV веков. Нет, с Карелией была тесно связана целая усадьба, а не один человек. И связь эта не прекращалась по крайней мере полтораста лет, то есть несколько поколений.
О характере этой связи в середине XIV века мы уже знаем. Тогда на усадьбе «Е» жил «даньник» Дмитр, собиравший дани в Карельской земле. Его карельская переписка имела, таким образом, служебное значение. Однако оказалось, что и более поздние «карельские» письма связаны с принадлежностью усадьбы «Е» карельским «даньникам» Новгорода.
Грамота № 281, найденная все в том же удачном 1957 году, не содержит на первый взгляд ничего карельского, и мы не включили ее в счет шести «карельских» писем усадьбы «Е». Но она полностью называет должность адресата — человека, жившего в конце XIV века на усадьбе «Е», хотя и умалчивает о его имени: «Поклон от Наума и от Григория к данику новгороцдему и к новгородцам, кто изгодидце тамо. Послале есме свои люди 3 человеке, свои…».
Письмо разорвано. Конец его не сохранился, и общий смысл его не ясен. Однако важные наблюдения могут быть сделаны и на уцелевшей части грамоты. Прежде всего ее следует перевести на современный язык: «Поклон от Наума и Григория к даннику новогородскому и к тем новгородцам, к которым это имеет отношение. Мы послали своих людей, трех человек…». Единственное трудное слово в этом тексте: «изгодиться». В словаре живого русского языка «изгодиться» значит «стать годным» к чему-нибудь.
Рабочий момент на раскопках А. В. Арциховский беседует с финскими археологами, участниками Новгородской экспедиции.
Конечно, один из авторов письма Григорий — это не тот Григорий, с которым мы уже хорошо знакомы. И дело тут не только в несходстве почерков, почерк мог принадлежать и Науму. Тот Григорий написал свое письмо Дмитру, в 1339 году, а этот обращается к новгородскому даннику спустя по крайней мере полсотни лет.
Тот Григорий сам был данником и должен прекрасно знать, кто из новгородцев имеет отношение к практике сбора дани. Авторы же грамоты № 281 не знают новгородского данника даже по имени. По-видимому, это письмо написано местными феодалами, недовольными размерами поборов. Не вполне ясно, где они жили, однако достаточно хорошо известно, что «дань» новгородцы собирали только в завоеванных Новгородом северных странах — в Карелии, на Кольском полуострове, в Заволочье, в Пермской земле, на тех территориях, которые в Новгороде гордо назывались «волостями новгородскими». На русских землях поборы с населения назывались иначе.
«Место работы» адресата грамоты № 281 раскрывает одно из «присловий», принадлежащих именно этому даннику, поскольку оно происходит из тех же слоев рубежа XIV и XV веков. Это грамота № 130. Ее нашли в 1954 году, когда был раскопан лишь небольшой участок усадьбы «Е»: «У Вигаря 20 локот хери без локти. У Валита в Кюлолакши 14 локти хери. У Ваиваса у Ваякшина 12 локти водмолу и полотретиянацате локти хери. У Мелита в Куроле 4 локти хери».
Здесь поборы исчислены не в деньгах и не в пушнине. Вигарь, Валит, Ваивас Ваякшин и Мелит обязаны все вместе уплатить 12 локтей «водмолу» и 49½ локтей «хери». Слово «хери» в современных языках не сохранилось, а вот слово «водмол» и теперь живет в Эстонии, Карелии и Финляндии. Оно означает грубую домотканую шерстяную материю. Какой-то другой сорт ткани назывался «хери». Об этом, впрочем, можно догадаться и не зная значения слова «водмол». Ведь локтями в древности измеряли именно ткань, как позднее ее измеряли аршинами, а теперь метрами. Даже деревянная линейка, изобретенная людьми специально для измерения ткани, первоначально называлась локтем, потом аршином, а теперь метром. Локоть был равен примерно 46 сантиметрам. В его основе лежит длина руки от локтевого сгиба до вытянутого среднего пальца.
Как видим, дань платили и тканями. А это значит, что там, где ее собирали, ткачество получило значительное развитие и составляло важную часть жизнедеятельности тамошнего населения.
Где же жили Вигарь, Валит, Ваивас Ваякшин и Мелит? Да все в той же Карелии. Об этом говорят не только их карельские имена, но и названия населенных пунктов — Курола и Кюлолакша. Курола уже упоминалась в одном «карельском» письме: в грамоте № 278 наш знакомец Григорий записал: «У Муномела в Куроле у Игалина брата полорубля и 2 куници».
Карельским погостом была и Кюлолакша. Впрочем, о Кюлолакше у нас будет особый разговор в связи с другими «карельскими» грамотами.
Вот мы и убедились, что безымянный новгородский «даньник» грамоты № 281 связан со сбором карельской дани. Окончательно такой вывод подтверждается еще двумя грамотами, найденными на его усадьбе. Эти две грамоты обнаружены дождливой осенью 1956 года, когда раскоп, врезавшийся в толщу наслоений на усадьбе «Е» до примерного уровня конца XIV века, уже готовили к консервации на зиму. На линии квадратов, примыкавших к стене раскопа, делали последние подчистки, упаковывались коллекции для отправки в Москву. Еще работал насос, но через день-другой воду, заливающую раскоп и дружно проклинаемую всей экспедицией, перестанут откачивать. Ей некому будет мешать в работе. Наоборот, она надежно сохранит до будущего года недокопанный культурный слой. Скоро можно сбросить надоевшие брезентовые плащи… И вдруг: «Грамота!».
Пятьдесят четвертый раз в этом году звучал над раскопом ликующий крик «Грамота!». Грамота! И не одна, а сразу две в одном комке.
Обе, к сожалению, не сохранились полностью. Что ж! Мы хорошо знаем, что иногда и обрывок стоит нескольких целых писем.
Внимание! Читаем грамоту № 248; «Беют челом корила погоская Кюлолакская и Кюриеская Господину Новугороду. Приобижени есмь с нимецкой половине. Оцтина наша и дидена… а нас. У Вымолчов, господда, имали крецетея… мопь. Вьржи пограбиле, а сами есмь… ина… алуи 10, а у…».
Сразу же переведем, чтобы не мешали непонятные слова: «Бьют челом карелы из погостов Кюлолакшского и Кирьяжского Господину Новгороду. Обижены мы с немецкой половины. Земля отцов наших и дедов… У Вымолцов, господа, отняли кречетов… Верши рыболовные пограбили, а сами мы…».
А о чем написано в другой грамоте — № 249? Да все о тех же обидах: «У Питина сына у Игали и у Микиты третьего л… на 14 рублей». Грамота начинается как бы с середины фразы, хотя ее первая строка не оборвана. Это страница из длинного письма, написанного на нескольких листах бересты. Такие странички из других писем встречались при раскопках и раньше. Судя по дальнейшему тексту, в начале страницы рассказывалось, как у Игали Питина сына и Микиты в позапрошлом году, «третьего лета», было отнято имущество на 14 рублей.
Читаем и переводим дальше: «Микулин человек Стень на… Коневых Водах у Жабия Носа избили Нас… вуева сына и Кавгалу. А отняли товара на 10 рублей». Здесь все ясно: Стень, Микулин человек, вместе с кем-то из своих дружков избил Кавгалу и другого карела, имя которого в грамоте не сохранилось полностью, и отняли у них товара на 10 рублей. Это случилось на Коневых Водах у Жабия Носа.
Дальше все читается без разрывов: «Также лопарь Киреев сын отнял. В прошлом году у Гювиева сына у того же Жабия Носа Севилакшане, приехав в количестве восьми человек, отняли товара на 5 рублей и лодку. На тех же Коневых Водах у Мундуя Вармина сына отняли 10 лендом рыбы…». Дальше грамота оборвана. От следующей строчки видны только самые верхушки букв.
О чем же все-таки рассказывается в этих двух грамотах? Чтобы разобраться в запечатленных в них событиях, вернемся ко времени великого князя Юрия Даниловича, к войне 1323 года и договору, заключенному между новгородцами и шведами на Ореховом острове в истоке Невы.
В этом договоре не только описана «межа князя Юрия», в нем содержатся и другие установления, призванные регулировать жизнь карел на границе Новгородской земли и Швеции. Вот одно из них: «И дал князь великий Юрги со всем Новымгородом по любви три погосты: Севилакшу, Яскы, Огребу — карельские погосты». Желая устранить причину постоянных столкновений на границе, новгородцы передали Швеции три карельских погоста, до тех пор принадлежавших Новгороду. Их финские названия: Саволакс, Яскис, Эврюня. Эти три погоста составляли западную часть Карельского перешейка, а восточная его часть оставалась под новгородским управлением.
Вот другое из этих важных установлений: «А что наших погостов новгородских воды, и земли, ловищ: Уловежи половина во всем, Ковкукали половина, Ватикиви половина, Сумовиси половина, Уксипя половина, Урбала половина, Кедевя шестая часть бобров, Кунустани шестая часть бобров — за рубежом, а то все к Новугороду…». Здесь перечислены принадлежавшие новгородским карелам земли, рыбные ловли и бобровые угодья, находящиеся за «межой князя Юрия». Туда безотказно шведы должны были пускать новгородских подданных за своей долей урожаев и промыслов. А отсюда следует, что хозяйственные взаимоотношения на границе были сложны и опасны новыми столкновениями из-за определения доли доходов.
Прорись грамоты № 292. Древнейшая надпись на карельском языке. XIII век.
В грамоте № 249 перечислены такие столкновения. В ней вспоминаются обиды, нанесенные новгородским карелам на протяжении последних трех лет. Главным местом действия в этих столкновениях оказываются Коневы Воды у Жабия Носа. Такой пункт хорошо был известен в древнем Новгороде. В 1534 году новгородский архиепископ Макарий, сетуя на нетвердость в христианской вере подвластного русским населения финноязычных областей, перечислил районы, жители которых продолжали молиться языческим кумирам. Вот некоторые из этих областей: «…от Норовы реки до Невы реки и от Невы реки да Сестрин реки, до рубежа свейских Немец, и от всей Карельской земли и до Коневых Вод и за Нево езеро великое, и до каянских Немец рубежа…». Коневыми Водами назывался один из плесов на озере Сайма. Сейчас это плес Оривеси. По-фински «ори» значит конь, а «веси» — вода. На Оривеси находились богатые рыбные ловы.
Теперь обратите внимание, на кого жалуются в грамоте № 249: «В прошлом году у Гювиева сына у того же Жабия Носа Севилакшане, приехав в количестве восьми человек, отняли товара на 5 рублей и лодку…». Вот кто, оказывается, виноват в обидах, тщательно перечисленных карелами в их берестяном письме: Севилакшане, жители Севилакши, одного из трех бывших новгородских погостов, уступленных «свейским немцам» в 1323 году. Авторы письма действительно «приобижены с немецкой половины».
Одна из фигурок новгородских «домовых» — свидетельство существования остатков древнего языческого культа в христианском городе.
«Приобижены с немецкой половины…». Но ведь это из другого письма, из грамоты № 248. Однако и в ней жалобы того же рода. Рыболовные верши пограблены у жителей Кюлолакши и Кирьяжского погоста, кречеты отняты у карел-охотников, притеснениям подверглись они на земле отцов и дедов, «приобижены с немецкой половины». Может быть, и Валит приобижен? Помните, о нем говорится в грамоте № 130: «У Валита в Кюлолакши 14 локти хери»?
А теперь остается сказать, что обида новгородских карел не осталась неотомщенной. Новгородцы собрали войско и под водительством своего служилого князя Константина Белозерского выступили в поход на «свейских немцев». Ну уж этого-то в грамотах нет, заметит любой читатель, это придумано, чтобы рассказ о двух последних находках 1956 года не остался без конца. Да, в грамотах этого нет, но давайте еще раз сопоставим наши берестяные письма с летописными сообщениями.
Берестяные грамоты № 248 и 249 обнаружены в напластованиях шестого яруса, который, по данным дендрохронологии, датируется 1396–1409 годами. Вот о чем рассказывает под этими годами новгородская летопись:
«В лето 6904 (это соответствует 1396 году в нашем летосчислении). Того же лета пришедше Немци в Корельскую землю и повоеваша 2 погоста: Кюрьескый и Кюлоласкый, и церковь сожгоша; и князь Константин с Корелою гнася по них, и язык изима и присла з Новъгород».
Видите, как краток летописный рассказ. И сколько добавили к нему две берестяные грамоты, которые и сохранились-то не полностью, а в обрывках. Мы увидели, как исподволь, долгие годы испытывалось терпение жителей Кюлолакши и Кирьяжского погоста, и Коневых Вод и как в критический момент они обратились за помощью в Новгород, для которого они были не только плательщиками дани, но и союзниками и который для них был не только господином, но и защитником.
По-иному мы смотрим теперь и на владельца усадьбы «Е». Его обязанности как «даньника карельского» не сводились к сбору даней и выколачиванию недоимок. Он внимательно следил за положением в подведомственной ему области. К нему шлют не только «присловия», но и жалобы. И как бы непрезентабельно ни выглядели наши две грамоты, от остальных пятисот девятнадцати их отличает одно важное свойство: главную свою роль они сыграли не в XX веке в качестве исторического источника, а в конце XIV века, когда их получение в Новгороде заставило звонить в вечевой колокол, собирать дружину и скакать неближним путем, чтобы отомстить за обиды Игали Питина, Гювиева сына и Мундуя Вармина.
И еще несколько слов о последней карельской грамоте, найденной в слоях середины XIII века. Это грамота № 292. На ней надпись в три строки: «Юмалануоли 10 нимижи ноули се хан оли омо боу юмола соудьни иохови».
Не очень понятно? Представляете, какие лица были у сотрудников экспедиции, когда, развернув грамоту, они пытались постигнуть, о чем же здесь речь? Прочел грамоту известный специалист в области финской филологии Ю. С. Елисеев. Вот его перевод:
«Божья стрела (молния) десять имен твоих. Стрела та она принадлежит богу. Бог судный направляет».
Это заклинание, языческая молитва. Одна из тех, какие возбуждали негодование архиепископа Макария триста лет спустя. Пережитки язычества в XIII–XV веках в Новгороде были очень устойчивы даже в среде православного населения. Об этом, в частности, говорят нередкие при раскопках находки деревянных фигурок домовых. Так что ничего принципиально нового для представлений о средневековом Новгороде грамоте № 292 не давала. Но не было людей счастливее карельских лингвистов, когда нашли эту грамоту. Дело в том, что она на шестьсот лет старше всех известных сегодня текстов, написанных по-карельски. Правда, неплохая находка?
Итак, шесть разновременных «карельских» грамот на одной усадьбе. Полтораста лет усадьба «Е» была тесно связана с Карелией. Думается, что эта связь достаточно прочна, чтобы сделать важный для нас вывод о наследовании должности данника в средневековом Новгороде. Право собирать дани в определенном районе, в нашем случае в Карелии, принадлежало определенной семье, которая поддерживала это право и охраняла его.
Вот и все, что мне хотелось рассказать о «карельских» грамотах. О восьми берестяных документах. Из пятисот двадцати одного.
Глава 6
Два посадника
Если бы меня спросили, какое событие в Новгородской экспедиции было самым значительным после открытия берестяных грамот 25 июля 1951 года, я ответил: конечно, находка грамоты № 94 6 августа 1953 года.
Эта находка впервые слила, воедино два мира, до тех пор лишь соприкасавшихся друг с другом, — мир летописных событий русской средневековой истории и мир вещественных, археологических источников. До этой находки разница в подходе к своим источникам у археологов, работающих над памятниками материальной культуры, и историков, изучающих письменные документы, несмотря на общность конечной цели, была более чем значительна.
Собственно историки постоянно изучают события и факты, тесно связанные с именами тех или иных людей. Для них раскрытие закономерностей исторического процесса по существу немыслимо без скрупулезного анализа деятельности конкретных исторических лиц. Археологи же поступательный ход истории исследуют не по поступкам людей, имена которых хорошо известны, а по отражению закономерностей исторического процесса в памятниках материальной культуры, знакомясь с орудиями труда, жилищем, утварью, остатками пищи, одежды, украшениями — всей бытовой обстановкой, окружавшей человека в древности.
Сцена истории для историков была наполнена действующими лицами, но лишена декораций. А для археологов она была беспорядочно загромождена самыми разнообразными — в большинстве сломанными — предметами. И пока действие не началось, археологи пытались представить себе содержание пьесы, внимательно разглядывая ее декорации.
Сигнал к началу действия прозвучал 26 июля 1951 года, когда на сцену одно за другим стали выходить действующие лица. Проскакал Человек на жеребце и привез Борису забытую рубашку, Петр попросил, Марью прислать ему описок с купчей грамотой, Онанья потребовал у Федосьи пива, потом печальная Настасья оплакала с детьми своего мужа… Действие разворачивалось, новые актеры появлялись из-за кулис, но это не те действующие лица, которые по письменным источникам — летописям и актам — уже были известны историкам. Те продолжали, толпиться за сценой, выхваченные из привычной им обстановки городской усадьбы.
И вот летом 1953 года нашли грамоту № 94. Она была изорвана и не сохранила конца. Но первые ее три строчки читались полностью, и в четвертой можно разобрать несколько слов. Вот ее текст: «Биють целом крестьяне господину Юрию Онцифоровицю о клюцнике, зандо, господине, не можем ницим ему удобритися. Того, господине, с села… господине буянить. А себе, господине…».
Грамота чрезвычайно интересна по содержанию. Об этом мы еще подробно поговорим. А тогда, в момент находки, она произвела необычайный эффект именем своего адресата.
Юрий Онцифорович! Это имя хорошо известно в новгородской истории. Его носитель много раз назван в летописи и других письменных источниках. В 1376 году, когда летописец впервые упомянул его в своем рассказе, Юрий Онцифорович в числе других новгородских бояр сопровождал в Москву едущего на переговоры с митрополитом новгородского архиепископа Алексея. Спустя четыре года, в 1380 году, он снова участвует в посольстве, на этот раз отправленном из Новгорода для переговоров с Дмитрием Донским, великим князем Московским и всея Руси. Его дипломатические способности, проявленные во время этих двух поездок в Москву, были по достоинству оценены, и на следующий год, когда из Полоцка пришло известие о нападении Литвы, новгородцы послали к литовскому князю Ягайле заступаться за полочан именно боярина Юрия Онцифоровича.
В 1384 году Новгород использует его организаторские таланты, назначив воеводой на Лугу ставить новый каменный город Ямы. Ныне этот город, заложенный Юрием Онцифоровичем, называется Кингисепп. В 1393 году, когда у Новгорода началось размирье с московским князем Василием Дмитриевичем, Юрий Онцифорович во главе «охочей», то есть собранной из добровольцев рати, идет воевать княжеские волости.
В 1401 году он снова участник посольства в Москву и Тверь. В 1409 году новгородцы избрали его посадником — главой всей Новгородской республики. Посадником он оставался до самой смерти в 1417 году, одновременно возглавляя новгородские войска и выполняя важнейшие дипломатические поручения республики. В 1411 году он ходил с новгородскими полками под Выборг, а в 1414 году ездил в Литву заключать мир с князем Витовтом.
Рассказывая о его кончине в 1417 году, летописец сообщает, что Юрий перед смертью был нем год и три месяца: еще в 1416 году его разбил паралич, от которого он так и не оправился.
Летопись повествует также о кипучей строительной деятельности посадника Юрия Онцифоровича. Он построил в Новгороде много церквей, в их числе Успенскую церковь Колмова монастыря в окрестностях города, где его и похоронили. О месте погребения Юрия Онцифоровича, впрочем, известно не из летописи. О нем упомянуто в сохранившемся тексте духовного завещания правнучки Юрия Орины, которая перед смертью отказала свое имущество Колмову монастырю, написав, что на Колмове лежит весь ее род, начиная с прадеда Юрия Онцифоровича.
Еще одна подробность из жизни Юрия Онцифоровича была хорошо известна историкам. Однажды, нуждаясь в крупной сумме денег, он продал другому боярину — Михаилу Федоровичу Крюку, жившему в Москве, за девяносто рублей принадлежавшее ему село, о чем по всей форме был составлен сохранившийся до наших дней документ. Этим селом было Медное, неподалеку от Торжка, ставшее знаменитым спустя четыреста лет, когда Радищев в своем «Путешествии из Петербурга в Москву» посвятил ему одну из самых горьких и гневных глав.
Берестяная грамота № 94 была обнаружена в слое шестого яруса, то есть самими условиями своего залегания датировалась рубежом XIV и XV веков. И эта дата делала несомненным вывод о том, что найденное в раскопе письмо крестьян послано не человеку, случайно носившему такое же имя, а знаменитому посаднику и дипломату, военачальнику № градостроителю Юрию Онцифоровичу. О том же говорили и все прочие обстоятельства. Адресат назван «господином», а такое обращение в грамотах встречается не часто. Его отчество принадлежит к числу редчайших в Новгороде.
Находка такой грамоты была выдающимся событием для всей экспедиции, но особую радость она доставила Артемию Владимировичу Арциховскому. Ведь еще в 1938 году он выступил со статьей о природе новгородского политического строя, в которой важную мысль о принадлежности государственной власти в Новгородской республике немногочисленным аристократическим родам иллюстрировал пример рода Юрия, Онцифоровича. В этой статье были собраны материалы о предках Юрия — его отце посаднике Онцифоре Лукиниче, его деде Луке Варфоломеевиче, его прадеде посаднике Варфоломее Юрьевиче и прапрадеде Юрии Мишиниче. Отцом наиболее отдаленного достоверного предка Юрия Онцифоровича — Юрия Мишинича, по предположению А. В. Арциховского, высказанному в той же статье, был новгородец Миша, о подвигах которого рядом с Александром Невским в битве 1240 года на Неве сохранила яркое воспоминание летопись.
Эта радость особенно подогревалась надеждами на повторные находки грамот, адресованных Юрию Онцифоровичу и его семье. Ведь если раскоп войдет в напластования посадничьей усадьбы, береста с этой усадьбы сможет поведать о целой династии руководителей Новгородской республики, даст новые материалы о характеристике новгородского политического строя, в котором для нас еще очень много неясного.
Однако были ли основания для таких надежд? Адресованная Юрию Онцифоровичу берестяная грамота № 94 найдена не на территории какой-либо усадьбы. Ее обнаружили в перекопе, в канаве, вырытой в конце XIV века для частокола, ограждавшего мостовую Великой улицы. Обрывок грамоты валялся на мостовой, был сметен с нее на землю и при рытье канавы оказался зарытым, пролежав в земле до 1953 года. Из этого ведь не следует, что усадьба Юрия обязательно должна находиться где-то здесь, по соседству. Юрий мог выбросить прочитанное письмо, просто проходя или проезжая по улице. Все это так. И тем не менее были серьезные основания надеяться, что усадьба Юрия Онцифоровича находится где-то здесь, на месте раскопок или поблизости от лих. Начнем с того, что в Москве, в Историческом музее в числе многих древнерусских рукописей хранится одна очень важная для подкрепления наших надежд книга. Эта книга пришла в Исторический музей вместе с громадной библиотекой Синода — старейшим русским собранием книг, основанным еще в XVI веке митрополитом Макарием. А в старейшую русскую библиотеку она попала, вероятно, во второй половине XVII века, когда патриарх Никон значительно пополнил это собрание многочисленными книгами из новгородских церквей и монастырей. Книга, называемая «Пролог», предназначена для богослужения и на последнем своем листе имеет очень важную запись. В записи сообщается, что «Пролог» написан — книгопечатания тогда еще не было — в 1400 году в Новгороде при великом князе Василии Дмитриевиче и новгородском архиепископе Иване специально для церкви Кузьмы и Демьяна на Козмодемьянской улице, а заказана эта книга «повелением боголюбивых бояр Юрия Онисифоровича, Дмитрия Микитинича, Василья Кузминича, Ивана Даниловича и всех бояр и всей улице Кузмодемьяне». Вот какими дорогими были тогда книги. Целая улица, населенная богатыми боярами, складывалась, чтобы заказать книгу для церкви! Но не это для нас сейчас интереснее всего. Интереснее всего то, что запись «Пролога» называет Юрия Онцифоровича в числе жителей Козмодемьянской улицы.
Запись в «Прологе» 1400 года с «адресом» посадника Юрия Онцифоровича. Государственный Исторический музей.
Но ведь, закладывая раскоп в 1953 году, мы хорошо знали, что Козмодемьянская улица проходит где-то здесь, рядом с раскопом. Надеялись даже, что она попадет в границы раскапываемого участка. Те же надежды вселяли размышления о местонахождении построенных Юрием Онцифоровичем церквей. Одну из них — не сохранившуюся до наших дней церковь Николы — он построил где-то на Холопьей улице. А это все тот же район раскапываемого участка. Все указания сходились, и, как в известной игре «холодно-горячо», грамота № 94, найденная не на усадьбе, а у мостовой, кричала: «Горячо!».
А тут еще новое знаменательное событие произошло на раскопе. На усадьбе «Д», примыкавшей с запада к Великой улице, из земли показались остатки фундаментов каменной постройки. По правде сказать, сначала участники экспедиции этому открытию мало обрадовались. Решили, что это церковь. А где церковь, там кладбище. А где кладбище, там всегда все слои перерыты и перемешаны так, что хоть раскопки переноси на новое место. Однако скоро стало очевидно, что это остатки оснований не церкви, а гражданского здания — жилого дома, терема в два или три этажа. Сейчас, когда раскопки на Неревском конце завершены, подсчитало, что единственное открытое здесь каменное здание приходится на 1100 деревянных. И это особенно подчеркивает его исключительность. Но исключительность каменной постройки была хорошо понятна и тогда. Ее фундаменты прорезали всю толщу напластований культурного слоя — а эта толща была равна почти четырем метрам — и покоились на сваях, забитых в материковый грунт. На протяжении всего сезона 1953 года экспедиция, последовательно снимая слой за слоем, имела дело с остатками этих фундаментов. Что и говорить, усадьба, рядом с которой нашли грамоту № 94, была необычной!
Спустя несколько дней уже не на мостовой, а на территории необычной усадьбы «Д» нашли новую грамоту — номер 97, тоже обрывок, сохранивший лишь две начальные строки, но имя Юрия читалось и здесь: «Господину Юрию челом бее Ортьмъка и Деица. Рожь продають по…».
Грамота сообщала, по-видимому, о ценах на рожь. Категорической уверенности в том, что это письмо послано Юрию Онцифоровичу, не было. Но и противопоказаний такому предположению грамота не содержала. Она найдена в слое начале XV века. И Юрий назывался в ней «господином». И еще этот каменный терем рядом. Дата его постройки — рубеж XIV и XV веков — уже была установлена.
Остатки фундамента каменного терема посадника Юрия Онцифоровича на усадьбе «Д».
А дальше события развертывались так.
В следующие несколько дней не обнаружено ни одной новой грамоты. Полностью прошли слои шестого яруса. Потом седьмого. Ни одной грамоты. А затем, в слоях восьмого яруса нашли, наконец, грамоту, которой, естественно, дали номер 98. Это был небольшой обрывок в две строки. И эти строки сохранились не на всю длину, а только в левой части; справа они безжалостно оборваны. Но зато какие это обнадеживающие строки! Вот обрывок первой строки: «Поклоно от Нуфрея ко пос…». А это уцелевшая часть второй: «…и Смену. Господ…».
Что же из этого обрывка ясно? Во-первых, что письмо написано каким-то Онуфрием. Во-вторых, что его адресатами были сразу два человека: вторая строчка начинается союзом «и» — «и Семену». А в-третьих, можно вдоль и поперек обшарить православные святцы и установить что ни одного имени, которое начиналось бы на «Пос…», в них нет. Значит, письмо послано какому-то посаднику и Семену. Представляете, как все были наэлектризованы!
Наверху прорись грамоты № 94, находкой которой началось наше знакомство с перепиской посадничьей семьи Онцифоровичей. Внизу прорись грамоты № 98, первого письма к посаднику Онцифору. Грамота состоит из двух кусков, найденных в разные дни.
Но погодите радоваться. Мы ведь не учли, что первого адресата могли называть не православным, церковным именем, а русским или же по прозвищу. В древности человек, как правило, имел два имени. Одно давалось ему при рождении, оно не было похоже на принятые церковью. Другое же он получал при крещении, его брали из святцев. Вон в предыдущей грамоте назван Деица, а попробуйте найти такое имя в святцах.
В прошлом веке лингвист и историк Н. М. Тупиков составил один из самых интересных русских словарей, единственный в своем роде «Словарь древнерусских личных собственных имен», по которому можно выяснить, какие имена употреблялись русскими людьми в средние века наряду с христианскими. Откроем этот словарь. Ну как? Нет имен на «Пос…»? Увы, есть. И на любой вкус. Вот они: Посахно, Поскотинной, Поскребта, Посмик, Посник, Посока, Посолейко, Посол, Посоха, Поспей, Поспелей, Поспел, Поставка, Постник, Постой, Постоялко, Постражий и даже Постригач! Некоторые из этих имен и по сей день живут в современных фамилиях: Поскребышев, Посохин, Поспелов, Постников. Нужно оговориться, что словарь Тупикова далеко не полон, много неизвестных раньше имен было впервые прочтено только в берестяных грамотах. Но и без этой оговорки видно, что мы поспешили со своими радостями.
Но вот прошел день, и на стол ложится еще один кусок бересты, найденный метрах в четырех от грамоты № 98. Тоже обрывок. Но что-то в нем знакомое. Будто не в первый раз видим мы эти крупные, украшенные косыми отсечками буквы. И цветом береста напоминает другой, уже виденный берестяной лист. И виденный недавно, только что. Осторожно прикладываем к новой находке грамоту № 98. Ну конечно же, обе полоски сходятся по линии разрыва. Обрывки букв одного куска сливаются с обрывками букв другого.
Это длинная, почти в полметра грамота, которая и из двух кусков не составляется целиком. Первая строчка, оборванная на самом интересном месте, так и не нашла себе продолжения. Посмотрим, что прочтется во второй. Помните? В первом обрывке вторая строчка кончалась так: «Господ…». Наверное, начало слова «господин»? Тогда мы могли только гадать. А теперь получили возможность прочесть и удостовериться: «…ине…».
«Господине…» — слово «господин» в неупотребляемом теперь звательном падеже. Автор письма обращается к своему адресату, этому самому «Пос…», называя его «господином». Но что это? «О-н-с-и-ф-о-р-е…». «Господине Онсифоре»! Вот все и встало на свои места. Автор письма называет своего адресата не Посахном, и не Постником, и даже не Постригачом, а «господином Онцифором». Значит, загадочное «пос…» — начало не имени, а титула. Теперь мы можем восстановить и утраченную часть первой строки. Там нет куска текста примерно в двадцать четыре буквы. Как же заполнить этот разрыв? Да, наверное, так: «Ко пос(аднику господину Онсифору) и смену…». В восстановленной части двадцать три буквы.
Теперь прочтем всю грамоту в ее сохранившейся части:
«Поклон от Нуфрея ко пос(аднику господину Онсифору) и Смену. Господине Онсифоре, роба и холопо твои, дете мои. У мене Неверовици д…». Существует, по-видимому, еще один обрывок того же письма, но поскольку он не прикладывается непосредственно к первым двум кускам, то остаются некоторые сомнения в этом; обрывок получил номер 100: «…а в охото мне, го(сподине)… ве мое и детей моихо».
Слово «холоп» в древней Руси означало «раб», слово «раба» — «рабыня». Речь в грамоте, возможно, идет о разделе рабов, холопов. Раб и рабыня остаются у Онцифора, а их дети должны принадлежать Онуфрию. Или, может быть, дети Онуфрия стали холопами Онцифора. В любом случае уместно вспомнить здесь еще раз главу «Медное» из книги Радищева. В этой главе рассказывается о продаже с молотка крестьянской семьи за долги господина. «Неверовичи», упомянутые в обрывке, это, вероятно, жители деревни Неверове. Деревни с таким названием в Новгородской земле XIV–XV веков были. Существовали тогда же, между прочим, и два сельца — Неверичи и Неверовичи. Может, одно из них и имеется в виду.
Вернемся, однако, к Онцифору. В списках новгородских посадников нет двух Онцифоров. Есть только один — Онцифор Лукинич, отец Юрия Онцифоровича. Уже сама по себе находка адресованной ему грамоты на усадьбе «Д» значительна. Ведь именно на этой усадьбе немного позднее был выстроен каменный терем: здесь же уже обнаружены две грамоты, посланные на имя его сына Юрия, а показаниями других источников также было как бы «запеленговано» место жительства семьи Онцифоровичей — Мишиничей. Новая находка с полной достоверностью и окончательно определила принадлежность Онцифоровичам усадьбы «Д». А ведь к раскопкам этой усадьбы экспедиция только приступила, затронув пока ее самую незначительную часть. Основных открытий нужно было ждать впереди.
Онцифор Лукинич был одной из ярчайших фигур новгородской истории вообще и, по-видимому, самым крупным новгородским политическим деятелем XIV века. Летописец впервые сообщает о нем под 1342 годом, и этот рассказ связан с печальными событиями в семье Мишиничей, смертью двух главных членов этой семьи. Однако не будем забегать вперед.
…Несчастья начались летом. Неподалеку от посадничьей усадьбы, на Даньславле улице, занялся пожар. Слизнув несколько усадеб, пламя вырвалось на простор и пошло гулять по волховскому берегу, уничтожая на своем пути все, что могло гореть. Вниз по Волхову пожар не распространился, он дошел берегом до кремлевского рва, а от берега — «до святых 40 и до святых Кузмы и Дамиана». Эти две церкви находились около самой усадьбы Мишиничей. В Козмодемьянскую церковь, как уже было рассказано, спустя пятьдесят восемь лет Юрий Онцифорович и его соседи подарят богослужебную книгу.
Пылали дома, рушились каменные храмы. Сгорела церковь Якова и церковь Николы на Холопьей улице — ее потом доведется отстраивать Юрию Онцифоровичу. Больше недели бушевал в Неревском конце огонь. И это случилось через два года после другого страшного пожара, наделавшего там в 1340 году немало бед. Не успели толком отстроиться, еще стружка не пожелтела, и опять горят смолистые венцы новых построек. «Люди, — рассказывает летописец, — боялись и не смели в городе жить, но в полях жили, а иные в лугах, в пойме Волхова, или же в лодках. И можно было целую неделю видеть все в граде движущимся и бегающим. И много пакостей было людям и убытка от лихих людей…».
Пострадала и усадьба Мишиничей. Этот факт установлен по показаниям годичных колец из бревен мостовых и построек. Выяснилось, что после пожара 1340 года все пришлось строить заново, а спустя три года опять капитально ремонтировать.
Еле-еле успели опомниться от пожара, а тут еще более тяжелое несчастье. 25 октября умер глава семьи посадник Варфоломей Юрьевич. Хоронить бывшего главу республики приехал архиепископ Василий, новгородский владыка, давний друг Варфоломея. До своего избрания во владыки Василий был священником в церкви Козьмы и Демьяна на Холопьей улице, и, значит, они с Варфоломеем некогда были соседями. Да и избранием своим Василий, нужно думать, немало был обязан своему теперь умершему другу. А сейчас гроб с телом Варфоломея медленно несли в церковь Сорока святых мучеников мимо обгорелых частоколов и вымытых осенними дождями черных головешек сгоревших хором, по вылизанной огнем мостовой.
Похоронили Варфоломея, и семья его разбрелась в ожидании, когда будет выстроен новый кров. Сын Варфоломея Лука надумал провести это время в походах и битвах в Двинской земле. Не слушая отговоров и подстрекаемый каким-то Ондрешком и посадником Федором Даниловичем, он собрал дружину из холопов и выступил в поход. Вот тогда-то летописец и упомянул впервые Онцифора Лукинича: отец взял его с собой на Двину для руководства самостоятельным отрядом.
За Волоком дела у Луки сначала пошли хорошо. Он укрепился в поставленном им городке Орлеце, собрал емчан, жителей союзного Новгороду района, и захватил всю Заволочскую землю, взяв добычу во всех ее погостах. Но тут воинское счастье изменило Луке. Отправив Онцифора с отрядом на реку Вагу, он сам с двумястами своих людей выступил в новый поход, но был убит заволочанами.
Весть о гибели Луки пришла в Новгород и возмутила черных людей против Ондрешка и посадника Федора. Обвиняя их в смерти Луки, черные люди разграбили дома и села Ондрешка и Федора и вынудили их бежать в Копорье, далекую новгородскую крепость у южного побережья Финского залива. Там они просидели до конца зимы. А тут и Онцифор, лишившийся сразу крова, деда и отца, пришел из Заволочья подать новгородцам официальную жалобу на Ондрешка и Федора Даниловича: «…нарочно они заслали моего отца в Двинскую землю, чтобы его там убили!». Из Копорья вызвали обвиненных беглецов и в Новгороде собрались два веча. Одно заседало в Кремле, около Софийского собора, под руководством Онцифора и боярина с Прусской улицы Матвея Козки. А другим, собравшимся на Торговой стороне, в традиционном месте вечевых собраний — на Ярославовом дворище, руководили Ондрешко и Федор. Страсти накалялись и там, и здесь. Федору удалось убедить свое вече в полной своей невиновности, а Онцифор на своем вече доказал, что во всем виноват посадник. Вече Онцифора ударило через мост на Ярославово дворище, но посадник Федор одержал верх. Матвея Козку заперли в церковь. Онцифору же пришлось бежать и скрываться до тех пор, пока при помощи владыки Василия враждующие группы не достигли соглашения. Так началась политическая деятельность Онцифора Лукинича.
Спустя шесть лет, в 1348 году, Онцифор прославился как талантливый военачальник. Новгородцы, поставив его во главе «малой дружины», отправили Онцифора в Ижорскую землю, под Орехов, отражать начавшееся наступление шведов. С малыми силами Онцифор наголову разбил шведов, потерявших в бою около пятисот человек, не считая пленных, тогда как новгородцы вернулись домой с Жабьего Поля — так называлось место битвы — с самыми незначительными потерями. Эта победа сыграла большую роль в его дальнейшей судьбе. И вот каким образом.
Вскоре после возвращения Онцифора в Новгород с Жабьего Поля шведы снова вступили в Ижорскую землю, на этот раз под водительством самого короля Магнуса. Им удалось взять Орехов и захватить много пленных. Попытки новгородцев под руководством посадничьего брата Михаила Даниловича восстановить преимущество успеха не имели. Тогда и вспомнили об Онцифоре и его победе на Жабьем Поле. В начале 1351 года новгородские послы в городе Юрьеве, нынешнем Тарту, договорились со шведами и обменяли пленных шведов, взятых Онцифором на Жабьем Поле, на «свою братию», плененную шведами в Орехове. На обратном пути у новгородцев было вдоволь времени, чтобы оценить двойной успех Онцифора Лукинича. Он не только разбил шведов в бою, но этой победой смог свести на нет последовавшие за ней — не по его вине — неудачи. И сравнить Онцифора с его давним врагом посадником Федором тоже нашлось время у возвращавшихся домой новгородцев.
Во всяком случае, вернулись они в Новгород девятого июня, а ровно через неделю, шестнадцатого, «отняли посадничество у Федора Даниловича и дали Онцифору Лукину». А потом подумали еще немного и выгнали из Новгорода и бывшего посадника Федора, и его брата Михаила, и других бояр, записавшихся к ним в союзники. Так Онцифор стал посадником новгородским.
И вот, будучи посадником, он как руководитель боярского государства совершил самый значительный шаг в своей жизни, который повлиял на все дальнейшее развитие боярской республики.
Стоя во главе аппарата, созданного для принуждения, насилия над эксплуатируемой массой простых людей, Онцифор со страхом, несмотря на громадную личную популярность среди черных людей, следил за растущей активностью новгородской черни. Черный люд поднимал восстания, которые были направлены против отдельных феодалов, но с ростом народного сознания грозили всему боярскому государству. Боярство, не готовое к такому повороту событий, было разобщено. В каждом конце Новгорода существовала своя сплоченная группа бояр, но все эти группы соперничали и враждовали друг с другом. Главным призом в этом соперничестве была должность посадника, та самая должность, на которую избрали Онцифора. И поскольку выборы посадника производились в Новгороде ежегодно, борьба между разными группами бояр возобновлялась и ожесточалась из года в год. Онцифор сам участвовал в этой борьбе. В ней же он по существу потерял отца. Если версия Онцифора о том, что Луку заслал на Двину посадник Федор в своих корыстных интересах, верна, то цель Федора тоже понятна: он избавлялся от опасного соперника на очередных выборах.
Каким же образом мог Онцифор перестроить государственный аппарат Новгородской республики, чтобы сплотить бояр, людей своего класса? Он предложил выбирать не одного посадника, а сразу столько, сколько в Новгороде концов. И избирать пожизненно. Тогда каждая группировка бояр получит то, ради чего она ломает копья. А государственные дела посадники будут решать сообща, выбирая из своей среды каждый год председателя — степенного посадника.
Такое предложение снимало добрую половину остроты в боярском соперничестве. Конечно, не все здесь Онцифор придумал сам. Корни такого решения уходили в очень давний опыт новгородской политической жизни. Но он придумал всю систему и взялся ее осуществить.
А еще одна деталь связана исключительно с его индивидуальными человеческими качествами. Он предложил избрать посадниками только молодых людей. Во-первых, у них впереди вся жизнь. А во-вторых, они не принесут с собой груза многолетних взаимных оскорблений, кровавой борьбы и неистребимого недоверия. И хотя он был не старым, а скорее молодым человеком, он, чтобы не увидели в его действиях стремления к личной выгоде, сложил с себя бремя посадничества и отошел в сторону. Как записал летописец, «отступися посадничества Онцифор Лукин по своей воле». Да, совершенно отошел от политической деятельности. Как Цинциннат. Чтобы разводить репу. Все это произошло в 1354 году, никаких летописных сообщений о нем больше нет до 1367 года, а в 1367 году он умер.
Адресованная посаднику Онцифору грамота № 98 найдена в слоях восьмого яруса, который по данным дендрохронологии датируется 1369–1382 годами. Это расхождение кажется несколько противоречивым, тем более что Онцифор в грамоте назван посадником, и, значит, она написана между 1351 и 1354 годами. Однако в том же 1953 году небольшой кусочек той же грамоты, уже упомянутый выше под № 100, был найден в девятом ярусе напластований усадьбы «Д». Девятый ярус датируется 1340–1369 годами, что точнейшим образом соответствует деятельности Онцифора Лукинича. Обрывки писем Онуфрия (грамота № 98) попали в восьмой ярус в результате каких-то местных передвижений почвы во второй половине XIV века: когда копали яму или выравнивали участок.
Здесь уместно сказать несколько слов о тех случаях, когда обрывки одной и той же грамоты получают разные номера. Такие обрывки объединяются под одним номером, если они сходятся по линии разрыва, или тогда, когда они найдены в одном комке земли, в условиях, безоговорочно свидетельствующих об их принадлежности к одному и тому же берестяному листу. В остальных случаях им удобнее давать разные номера: не исключена возможность, что это все-таки разные письма, хотя и написанные одной рукой на бересте, снятой с одного дерева.
Заканчивая рассказ об открытиях 1953 года на усадьбе «Д», добавлю только, что имя Онцифора встретилось еще в двух грамотах, получивших номера 99 и 101. Обе эти грамоты обнаружены в слоях девятого яруса. И как показали раскопки следующих лет, это были далеко не последние находки, связанные с Онцифором и семьей Мишиничей. Но об этом в следующих главах.
Глава 7
В поисках посадничьих грамот
И так, в 1953 году на усадьбе «Д» были найдены остатки каменного терема, две грамоты, адресованные Юрию Онцифоровичу, и три, адресованные Онцифору Лукиничу. А основная часть усадьбы находилась тогда еще за пределами раскапываемого участка. Сколько же берестяных грамот с именами посадников принес археологам очередной сезон?
Представьте себе, ни одной. На раскопках, как и в любом деле, поспешность меньше всего способствует успеху. В 1954 году на усадьбе «Д» продолжали последовательно вскрывать нижние ярусы того небольшого участка, раскопки которого начались в предыдущем сезоне. Изучались один за другим слои тринадцатого, двенадцатого, одиннадцатого, десятого веков и так до материка. А когда нам очень хотелось похвастаться, мы подводили своих гостей к западной стене раскопа и говорили: «Между прочим, вот за этой стеной находится усадьба Онцифора. Там очень много интересных берестяных грамот. Со временем мы эту усадьбу раскопаем!».
Новые раскопы тогда были начаты совсем в другом месте, на усадьбе «Б». Исследование этой усадьбы, расположенной на углу Великой и Холопьей улиц, началось еще в 1951 году. И первая грамота была поднята у ее частокола. Усадьба «Б» раскапывалась уже три года, основную часть ее за это время изучили, и теперь открывалась реальная возможность завершить полное знакомство с ней. А ведь такое случалось впервые в археологии, чтобы ученые могли воочию увидеть планировку целой средневековой усадьбы не за какой-нибудь короткий промежуток времени, а за шестьсот лет — с десятого по пятнадцатый век. Впервые в археологии появилась возможность положить на стол двадцать восемь сменяющих один другой планов одной и той же усадьбы, которые, подобно киноленте, способны показать историю этой небольшой ячейки новгородской жизни в непрерывном движении.
Понятно, что и для будущих раскопок посадничьей усадьбы завершение работ на усадьбе «Б» было небесполезным. Чтобы выяснить особенности посадничьей усадьбы, ее нужно сравнить с усадьбами других горожан. Материалы для такого сравнения необходимо было накапливать.
Только в 1955 году вопрос о дальнейших работах непосредственно на посадничьей усадьбе снова встал перед экспедицией. Его можно было решать двумя путями. Можно было идти прямо на запад, прирезав здесь значительный кусок территории, о которой мы знали наверняка, что это усадьба Онцифора и Онцифоровичей. Но можно и нужно было поступить иначе.
Ведь чем дальше мы уходили бы от мостовой Великой улицы, тем труднее было бы разбираться в хронологии построек, прослоек, вещей и берестяных грамот. Тогда, в 1955 году, о применении дендрохронологии для датировки наших ярусов еще только начинали мечтать. Главным же нашим путеводителем по усадьбе оставалась уличная мостовая. Стоя на ней, мы хорошо видели, что вот этот сруб, от которого остались только бревна нижнего венца, существовал одновременно с мостовой, другой был построен раньше, а третьего тогда еще не существовало. Прослойки щепы, глины, песка, надежно отделяющие более молодое от более старого, нужно было соотносить с их следами в стенах раскопа, а также с настилами Великой улицы. А таких настилов, как мы уже знаем, было двадцать восемь. Когда остатки древней постройки находились неподалеку от мостовой, вопрос о том, какому ярусу настилов они соответствуют, решался легко. Когда же раскапывался участок, расположенный одинаково далеко и от стены раскопа, на которой вырисовывались разрезы всех прослоек, и от мостовой, — трудности определения даты находок удесятерялись. Словом, держались за уличные мостовые мы тогда очень крепко.
Между тем из приписки к «Прологу» 1400 года известно, что Юрий Онцифорович, владелец усадьбы «Д» и каменного терема на ней, жил на Козмодемьянской улице. Известно также, по планам середины XVIII века, что Козмодемьянская улица находится где-то рядом. Подобно Холопьей, она должна пересекать настилы Великой улицы под прямым углом. Отыскав этот перекресток, мы сразу бы смогли, во-первых, установить длину усадьбы «Д» по Великой улице. Это было важно для плана дальнейших работ. Во-вторых, выйдя на перекресток, вторгнуться еще сразу на две усадьбы, лежащие по сторонам Великой улицы за перекрестком. Это сразу расширило бы наше знакомство с общей ситуацией на раскапываемом участке Неревского конца. И, в-третьих, идя по Козмодемьянской улице, мы получили бы еще один постоянный хронологический ориентир для находок на усадьбе «Д». Мы смогли бы тогда привязываться не только к настилам Великой, но и к настилам Козмодемьянской мостовой.
Так экспедиция и поступила. Она пошла не на запад, а на юг. И тотчас же вышла на перекресток Великой и Козмодемьянской улиц. Он залегал всего лишь в восьми метрах к югу от раскопа 1953–1954 годов. Козмодемьянская улица, подобно Великой и Холопьей, была вымощена широкими сосновыми плахами, и ее настилы в своем хронологическом чередовании соответствовали настилам Великой улицы.
По сторонам перекрестка располагались четыре усадьбы, попавшие в раскоп 1955 года самыми небольшими своими частями. Напротив усадьбы «Д», к востоку от нее, за Великой улицей, таилась неизведанная еще усадьба «Е». К югу, за Козмодемьянской улицей, лежала полная загадок усадьба «И». А наискосок, к югу от усадьбы «Е», располагалась такая же таинственная усадьба «К».
Здесь следует отвлечься немного от нашего рассказа и поговорить об условном обозначении усадеб. Как это скучно, вправе сказать читатель, называть усадьбы условными литерами. Зачем говорить «усадьба „Д“»? Ведь мы же знаем, что она принадлежала Юрию Онцифоровичу, а до него Онцифору. Присвойте ей название «усадьба Онцифоровичей», назовите и другие усадьбы именами адресатов найденных на них берестяных грамот. И вы сами увидите, как оживет топография раскапываемого участка, как из-за этих сухих «А», «Б», «В» встанут имена населявших усадьбы живых людей.
Нет, без условных обозначений нам, к сожалению, не обойтись. Не нужно забывать, что, говоря, скажем, об усадьбе «Д», мы имеем дело со всеми ее двадцатью восемью ярусами. Люди смертны, и срок их жизни невелик. Ну сколько времени Онцифор владел усадьбой «Д»? Двадцать пять лет — с 1342 года, когда был убит его отец, по 1367 год, когда умер он сам. Это время существования только одного яруса. А история усадьбы «Д», как и остальных изученных здесь усадеб, охватывает шесть веков и около двадцати поколений владельцев. Попробуйте присвоить имена владельцев каждому ярусу усадеб, и нам придется наименовать двести усадеб. И поскольку принадлежность большинства этих усадеб не определяют даже берестяные грамоты, мы все равно прибегли бы к буквенным обозначениям. Только русских букв для этого не хватило бы, и пришлось бы призвать на помощь латинские, греческие и буквы еще нескольких алфавитов. Нет, уж давайте оставим наши литерные обозначения, какими бы сухими они ни казались.
Вид с севера на перекресток Великой и Козмодемьянской улиц.
От усадьбы «Д» в раскопе 1955 года оказался крохотный кусочек в восемьдесят квадратных метров, примыкавший к самому перекрестку. Однако даже незначительные размеры этого нового участка не помешали ему подарить экспедиции еще несколько берестяных грамот. И в числе этих грамот две принадлежали к переписке наших знакомых посадников.
Грамота № 167 из слоя конца XIV века сохранилась целиком и начиналась словами: «Челобитье от мелника из Злостьици к Юрию к Онцифорову…».
А от грамоты № 180, найденной в девятом — Онцифоровом! — ярусе, сохранился лишь небольшой кусочек. На этом крохотном обрывке написано: «…ии и детий еи к Онсифору…». Какая-то женщина обращается к Онцифору от своего имени и от имени своих детей.
Однако самая интересная для нашего рассказа грамота в 1955 году найдена не здесь, а на соседней усадьбе «И», тоже незначительно задетой раскопом. Там, в слоях первой четверти XV века, в двух метрах от Козмодемьянской мостовой, обнаружен обрывок берестяного письма № 157, первые три строчки которого полностью сохранились:
«Господину Михаилу Юрьевичу биют челом хрестяне Черенщани. Чо еси, господине, велел нам переставливати двор, а ключник нам, господине, велит переста…» — «Господину Михаилу Юрьевичу бьют челом крестьяне Черенщане. Что ты, господин, велел нам переставить двор, и ключник нам, господин, велит переставить…».
Что случилось с двором крестьян Черенщан, мы так и не узнаем. Другое в этой грамоте должно привлечь наше внимание — имя Михаила Юрьевича, которому адресована грамота. Нам до сих пор не были известны потомки Юрия Онцифоровича, хотя об их существовании мы знали. Вспомним завещание Орины, в котором говорится, что в Колмове монастыре лежит весь ее род, начиная с прадеда — Юрия Онцифоровича. Если уж Юрий был чьим-то прадедом, то и отцом кому-то он приходился.
Но был ли этот новооткрытый Михаил сыном именно Юрия Онцифоровича? Условия, в которых найдена грамота, такому предположению как будто не противоречат. Первая четверть XV века — это время, когда по смерти Юрия Онцифоровича его усадьба должна была перейти к его детям — к деду и бабушке позднейшей Орины. А то, что грамота найдена на усадьбе «И», а не на усадьбе «Д», в конце концов, не важно — могли ее и во дворе соседей выбросить, и через забор кинуть.
Предполагать в Михаиле сына Юрия Онцифоровича позволяли и некоторые детали текста найденной грамоты. Михаил Юрьевич был крупным землевладельцем, крестьяне называют его уважительно на «вич» — «Юрьевич», что было привилегией бояр, несколько раз он в грамоте поименован «господином». Эти детали говорили, по крайней мере, о принадлежности Михаила Юрьевича к той же аристократической среде, к какой принадлежал Юрий Онцифорович.
А нет ли в летописи каких-либо сведений о Михаиле? Есть. Под 1420 годом рассказывается о таком событии. Осенью в Новгород пришли послы от гроссмейстера Ливонского ордена, чтобы договориться с Новгородом о предстоящем съезде для заключения «вечного мира». Они условились, что этот съезд состоится в январе 1421 года на реке Нарве, куда Новгород отправит для заключения торжественного договора своих представителей. В назначенный срок «вечный мир» был заключен «по старине», что, по лукавому разъяснению летописца, означает: «…как был при великом князе Александре Ярославиче», то есть при Александре Невском. «Прочность» «вечного мира», заключенного при Александре Невском, была в Новгороде хорошо известна: мир не помешал Раковорской битве и десяткам других сражений.
Сохранился и подлинник договора, заключенного в 1421 году на Нарве. В нем, между прочим, сообщается: «А от Великого Новагорода хрест человал князя великого намеснек Васелея Дмитриевичя князе Федор Патракеевичь, посадник новгородчкей Офонос Федоровичь, Михайла Юрьевичь, Наум Ивановичь за Велики Новгород и за все свои пригороды». Видите, в каком торжественном акте участвовал Михаил Юрьевич и в какой блестящей компании он оказался. Что ж, эта компания по плечу сыну Юрия Онцифоровича и внуку Онцифора Лукинича. Но кто сказал, что дипломат Михаил Юрьевич и наш Михаил Юрьевич — одно и то же лицо?
Продолжим поиски сведений о Михаиле в летописи. Годом раньше — еще одно сообщение о летописном Михаиле: «А Варлам анхимандрит постави церковь камену в Юрьеве монастыри Рожество богородицю. А Михаила Юрьевич церковь древяну святого Михаила на Колъмове…».
Вот это сообщение имеет для нас большую определенность. В Новгороде и его окрестностях в XV веке было около пятидесяти монастырей, но Михаил Юрьевич для своего церковного строительства избрал почему-то именно то место, где строил и был похоронен Юрий Онцифорович, — Колмов монастырь в ближайших окрестностях Неревского конца. Это совпадение уже содержит в себе намек на то, что предположение о родственных связях Михаила Юрьевича и Юрия Онцифоровича может оказаться правильным. Однако нужны новые подтверждения, а их может дать только исписанная береста из еще некопаных слоев усадьбы Онцифоровичей потому, что возможности летописи и других известных ранее письменных документов полностью исчерпаны.
И снова проверку предположения приходится откладывать надолго. В новом сезоне 1956 года ни одной связанной с посадниками грамоты из слоев XIV–XV веков не добыли. Прежде чем расширить раскоп у перекрестка Великой и Козмодемьянской улиц, нужно было докопать до материка нижние ярусы уже начатого раскопа.
Не буду утверждать, что это вызывало лишь досаду и желание поскорее разделаться с малоинтересной, хотя и неизбежной частью работы. Все ярусы новгородского культурного слоя наполнены историческими источниками первостепенного значения, все они несут в себе раскрытие одних проблем и постановку других. Чтобы это обстоятельство стало бесспорным, напомню только, что школьные упражнения мальчика Онфима и его рисунки найдены именно в 1956 году и именно у перекрестка Великой и Козмодемьянской улиц, в ранних ярусах усадьбы «И».
Наступление на запад началось в 1957 году, через четыре года после открытия посадничьей усадьбы, которая и теперь — спустя четыре года — еще скрывала все свои тайны. Это наступление началось в конце лета, когда были доведены до материка раскопы на всех других участках и высвобождены силы для исследования Козмодемьянской улицы. Прирезанный с запада участок захватывал широкой полосой часть усадеб «Д» и «И» и был вскрыт в 1957 году только до уровня напластований конца XIV века. Ведь уже начиналась осень и раскопки подходили к концу. Все грамоты, о которых ниже пойдет речь, найдены в слоях первой половины XV века, в третьем — шестом ярусах, которые сейчас по годичным кольцам древесины датируются 1396–1446 годами.
Первая же грамота, найденная на новом участке, — номер 297 — начиналась словами: «Целобитье от Сергия з братьей из Рагуилова господину Михайли Юрьевицу…».
Потом, спустя день, обрывок еще одной грамоты, получившей номер 300: «…ие господину Михаилу Юрьевицю от Терехо и от Тимоще…».
И, наконец, целое письмо, грамота № 301, разрешила все сомнения и окончательно определила происхождение Михаила Юрьевича не хуже, чем это сделало бы метрическое свидетельство:
«Осподиню Михаилу Юрьвицу, синю посадницу, паробок твой Кля цоло бие…» — «Господину Михаилу Юрьевичу, сыну посадничьему, слуга твой Кля челом бьет…». Дальнейший текст грамоты № 301 очень интересен по историческому содержанию, и мы вернемся к нему, когда соберем вместе все письма, полученные посадниками и их близкими. А сейчас обратите внимание на то, как просто решился вопрос об отношении Михаила Юрьевича к Юрию Онцифоровичу. Михаил назван в грамоте посадничьим сыном. Он был сыном посадника, которого звали Юрием. Но как раз Юрий Онцифорович, его предполагаемый отец, и был посадником. Все сошлось, все встало на место.
Все ли? Да, все, но за одним небольшим исключением. А может, в Новгороде в конце XIV или в начале XV века были и другие посадники Юрии? Тогда Михаил с равным успехом может оказаться сыном одного из них, а не обязательно Юрия Онцифоровича.
Ну вот, снова скажет читатель, началась «перестраховка». Что же тут проверять? Михаила звали Юрьевичем, а сына Онцифора Юрием. Юрий был посадником, а Михаил сыном посадника. И грамоты найдены на одном участке. И по времени грамоты Михаила чуть позже грамот Юрия. Вопрос ясен и в дальнейшем обсуждении не нуждается.
Нет, нуждается. И вот почему. Грамоты Юрия и Онцифора найдены на усадьбе «Д», а все четыре грамоты Михаила Юрьевича — на усадьбе «И», по другую сторону Козмодемьянской улицы. Эта их взаимоисключаемость не может остаться без проверки. И вот что такая проверка устанавливает.
Привлечение всех возможных свидетельств позволяет твердо сказать: да, в Новгороде конца XIV — начала XV века был еще один посадник Юрий, который годится нашему Михаилу Юрьевичу в отцы. Это посадник Юрий Дмитриевич, нам известно о его деятельности на протяжении тринадцати лет между 1397 и 1409 годами. Почему бы ему не быть отцом нашего Михаила? А вот почему. Юрий Дмитриевич, как показывают духовные грамоты новгородской боярской семьи Шенкурских, жил на другом берегу Волхова, на Нутной улице Славенского конца. Никаких точек соприкосновения с Михаилом Юрьевичем у него нет. А Юрия Онцифоровича с Михаилом роднит все, включая и Колмово, и соседство усадеб на Великой и Козмодемьянской улицах. Вот теперь все сомнения устранены, и мы имеем право сказать: Михаил Юрьевич был сыном Юрия Онцифоровича.
Но почему же все-таки они оказались на разных усадьбах? Не будем спешить с ответом на этот вопрос и продолжим знакомство с урожаем берестяных грамот, собранных осенью 1957 года.
Грамота № 303. Обрывок. Начало письма: «Приказ от Ондреяна Михайловича к Пуцне. Здесе ми бил челом…».
Ого! Новое имя — Андреян Михайлович. По-видимому, сын Михаила Юрьевича, внук Юрия Онцифоровича, представитель еще одного поколения Онцифоровичей, о котором никаких свидетельств до сих пор не было.
Грамота № 306. Снова обрывок. Невразумительные куски слов. Но кое-что ясно: «Покло… илу Юрьевицю у во… бабик мене ид… господину целомь бь…». Снова упоминание Михаила Юрьевича.
Грамота № 307. Целиком сохранившееся письмо в восемь строк, начинающееся словами: «Осподену Ондрияну Михайловицю, осподену Микыти Михайлоцю, оспоже нашей Настасеи Михайлове жене чолом бею хрестьяне Избоишане…».
Здесь, как на семейной фотографии, все действующие лица, за исключением Михаила Юрьевича, который к моменту написания грамоты № 307 уже умер, иначе его не преминули бы упомянуть в своем челотии крестьяне Избоишане. Упомянута его вдова — «Михайлова жена» Настасья и дети — Андреян Михайлович, с которым мы уже познакомились, и Никита Михайлович, новое для нас лицо. Кто-то из этих двоих сыновей Михаила был отцом Орины. Она называет Юрия Онцифоровича своим прадедом. А ведь Андреян и Никита приходятся ему внуками.
Неожиданное подтверждение родства Андреяна, Никиты и Настасьи с Михаилом Юрьевичем обнаружено в одной западнорусской летописи — «Летописце епископа Павла», — сохранившей некоторые новгородские сведения, утраченные в собственно новгородских летописных сводах. В этой летописи рассказывается, что церковь Рождества богородицы в Колмове монастыре завершена в 1423 году «Настасьей Михайловой», а ведь это и есть наша «Настасья Михайлова жена», упомянутая в грамоте № 307.
Все эти грамоты — № 297 и 300, и 301, и 303, и 306, и 307, адресованные Михаилу Юрьевичу и его детям, — найдены в слоях третьего или четвертого ярусов, то есть попали в землю между 1422 и 1446 годами. В этот промежуток времени Михаил Юрьевич умер, успев получить большую часть названных здесь писем, и в позднейших грамотах на месте его имени появились имена его детей. В залегающих ниже пятом и шестом ярусах, исследованных в том же 1957 году, нужно было ожидать грамот, адресованных только самому Михаилу Юрьевичу. Так и оказалось. Там были найдены еще три грамоты с именем Михаила Юрьевича, получившие номера 308, 311,313.
И все эти десять грамот, называющих своими адресатами Михаила Юрьевича или его детей, обнаружены на усадьбе «И». Они были разбросаны на громадной площади в пятьсот квадратных метров на разной глубине. Разница в уровнях их залегания достигала метра. Следовательно, они попадали в землю достаточно долго для того, чтобы на усадьбе отложился целый метр культурного слоя. Словом, принадлежность усадьбы «И» эти грамоты определяли недвусмысленно; ею владел в первой половине XV века сначала сын Юрия Онцифоровича Михаил, а потом вдова и дети Михаила.
Это обстоятельство ставило перед археологами новую проблему: а кому принадлежала усадьба «И» в более раннее время? Купили ли ее Онцифоровичи в начале XV века или и раньше жили на ней? Это не праздный вопрос. Желая установить отличия посадничьего хозяйства от хозяйства других горожан, мы не можем не заинтересоваться, владели ли Онцифоровичи одной или несколькими усадьбами. Дело в том, что обычное археологическое сравнение посадничьей и непосадничьей усадеб не обнаруживало видимых различий между ними. Усадьба «Д», на которой жили посадники Онцифор и Юрий, ни своей площадью, ни планировкой, ни размерами домов не отличалась, скажем, от усадьбы «Б», где никаких посадников не было. Правда, усадьбу «Д» украшал каменный терем, какого не имел ни один из соседних участков. Но ведь этот терем Юрий выстроил только на рубеже XIV и XV веков. А в более раннее время и такого отличия не было.
Сравнение находок тоже не давало сколько-нибудь существенных отличий. Ценности — в житейском, разумеется, а не в научном понимании этого слова — в землю попадают редко, а некоторые замечательные вещи из числа найденных на усадьбе «Д» могли бы встретиться и в быту других достаточно богатых горожан. Одним словом, если бы не грамоты, определить, что лопатами археологов раскрыта усадьба виднейших руководителей Новгородской республики, было бы просто невозможно.
Но, может, богатство Онцифоровичей, определившее их выдающееся положение в новгородском обществе, проявлялось во владении не одной, а несколькими усадьбами? Может, им принадлежала не одна, а несколько ячеек из тех сот, которые образовывали гудящий улей новгородской жизни?
Вопрос о том, кому принадлежала усадьба «И» в XIV веке, можно было решать только одним способом — поисками новых берестяных грамот в слоях XIV века. И такие поиски, продолжившиеся в 1958 и 1959 годах, дали вполне ясный ответ.
В шестом или седьмом ярусе напластований усадьбы «И» нашли обрывок берестяной грамоты № 362: «Осподену Юрию Онцифороцю Ондрике цоло бе. Послал есме тъ… и сво…».
В восьмом ярусе на той же усадьбе обнаружили целую грамоту № 370, начинавшуюся словами: «Поклон ко Юрью и к Миксиму от всех сирот». Залегание этой грамоты в слоях третьей четверти XIV века позволило предположить, что здесь снова назван Юрий Онцифорович, а не какой-то другой человек с тем же именем. Окончательно же убедиться в этом помог упомянутый в грамоте вместе с Юрием Максим («Миксим»). Но об этом со всеми подробностями расскажем в одной из следующих глав.
Эти две находки показали, что двумя усадьбами, а не одной семья Онцифоровичей обладала уже во времена Юрия, во второй половине XIV века. С верхнего этажа построенного им терема он мог обозревать оба своих владения… Кому же вторая усадьба принадлежала в еще более раннее время?
Костяная рукоятка ножа парижской работы начала XIV века, найденная на усадьбе Онцифора. Увеличено.
Ответ дают две грамоты, относящиеся к числу самых замечательных находок экспедиции за все время раскопок. Одна из них — грамота № 354 — обнаружена последней в сезоне 1958 года. Другой грамотой — № 358 — открылся раскопочный сезон 1959 года. Обе грамоты происходят из слоев девятого яруса и обе написаны собственноручно Онцифором Лукиничем. У нас еще будет время и возможность прочесть оба письма Онцифора. Сейчас же для нас важно лишь одно: находка грамот Онцифора на усадьбе «И» убеждает в том, что и в середине XIV века усадьбы «Д» и «И» имели одного хозяина. Отсюда Онцифор уходил на вече и в походы, сюда он вернулся после отречения, и отсюда же его вынесли в гробу на белых полотенцах.
Однако, когда еще Онцифор находился в зените своей славы или незадолго перед тем, на усадьбе «И» раздавались иные голоса и иные заботы одолевали ее жителей.
В том же девятом ярусе, из которого извлечены письма Онцифора Лукинича, на усадьбе «И» одна за другой стали попадаться грамоты, прямой связи с посадничьим бытом явно не имевшие. В девятом ярусе встретилось три таких грамоты. Вот они:
Грамота № 177 начинается словами: «Поклон от Максима к попу…».
Грамота № 368. Обрывок, но с хорошо читаемым началом: «Се благослови, попе Максиме…».
Грамота № 317 — снова обрывок, на этот раз из заключительной части письма: «…хо сльзы проливаюста пред богъмо. За то гне божий на васо меце, поганый. А ныне покайтеся того безакония. А на то дело оканеное немного поводит. А тых бы хотя и постыдетеся» — «…тех слезы проливаются перед богом. За то гнев божий на вас мечет, поганые. А ныне покайтесь в том беззаконии. А на то дело окаянное немногих наущает. А от тех бы добровольно и не отречься». Автор письма, раздраженно браня кого-то, привычно пользуется трафаретными церковными оборотами. Это и понятно, если две предыдущие грамоты адресованы ему, в чем вряд ли нужно сомневаться.
В десятом ярусе не найдено ни одной грамоты, сохранившей имя адресата или своим содержанием раскрывающей специфику его основных занятий. А в одиннадцатом и двенадцатом ярусах, которые датируются 1281–1313 годами, снова таких грамот несколько.
Два берестяных ярлыка из тех, что привязывались как этикетки к разным предметам для обозначения их принадлежности. На грамоте № 319 слова: «Еванове попове», то есть «попа Ивана». И на другой грамоте № 323: «Марии црн», то есть «Марии черницы», «монахини Марии».
Грамота № 331 изодрана в клочки, но отдельные слова, вернее обрывки слов, прочитать можно: «…го слово пло… гю еще на не азо… господине ярости о…». Как ни изуродован этот текст, в нем ясно проглядывает церковно-литературное содержание.
Наконец в грамотах № 329 и 330, найденных здесь же, их автор благочестиво вздыхает: «Господи, помоги рабу твоему». И здесь же, в слое двенадцатого яруса, — необычная находка: серебряная масленка для елея, предмет, которым пользовались только полы.
Перечисленные находки, собранные вместе, свидетельствуют, что усадьба «И» в конце XIII века и в первой половине XIV века принадлежала попам. Попы жили здесь неподалеку от своего «рабочего места». К раскапываемому участку вплотную примыкают, по крайней мере, три церкви: Спасская, Козмодемьянская и Саввинская. Из этих церквей Саввинская существует, по показаниям летописи, уже с XII века. Мы не знаем пока, купил ли Онцифор Лукинич усадьбу «И» у попов или она и раньше принадлежала Мишиничам, а попы арендовали ее у них, но что сами Мишиничи до времен Онцифора не жили здесь, вполне очевидно.
Вернемся теперь на усадьбу «Д», чтобы познакомиться с ее обитателями первой половины XIV и конца XIII века. Зная историю ближайших предков Онцифора, мы можем «запланировать» здесь ряд встреч. Например, с отцом Онцифора Лукой или с дедом Онцифора Варфоломеем. Не будем, однако, спешить. Мы расстались с усадьбой «Д» в 1955 году, когда там были найдены очередные грамоты, адресованные Юрию и Онцифору. В следующие шесть лет с расширением работ на этой усадьбе количество грамот пополнялось из всех слоев от XIV до XI века, но коллекция «посадничьих» грамот увеличилась лишь на одну.
Впрочем, в эту коллекцию тогда же мог быть включен еще один документ, правда, с другой усадьбы («Е»).
Грамота № 273, найденная в 1957 году в слоях с дендрохронологической датой 1340–1382 годов, сохранила первые две строчки с именами отправителей и адресатов: «Поклоно от Павла и от всих Мравгици ко Юрегу и ко Офоносу…». «Ко Юрегу» значит «к Юрию». Дата грамоты совпадала с начальным периодом деятельности Юрия Онцифоровича. Поэтому ее следовало бы отнести к числу «посадничьих» писем. Но кое-что в этой грамоте смущало. Юрий в ней был назван только по имени без отчества, его не титуловали «господином». И рядом с именем Юрия стояло имя еще одного адресата, какого-то Офоноса, до сих пор не встречавшегося среди Онцифоровичей. Взвесив все «за» и «против», грамоту № 273 решили в число «посадничьих» писем не включать. При издании она была описана как письмо, полученное какими-то неизвестными Юрием и Афанасием.
Но спустя шесть лет после ее находки, в 1963 году, разбирая и изучая громадные вещевые коллекции Новгородской экспедиции, к истолкованию этой грамоты привлекли маленькую костяную печать, найденную еще в 1954 году. Эту печать, в древности оттискивавшуюся на воске, нашли в очень поздних слоях второй половины XV века. И надпись, вырезанная на ней, в момент находки не способна была ни у кого вызвать каких-нибудь припоминаний. На печати стояло имя владельца: «Офонаса Онцифо». Афанасий Онцифорович. Мало ли кому из новгородцев могло принадлежать такое имя! К находке не возвращались, о ней забыли.
Но, сопоставив эту печать с грамотой № 273, мы иными глазами посмотрим на ее загадочных адресатов. Юрий и Офонос. Два этих имени, стоящих рядом друг с другом в грамоте, дают толкование и грамоте и печати. Грамота адресована братьям Юрию и Афанасию Онцифоровичам. О существовании одного из этих братьев мы теперь узнаем впервые. Афанасий Онцифорович, владелец случайно найденной печати, — сын Онцифора Лукинича и брат посадника Юрия. Посадничья семья увеличилась на одного человека.
Другая грамота — № 339, найденная на этот раз на усадьбе «Д», извлечена в 1958 году из напластований седьмого яруса, из слоя самого конца XIV века. От нее сохранилось только начало: «Поклон от Родиваца господину посад (ни) ку. Се от Хъ…».
Посадник здесь не назван по имени. И хотя Юрий Онцифорович получил посадничество лет через десять — пятнадцать после того как закончилось отложение слоя седьмого яруса, можно было бы, не задумываясь, предполагать именно в нем получателя грамоты № 339. Ее могли затоптать в грязь. Однако возможно, что адресатом этого письма был не он, а Онцифор Лукинич. Как раз в конце XIV века на усадьбе «Д» Юрий Онцифорович строил свой каменный терем, и при рытье канав для фундамента масса земли была вынута и выброшена на территорию усадьбы. В этой земле могли оказаться и обрывки более ранних грамот.
Печать Афанасия Онцифоровича. Наверху — оттиск, внизу — костяной штамп. Увеличено.
Именно такую судьбу, вероятно, пережил обрывок грамоты № 385, найденный в слоях конца XIV века на усадьбе «Д» в 1961 году. Вокруг новой находки уже не приходилось гадать. Начало письма сохранило четкий текст: «Поклоно посаднику Онсифару. Оже… по… наболися позовно грамоте…».
Вообще 1961 год в нашем знакомстве с усадьбой «Д» увенчался таким же успехом, какой экспедиция пережила в 1957 году на усадьбе «И». Там перед нами предстали Онцифоровичи младшего поколения. Здесь же береста донесла голоса их предков.
И не только береста. Первую весть от предшественников Онцифора экспедиция получила, найдя в слое конца XIII — начала XIV века ложку. Да, деревянную, выкрашенную желтой и красной краской ложку, подобную сотням тысяч деревянных ложек, существовавших на Руси с глубокой древности и доживших до наших дней. Только эта была не совсем обычной. Она была украшена тончайшим узором, нанесенным раскаленной иглой. Ее рукоятку обвивал орнамент из листьев и лент. На наружной стороне широкой части причудливо переплетались растительные завитки, концы которых завершались страшными мордами фантастических чудовищ. А на внутренней стороне искусный художник изобразил воина в доспехе и короне, с поднятым к плечу мечом и опирающегося левой рукой на щит. На черенке этой ложки той же иглой выполнена надпись: «Еванова Олъфоромеевича».
Ложка принадлежала Ивану Варфоломеевичу. Летопись не сохранила воспоминания о таком человеке. Но мы-то, хорошо зная условия и всю обстановку, в которой найден этот предмет с надписью, можем уверенно сказать: она принадлежала дяде Онцифора, брату Луки Варфоломеевича, сыну Варфоломея Юрьевича — Ивану, представителю того поколения, на смену которому пришло поколение Онцифора.
Ложка Ивана Варфоломеевича.
Вскоре из тех же хронологических глубин на лабораторный стол экспедиции легла грамота № 389. Ее нашли там, где и ожидали найти, — в слое десятого яруса, который, по данным дендрохронологии, датируется 1313–1340 годами. В двух строках, сохранившихся от большого письма, читаем: «От Лукы ко Марфи. Цто Олекса Колбинць дал порку в кунах, да ти бы дата куны на Пьтров день во Рисаль…».
Принадлежность грамоты № 389 нашему Луке Варфоломеевичу, а не какому-то другому Луке, вряд ли может вызывать сомнения. И место ее находки и дата — все соответствует отцу Онцифора Лукинича. Однако чтобы окончательно развеять возможные сомнения, А. Б. Арциховский сделал любопытные подсчеты. Он сосчитал, сколько раз Новгородской Первой летописи употребляются разные боярские имена, взяв для подсчетов посадников, тысяцких, их достоверных родственников, воевод, основателей церквей, начальников посольств. И оказалось, что в летописи фигурируют 36 Иванов, 30 Михаилов, 19 Федоров, 17 Василиев, 14 — Семенов, 13 Юриев, 10 Борисов, 10 Александров и только один Лука — наш Лука Варфоломеевич. Таким редким было его имя.
Что известно о Луке Варфоломеевиче? Обстоятельства его смерти уже рассказаны. А кроме этого Лука в летописи упомянут только один раз. В 1333 году он был членом посольства, отправленного из Новгорода к московскому князю Ивану Калите.
Что мы узнали о нем нового? Очень немного. Какой-то Олекса Колбинец поручился за Марфу, взявшую у Луки деньги в долг. Срок этого долга истекает на Петров день, 29 июня, и Лука напоминает своей должнице о возврате денег. В противном случае он вправе потребовать эту сумму с Марфиного поручителя Олексы. Однако за этими внешне незначительными фактами стоит вывод о несомненной принадлежности Луке усадьбы «Д». А это для нас главное.
И, наконец, последняя «посадничья» грамота — № 391 — найдена в слоях одиннадцатого яруса. Она была брошена в землю между 1299 и 1313.годами, — во времена, связанные с деятельностью Варфоломея Юрьевича — отца Луки и деда Онцифора.
Когда Варфоломей Юрьевич умер в 1342 году, его внук Онцифор был уже взрослым человеком, совершал самостоятельные военные походы и начинал свою бурную, хотя и кратковременную политическую деятельность. Значит, Варфоломею в год смерти было не менее шестидесяти лет. Однако в летописи и в других письменных источниках первые сведения о нем появились сравнительно поздно, когда ему было уже за сорок. Правда, эти первые упоминания застают его на вершине власти. В 1323 году от его имени заключены два важнейших международных акта Новгорода — договор с Ливонским орденом о мире и хорошо уже нам знакомый Ореховецкий договор со шведами. Договор Новгорода с Норвегией в 1326 году заключен также от имени Варфоломея. Еще раз он упоминается как посадник в 1331 году. Во главе новгородцев он встречал тогда получившего в Москве утверждение от митрополита нового владыку и своего старого друга Василия. А спустя девять лет архиепископ Василий хоронил посадника Варфоломея.
Грамота № 391, разумеется, не была дипломатическим документом и не принадлежала к его переписке с архиепископом Василием. Это обрывок письма, в котором отдавались хозяйственные распоряжения: «От Олфоромея к Доманцю и ко Лахну и ко Евану и к Олексе. Секите сук нмого, а рожи много…».
Загадочное «нмого» расшифровывается как вполне прозаическое «много» — слово, в котором Варфоломей сделал ошибку. Он приказывает своим слугам готовить подсеки для посева ржи, иными словами, вырубать кустарники на месте будущей пашни.
Прорись грамоты № 391. Письмо Варфоломея Юрьевича — одни из древнейших русских автографов выдающегося политического деятеля.
И снова главное историческое содержание этой записки заключается в том, что она, бесспорно, свидетельствует о принадлежности Мишиничам усадьбы «Д» уже при Варфоломее Юрьевиче.
Между прочим, — и это тоже заслуживает почтительного уважения — грамоты, написанные Лукой и Варфоломеем, были в год их находки самыми древними автографами крупных русских политических деятелей.
Итогом десятилетних терпеливых и целеустремленных поисков «посадничьих» грамот стала обширная коллекция из двадцати шести писем, именами своих авторов и адресатов связанная с шестью поколениями знаменитой в Новгороде семьи государственных мужей. Десять ее представителей запечатлели свои имена на бересте, на дереве и на кости: Андреян и Никита Михайловичи, Михаил Юрьевич и его жена Настасья, посадник Юрий Онцифорович и его брат Афанасий, посадник Онцифор Лукинич, Иван и Лука Варфоломеевичи и, наконец, посадник Варфоломей Юрьевич…
А где же Юрий Мишинич? И Миша?
Ни с Юрием Мишиничем, ни с Мишей, ни с другими представителями их семьи, более древними, чем Варфоломей, мы на усадьбе «Д» не встретились. И они на этой усадьбе, по всей вероятности, не жили. И вот почему.
Посадник Юрий Мишинич упоминается в летописи с 1291 по 1316 год. Его брат Михаил Мишинич был посадником уже в 1272 году и умер в 1280 году. Их отец Миша, следовательно, действовал в середине XIII века. Этому времени на Неревском раскопе соответствуют одиннадцатый — четырнадцатый ярусы. Здесь, казалось бы, надо ждать грамот с именами Юрия, Михаила, Миши.
Эти слои дали немало берестяных грамот, но имена их авторов и адресатов были совсем иными.
В двенадцатом ярусе усадьба «Д» связалась с каким-то Кузьмой. Это имя прочтено в обрывке грамоты № 393 («Кузьма дал…») и в целом письме № 344, написанном Петром и адресованном Кузьме.
Около того же времени усадьба могла принадлежать некоему Никифору, имя которого также запечатлелось в двух документах — берестяной грамоте № 346, отправленной «от Микифора к тетке», и грамоте № 421, написанной Лихачем Микифору.
В тех же слоях в 1962 году найден обрывок грамоты № 411, написанной каким-то серьезным мужчиной, имя которого заканчивалось на «андр». Его могли звать Александром, Менандром или Никандром. И написал он не больше — не меньше как распоряжение некоей Ксении, чтобы она, взяв цепи, заковала в эти цепи Матвейца в пивном подклете и приказала бы Константинцу стеречь его до приезда вышеозначенного Александра-Менандра-Никандра.
В четырнадцатом ярусе найдены грамота № 395 — письмо Григория матери и грамота № 350 — письмо от Степана и от матери к Полюду.
Словом, грамоты, происходящие из слоев, которые по всем расчетам должны содержать переписку Мишиничей, оказались написанными и полученными совсем другими людьми. Очевидно, предки Варфоломея на усадьбе «Д» не жили.
И это наблюдение, возможно, свидетельствует о более интересном процессе, чем тот, который был бы прослежен, будь грамоты Юрия и Миши найдены на раскопанной усадьбе.
Дело в том, что из исторических деталей, связанных с личностью посадника Юрия Мишинича, нам известна одна, чрезвычайно любопытная. В 1342 году архиепископ Василий похоронил тело Варфоломея Юрьевича, первого Мишинича, жившего на усадьбе «Д», в «отне гробе», то есть в гробу, где уже лежали останки его отца Юрия Мишинича. А этот гроб находился в церкви Сорока святых мучеников. А церковь Сорока святых мучеников соседствовала с участком, раскопанным Новгородской экспедицией. Этой церкви уже нет, она разрушена в XVIII веке, но на старинных планах Новгорода ее обозначали. Расстояние до нее от усадьбы «Д» примерно 150 метров. Значит, если Юрий Мишинич не жил на усадьбе «Д», то его усадьба была где-то здесь, в том же «микрорайоне» Новгорода.
За пределами раскопа и усадьбы «Д» стояла в древности и каменная церковь Спаса на Розваже.
По летописи эта церковь в 1421 году выстроена Лукьяном Онцифоровичем. Вряд ли возможно сомневаться, что Лукьян был родным братом Юрия Онцифоровича. Но берестяных писем, им написанных или им полученных, на Неревском раскопе не найдено. Значит, и этот представитель семьи Онцифоровичей жил в том же «микрорайоне», однако за пределами раскопанного экспедицией участка.
А если это так, мы можем наблюдать постепенное увеличение богатств посадничьей семьи, распространение ее на все большую часть городской территории. Владевшая первоначально какой-то усадьбой «икс» семья Мишиничей во времена Варфоломея прочно водворяется на усадьбе «Д», а при Онцифоре и на усадьбе «И».
Иными словами, тот участок принадлежавшей Онцифоровичам территории, который был раскопан в 1953–1962 годах, составлял лишь окраину целого района, подвластного посадничьей семье. Основные ее владения располагались за южной границей раскопа, там, где сейчас проходит асфальтированная магистраль Садовой улицы, и еще дальше, в ограде Кремлевского парка.
Возможно и другое решение вопроса. Онцифоровичи с самого начала владели многими городскими дворами, но на большинстве этих дворов жили не сами бояре, а арендаторы. Боярская же семья, увеличиваясь, время от времени переносила свою главную резиденцию из одной городской усадьбы в другую. Как бы то ни было, наше представление о том, как выглядела посадничья усадьба и чем она отличалась от усадеб других горожан, неожиданно получило зримый образ боярского гнезда, включающего не одну усадьбу, а несколько, занимающего не отдельную, окруженную частоколом ячейку городской территории, а плотно обосновавшегося на территории большого района Новгорода.
Глава 8
«Бьют челом крестьяне господину своему…»
До сих пор, путешествуя по времени на посадничьих усадьбах, мы знакомились только с историей самой находки берестяных грамот, адресованных семье посадников или написанных членами этой семьи. Сейчас все эти письма, которые собирали девять лет, разложены перед нами. Их двадцать шесть. Двадцать шесть кусков бересты, плотно зажатых между стеклами и окантованных.
Одно письмо Варфоломея. Одно написано Лукой. Шесть писем получил Онцифор и два написал сам. Шесть писем адресовано Юрию Онцифоровичу. Восемь — Михаилу Юрьевичу. Одно — написано Андреяном Михайловичем. Одно получено Андреяном Михайловичем, его братом и матерью. Двадцать шесть писем и шесть поколений одной семьи.
Но это, разумеется, не все грамоты, связанные с посадничьей семьей. В действительности их больше. Ведь кроме тех писем, на которых сохранились имена адресатов или авторов, на усадьбах «Д» и «И» найдено немало обрывков, утративших свои первые строки. Имея дело с такими обрывками, нельзя абсолютно точно угадать их адресатов. Однако они найдены на посадничьих усадьбах, в слоях, которые связаны с определенными периодами в истории посадничьей семьи. Таких обрывков собрано несколько десятков, и они содержат порой не менее ценные сведения для характеристики знатного боярского рода.
О чем же рассказывают все эти письма? Задав этот вопрос, мы подошли к одному из самых важных теоретических споров, касающихся истории средневекового Новгорода. К проблеме экономической природы Новгородской республики. Говоря проще — к вопросу о том, кому в Новгородской республике принадлежала власть.
Перед каждым человеком, думающим о средневековом Новгороде, невольно возникает привычный образ большого торгового города на Волхове. Серая гладь широкой реки расцвечена всеми красками бесчисленных парусов. Перекликаются кормщики. На шумных пристанях скрипят блоки. Проплывают на смоленых канатах тюки фландрских сукон и двинской пушнины. По наклонным помостам с гордо выгнувших свои резные носы ладей и учанов загорелые моряки выкатывают бочки дорогого фряжского вина. Пахнет рыбой, смолой и нагретой солнцем древесиной кедра. Разноголосая, разноязыкая речь — русская и немецкая, шведская и карельская, новгородское «цоканье» и московское «аканье». Шумит торг. А в тени розовых стен церкви Параскевы-Пятницы, покровительницы торговли, бывалые корабельщики плетут небылицы о заморских странах и самозабвенно врут о дочери морского царя и Садке богатом госте.
Что ж! Приблизительно так и было. Один из крупнейших купе городов Европы Новгород стоял на пересечении важнейших международных торговых путей. Многие из его дальних связей были проверены и уточнены при раскопках. Среди бесчисленных добытых из земли древних предметов немало и таких, которые привезены из стран Западной Европы, и с далекого Юга, и из пестрых, голубых и зеленых, стран Средней Азии. Новгород отливал свои деньги-слитки из западноевропейского серебра, вырезал для своих женщин украшения из прибалтийского янтаря, грыз грецкие орехи, причесывался самшитовыми гребнями, ел беломорскую семгу, намыливался в бане средиземноморской губкой, ставил на стол расписную поливную иранскую посуду, кроил фландрские сукна.
Новгород вез за свои рубежи мед и воск, северную пушнину, кожу и рыбу, снабжал западноевропейским серебром всю Русь до Рязани и Нижнего Новгорода, с запада на юг и восток перевозил западноевропейские товары, а на запад — восточные и южные.
На фоне этого колоссального товарообмена перед глазами исследователей долгое время маячили только две основные фигуры — фигура богатого гостя, купца, держащего в своих руках все нити большой торговли, и фигура производителя купеческих товаров — охотника, рыболова, бортника. Принято было считать, что только торговля была основой новгородской экономики. Ни ремесло, ни земледелие на нее не влияли. Летопись пестрит сведениями о нехватке в Новгороде собственного хлеба, который трудно вырастить на тощих северных почвах, а о ремесле она вовсе молчит. И поскольку главной фигурой в Новгороде был купец, ему принадлежала и вся власть в республике. Все эти посадники, возглавлявшие государство, наверняка составили свое богатство и упрочили его, покупая одни товары, продавая другие и наживаясь на третьих. Так думали почти все историки в XIX веке и многие историки в первой трети XX века.
Потом археологи, добыв и изучив десятки тысяч древних предметов из средневековых слоев Новогорода, расчистив остатки многочисленных древних мастерских, открыли третью важнейшую фигуру новгородской истории — фигуру ремесленника, владевшего всеми тайнами обработки металла и дерева, кости и кожи, камня и шерсти, изготовлявшего и бытовые предметы, и инструменты, умевшего не только построить дом, но и наполнить его тысячью великолепно сделанных вещей. А анализ письменных источников — летописей и актов, писцовых и лавочных книг выдвинул на первый план в управлении республикой фигуру боярина-землевладельца, которому принадлежали села и пашни, рыбные ловы и промысловые леса. Это его товары перепродавались потом купцами, принося наибольшую прибыль своему первоначальному владельцу. Купец и боярин-землевладелец этим анализом были противопоставлены друг другу. Была высказана уверенность в том, что главная роль купца состояла в посредничестве между действительными владельцами богатств — феодалами-землевладельцами — и рынком, а власть в Новгородской республике принадлежала кичащимся своим происхождением родовитым хозяевам богатейших и обширнейших земельных угодий. Основу новгородской экономики, источник новгородских богатств советские историки увидели не в международных купеческих спекуляциях, а в нещадной эксплуатации боярами массы новгородских крестьян и ремесленников.
И вот теперь эту мысль можно было проверить десятками писем, полученных в городской усадьбе одной из самых родовитых боярских семей, представители которой полтораста лет правили боярской республикой.
О чем же рассказывают эти письма? О землевладении? Или о торговле? Чем в своей каждодневной жизни были озабочены шесть поколений Мишиничей — Онцифоровичей? Прочитаем те грамоты, которые дают представление об экономике боярского хозяйства.
Начнем с самых древних грамот, с тех, которые извлечены из слоев эпохи Варфоломея и Луки.
Грамота № 391, написанная рукой Варфоломея, упоминает «ржи много». В тех же слоях на усадьбе «Д» найдены еще три грамоты, не сохранившие имен авторов и адресатов. Вот грамота № 191: «…деже ржи с Офлемовими людми. А найма дай коробью ржи». Слово «дежа» в этой грамоте означает определенную меру сыпучих тел. Это слово в древнерусских документах впервые встречено в одной из берестяных грамот еще в 1952 году и с тех пор несколько раз повторилось. Сейчас в некоторых диалектах оно означает квашню, кадку, в которой творят тесто. В древности такими кадками измерялось зерно. Слово «найм» означает здесь способ расчетов с зависимыми людьми. Речь в грамоте идет об использовании крестьян при уборке урожая и о расплате с ними. Грамоты № 320 и 327 из того же слоя сохранились в обрывках. В них исчислены в деньгах, овсе и, вероятно, ржи крестьянские повинности.
Все грамоты времени Варфоломея и Луки говорят о заботах, связанных с землевладением. Перейдем теперь ко времени Онцифора. Оговоримся только, что писем самого Онцифора мы пока не касаемся, они заслуживают особого рассказа.
Грамота № 98, с находки которой началось наше знакомство с Онцифором Лукиничем, упоминала его рабу и холопа. В ней, по всей вероятности, речь шла о разделе рабов.
Другая грамота — № 99 называет своим адресатом Онцифора. Она написана не очень грамотно, зато сохранилась целиком и в переводе читается так: «Поклон от Ондрика к Онцифору. Приказываешь про рыбу, а мне смерды не платят без руба. А ко мне пришли человека и грамоту. А что у тебя недобор старый, пришли жеребьи».
В грамоте нужно объяснить четыре слова: «смерды», «руб», «недобор» и «жеребьи». Смерды — это государственные крестьяне, которые платят повинности за — пользование в данном случае рыболовными участками. Слово «руб» встречено впервые, но в древнерусских документах известно слово «разруб», которое означает «раздел», раздел земли, раздел участков, раскладку повинностей. Очевидно, доля выплаты повинностей у разных смердов была разной, и Андрей просит Онцифора прислать эту грамоту, на основании которой он и будет взымать с крестьян рыбный оброк; еще нужно перечислить участки — «жеребьи», с которых Андрей должен получить недоимку, «недобор», за прошлый год или прошлые годы. Снова перед нами землевладельческий документ, хотя речь в нем не о зерне, а о рыбе.
С этой грамотой как бы перекликается целая маленькая — всего в три слова записочка № 325: «Ортимие не недоборной». Там речь шла о списке должников, «недоборных». Здесь же рукой господина или ключника засвидетельствовано, что какой-то Артемий заплатил все сполна.
Вот еще одно письмо управляющего своему господину. Судя по месту и уровню залегания находки, эта грамота, получившая номер 102, адресована Онцифору Лукиничу: «Поклоно от Ф… еси велиле, велиле верши имате, творяце и виновати. Одину три коробеи ув Ыванка узяле. Староста Олескандрова погоста бееть целом, стобы еси, господине, окупиле и… лово положиле со мною, аже ти… окупити их, тиы отошлии».
Здесь два трудных слова: «верши» и «окупить». «Верши» — так в Новгороде назывался хлеб на корню или в зерне. «Окупить» значит взять выкуп за крестьянина, который ушел к другому феодалу, не заплатив своих долгов прежнему владельцу. Ключник докладывает своему господину, который приказал удержать хлеб у крестьян, заявивших об уходе от него, что у Иванка отобрано три коробьи. Коробьями в Новгороде измерялось зерно. Другие крестьяне успели уйти в Александров погост, и староста этого погоста просит сообщить размер этого долга и разрешить вернуть его позднее, когда крестьяне смогут. А может, он готов и сам расплатиться за них, чтобы потом взыскать с лихвой в свою пользу.
В грамоте № 345 на этот раз господин пишет своим крестьянам: «…а звало есмь васо в городо, и вы моего слова нь послушали. А како приедуте по васо дворянь, тако будить». Господин грозится прислать дворян к ослушавшимся его крестьянам. Как об этом сообщают новгородские законодательные акты, господин в случае неповиновения крестьян должен был сначала вызвать их в город «позовкою», а затем, если это потребуется, послать за ними специального чиновника — дворянина. По-видимому, в нашем случае дворяне не потребовались. Крестьяне пришли сами и принесли то письмо, которым их вторично вызвали в город к своему господину.
Все эти грамоты снова характеризуют Мишиничей как крупных землевладельцев, всецело занятых в своем хозяйстве управлением обширными волостями.
А вот письма, полученные Юрием Онцифоровичем. Эти документы вдвойне ценны для нас не только потому, что они снова и снова рисуют вершителей судеб Новгородской республики вотчинниками, владельцами обширных земельных участков и тысяч крестьян, но и потому, что в них мы впервые слышим голос самих крестьян, повествующий об их судьбе, о жизни под управлением боярских приказчиков. Однако будем знакомиться с этими письмами по порядку.
Грамота № 386. В крохотном обрывке лишь несколько букв, но эти буквы складываются в слова: «…о земле…».
Грамота № 96. Снова обрывок: «…ле без емников и я омеши двои за Федора з бра…». Упоминаются «омеши» — сошники и «емники» — рукояти. Письмо сообщает о состоянии сельскохозяйственного инвентаря.
Грамота № 97. Обрывок из начала письма: «Господину Юрию челом бее Ортьмъка и Деица. Рожь продають по…». Артемка и Деица, как можно догадываться, сообщают Юрию Онцифоровичу о ценах на рожь.
Грамота № 104. Обрывок, в переводе не нуждающийся: «…а земля сама ся окупить твоим здоровием».
Грамота № 273. Обрывок письма, посланного Юрию и Афанасию. В нем по существу нет никакого конкретного содержания. Но авторами письма названы Павел и «все Мравгицы», то есть жители деревни Мравгицы. Снова крестьянское письмо феодалам.
И, наконец, целое письмо, грамота № 370: «Поклон ко Юрью и к Миксиму от всих сирот. Цто еси дал нам за клуцка, за нас не стоть, нас продаеть, и окрадони от ного есми. А лежини от ного, не отъезде да. А ми есми в том погибли. Аже ему будьть сидить, намам сили ниту сидити. А да нам смирного человека. А на том тобе цолом».
В письме много ошибок, пропущенных букв. Это и понятно — ведь написано оно от имени крестьян, называвшихся в Новгороде XIV века «сиротами». В переводе крестьянская жалоба звучит так:
«Поклон к Юрию и к Максиму от всех крестьян. Что ты дал нам за ключника? Он за нас не стоит, обременяет нас поборами, и мы им ограблены. Мы из-за него стали лежнями, так как он не разрешает нам отъезжать…»
Здесь остановимся, чтобы пояснить слово «лежни» и разобраться, почему крестьяне стали «лежнями». В словаре Даля при слове «лежень» упоминается одно из его значений, которое в XIX веке еще сохранялось в языке. «Лежнем, — пишет В. И. Даль, — в монастырях зовут больничного старца, больного или дряхлого монаха, не выходящего из кельи». Вероятно, это место письма «сирот» нужно понимать так: из-за того, что ключник не разрешает крестьянам отъезжать на промыслы, на охоту, рыбную ловлю, для выполнения собственных хозяйственных дел, крестьяне превратились в неподвижных лежебок, подобных дряхлым старцам. Возможно и другое толкование этой трудной строчки в письме. Слово «лежни» встречается в литовском Судебнике короля Казимира 1468 года. Там оно, напротив, означает людей, не имеющих оседлости, бродяг, а также постояльцев местного населения. Может быть, крестьяне жалуются на то, что ключник их притесняет, а обо всяких бродягах заботится? Тогда можно перевести и так: «А бродяги от него не отъезжают» или «А всяких бродяг он привечает».
Скорее же всего мы абсолютно неверно прочли трудное место письма и прав Л. В. Черепнин, который читает его иначе: «Але ж ини от ного. Не отъездед, а ми есми в том погибли», то есть — «и иное от него»: «ключник не стоит за крестьян, обременяет их поборами, ограбил их, и многое иное творит».
Возможно, нам следовало остановиться на этом последнем толковании текста, не рассуждая столько о «лежнях», которых, оказывается, в письме и нет, но ведь предложение Л. В. Черепнина появилось после многолетних споров о том, как нужно понимать это трудное письмо, и сама история чтения грамоты поучительна. Теперь продолжим перевод:
«Если он от нас не уедет, нам остается погибнуть. Если он будет и дальше сидеть, нам оставаться нет сил. Дай нам смирного человека. А в том тебе челом бьем». В уже цитированной раньше грамоте № 102 говорилось о крестьянах, ушедших от своего господина. Здесь крестьяне только грозят уходом, если господин не заменит ключника.
Били челом крестьяне господину Юрию Онцифоровичу безуспешно, иначе им не пришлось бы посылать еще одну грамоту о той же беде. Вот обрывок грамоты № 94. Напомню, что это первое берестяное письмо с посадничьим именем. «Биють целом крестьяне господину Юрию Онцифоровицю о клюцнике, зандо, господине, не можем ницим ему удобритися. Того, господине, с села… господине, буянить. А себе, господине…»
Здесь только одно трудное слово — «зандо», настолько редкое, что сразу после находки грамоты № 94 его приняли за имя ключника. «Зандо» — одна из форм забытого русского слова «зане», которое означало «потому что». Крестьяне пишут Юрию Онцифоровичу, что ничем не могут угодить ключнику, буянящему у них в селе. А может быть, это жалоба других крестьян и на другого ключника? Мало ли этих ключников буянило по селам посадника Юрия?
А вот письмо ключника, вынужденного заступиться за обнищавшую крестьянскую семью, обрывок грамоты № 353: «…ныне ту, у вдовкиных детей на тых сохах семян нету ни деже, ино не дашь коний и семена… буде…».
«Сохой» в Новгороде XIV–XV веков называлась окладная единица, определенное количество земли, с которой владельцу шел доход от обрабатывавших ее крестьян. У вдовкиных детей — детей какой-то вдовы — на тех сохах, какие им были предоставлены, нет ни дежи семян. Если господин не даст им семян и коней, чтобы распахать землю, то вдовкиным детям придется совсем туго.
И еще одна грамота, полученная Юрием Онцифоровичем, — берестяное письмо № 167: «Челобитье от мелника из Злостьици к Юрью к Оньцифорову. Чоби, господине, попецелилеся горюнами. А н(ы)нь посли свой человек». Письмо написано Юрию Онцифоровичу мельником из села Злостьицы. У Юрия был не один мельник, а несколько; автор письма поэтому называет село, в котором он живет. Мельник нуждается в защите от кого-то, он просит Юрия помочь ему, прислав своего человека. По мнению А. В. Арциховского, эта грамота помимо всего прочего свидетельствует о существовании в древней Руси мукомольного баналитета, подобного западноевропейскому. Мукомольный баналитет обязывал крестьян пользоваться мельницей только своего господина, оплачивая ему помол зерна. Л. В. Черепнин полагает, что грамота сообщает также об институтах защиты — патронате и иммунитете. Мельник, по-видимому, хлопочет о подсудности только своему боярину, а не каким-либо местным властям.
В переписке Юрия Онцифоровича мы видим те же заботы, которые одолевали его предков, — заботы крупного землевладельца, эксплуатирующего труд бесчисленных крестьян при помощи дворян, приказчиков и ключников. Боярские городские усадьбы, эти ячейки огромного новгородского улья, наполнялись богатствами бескрайней Новгородской земли, чтобы стать источником силы, могущества и власти сравнительно небольшого слоя крупнейших землевладельцев Новгорода.
Для характеристики хозяйства новгородской боярской семьи особенно значительна переписка Михаила Юрьевича и его наследников. Вот несколько грамот с перечислением крестьянских повинностей.
Грамота № 161: «Перха 3 кади ржи. Наум 3 ржи. Огафаноко кадь ржи. Грига 2 кади ржи. Кулба кадь ржи. Филимон 3 кади ржи. Офромеець кадь ржи. Васке 2.кади ржи. У Обакунця 2 кади ржи. У Максимця 2 кади ржи. Шестьники 5 кадей ржи. У Окиша 2 кади ржи. У Тораха 3 кади ржи. Исак пол 3 третьи ржи. У Съсья 2 ржи. У Токаря 2 ржи. У Микитци кадь ржи. У Доманта 3 ржи. У Овсяника кадь ржи. У Понарьи полътреть ржи. У Юрка 2. У Чупровыхо 5 ржи». Только по одной этой грамоте семья Михаила Юрьевича получала единовременно 51 кадь ржи.
Грамота № 162: «На Терехе и на Лутьянь рубль. И на их внучате, на Микифоре, на Григорь 4 гривни. На Онане, на Пелемчах полтинна. У Сеш… коробе ржи. На Ргиторьи 5 коробе овса да коробья жита. На Мине 2 гривни. На Машке 2 гривне». Здесь повинности исчислены не только в ржи, но главным образом в деньгах, а также в овсе и жите. Житом в Новгороде назывался ячмень.
Грамота № 299: «А от Гриска осмина жри. У Са… И у Михали у Шила есми… И у Лягаца осмина ржи. У Н…смина ржи. У Фефана осмна овьса. У В… да полъосмина жита». Снова рожь, овес, ячмень, только теперь в осминах — еще одна единица измерения зерна.
Грамоту № 313 своему господину Михаилу Юрьевичу пишут крестьяне Смердыньскые, а крестьяне из другой деревни, называющие себя по месту жительства Черенщанами, прислали ему два письма. В одном пишут, как по приказу Михаила Юрьевича и ключника они переставляют на новое место двор. Это грамота № 157. А другое их письмо — грамоту № 311 — нужно воспроизвести целиком:
«Господину своему Михаилу Юрьевичу хрестяни твои Череншани чело бию, те што еси одода деревенеку Климецу Опарину. А мы его не хътимо. Не суседней человеке. Волено бъ деиты». — «Господину своему Михаилу Юрьевичу крестьяне твои Череншане челом бьют, из деревеньки, которую ты отдал Климу Опарину. А мы его не хотим. Не соседний человек…». Последнюю фразу Л. В. Черепнин прочел: «Волено бъ де и ты» и перевел: «(Над нами) волен (только) бог и ты».
Из содержания грамоты и ее тона ясно, что Михаил Юрьевич отдал или продал Климу Опарину деревеньку со всеми населявшими ее крестьянами. Однако сами крестьяне не признают за ним такого права, полагая, что они обязаны подчиниться новому владельцу только в том случае, если бы он был «суседним» человеком, иными словами — совладельцем, компаньоном Михаила Юрьевича. «А мы его не хотим», — пишут крестьяне о Климе.
Заметили ли вы, как по своему тону похожи одна на другую крестьянские жалобы, хотя их разделяют порой несколько десятков лет? Методы эксплуатации крестьян не менялись от того, чьими руками извлекался боярину доход с его вотчин — руками ли ключников или вассалов. Бремя же эксплуатации с каждым десятилетием становилось все более тяжким. Однако увеличение этой тяжести крестьяне склонны были связывать только с переменой тех лиц, которые требовали от них денег и зерна, будь то новый ключник или новый владелец, получивший землю у их старого господина. Сами бояре в этой системе занимают наиболее выгодную позицию. Между ними и крестьянами стоят менее значительные фигуры, действия которых со стороны могут показаться своеволием, а не исполнением боярских приказов. На эти менее значительные фигуры и обращался крестьянский гнев, тогда как сами бояре в глазах крестьян могли казаться даже близкими к богу заступниками, к которым в трудную минуту можно было обратиться с жалобой.
Разумеется, жалобы к действенным формам протеста против классового угнетения отнести невозможно. Но за этими жалобами стоит способность крестьян протестовать и более активно. Одним из таких активных способов был переход к другому господину. Намеки на него уже промелькнули в двух грамотах. В одной, не сохранившей имени адресата, староста просит своего господина, вероятно, Онцифора Лукинича, определить размер выкупа за отошедших от него крестьян. А в другой — письме «сирот» Юрию и Максиму — крестьяне прямо угрожают своим господам уходом от них: «Если ключник и дальше будет сидеть, — пишут они, — нам сидеть нет сил».
А вот еще одна грамота № 301, в которой такая угроза уже осуществлена. Это целое письмо в шесть строк: «Осподиню Михаилу Юрьвицу, синю посадницу, паробок твой Кля цоло бие. Како, осподине, пожалуеши волости? Половина пуста, и котор осталися, ити хотя. Жалуби хотя, осподине, жалоби, цоби, осподине, подати убавити. А тоби, своему осподиню, целом бию».
«Паробком» в средневековом Новгороде назывался слуга. Это письмо, следовательно, написано не крестьянином, а боярским слугой, дворовым человеком. Но вырвавшийся у него крик вызван непосильным бременем податей, обрушенных на спину и плечи крестьян: «Господину Михаилу Юрьевичу, сыну посадничьему, паробок твой Кля челом бьет. Как, господин, пожалуешь волости? Половина запустела, а те, кто еще остались, идти хотят. Жаловаться хотят, господин, жаловаться, чтобы ты, господин, подати убавил. Я же тебе, своему господину, челом бью».
Прорись грамоты № 301. Крестьянская жалоба на тяжесть боярских податей.
От непосильных податей половина крестьян в волости Михаила Юрьевича разбежалась, а оставшиеся «идти хотят». Куда? Может быть, последовать их примеру? А может, хотят идти всем миром в Новгород жаловаться. Господину на ключников? Или Великому Новгороду на господина?
Грамота № 297 сохранила сведения о другом не менее действенном способе крестьянского протеста: «Целобитье от Сергия з братьей из Рагуилова господину Михайли Юрьевицю. Стог, господине, твой ржаный цетверетьнъй тати покрали, овинов пять свезли…».
Сергий и его братия из Рагуилова сообщают Михаилу Юрьевичу, что его ржаной стог украли воры. Емкость стога измеряется пятью овинами. И самый стог называется четверетным. Это обозначение стало возможным расшифровать только путем сравнения с терминологией других берестяных грамот.
Найденная еще в 1952 году грамота № 23 никакого отношения к посадничьему хозяйству не имела. Она написана другому землевладельцу — Фоме, жившему в конце XIV — начале XV века на перекрестке Великой и Холопьей улиц, тому самому Фоме, о доходах которого говорилось в первой открытой в Новгороде берестяной грамоте. Но вот что было в грамоте № 23: «Поклоно от Карпа к осподину моему Фоми. Было есми, осподинь, на Пустопьржи, рожь есмь роздилило с Ольксой, с Гафанкомо. Ньмного, осподинь, ржи на твою цасть, два овина цьтвьрти. А Пянтьликь видьль самь» — «Поклон от Карпа к господину моему Фоме. Были мы, господин, на Пустоперже, рожь разделил с Олексой и с Гафанком. Немного, господин, ржи на твою долю: два овина четверти. А Пянтелик видел сам».
В этой грамоте рассказывается, как боярский приказчик Карп в присутствии свидетеля Пянтелика разделил урожай между Олексой и Гафанком, с одной стороны, и своим господином Фомой, с другой. Фоме досталось два овина, что составляет четверть всего урожая. Следовательно, Олекса и Гафанко обрабатывали принадлежавшую Фоме землю на условиях выплаты ему четверти урожая. Подобное условие существовало и на землях Михаила Юрьевича в Рагуилове. Там посадничьему сыну принадлежал четверетный стог объемом в пять овинов, составлявший четверть урожая, который был собран, по-видимому, Сергием с братией. Однако стог украли, и Михаил Юрьевич лишился своей доли. Трудно представить, чтобы эту кражу совершили какие-то дальние, посторонние для той местности воры. Украсть немолоченный хлеб могли только живущие здесь же крестьяне, может быть, даже и сам Сергий со своей братией.
Нам остается прочесть только одну грамоту из числа тех, которые характеризуют хозяйство посадничьей семьи. Эта грамота — № 307 — одно из самых ярких свидетельств произвола, царящего в новгородских селах:
«Осподену Ондреяну Михайловицю, осподену Микыти Михайлоцю, оспоже нашей Настасеи Михайлове жене чолом бею крестьяне Избоищане. Здесь, осподо, у вашей вълости являются позовнице у Горотъне, и зде являтся ппозовници ложивы, и здесе, осподо, являются рукуписание лживыя. А перепесысысывають, вашь не требу и деяк. Позовници и рукопесаниа лживыя, а творяться, печатала. И ва Парфе рукусануея. А крестьяне вашь вам, своей осподи, цолом бею».
Человек, написавший грамоту № 307, несомненно, был достаточно грамотным. Об этом свидетельствует хотя бы его почерк — уверенный почерк человека, привыкшего писать. Но сейчас, когда ему потребовалось написать челобитье крестьян Избоищан своим господам, он слишком взволнован, чтобы писать правильно. Он пишет короткие фразы, повторяется, глотает концы слов, заикается. Прислушайтесь: «п-позовници», «переписы-сы-сы-вають». Одни и те же слова пишет всякий раз по-разному: «Михайловицю» — «Михайлоцю», «рукуписание» — «рукопесаниа» — «рукусаниуея», «чолом» — «цолом». Еще бы! В волости Онцифоровичей — и в Горотне, и в Парфе на Ловати, и в Избоище, где живут крестьяне-жалобщики, появились «позовницы». Так назывались в Новгороде лица судебной администрации, судебные приставы. Эти приставы опечатывают имущество, предъявляя «рукописания», то есть какие-то официальные грамоты, на которых они основываются в своих действиях.
Но эти «рукописания» — лживые, подложные. И сами приставы — самозванные. Они организовались в жульническую артель, захватили с собой печать и вдали от Новгорода, без дьяка и без представителя от самих Онцифоровичей, грабят крестьян. Люди, умевшие писать официальные документы, да к тому же еще обладающие печатью, могли в средневековой деревне наделать немало бед.
Однако возможно и другое толкование этой грамоты. «Рукописания», при помощи которых приставы обирали крестьян, действительно были подложными, жульническими, а вот сами приставы — несамозванцы. Они были самыми настоящими, и печать у них подлинная. Только пользовались они этой печатью для вымогательств и шантажа. Такое предположение возможно проверить и подтвердить показаниями других, хорошо известных и до находки берестяных грамот письменных источников.
Грамота № 307 найдена в слоях, датируемых при помощи дендрохронологии 1422–1446 годами. А вот что сообщает современник описанных крестьянами Избоищанами событий новгородский летописец под 1445 годом:
«…не бе в Новегороде правде и правого суда, и возсташа ябедници, изнарядиша четы и обеты и целованья на неправду, и начаша грабити по селом, и по волостем, и по городу, и беяхом на поругание суседом нашим, сущим окрест нас, и бе по волости изъезжа велика, и боры частыя, кричь и рыдание, и вопль, и клятвы всими людми на старейшины наша, и на град наш, зане не бе в нас милости и суда права».
Здесь речь идет о событиях, похожих, как две капли воды, на то, что творилось в волости детей и вдовы Михаила Юрьевича. «Ябедники» — это другое название «позовников», судебных приставов, — договорились заняться вымогательством. Летопись подчеркивает именно организованный характер задуманного ими шантажа. Они подобрали сообщников («изнарядили четы»), составили грамоты на взыскание («обеты») и присягнули друг другу в своем намерении выполнить задуманное ими предприятие («изнарядили целование на неправду»). И начали грабить по селам, волостям и даже в самом Новгороде. И было по волостям разорение великое. И были крик и рыдание, и проклятия от всех людей на старейшин новгородских — или, как их называет летописец в другом месте, на «бояр бесправдивых», — и на самый Новгород, потому что не было в нем милости и правого суда.
Это очень важное летописное сообщение объясняет одну из главных причин равнодушия простых людей к судьбе Новгородской республики в самый опасный для нее момент, который наступит спустя каких-нибудь тридцать лет: если еще в XIV веке новгородские крестьяне и ремесленники с оружием в руках защищали вечевой строй, то в семидесятых годах XV века, когда началось присоединение Новгорода к Москве, они уже достаточно хорошо разобрались, кто виноват в том, что легшие на их плечи подати были непосильными, а поборы частыми. И почему не было для них милости и правого суда. В описанном здесь эпизоде, ответственность за который можно было бы целиком возложить на преступных судебных чиновников, новгородские люди сумели разглядеть главных виновников — «бесправдивых бояр», старейшин Новгорода и Новгородской земли, ее посадников и тысяцких, членов правящего Новгородом «Совета Господ», которые к середине XV века держали в своих руках все нити политической власти и влияния в городе и его области.
В 1433 году новгородский архиепископ Евфимий II построил для заседаний «Совета Господ» знаменитую Грановитую палату. Спустя восемь лет ее расписали фресками, поместив около входа сохранившееся до наших дней изображение Христа с раскрытой книгой в руках. В книге легко читается надпись: «Не на лица зряще судите, сынове человечестии, но праведен суд судите: имже бо судом судите, судится и вам». И именно в это время в новгородскую литературу прочно входит фигура «неправедного судьи», выступающего не в образе пристава — «ябедника» или «позовника», — а в образе посадника-мздоимца Добрыни или посадника-мздоимца Щила. Зло неправедного суда в глазах простых новгородцев начинает выступать в одеждах высших руководителей боярской республики.
Вчитываясь в переписку посадничьей семьи, мы за строками берестяных писем хорошо разглядели, чем жили и как богатели вершители судеб Новгородской республики. Земля, владение землей, эксплуатация крестьян — вот основа благополучия и власти новгородского боярства. В грамотах Мишиничей-Онцифоровичей нет ни слова о заморских товарах, потому что торговля в боярском хозяйстве не играла определяющей роли. Но за строками берестяных писем мы можем увидеть и иную картину — Новгород, одиноко стоящий посреди обширной равнины, лишенной или почти лишенной других центров городской жизни. Вся эта необъятная территория служила основой одному городу, который и года не просуществовал бы, будучи оторванным от своей сельскохозяйственной округи.
Если отдельную боярскую усадьбу можно сравнить с сотами громадного улья, а все городское посадничье хозяйство — с ульем, то боярский Новгород — это чудовищных размеров пасека, соты которой непрерывно наполнялись медом, собранным с бескрайних полей и лугов Новгородской земли. Новгород не мыслим только в пределах его городских валов. Поэтому, обращаясь к другому образу и сравнивая расцвет культуры Новгорода, его историческую роль в судьбах России, его военные успехи с видимой отовсюду зеленой кроной могучего дерева, мы будем помнить, что это дерево собирало соки со всех концов Новгородской земли.
Глава 9
Письма Онцифора
Этих писем два. Одно, получившее номер 354, найдено последним в сезоне 1958 года. Другое — грамота № 358 — первым в сезоне 1959 года. Они могли быть найдены в один день — так близко друг к другу пролежали они шестьсот лет в земле, — если бы не необходимость прекращать раскопки на зиму. Мы просто прочтем их, чтобы поближе познакомиться со знаменитым государственным деятелем и реформатором боярской республики. Ведь в письмах человека, так или иначе, отражается его характер, а характер Онцифора Лукинича всегда будет интересовать историков.
Грамота № 354 сохранилась целиком. Она исписана с обеих сторон. Содержание письма не уместилось в восьми строках, и Онцифор Лукинич, перевернув лист бересты, дописал конец своего послания на оборотной стороне.
«Челомбитие ко госпожи матери от Онсифора…»
Онцифор бьет челом своей матери, вдове погибшего на Двине Луки. Мы не знаем ее имени.
«…Вели Нестерю рубль скопити да ити к Июрию к сукладнику…»
Мать Онцифора должна приказать какому-то Нестору «скопить» рубль. Рублем в XIV веке была значительная сумма денег. Если выразить ее в серебре, то это будет примерно 170 граммов. Нестору нужно было собрать эту сумму и идти к Юрию. У Онцифора был сын Юрий, но при жизни Онцифора он, по-видимому, оставался еще маленьким мальчиком: ведь впервые как самостоятельный деятель новгородской истории он упоминается только в 1376 году. Впрочем, уже в следующем слове письма Юрий называется «сукладником». Такой термин в древней Руси означал мастера, делающего сталь. Вероятнее, однако, другое толкование этого слова. Приставка «су» могла быть идентичной приставке «съ». Например «суклетником» назывался сожитель по келий, но также грамотно можно было передать это понятие в форме «съклетник». Если такое сопоставление правильно, то в письме Онцифора имеется в виду его «съкладник» Юрий, то есть совладелец какого-то земельного угодья, в котором Онцифору и Юрию принадлежали разные участки, «жеребьи».
«…Молися ем, чтобы конь купил. Да иди с Обросием к Степану, жеребий возмя, или возмет рубль, купи и другий конь…».
Онцифору, находящемуся где-то вдали от Новгорода, нужно, чтобы в его отсутствие были куплены два коня. Одного Нестор должен купить за рубль при помощи Онцифорова складника Юрия, а второго сама мать вместе с Обросием пусть купит у Степана за другой рубль или за какой-то жребий. Поскольку так назывался земельный участок в долевом землевладении, можно думать, что Степан был еще одним складником Онцифора.
«Да прошай у Юрия полтини, да купи соли с Обрысием…»
Снова упоминается Юрий, на этот раз как возможный кредитор. У него нужно попросить денег на покупку соли. И снова назван Обросий, который, по-видимому, был новгородским ключником Онцифора.
«…А михи и серебра не добудеть до пути, пошли с Нестером сим…».
В этой короткой фразе несколько интересных деталей. Во-первых, становится очень ясным термин «скопить рубль», употребляемый в начале письма. Дело в том, что во времена Онцифора, в XIV веке, новгородцы не пользовались монетами. Чеканить монету в Новгороде качали лишь в 1420 году. Крупную торговлю, в которой денежные суммы исчислялись рублями, тогда обслуживали тяжелые слитки серебра узаконенного веса. А вот каким образом новгородцы выходили из положения, когда нужно было сделать мелкую покупку, историки и нумизматы спорят до сегодняшнего дня. Что употреблялось взамен мелкой монеты — один из самых сложных вопросов истории русских денег XIII–XIV веков. Понятно, что когда мы встретились с выражением «скопить рубль», мы встретились и с этим сложным вопросом. Ведь «скопить» рубль можно лишь из чего-то, что заменяло монеты в ту пору, когда их еще не чеканили. Оказывается, скопить рубль можно было и серебром, и мехами. Вероятно, серебро было в виде обломков украшений и утвари или ненужных вещей, а мехов нужно было собрать на равноценную сумму.
Фотография грамоты № 354. Это первое письмо Онцифора Лукинича с его распоряжениями по хозяйству.
Если эти деньги не удастся собрать «до пути», то есть до установления зимнего или летнего пути, то, когда дороги наладятся, пусть их привезет Нестор. Нужно полагать, что на тот случай, если деньги будут собраны раньше, Онцифор надеется получить их одновременно с конями и солью, ожидая к себе Обросия. Очевидно, что письмо написано в распутицу, весной или осенью, когда дороги раскисли от грязи и стали непроезжими для обоза. А что Онцифор ждет к себе обоз из Новгорода, видно из следующих слов его письма:
«…Да пошли 2 коз и корякулю пятен, польсти, веретища, михи и медведно…»
Ну, разумеется, письмо написано осенью. Онцифор просит мать прислать ему теплые зимние вещи. Пусть мать отправит к нему «медведно» — медвежью шкуру, «михи» — меха, «веретища» — какие-то одежды, мать сама знает какие, «полъсти» — войлочные ковры. И — самое трудное место в письме! — «2 кози корякулю пятен».
На первый взгляд, это место письма как будто вполне понятно: две кожи пятнистого каракуля. Однако такое толкование сразу же натолкнулось на препятствие. Хорошо известное всем слово «каракуль», то есть дорогой мех среднеазиатского барашка, происходит от местности Каракуль возле Бухары и по своему значению, казалось бы, призвано стоять в нашем письме рядом с мехами, медвежьей шкурой и войлочными коврами. Однако в русском языке такого слова нет до очень позднего времени. Его не найти, например, в словаре В. И. Даля. А в языках народов Средней Азии, знающей каракулеводство с X века, каракуль назывался иначе. Может быть, слово «каракуль» в теперешнем значении употреблялось в русском языке изредка и в более раннее время, даже в XIV веке, но подтвердить это предположение нечем.
Возможно другое объяснение. В русском языке «каракулой» называется караковая, то есть темно-гнедая, почти вороная лошадь. «Каракулами» также назывались черные пятна у вороной лошади. А «козой» в некоторых диалектах русского языка называют мешок из шкуры, снятой с животного целиком или, как говорят, «дудкой». Не просит ли Онцифор прислать ему два таких мешка из караковых лошадиных шкур, которые в древности могли выполнять роль современных чемоданов или баулов. Если это так, что, в общем, мало вероятно, то нелегко представить себе человека, поднимающего чемоданы величиной с доброго коня.
Над Онцифоровыми «корякулями» еще потрудятся лингвисты и историки. Однако нам пора продолжить чтение его письма.
«…Вели у Максима у ключника пшенки попрошати. И диду молися, чтобы ихалы в Июриев монастир пшенки попрошал, а сди ее не надийся».
Это заключительная фраза Онцифорова письма, конец которого весь посвящен поискам «пшенки», пшенной крупы. Скажу откровенно; когда грамота № 354 была дочитана до этих слов, у всех участников экспедиции возникло сомнение, тот ли это Онцифор. Знаменитый государственный деятель, богатейший новгородский землевладелец — и вдруг разослал всю свою семью и челядь искать «пшенку»! И к Максиму-ключнику нужно за ней толкнуться. И деду неплохо бы собраться да сходить в Юрьев монастырь — может, там не откажут? Наверное, именно из-за этих сомнений первое письмо Онцифора Лукинича не включили даже в предварительную журнальную публикацию грамот 1958 года, в которой изданы куда менее значительные документы.
Сомнения полностью рассеяла работа Алексея Васильевича Кирьянова, реставратора древних предметов, археолога и историка земледелия, долгие годы связанного с Новгородской экспедицией. А. В. Кирьянов, организовав экспедиционную лабораторию, обеспечившую первичную сохранность берестяных грамот и тысяч древних вещей изучал средневековое новгородское земледелие. Бывший агроном, он и в экспедиции все свободное время проводил в исследовании и подсчете добываемых из древних слоев зерен, которых за годы раскопок было найдено несколько миллионов. И вот, подсчитывая эти миллионы зерен, он смог установить судьбы разных сельскохозяйственных культур в разные века новгородской истории. Оказалось, например, что просо, которое было главной культурой в X веке, уже в XI веке стало энергично вытесняться рожью. В XII веке проса еще довольно много, хотя и меньше, чем ржи. В слоях XIII века его становится мало, а в слоях XIV и XV веков встречаются самые ничтожные количества проса. В эту эпоху пшено было дефицитным товаром, и любителям пшенной каши, даже если они принадлежали к числу государственных деятелей и крупнейших землевладельцев, не зазорно было искать его, возлагая надежды на богатейший Юрьев монастырь.
Мы с вами прочли первое письмо Онцифора. Кроме того, что его автор любил пшенную кашу, мы узнали о нем еще кое-что. Его письмо, посвященное хозяйственным заботам, проникнуто живыми чертами характера беспокойного человека, привыкшего вникать в каждую мелочь, все предусмотреть и приказать так, чтобы не осталось малейшей неясности в его распоряжениях.
Деревянные шахматы с усадьбы Онцифора.
Когда было написано это письмо? Девятый ярус, в слоях которого найдена грамота, данными дендрохронологии датируется 1340–1369 годами, то есть включает весь период известной по летописям деятельности Онцифора Лукинича. Ведь он впервые упоминается под 1342 годом, а умер в 1367 году. Однако обратите внимание на то, что в момент написания письма он находился в весьма неблагоприятных, стесненных обстоятельствах. Он не может послать сам двух рублей на покупку коней и полтины на покупку соли. Он нуждается в самых необходимых зимних вещах, не имея возможности раздобыть их там, где находится. По-видимому, есть достаточно оснований согласиться с предположением Л. В. Черепнина, что письмо написано Онцифором вскоре после событий 1342 года, когда он вынужден был бежать из Новгорода и скрываться от своего политического противника посадника Федора Даниловича, Именно в это время, когда сгорели городские усадьбы, в стесненных обстоятельствах находилась и вся его семья.
В том же тоне рачительного хозяина выдержано и второе письмо Онцифора — утратившая конец грамота № 358, также адресованная «госпоже матери»:
«Поклон оспожи матери. Послал есмь с посадницим Мануилом 20 бел к тобе. А ты, Нестере Прочиця, к пришли ко мни грамоту с ким будеш послал. А в Торжок приихав, кони корми добрым сином. К житници свой замок приложи. А на гумни стой, коли молотять. А кони корми овсом при соби… ере мир и овес такоже. А сказывай, кому надоби рож ли или овес…»
В письме нет имени автора. Но его почерк нам уже хорошо знаком по грамоте № 354. Это почерк Онцифора Лукинича. Есть в письме и другие родственные грамоте № 354 приметы. Один и тот же адресат — «госпожа мати». Снова упоминается Нестор, который должен прислать с кем-нибудь грамоту Онцифору. И снова подробнейшие мелкие распоряжения, адресованные ключнику Нестору или самой матери, — кому из них, это не совсем понятно. Кто-то из них едет в Торжок. Напомню, что по соседству с Торжком находится Медное — имение семьи Онцифора. По приезде в Торжок коней нужно кормить добрым сеном. К житнице следует приложить собственный замок, так будет надежнее. И на гумне нужно самолично наблюдать за молотьбой. А коней пускай кормят на глазах у адресата письма, чтобы видеть и контролировать конюхов. И еще какие-то оборванные распоряжения о ржи и овсе — то ли нужно найти на них покупателя, то ли ссудить ими обедневших крестьян.
Эта грамота также найдена в слоях девятого яруса. Судя по тому, что Онцифор посылает матери с «посадничьим Мануилом», возможно, с сыном посадника, — сравнительно небольшую сумму денег в 20 бел (это примерно пятая часть рубля), и этот документ относится к тому времени, когда каждый рубль наличных денег Онцифору требовалось «скопить».
Таким образом, оба собственноручных письма Онцифора возможно относить к началу его политической карьеры, к тому периоду, когда его семья переживала особые трудности. Но ведь характер человека лучше всего проявляется именно в трудных обстоятельствах, и этот характер прекрасно передан обоими автографами Онцифора Лукинича.
Глава 10
Адресат живет в другом конце города
На посадничьих усадьбах «Д» и «И» в слоях, безусловно связанных с хозяйством семьи Мишиничей-Онцифоровичей, найдено еще несколько грамот, адресованных иным лицам и как будто выпадающих из круга переписки этой семьи. Трудно сказать, какие извилистые пути привели все эти письма во двор посадничьей усадьбы. Важно то, что их невозможно связать ни с посадничьей челядью, ни с арендаторами, которые могли бы временно жить на усадьбе Онцифоровичей. Нет, адресаты этих писем — люди того же круга, что и владельцы усадеб, содержание полученных ими писем во всех случаях рисует нам тот же мир крупного землевладения.
Вот документ, найденный в слоях времени Юрия Онцифоровича, — сохранившаяся в обрывке грамота № 314: «…лобетие от Олоферья к Олександру. Велел есе его, Мекефора, съгнате… чюл есмь от людьи, Мекефорко хъцьть у тьбе прошатеся на Лунену, а на Лунене человек добр. А ссбродну… не име».
Некий Олферий пишет Александру о крестьянине Никифоре. Александр велел согнать с земли Никифора, которого Олферий называет презрительно «сбродней», сбродом. По дошедшим до автора письма слухам, Никифор намеревается просить своего господина, чтобы тот перевел его куда-то на Лунену, и Олферий услужливо напоминает Александру, что на Лунене уже сидит «человек добр», не в пример Никифору, которого ни в коем случае не нужно туда пускать. Слово «сбродня» Олферий пишет через два «с»: «ссбродня». В своем презрении к крестьянам он привык произносить это ругательство со змеиным шипением.
Еще два «чужих» письма найдены на усадьбе «И» в слоях, связанных с хозяйством Михаила Юрьевича. Эти два письма особенно интересны для нас. Их адресатами названы в одном случае сын посадника, а в другом — посадник. И именно потому, что эти посадник и посадничий сын не имеют никакого отношения к семье Онцифоровичей, их письма получают дополнительную ценность. Они несут в себе возможность сравнения и обобщения. О чем говорится в этих письмах? О торговле? Или снова о землевладении?
Вот грамота № 352. От нее оторвана вся левая половина. Лишь обрывки ее шести строк могут быть прочтены: «…андровичю сыну посадничю слуги твои, господине… мосюку што еси, господине, хлебо велело и… тошомо, ино тото хлебо, господине, крестьяне перемо… господине, не слушали, а которые, господине, остат… ыты, господине, молотимо да сыплемо, господине, в жы… ы хлеба, господине, перемолотили кретеяне». Хлеб, крестьяне, молотьба — вот о чем повествует грамота, написанная посадничьему сыну — не известному по имени Александровичу ключником, который, униженно кланяясь, умудрился в тридцати двух разобранных в обрывке письма словах обращение «господин» употребить восемь раз.
Грамота № 310 — целиком сохранившееся письмо ключника Вавилы своему господину новгородскому посаднику Андрею Ивановичу:
«Целобитие осподину посаднику новгороцкому Онедрию Ивановицю от твъегъ клюцника от Вавулы и от твоих хрестияно, которые хрестияни с лова пришли за тебя, Захарка да Нестерке, жили за Олексее за Щукою. Ноне, осподине, Олексий не ходе нам ржи дати. Како ся, осподине, нами, своими хрестияны, лопецялишсе. Надеемся, осподине, на бога и на тебя, на своего осподна».
Здесь перед нами два феодала-соперника. Крестьяне Захарка и Нестерка раньше принадлежали некоему Алексею Щуке. Они ходили куда-то на «лов», то есть на охоту и рыбную ловлю, а когда вернулись, Алексей Щука отказался выдать им рожь — их часть урожая. Захарка и Нестерка перешли от него к другому господину — посаднику Андрею Ивановичу, и ключник, принявший их, обращается к их новому хозяину с просьбой вмешаться в крестьянскую обиду и потребовать у Алексея возвратить захваченный им хлеб.
Прорись грамоты № 310. Крестьянское письмо посаднику новгородскому Андрею Ивановичу.
Мы видим, что и здесь, в этих других, но принадлежащих к тому же кругу руководителей Новгородского государства ячейках Новгорода жизнь устроена по тому же образцу, который стал для нас ясен, когда мы читали письма, до нас полученные и прочитанные Онцифором Лукиничем, Юрием Онцифоровичем и Михаилом Юрьевичем. Дни других посадников и посадничьих детей наполнены теми же заботами, их доходы образуются теми же способами, их взаимоотношения с миром простых людей, производителей богатств, строятся по той же системе.
Из-за строк берестяных писем перед нами рядом с красочным Новгородом иноземных товаров и загорелых моряков вырастает другой Новгород, власть в котором принадлежала владельцам разбросанных по всей Новгородской земле крупнейших вотчин, десятков деревень и промысловых угодий. И эта власть была основана на богатстве, образованном путем нещадной эксплуатации тысяч крестьян, стонавших под тяжестью непосильных податей и частых поборов, превращавшихся волей ключников и управителей в нищих, недоедавших, разбегавшихся куда глаза глядят, но нигде не находивших облегчения, потому что везде пригодная для жизни земля принадлежала большим и малым землевладельцам.
Перебирая берестяные письма Мишиничей-Онцифоровичей, мы каждый раз убеждались, что предположения советских историков, высказанные еще до открытия берестяных грамот, верны. Теперь эти предположения перестали быть всего лишь предположениями. Они приобрели качества обоснованного вывода. Да, власть в Новгороде принадлежала крупнейшим землевладельцам. Да, источником богатства и могущества этих землевладельцев была нещадная эксплуатация простого населения Новгорода и Новгородской земли. Да, торговля в Новгороде не играла первостепенной роли, и купцы занимали в нем подчиненное положение. Ради только этих трех «да» стоило девять лет волноваться, вскрывая по кускам двухметровые пласты посадничьих усадеб. Даже если бы поводов для волнения было во много раз больше, поскольку большие и малые проблемы вставали перед экспедицией с каждой новой находкой.
В начале этой главы, рассказывая о «чужих» письмах на усадьбе Онцифоровичей, мне пришлось упомянуть, что их извилистые пути во двор Юрия Онцифоровича и Михаила Юрьевича вряд ли возможно проследить. Однако сложный путь одной из таких грамот, которая немало попутешествовала, прежде чем оказаться выброшенной на углу Великой и Козмодемьянской улиц во дворе усадьбы Михаила, как будто удается наметить. В высшей степени предположительно. Полностью доказать правильность этих догадок невозможно, но такой путь вероятен. Речь идет о грамоте № 310 — письме ключника Вавилы новгородскому посаднику Андрею Ивановичу.
Попытаемся отыскать посадника Андрея Ивановича в летописях и других известных прежде источниках. Эти поиски сразу же увенчаются успехом даже не на сто, а на двести процентов. Дело в том, что в XV веке в Новгороде было два посадника с таким именем. Один из них жил в тридцатых годах, когда его и избрали в руководители боярского государства. От этого Андрея Ивановича сохранилась до наших дней грамота на пергамене, в которой утверждается дарение одному из монастырей большого земельного участка. А другой упоминается в летописи дважды, оба раза с посадничьим титулом, под 1415 и под 1421 годами.
Какой же из двух Андреев Ивановичей был адресатом письма ключника Вавилы? Еще несколько лет тому назад в ответ на такой вопрос можно было только сокрушенно развести руками. Разница в десять лет так мала, что уловить ее обычными средствами археологической методики было просто невозможно. Однако успехи в применении к новгородским древностям дендрохронологии позволили теперь уловить и такую незначительную разницу.
Грамота № 310 найдена в напластованиях пятого яруса. А этот ярус средствами дендрохронологии датируется теперь временем с 1409 по 1422 год. Значит, адресатом грамоты № 310 был более ранний Андрей Иванович, тот посадник, который упоминается под 1415 и 1421 годами.
О нем известно очень немногое. Летописец рассказывает, что 11 августа 1415 года, когда новгородцы избрали нового архиепископа Симеона, посадник Андрей Иванович торжественно провозгласил его владыкой. Этот рассказ вряд ли способен принести какую-либо пользу при решении вопроса, как грамота, написанная Андрею Ивановичу, попала на усадьбу Михаила Юрьевича. А вот второй рассказ летописи — под 1421 годом — для нас очень важен:
«И в Новегороде воссташа бранью два конца, Неревський и Славенский за Климентия Ортемьина про землю на посадника Ондрея Ивановича и пограбиша двор его в доспесех и иных боляр разграбиша дворы напрасно. И убиша Андреевых пособников 20 человек до смерти, а неревлян 2 человека и умиришася».
Кто такой Климентий Ортемьин, из-за которого в 1421 году в Новгороде пролилась кровь, летопись не сообщает. Может быть, со временем, когда будут найдены его собственные письма на бересте, мы сможем познакомиться с ним поближе. А пока таких писем нет. Причина кровопролития обозначена также чрезвычайно скупо, однако весьма выразительно: «про землю».
Но вот что для нас имеет особую ценность — косвенное указание на место жительства посадника Андрея Ивановича. На него восстали надевшие доспехи новгородцы из двух концов города — Неревского и Славенского. Такого указания было бы достаточно, чтобы не пытаться искать усадьбу Андрея Ивановича в Неревском и Славенском концах. Там жили его враги. Но летописец позаботился о том, чтобы устранить любые сомнения. Он прямо написал, что Андрей Иванович и его люди не были жителями Неревского конца. Неревляне и люди Андрея Ивановича противопоставлены: «И убиша Андреевых пособников 20 человек до смерти, а неревлян 2 человека».
Итак, Андрей Иванович жил не в Неревском конце. А грамота, адресованная ему, оказалась в Неревском конце. Но ведь двор Андрея Ивановича грабили как раз неревляне, жители Неревского конца. Теперь, чтобы замкнуть круг, нам осталось предположить, что грамоту на усадьбу Михаила Юрьевича принесли неревляне, которые, восстав против живущего где-то в другом районе Новгорода Андрея Ивановича, разграбили его двор.
Разумеется, самого факта находки грамоты ограбленного человека на чужой усадьбе, даже если эта усадьба была в стане врагов ограбленного, недостаточно, чтобы прямо обвинить владельца такой усадьбы в причастности к нападению. Ведь, в конце концов, письмо ключника Вавилы мог на дворе Михаила потерять даже сам Андрей Иванович. Но этого факта достаточно для того, чтобы в Михаиле Юрьевиче заподозрить одного из организаторов нападения неревлян на усадьбу посадника Андрея. Такие нападения и раньше организовывались одними боярами против других в борьбе за власть над Новгородом, особенно до проведения Онцифором Лукиничем его реформы. Здесь же причина была еще более глубокой — земля, эта основа и богатства, и власти новгородских бояр.
И вот что еще интересно. Нападение на посадника Андрея Ивановича произошло в тот момент, когда все боярство Новгорода было смертельно напугано разыгравшимся незадолго перед тем сильнейшим во всей новгородской истории народным восстанием. Именно в ходе этого восстания новгородские черные люди в первый раз продемонстрировали противоположность своих классовых интересов интересам боярства в целом. Придя к стенам Никольского монастыря, они говорили: «Здесь житницы боярские. Разграбим супостатов наших!» Боярство в годы, последовавшие за восстанием, искало любых возможностей для укрепления своего государства, для преодоления своих внутренних противоречий, соперничества и распрей, чтобы, сплотившись, быть готовым к отражению новых народных движений.
И как раз в это время Михаил Юрьевич, внук крупнейшего идеолога новгородского боярства Онцифора Лукинича, организует столкновение внутри боярского общества, направляя своих приверженцев против одного из глазных руководителей боярской республики — против посадника. Такие его действия наверняка должны были восстановить против него боярство и получить осуждение. Может быть именно это осуждение и имеет в виду летописец, говоря, что Андрея Ивановича и других дружественных ему бояр пограбили «напрасно»? Может быть именно после этого события и закатилась звезда политической карьеры Онцифоровичей? Ведь в последний раз участие этой семьи в управлении Новгородом ознаменовалось поездкой Михаила Юрьевича на Нарвский съезд в январе 1421 года, то есть буквально перед самым нападением неревлян на посадника Андрея. А с тех пор ни он, ни его дети никакого участия в новгородской политической жизни не принимали.
Возможно, что именно так все и было. Но — повторим еще раз все это не больше, чем предположение.
Глава 11
Два Максима или один?
Первое знакомство с Максимом, одним из жителей усадьбы «Е», состоялось в 1953 году. Тогда в слое восьмого яруса — а этот ярус датируется 1369–1382 годами — был найден обрывок берестяной грамоты № 91. Это начало письма, автор которого со вкусом повел неторопливую речь: «Поклон от Ларьяна ко свату моему Максиму. Тако…». Что следовало за этим «тако», узнать не довелось: вся остальная часть письма безжалостно оторвана; ее так и не нашли.
Прошло четыре года. Раскоп, заложенный на основной части усадьбы «Е», прошел слои XVI века, потом через толщу напластований XV столетия опустился на три метра, достигнув уровня восьмого яруса. И здесь Максим снова подал весть о себе, на этот раз написанную уже собственной рукой: «От Маскима ко Десясцянамо. Дать Мелеяну 8 деже, накладо и веши. А ты, старосто, сбери».
В этой записке, сохранившейся целиком и получившей номер 253, Максим, который пишет свое имя с ошибкой «Маским», отдает хозяйственные распоряжения старосте деревни Десятское. «Десясцяне» — жители этой деревни. Крестьянин Емельян, как полагает Л. В. Черепнин, признавший слово «веши» испорченным «верши», то есть зерно, должен вернуть Максиму выданную ему ссуду зерном вместе с набежавшими процентами, «накладом», — всего восемь дежей. Старосте предписывается забрать у Емельяна этот долг.
Прорись грамоты № 271. Письмо Якова куму и другу Максиму с просьбой прислать «чтения доброго».
А затем новые известия о Максиме были найдены одно за другим. Вот грамота № 271, возможно, одна из самых замечательных берестяных грамот вообще. Она сохранилась почти целиком, написана изящным и уверенным почерком человека, привыкшего и любившего писать: «Поклоно от Якова куму и другу Максиму. Укупи ми, кланяюся, овса у Ондрея, оже прода. Возми у него грамоту. Да пришли ми цтения доброго. Да вести ми прикажи… дее во годе. Оже ти ту не буде овса и… Возми со собою».
Кум и друг Максима Яков нуждается в овсе. Он просит Максима купить для него овес у Андрея, если тот согласится продать. И взять у Андрея какую-то грамоту, может быть, расписку в получении денег за овес. И пусть Максим прикажет везти овес к Якову. А если не будет овса, то… Вот что должен сделать Максим, если не будет овса, сказать затруднительно. Эта часть письма пострадала. Но на обороте берестяного листа Яков пишет: «Возми с собою». Возможно, он рассчитывает, что Максим в крайнем случае поделится с ним своим овсом.
Все это, конечно, очень интересно. И нужно надеяться, что Яков не остался без овса. Однако самое интересное содержится в той фразе, которую мы сознательно пропустили при изложении письма Якова. Яков пишет Максиму: «Пришли мне чтения доброго». Ему нужна интересная книга. Здесь не может подразумеваться книга богослужебная. Если бы Якову нужна была книга для церковной службы, он точно назвал бы ее, потому что выбор таких книг был строго регламентирован.
Якову нужно какое-то занимательное чтение. Может быть, летопись. Или воинская повесть. Или переводная повесть. Или житие какого-нибудь военного святого, которое для средневекового читателя было тем, чем для современного — приключенческие романы. Максим знает вкусы своего кума и друга Якова и сам решит, какую книгу выбрать, чтобы она понравилась Якову.
Впервые из этого письма мы убедились, что грамотность, широко распространенная в Новгороде, развивала у некоторых людей вкус и охоту к чтению. И, между прочим, познакомились с результатами этого привлекательного процесса. Письмо Якова написано свободно, живым, не связанным языком, принадлежащим человеку интеллигентному. Но это письмо важно и для характеристики нашего Максима. Человек, который мог выбрать для своего друга интересную книгу, несомненно, должен был располагать библиотекой таких интересных книг. А это незаурядная деталь. Кроме того, он, наверное, был неплохим человеком, если друзья не стесняются нагружать его поручениями.
А вот еще одно письмо к Максиму — грамота № 272. Его автор далеко не так благодушен, как Яков. Напротив, он раздражен. И не без причины. Почитаем, что он пишет:
«От Савлия ко Максиму. Како стоя, пришли конь. Цему мя еси погубил в другы ряд? Рать ударила подо Копорию… А без другого коня живот пометал, а иное розронял. А ноне пришли… Полохе ли буде на одинамо коне — не дома… ни дровна, ни матери послати на цем. А… ти… а с мною».
Письмо дошло в обрывке, но смысл его целиком понятен: «От Савелия к Максиму. Как договаривались, пришли мне второго коня. Ну зачем ты во второй раз подверг меня такой опасности!? Рать ударила под Копорьем… А я, не имея второго коня, имущество побросал, а часть его растерял. А теперь пришли… Очень плохо мне с одним конем — ни дома… ни дров привезти, ни матери послать не на чем… А со мною…».
Капорье — новгородская крепость неподалеку от побережья Финского залива. Этот пункт не трудно найти и на современной карте. Сражения около Копорья происходили часто, в том числе и в XIV веке. Там новгородцы могли драться и с немцами из Прибалтики, и со шведами из-под Выборга. Правда, в годы, которым соответствуют напластования восьмого яруса, никаких сообщений о битвах под Копорьем нет. Однако наше внимание должно привлечь летописное сообщение 1377 года о том, что новгородские «люди молодые» ходили воевать к «немецкому городку на Овле». Этот городок находился в «Каянской земле», «на море Окияне», и, следовательно, у Новгорода тогда было столкновение со шведами. Может быть, именно тогда я ударила под Копорье рать, чуть не погубившая Савелия.
По тону письма видно, что Савелий не был воином. Он, связанный какими-то отношениями с Максимом, жил под Копорьем, оказался в полосе военных действий и едва унес оттуда ноги, в чем склонен обвинять Максима. Если бы тот, как обещался, дал бы ему еще одну лошадь, то Савелий смог бы на двух лошадях увезти из дома все ценное имущество. И вообще вторая лошадь очень нужна ему в хозяйстве. Без нее, как без рук: ни дров привезти, ни к матери послать…
Савелий ведет счет обидам, виновником которых оказался Максим. Он пишет, что тот уже вторично «погубил» Савелия. И начинает свое письмо в высшей степени невежливо. Обратили внимание, что в нем отсутствует слово «поклон»? Раздраженному Савелию не до церемоний.
И вот еще обрывок грамоты № 279, найденный на усадьбе «Е» в восьмом ярусе: «Поклон от старосте от Михале и от всех Пашезерчев к сотьскым, к Максиму, и ко Онании, и к Къст…».
Пашезерцы, жители села Пашозеро, доныне существующего в восточной части Ленинградской области на одноименном озере, из которого вытекает приток Свири река Паша, пишут в Новгород сотским, называя этих сотских по именам: к Максиму, к Анании, к Константину…
Сотские в Новгороде были важными персонами. Они ведали сбором государственных доходов и играли существенную роль в суде. Кое-что о них известно из летописи, а кое-что сообщили и берестяные грамоты. Всего в Новгороде было одновременно десять сотских. И наш Максим назван первым из этого десятка.
Пять берестяных грамот близко познакомили нас с владельцем усадьбы «Е» Максимом. Феодал, отдающий распоряжения сельскому старосте, владелец библиотеки, обладатель должности и титула сотского, человек, покупающий для своего кума и друга овес, виновник разорения Савелия, отец семейства (помните — «Поклон от Ларьяна ко свату моему Максиму»? Сватами могут быть только отцы взрослых детей). Что еще можно сказать о Максиме?
Выйдем за ворота его усадьбы, пересечем перекресток Великой, и Козмодемьянской улиц и войдем, как тысячу раз входил сам Максим, во двор его соседей, на усадьбу «И», которая — напомню — принадлежала посадничьему роду Онцифоровичей. Нет ли у них каких-нибудь вестей о Максиме?
Есть! Вот письмо, написанное его рукой. Посмотрите, так же нацарапано «от», те же «м», «ы», «д», «с», «к», что и в письме Максима старосте. Все буквы в обеих грамотах написаны, несомненно, одним человеком. Да и в слове «Максим» он делает ту же ошибку: «…от Маскима». Это найденная еще в 1955 году на усадьбе «И» в слоях середины XIV века грамота № 177: «Поклоно от Маскима ко попу. Дай ключи Фоми. А ты пошли Григорию Онефимова, чтоб… добиш… ат… е Фоме».
Вот он и попом командует! Новый штрих к его характеристике.
Что ж! Единственная грамота от Максима на соседней усадьбе особой погоды не делает. Ребятишки в древности могли затащить. Или поп зашел в гости к Юрию Онцифоровичу и выбросил полученное от Юрьева соседа и уже прочитанное письмо.
Но вот еще один документ — берестяная грамота № 370. Она найдена на усадьбе «И» в восьмом или девятом ярусе, то есть написали ее в те же годы, когда Якову захотелось развлечься интересной книжкой, а Савелий удирал на единственном коне из-под Копорья. Написали ее крестьяне-сироты, и содержит она слезные жалобы, о которых уже рассказано подробно в другом месте. Нашли ее при раскопках 1959 года. И замечательна она сейчас для нас тем, что начинается словами: «Поклон ко Юрью и к Максиму от всех сирот…».
Сироты писали не очень грамотно. Их письмо изобилует ошибками. Вот и вместо «Максиму» они написали «Миксиму». Но что это за Максим? Наш ли знакомый? Или его тезка, случайно оказавшийся в компании с Юрием?
Связь этого Максима с усадьбой «И» и Юрием Онцифоровичем дает возможность установить самым конкретным образом их взаимоотношения. Вот что рассказывает летопись под 1376 годом. Зимой в начале года новгородский архиепископ Алексей решил отказаться от своего высокого сана и удалился в один из монастырей под Новгородом, предоставив новгородцам поступать, как им заблагорассудится. Мы не знаем, что заставило обидеться владыку Алексея, но обиделся он, по-видимому, всерьез. Новгородцы «в скорби великой» гадали так и эдак, а потом надумали отправить послов к московскому митрополиту, чтобы и он включился в уговоры закапризничавшего архиепископа. Послы привезли Алексею митрополичье благословение, и тот вернулся в свой сан. И «рады были новгородцы своему владыке». В этом эпизоде для нас особый интерес представляют имена ездивших в Москву новгородских послов. Это были архимандрит Савва и «Максим Онцифорович с другими боярами».
Максим Онцифорович. Но ведь и Юрий тоже Онцифорович! Значит, сироты пишут братьям Онцифоровичам: «Поклон ко Юрию и ко Миксиму…». Выше мы насчитали десять представителей семьи Мишиничей-Онцифоровичей, имена которых запечатлелись в берестяных грамотах и в надписях на найденных при раскопках предметах. Максим Онцифорович, брат Юрия и Афанасия, — одиннадцатый.
Да, но из этого вовсе не следует, что наш Максим и Максим Онцифорович грамоты № 370 — одно и то же лицо. Один живет на усадьбе «Е», а другой связан с усадьбой «И». Мало ли на свете людей с одинаковыми именами? И разве люди с одинаковыми именами не могут жить по соседству? Конечно, находка в одном слое, но в разных местах огромного раскопа таких писем еще не доказывает тождества двух Максимов. А было бы неплохо, если бы наш Максим к тому же оказался бы еще и дипломатом да вдобавок братом прославленного посадника и сыном другого — еще более выдающегося деятеля новгородской истории!
Ну что же! Так в самом деле и оказалось. Летом 1957 года на усадьбе «Е» была найдена еще одна берестяная грамота, начинающаяся словами: «Поклон от Маскима…». Я подчеркиваю: «От Маскима, а не от „Максима“». Это грамота № 290, сохранившаяся в обрывке. Самое интересное в ней — имя адресата и обращенная к нему просьба:
«Поклон от Маскима ко Гюргю. Бей чело батку…».
Максим пишет Юрию («Гюрги» — это древняя форма имени Юрий), просит его кланяться отцу. Это переписка двух братьев, детей Онцифора. Правда, найдена грамота № 290 в слоях первой половины XIV века, точнее — в прослойках с дендрохронологической датой: 1299–1340 годы, что дало основание А. В. Арциховскому написать: «Надо отказаться от искушения видеть здесь братьев Юрия и Максима Онцифоровичей. Стратиграфия этого не позволяет. Да и имя Гюрги слишком архаично».
Прориси грамот № 253, 177, 290. Три автографа Максима Онцифоровича.
Такой вывод, однако, слишком поспешен. Если мы сравним грамоту № 290 с грамотами № 177 и 253, то узнаем уже хорошо нам знакомый почерк Максима. Не было тезок Максимов. Был один Максим Онцифорович, сын и брат посадников, новгородский дипломат, он же владелец библиотеки, покупатель овса, сотский и разоритель Савелия. И порядочный чудак. Вряд ли он так последовательно ошибался, всегда называя себя «Маскимом». Скорее всего, он так именовал себя из чудачества или детским прозвищем, сохранив его до старости. Может быть, пытаясь в детстве первый раз написать свое имя, он старательно вывел «Маским». И возможно, его брат Юрий, будущий посадник, прозвал его так, что на всю жизнь Максим остался «Маскимом». Кто знает?
Генеалогическая таблица Мишиничей.
Стратиграфия находки — то есть ее дата, определяемая положением в культурном слое — не так уж противоречива. Если к началу 1380-х годов у Максима были уже взрослые дети, то родился он до 1340 года. Юрий Онцифорович в летописи упоминается впервые под 1376 годом, когда он был уже важным боярином и сопровождал архиепископа в Москву. Значит, и он появился на свет, скорее всего, еще в первой половине XIV века. Если даже письмо Максима Юрию написано и в пятидесятых годах XIV века, оно легко могло оказаться в чуть более раннем слое, будучи затоптано в грязь или же попав в небольшую яму.
И вот о чем еще нужно сказать. Мы уже знаем, что Онцифоровичам на Великой улице в пределах раскопанного участка принадлежали не одна, а две усадьбы: «Д» и «И». Теперь к ним прибавляется третья — усадьба «Е», которой владел в середине XIV века Максим Онцифорович, но среди обитателей которой был и человек, собиравший карельские дани и принадлежавший, нужно думать, к семье Максима. Ведь подавляющее большинство «карельских» писем найдено как раз на усадьбе «Е».
Напомню также, что именно здесь, на усадьбе «Е», найдены печать Афанасия Онцифоровича, брата Максима, и грамота, адресованная Афанасию и Юрию.
И еще. Выше уже упоминалась духовная грамота Орины, правнучки Юрия Онцифоровича. Это самый поздний документ семьи Онцифоровичей, написанный незадолго до падения Новгорода. До последнего времени о нем было известно по очень краткому упоминанию в одном историческом сочинении, изданном свыше ста лет тому назад. Предполагалось, что он безнадежно утрачен. Однако несколько лет назад В. И. Корецкий обнаружил в архиве копию этой духовной, снятую в конце XVII века. В ней подробно перечисляются земли, завещанные Ориной Колмову монастырю. В числе этих земель названа унаследованная ею от предков «волость на Паше». Вспомним, что к этой волости имел самое прямое отношение владелец усадьбы «Е» Максим, среди переписки которого обнаружено и берестяное письмо «от всех Пашезерцев».
Наше представление о посадничьей усадьбе с каждой новой грамотой усложняется, а картина этой усадьбы становится все более детальной. Три связанные друг с другом усадьбы на перекрестке Великой и Козмодемьянской улиц принадлежат одной семье. Здесь не только ведут счет доходам с вотчин и отдают хозяйственные распоряжения. Сюда не только идут письма об урожаях и ценах на рожь, оброках и тяжелой жизни вотчинных крестьян. Здесь, в этих усадьбах, контролируют государственные доходы, поступавшие и через сотского, и через карельского данника. Здесь решают вопросы войны и мира. Здесь, как нельзя нагляднее, видно, что управление крупной вотчиной и государством находится в одних руках. И это руки крупных бояр, владеющих Новгородом и Новгородской землей, как своей вотчиной.
Глава 12
«А ты, Репех, слушайся Домны!»
Давайте вместе прислушаемся к голосам древней усадьбы, поближе познакомимся с ее обитателями, посмотрим, чем они заняты, чем озабочены. Изберем для этого время — конец XIV века. И место — усадьбу «Е».
И время, и место подходят нам как нельзя лучше. Потому что кое с кем из обитателей усадьбы «Е», живших в конце XIV века, мы немного знакомы. Правда, и Максим Онцифорович, и данник Дмитр уже умерли. Грамот, связанных с ними, в слоях конца XIV века больше не встречается. Однако в это время жил не известный нам по имени карельский данник, в руках которого побывали письма «приобиженных с немецкой половины» карел из Кюлолакшского и Кирьяжского погостов. Может быть, мы узнаем в шуме голосов усадьбы и его голос. А может быть, кто-нибудь назовет его и по имени.
Начинается этот рассказ с последней находки 1954 года — грамоты № 134. Ее нашли на усадьбе «Е», но в таких сложных условиях, что сразу назвать сколько-нибудь определенную ее дату было затруднительно. Вообще-то вскрывали в это время слой второй половины XIV века, но в том месте, где нашли грамоту № 134, лет четыреста тому назад копали яму и перемешали всю землю. Тут на одной лопате могли встретиться и черепки от горшков XVI века, и бусы XIV века, и вот грамота. После тщательного изучения начертания букв и сравнения их с буквами других древних документов грамота № 134 получила дату — XIV век. Датировать ее точнее было тогда невозможно. И это тем более досадно, что грамота сохранила целиком все свои четыре строчки: «Приказо от Григорие ко Домоне и ко Репеху. Наряжай истебку и клете. А Недана пошли в Лугу ко Илину дни».
За год до этого впервые была найдена берестяная грамота, начинающаяся словом «приказ» — неизвестный ранее тип древнерусского документа. Но по этой грамоте № 93, только начатой и недописанной, составить представление о характере таких «приказов» было невозможно. На этот раз в руки археологов попал сохранившийся полностью документ, который оказался перечнем мелких хозяйственных поручений. Их по распоряжению автора письма Григория должны были выполнить Домна и Репех. Нужно было приготовить, «нарядить», избу и клеть. Клетью в древнерусском доме называлось холодное помещение, а избой — теплое. Ведь и само название «изба» происходит от слова «истопить». В древности она называлась еще ближе к своему исходному слову «истобка», как в нашей грамоте. Недана нужно было послать в Лугу к Ильину дню. Ильин день праздновался 20 июля по старому стилю. Лугой называлась местность по реке Луге, берущей начало неподалеку от Новгорода и впадающей в Финский залив. Одноименного города тогда еще не существовало. А имя Недан до сих пор в древнерусских источниках не встречалось, но оно было хорошо известно в Польше. В древности многие славянские имена были общими для разных славянских народов, в чем проявлялось их близкое родство.
Одно из деревянных ведерок было найдено целиком сохранившимся. Оно принадлежало какому-то Семену, пометившему его своим именем.
Нужно добавить к этому, что Григорий, написавший только что прочитанное нами письмо, ничего общего не имеет с тем Григорием, который писал Дмитру о мире со Швецией. Это люди с разными почерками.
После находки грамоты № 134 прошло три года. Возобновились раскопки усадьбы «Е». И вот снова грамота, написанная знакомым почерком и со знакомыми нам именами. Но теперь эта грамота — № 259 — прекрасно датировалась четко прослеженными условиями ее залегания. Ее нашли в шестом ярусе, время которого определялось концом XIV — началом XV века. Конец письма оторван, а от начала целиком сохранились две строчки: «Приказе от Григорие ко Домене. Послал есьмо к тобе ведероко осетрине. Заи…».
Снова «приказ» Григория. Послал Григорий к Домне ведерко осетрины и относительно этой осетрины шлет какие-то не дошедшие до нас распоряжения. Может быть, рыбу нужно сварить. Может быть, заливное сделать. А может, закоптить впрок. Осетрина и в средние века была дорогим блюдом. Во всех договорах Новгорода с князьями, заключавшихся при приглашении князя в Новгород, князья выговаривали право ловить для себя осетров, что видно из повторяющейся в договорах фразы: «А осетреннику твоему ездити в Ладогу». В Ладоге, в низовьях Волхова, осетров в основном и ловили. Сейчас осетры там вывелись. Но еще в начале XX века они иногда попадались в сети. Чтобы вся картина стала яснее, добавлю, что железных ведер в древности не было, и при раскопках постоянно попадаются деревянные, вроде современных небольших ушатов.
А через несколько дней о Григории и Домне вспомнили еще раз, когда нашли грамоту № 265. Собственно, особого номера этому исписанному куску бересты можно бы и не давать, потому что это несомненный обрывок того же письма Григория, которое начиналось сообщением о посылке осетрины. Почерк тот же, фактура бересты абсолютно такая же. И ширина письма та же. Грамота № 259 по ширине равнялась 215 миллиметрам, и ширина нового обрывка 215 миллиметров. Только там начало, а здесь конец письма. Середина его, к сожалению, отсутствует. Грамота № 265 обнаружена у самой стены раскопа. Может быть, там, за этой стеной, на участке, остающемся нераскопанным, до сих пор лежит недостающая часть второго приказа Григория! Что же написано на вновь найденном куске? А вот что: «…а само не леж… Воспяте во Лугу иди. А ты, Репехе, слушате Домни и ты, Фовро».
За исключением первых безнадежно изодранных слов, здесь все понятно. Григорий приказывает кому-то возвратиться в Лугу. Может быть, тому же Недану, который должен отправиться туда к Ильину дню. И велит Репеху и Февронии — «Фовро», новое для нас лицо — во всем слушаться Домны.
Кто же такой этот новый наш знакомец Григорий? Феодал, владелец усадьбы, данник новгородский? Да как будто по тону его писем этого не получается. Хотя оба письма Григория и начинаются грозным словом «приказ», содержащиеся в них распоряжения совершенно незначительны и отданы низшим слугам. Правда, среди этих низших слуг Григорий устанавливает некую систему подчинения: Репех и Феврония должны слушаться Домны. И письма свои он адресует старшей по положению Домне, от которой его распоряжения выслушивают и Репех, и Февронья, и Недан. Однако в Домне никак невозможно видеть домоправительницу городской усадьбы такого крупного феодала, каким был карельский данник. Иначе Григорию незачем напоминать Репеху и Февронии то, что для них и так должно было подразумеваться само собой.
В своих распоряжениях Григорий, пожалуй, напоминает приказчика или ключника, разъезжающего со своим господином по делам и выполняющего его указания. Надумал господин вернуться из своих разъездов домой, Григорий шлет приказ: готовьте избу и клеть! Понравилась господину осетрина, Григорий отправляет в Новгород ведерко полюбившейся рыбы, чтобы в городской усадьбе было чем вспомнить господину свою поездку. А чтобы без его глазу не отбились от рук Репех и Февронья, он напоминает им: во всем слушайтесь Домны, она там, в усадьбе, вместо меня с вас взыскивать оставлена.
То, что мы не ошиблись, отведя Григорию не самую главную роль среди обитателей усадьбы «Е», подтвердила грамота № 275, обнаруженная в слое последней четверти XIV века. Эта грамота начинается словами: «Приказ от Сидора к Грегории…». Значит, и над Григорием есть начальник, который может ему приказывать! Что же должен сделать Григорий?
«Приказ от Сидора к Грегории. Что у подоклити оленини, выдай сторъжю в церковь, а что дви коръби Сидърови, и бе… До мень и до Остафии, а про ве…».
Григорий должен выдать церковному сторожу оленье мясо, хранящееся в подклети — нижнем холодном этаже дома Сидора, и что-то сделать с двумя коробами Сидора. Коробом называлась большая лубяная коробка или ящик, в котором хранили разное добро. Напомню некрасовских «Коробейников». А может быть, с этими коробами, как раз наоборот, ничего делать не нужно было до возвращения Сидора и Остафии — «…до меня и до Остафии».
Вот Сидор это действительно важный барин. Он про свои два короба пишет не «дви коръби мои», а «дви коръби Сидърови», о себе сообщает то в первом, то в третьем лице. А это значит, что писал он приказ Григорию не сам, а рукой другого человека — специального писца или грамотного слуги.
Грамоту № 275 продолжает грамота № 266, написанная тем же почерком и оторванная, по-видимому, от того же письма Сидора: «…решь. Вели Максимцю брати, да сыпль съби в клить. А из коне пойми моего цалца. Корми ежеднь овсъм. А тоби погиха… об. Пойми коне корилескыя. Что обилие… митрови…».
Максимцу разрешалось сыпать себе в клеть какое-то зерно. А Сидорова «чалца» — чалого коня нужно отделить от других коней и каждый день кормить овсом. Тут же упомянуты кони карельские. Может быть, те, на которых их владелец имеет обыкновение ездить в Карелию на сбор дани? А может быть, купленные им в Карелии? Упоминается также «обилие». Так в Новгороде назывался хлеб.
А вот еще одна грамота Сидора, адресованная им на этот раз Остафии, уже упоминавшемуся в только что прочитанном письме, — берестяная грамота № 260: «Приказе ко Остафии от Сидора. Возми у Григории у Тимощина рубль и 4 лососи. Да возми у Григории полорубля, что Сидору сулил. У Клима возми у Щекарова рубль, 10 — било и 4 лососе наклада. У Ольксандра у Рацлаля возми 50 било. У Ондрия у Цирицина возми полосорока. У Кондра у Возгреши возми полосорока. У попа у Михайли возми полорубля, 10 лососей, то за Ивана поруцнь. У Вигали у Остафии възми 50 било».
Здесь о Сидоре снова говорится в третьем лице: «Да возми у Григории полорубля, что Сидору сулил». Снова Сидор не сам пишет свое письмо, а диктует его или, вернее, оно составлено его приказчиком на основании устного распоряжения Сидора. Только в прошлый раз грамота Сидора была, как можно догадываться, написана рукой Остафии, а теперь адресатом оказался сам Остафия. Значит, писал ее другой человек. В самом деле, положив рядом оба письма Сидора, мы увидим, что написаны они разными почерками.
А теперь перейдем к содержанию грамоты. Остафия должен был собрать для Сидора с разных лиц какие-то долги. Именно долги, а не повинности, поскольку в грамоте упоминаются в случае с Климом Щекаровым проценты, «наклад». Эти суммы исчисляются в рублях, «билах» (белах) — белках (это тоже название денежных единиц, которыми могли служить, возможно, настоящие беличьи шкурки) и лососях. Поп Михаил платит не свой долг, а поруку за Иванка, который, вопреки поручительству пола, денег и лососей Сидору не отдал. Упоминание лососей говорит о том, что люди, обязанные выплатить Сидору разные суммы, имеют отношение к рыбной ловле. Нам и раньше было известно, что рыболовство в Новгороде составляло очень доходную статью хозяйства и новгородские феодалы стремились завладеть лучшими левами. Крупнейшие феодалы владели целыми рыболовческими деревнями, приносившими им немалый доход. Была, как видим, такая деревня и у Сидора. А вернее, не одна деревня, а несколько, так как суммы, перечисленные в письме, очень велики. Эти суммы таковы, что на них можно было приобрести небольшие деревеньки или значительные земельные участки.
Но вот что здесь особенно замечательно: лососи! Лососей нет ни в Волхове, ни в Ильмене. И никогда не было. Это большая — каждый взрослый лосось весит в среднем килограммов восемь, а некоторые экземпляры достигают полутора пудов — рыба живет далеко на севере. Мы знаем ее сейчас как семгу. Вот что пишет о ней в своем прекрасном «Северном дневнике» писатель Юрий Павлович Казаков: «…рыба эта особенная, главная на Белом море, ставшая, так сказать, гербом, девизом всего русского Севера. Семга — великолепная, крупная и мощная рыба с темной спиной, серебристыми боками и белым животом. Ловят ее на Белом море только у берегов при помощи ставных неводов или тайников… Промысел семги ведется в нашей стране только в Архангельской, Мурманской областях и в Карельской АССР. Причем на долю Архангельской области падает больше половины всего улова семги».
Все перечисленные здесь области в XIV и в XV веках принадлежали Новгороду. Но думается, что в грамоте Сидора речь идет не о побережье Белого моря, а об «онежских» или «ладожских» лососях карельских рек. Ведь теснее всего он был связан с карельскими землями, с которых собирал для Новгорода дань. Да и имя Вигаль — так звали одного из должников Сидора — карельское.
Кто-то из новгородских любителей рыбы заказал для себя во второй половике XII века костяную рукоятку ножа в виде сига. Увеличено.
Связь Сидора с его рыболовными деревнями была прочной и постоянной. Вот в слоях того же времени на усадьбе «Е» подняли обрывок еще одной записки — берестяную грамоту № 258: «…у Давыда 9 лососи сухыхо, 3 просолни, у Ивана 7 лососий…». Здесь снова какие-то суммы исчисляются в лососях. Упоминаются лососи копченые — «сухие» — и соленые — «просолни». Свежего лосося до Новгорода довезти бывало нелегко. Главный лов семги производится осенью в самую распутицу, и отправлять ее в Новгород невозможно до наступления зимы и установления пути.
А вот грамота № 92. Правда, найдена она в слое середины XIV века, то есть написали и потеряли ее еще во времена Максима Онцифоровича. И обнаружили мы ее на усадьбе «Б», метрах в шести за частоколом усадьбы «Е». Может быть, к усадьбе «Е» она прямо и не относится. Но процитировать ее здесь уместно: «На Спехове на Стефане лосос. На шюрине его лосо. На Сидоре лосъс. На брате его слсос. На Фларе 20 и 2 и на Заяце 4 беле. На Лавре 2 лососи. На Олферье 9 лососей. На Суйке 9 лосо. У Петра 13 лососи. На Стуковиць 2 лососи. На Миките 4 лососи. На Сидоре 2 лососи».
Посчитаем-ка теперь, сколько лососей названо в этих грамотах. В письме Сидора — восемнадцать. В обрывке берестяной грамоты № 258 — девятнадцать. А в грамоте № 92, по меньшей мере, сорок пять! Это если думать, что загадочное «20 и 2» при имени Фларя означает белок, а не лососей. А ведь это все полупудовые рыбы! Значит, в двух случаях речь идет о полутораста килограммах, а в грамоте № 92 — о 360 килограммах нежной лососины. Конечно, съесть такую гору даже самой вкусной рыбы население усадьбы не смогло и за год, даже если бы каждый день ему помогали многочисленные гости. За этим стоит что-то другое.
Попробуем разобраться. Лосось — самая дорогая из рыб, ловившихся в Новгородской земле. Ее ценность определялась в первую очередь, конечно, вкусовыми качествами, но не только этим. Лосося трудно поймать. Это сильная рыба, которая рвет рыболовные снасти, уходит из ловушек, прыгает через сети. В XVI веке в годовой оброк с целой волости, исчисляемый в бочках рыбы и других продуктах, входило, как правило, не более двух-трех лососей. Рыбаки, следовательно, не могли специализироваться только на ловле семги. Они ловили и другую рыбу, менее дорогую и более обильную.
А вот боярин Сидор предпочитал за другую рыбу получать деньгами, а лососей — натурой. Сам он их съесть без остатка не мог. Значит, ему выгоднее было продать их купцам, специально торговавшим рыбой. Если бы в грамотах шла речь о повинностях зависимого населения, то мы увидели бы здесь один из важнейших путей увеличения боярского богатства — реализацию ценностей, поступавших из боярской вотчины в виде натурального оброка, на новгородском рынке. Однако здесь указанный процесс достиг еще более высокой степени. Сидор выступает в качестве ростовщика. Он ссужает рыбаков — или перекупщиков рыбы — значительными денежными суммами, ставя перед ними обязательное условие выплачивать ему проценты отборной рыбой.
Обрывок грамоты № 280, найденной в слоях, связанных с хозяйством Сидора, называет некоторые другие породы ценных рыб: «… 3 таймени, 2 просолеи, 5 сигов, 5 тайменей Яколино». Сиги и таймени, полученные от какого-то Якова, тоже ценные рыбы из породы лососевых. До сих пор самым древним в русских источниках упоминанием тайменей была вот эта запись в писцовой книге Обонежской пятины Новгорода 1563 года: «в Спасском погосте в Кижах… сетми гарвами в осенинах ловят красную рыбу лососи и таймени». Наша грамота на добрых полтораста лет древнее.
Конечно, не только доходы от продажи рыбы умножали богатство Сидора. В грамоте № 254 оброк исчисляется во ржи, пшенице и воске. А комплекс из найденных здесь грамот № 261, 262, 263 и 264 оказался совершенно необычным. Это, собственно говоря, одна грамота, изодранная на куски, которые, однако, не сходятся по линиям разрывов. Значительное число обрывков просто не сохранилось. Возможно, что грамота была написана на нескольких листках бересты, сильно пострадавших. Во всяком случае, речь во всех обрывках идет об одном и том же.
Грамота № 261: «…илофиной блудо. От Лар… халя 3 тимо. От Саве от Тимощина 3. От…».
Грамота № 262: «…тимо… от Горислалица… 6. Соръцица цатрова. От Фларя… портище зелени. От Рацлава от подв… от Максима от Машкова 5 тимо…».
Грамота № 263: «…от Гюр… от Василея… попа 3 полосца козия пуха. От Якуновой от Фомине снохы 3. От Терьнтея до Коя 5… От Офоносова 2 тимо. От Фларя от Коцанкова 5 портище голубине. От Бориса от Панте… тимо. От Павла от Еванова 3 тимо. От Онд…».
Грамота № 264: «От Федора от Синофонтова 4 блюда тимо. От Поре… От Сыповой 5 тимо. От Онании от Курицкого 4…».
Всем обрывкам свойственна одна и та же форма: от такого-то столько-то. И во всех обрывках упоминается слово «тимо». Нам, вероятно, многое станет ясным, если мы узнаем, что это слово означает. Оно в древнерусских текстах, оказывается, употреблялось. И не один раз. В 1521 году углицкий князь Дмитрий Иванович решил составить завещание. Он тщательно переписал все свое многочисленное имущество: земли и меха, перстни и золото, посуду и деньги. И в числе прочего свое платье: ментеню, шубу-однорядку, колпак-столбун, пояс и чоботы тимовы, по швам сажоны жемчугом гурмыским. Это место из завещания князя Дмитрия позволяет понять и нашу грамоту. Из чего могли быть сделаны княжеские чоботы? Надо думать, из дорогой кожи, из сафьяна. Но «сафьян» — слово персидское, на Русь оно пришло сравнительно поздно. Товар же, который этим словом обозначается, существовал на Руси издревле. Впрочем, значение слова «сафьян» сейчас, в XX веке, прочно забылось. А в словаре В. И. Даля написано: «Сафьян — козел, выделанная козловая кожа различной краски». Добавлю к этому, что в XVI веке в Новгороде были известны ремесленники — тимники или тимовники, которые продавали свою продукцию в специальном Тимовном ряду. Тимы, которые на рынке весьма ценились, продавались юфтями, то есть парами.
Бели «тимо» и сафьян одно и то же, почему же «тимо» измеряется блюдами? В грамоте № 264 недвусмысленно сказано: «От Федора от Синофонтова 4 блюда тимо». Да и в других случаях, когда «тимо» обозначается просто цифрами, наверняка подразумевается количество блюд. По-видимому, на этот вопрос можно ответить так: блюдом называли чан для дубления кож, имевший определенную стандартную емкость, и количество выделанной кожи измерялось емкостью такого блюда.
Похоже на то, что мы не ошиблись, заведя разговор о козлах. Они упоминаются в наших обрывках: «От попа 3 полосця козия пуха. От Якуновой от Фомине снохы 3…». Козьим пухом называется подшерсток козы, самый мягкий, самый тонкий вид шерсти, из которого ткут дорогие шали. А «полосец» это не полоска, а уменьшительное от слова «полсть», означавшего войлочный ковер. Напомню, что «полсти» просил у своей матери Онцифор Лукинич в одном из своих писем. Здесь же имеются в виду определенного размера куски свалянного пуха.
Кроме «тимо» и козьего пуха в обрывках грамоты названа еще и одежда, или по-древнерусски «портище»: зеленая одежда, голубая одежда и «сорочица цатрова», рубашка, сделанная из «цатра» или «чатра». В одном из русских документов XIV века названа ткань «чатор». После находки берестяной грамоты с упоминанием этого слова можно догадываться, что «чатор» ткали из козьей шерсти.
Теперь мы с вами знаем, что означает выражение «драть, как Сидорову козу»! Крестьяне одной из принадлежавших Сидору деревень разводили коз и все ценное, что можно было от них получить, отсылали Сидору в виде натурального оброка. Вот только рога и копыта оставляли себе. Но на этот счет существовала поговорка: «Козьи рога в мех нейдут».
Впрочем, не исключено, что в записях о «тимо» перечислены не крестьяне и не суммы их специфического в данном случае оброка, а мелкие производители тканей и кожевенного товара, у которых приказчики Сидора перекупали этот товар, и даже мелкие феодалы, стоящие на ступенях иерархической лестницы между Сидором и крестьянами. Предполагать такую возможность заставляет упоминание в грамоте № 264 Анании Курицкого — «От Онании от Курицкаго 4…». Человек с таким именем был известен летописцу: в 1345 году «по повелению» какого-то Анании Курицкого владыка Василий заложил церковь, располагавшуюся в непосредственной близости от места раскопок, — церковь Кузьмы и Демьяна на Козмодемьянской улице. Ту самую, в которую спустя пятьдесят пять лет Юрий Онцифорович и все бояре улицы Козмодемьянской подарят «Пролог». Однако это не меняет общей картины. Получателем козлового товара и в этом случае остается Сидор.
А чем еще занимался Сидор кроме руководства своими вотчинами и общей организации своих немалых доходов? Во-первых, как мы уже знаем, он собирал для Новгорода карельские дани. А во-вторых… Впрочем, мы ведь еще не видели писем, адресованных лично ему. Пока мы наблюдали его главным образом стоящим над вереницей слуг, которые один другому передают его распоряжения по хозяйству.
Но вот письмо, называющее своим адресатом Сидора, — грамота № 276, найденная все в тех же слоях последней четверти XIV века на усадьбе «Е». Как и в большинстве случаев, это обрывок: «Поклоно от Одрея ко Василию и ко Сидру. Была жалоба передо вами и попъеми…» — «Поклон от Андрея к Василию и к Сидору. Была жалоба перед вами и перед попами…».
Сидор вместе с каким-то Василием и попами принимает и рассматривает жалобы, образуя, таким образом, авторитетный и правомочный совет. Участие в нем попов многое проясняет. Попы, которых в каждой церкви, как правило, было два, обладали в своем приходе небольшой, но несомненной властью. Их власть была связана с администрацией улиц, так называемыми уличанскими старостами, которые избирались соседями-уличанами. По-видимому, такими выборными старостами были Сидор и названный с ним вместе Василий. Связь с церковью владельца усадьбы «Е» Сидора обозначена и в другой уже приведенной грамоте, в которой он приказывал выдать церковному сторожу оленье мясо.
С этой деятельностью Сидора в уличанской администрации связаны, нужно думать, и не сохранившие имени адресата, но найденные в том же слое и на той же усадьбе обрывки нескольких грамот. Так, в грамоте № 251 упоминается судебный документ «бессудная грамота» — обвинительный приговор, составлявшийся в случае неявки ответчика в суд, Грамота № 256 повествует о каком-то воровстве, «татьбе». Наконец, грамота № 252 рассказывает, как «лезни», праздношатающиеся злоумышленники, разграбили жалобщика. «Лезни» — это одна, из форм написания слова «лежни», уже нам известного.
А обрывок грамоты № 244 подтверждает, что Сидор был заметным лицом в новгородском обществе конца XIV и начала XV века. Автор этой грамоты молит своего адресата замолвить за него слово перед владыкой. Значит, Сидор был вхож к архиепископу и имел возможность заступаться перед ним за своих корреспондентов.
И снова, последовательно знакомясь с обитателями одной новгородской усадьбы, мы видим, как управление вотчиной в руках боярина сочетается с управлением государством. Собирание дани и сбыт лососины, разрешение уличных конфликтов и учет козьего пуха, речь на вече об обидах карел и забота о чалом жеребце — это разные стороны деятельности одного вотчинника, находящегося в родстве с семьей посадников.
Знакомясь с его перепиской, мы узнали по именам некоторых обитателей городской усадьбы Сидора, но еще большее количество имен в ней принадлежит людям, жившим вдали от Новгорода. И это вполне естественно. Ведь переписка чаще всего является средством дальней связи между людьми. Тем, кто живет в одном доме или в соседних домах, самым удобным средством общения служит слово не написанное, а сказанное. Поэтому судить о числе всех обитателей усадьбы «Е» переписка Сидора не поможет. Но мы с вами уже вошли на его усадьбу.
Усадьба «Е» занимает на плане Новгорода обширное пространство примерно в 2000 квадратных метров. Она густо застроена. На протяжении периода существования шестого яруса, то есть между 1396 и 1409 годами, на усадьбе располагалось пятнадцать построек, из которых восемь были жилыми. Если мы посчитаем, что в каждой из этих жилых построек жило, как минимум, по пять человек, то общее население усадьбы можно будет исчислить в несколько десятков и никак не меньше сорока. Кто были эти люди? Хозяин усадьбы и его семья. Приказчики и их семьи. Челядь. Но не только они. В числе хозяйственных построек всегда имеются и постройки производственные — различного рода ремесленные мастерские. В частности, на усадьбе «Е» в слоях интересующего нас времени обнаружены четкие следы меднолитейного производства. Значит, население усадьбы в классовом отношении было весьма пестрым по своему составу. Частоколы боярской усадьбы ограничивали мир сложных и разнообразных занятий, замыкая в одну ячейку и распорядителя богатств — владельца усадьбы, и приказчиков, собирающих эти богатства воедино для их дальнейшей реализации, и, вероятно, торговца, несущего эти товары на торг, и ремесленника, использующего доставленное в усадьбу сырье для того, чтобы, прибавив к нему свой труд, превратить это сырье в продукцию, нужную и в самой усадьбе, и на торгу. Картина классового общества в его сложных взаимосвязях, характерная для Новгорода в целом, видна и в каждой ячейке города, но сами эти взаимосвязи не ограничиваются городской усадьбой и городом, продолжаясь за его пределы на всю территорию Новгородской земли.
Глава 13
Совсем короткий рассказ о незадачливом детине
Странные иногда бывают находки. И поучительные. И замечательные тем, что неожиданно воскресят какую-то живую деталь, которая, вероятно, не имеет существенного научного значения, но обладает ценным свойством начисто уничтожить многовековую разницу во времени и сделать нас чуть ли не очевидцами событий, происшедших сотни лет тому назад.
Летом 1959 года на одном из раскопов, исследующих усадьбу «И», работы велись в слое рубежа XIV и XV веков. Мы уже хорошо знали, что усадьба «И» в это, время принадлежала Юрию Онцифоровичу, и от каждой новой грамоты с не терпением ждали новых сведений о хозяйстве и быте знаменитого посадника. И вот очередная грамота найдена. Это было уже триста шестьдесят третье берестяное письмо из Новгорода. Необычно толстый берестяной свиток внушал к себе почтение.
Когда сверток бересты опустили в горячую воду и стали осторожно разворачивать, из него неожиданно выпал еще один. В тугую трубку были, оказывается, свернуты два исписанных берестяных листа, а не один. Уже беглый взгляд на оба куска бересты говорил, что они написаны одним почерком. Мы знали, что порой берестяные письма не умещались на одном листе, и их писали на нескольких. Такие листочки уже встречались на раскопках.
Имея вид целой грамоты, сохранившейся без каких-либо видимых дефектов, они начинались с полуслова и заканчивались на середине фразы, оставляя простор для любых домыслов о содержании предыдущего и следующего листков. На этот раз, по всей вероятности, гадать не придется.
Читаем первый лист — тот, который был снаружи: «Поклон от Смена к невестке мое. Аже будешь не поминала, ино у тебе солоду было, а солод ржаной в потклете, и ты возми колобью, а муке колко надобь И ты испеки в меру. А мясо на сеньнике. А цто рубль дать Игнату, и ты дай».
Очень ясная грамота. Семен объясняет своей невестке, где у него дома лежат разные продукты — солод и мясо. Странным может показаться, что невестка не знает этого. Казалось бы, ведать продуктами — дело женское. Но представим себе, что невестка впервые приехала к своему свекру погостить, а он — в отъезде. Пришлось писать ему и спрашивать. Вот он и отвечает: «Про солод ты меня не спросила: наверное у тебя есть свой. Но все же его можно взять горсть в подклете. Насчет муки — не стесняйся, бери сколько нужно. И пеки сколько нужно. А мясо — на сеннике». Наверное, в отсутствие Семена заходил за рублем какой-то Игнат, а невестка, не зная, как быть, тоже запросила свекра. Он и про рубль ответил: «Отдай рубль Игнату».
Грамота № 363. Письмо Семена невестке, потерянное детиной Семена на усадьбе Юрия Онцифоровича.
Некоторые слова нужно пояснить. Подклеть — это нижний этаж дома, такое слово нам уже встречалось. Сенник — сарай. Солод — широко применявшийся бродильный продукт. Его приготовляют из начавших прорастать и затем высушенных зерен. К ржаной муке ржаной солод примешивали, чтобы придать хлебу приятный привкус.
Читается-то грамота легко, но одно не совсем понятно. Как могло письмо Семена невестке, документ сугубо личный, попасть на усадьбу Юрия Онцифоровича? Понятно, если бы автором письма был сам Юрий. Он мог бы разъяснить своей невестке, жене сына Михаила, где что лежит и сколько нужно взять. А вот может ли невестка какого-то Семена иметь отношение к усадьбе Юрия? Допустим, что, например, дочь Юрия была замужем за сыном Семена. Однако тогда она и находилась бы на усадьбе Семена, а не у своего отца. Нет, здесь что-то не так. Может, Семен жил на усадьбе Юрия? Ведь на ней, как и на усадьбе «Е», было несколько жилых домов…
Не разрешит ли наши недоумения второй лист? Но что это? Второй лист тоже начинается словом «поклон». Это не продолжение письма, а еще одно письмо. Неужели невестка собирала и хранила письма своего свекор а? Что-то не похоже. Свекор — не жених, и хранить его письма — радость небольшая. Будем все же читать.
«Поклон от Смена от Миха к Сидору…».
Нет, тут что-то совершенно непонятное. Написал человек два письма разным людям, и эти письма вместо того, чтобы разойтись в разные стороны, преспокойно лежат одно в другом. Ага, вот что! Наверное, Сидор это сын Семена, муж этой самой невестки. Получили они по письму от Семена, обменялись новостями, прочитанными на листах бересты, а потом сложили вместе оба листа, да и выбросили за ненадобностью. Однако читаем дальше:
«Поклон от Смена от Миха к Сидору. Как имешь продавать, и ты дай нам ржи на полтину, как людом поцнешь давать…».
Нет, наше предположение неверно. Вряд ли отец станет у собственного сына покупать на полтину ржи, да еще тогда только, когда тот начнет чужим людям продавать, а не раньше. Сидор для Семена — человек чужой так же, как и для его невестки. Единственное, что пока понятно из этой второй грамоты, так это то, что экономить солод, взять его только «колобью», невестка должна потому, что его в подклете Семена осталось мало. Муки она может брать, сколько ей заблагорассудится, а о солоде приходится специально заботиться. Ведь рожь-то, нужно думать, и потребовалась для приготовления нового солода.
Однако в грамоте остались еще две строчки. Что в них? А вот что: «А грамота к тебе с моим детиною».
Вот теперь, наконец, все стало ясно. Ни невестка, ни Сидор писем Семена так и не получили. Напрасно Семен старался, выписывая на бересте слова привета. То ли не доехал детина до Сидора, то ли не достучался в широкие ворота усадьбы, что стояла на углу Великой и Козмодемьянской улиц… Да-да, Сидор-то ведь жил на усадьбе «Е», как раз напротив Юрия Онцифоровича! Это наш карельский данник, любитель лососины, получатель козлового товара. Мы видим, что он на новгородском рынке реализовал не только рыбу, но и рожь.
То ли не доехал детина до Сидора, то ли не достучался в широкие ворота его усадьбы, только окликнули детину со двора Юрия Онцифоровича. А что было дальше, каждый может вообразить себе сам. Может быть, увидел детина на тесовом крыльце самого хозяина, знатного боярина Юрия Онцифоровича, сорвал с головы шапку и, тряхнув в поклоне кудрями, не заметил, как в грязь плюхнулись Семеновы письма. А может быть, в ожидании Сидора напробовался детина браги из посадничьей поварни и потерял Семеновы письма вместе с шапкой. Что ж, и такое, нужно думать, бывало!
Замечательно, разумеется, и то, что грамоты, которые 550 лет назад послал Семен, люди впервые прочли лишь летом 1959 года. Думал ли он, что посылает свои письма не за несколько десятков верст к невестке и Сидору, а из пятнадцатого в двадцатый век?
Если учесть, что оба эти письма найдены на глубине в сто двадцать девять сантиметров, то легко прикинуть, что из глубины веков они шли к нам со скоростью два миллиметра в год. Вряд ли в истории почты найдется пример более медленной «транспортировки» корреспонденции. Впрочем, почта здесь не при чем. Во всем виноват детина, которого нам нужно не ругать, а благодарить. Ведь еще вопрос, читали бы мы эти письма, если бы они дошли до своих адресатов: их могли выбросить, изодрав в мелкие клочья, или бросить в печь. Со своим письмом невестка, наверное, так и поступила бы.
Глава 14
Бесконечное разнообразие текстов
Берестяные грамоты бесконечно разнообразны по держанию. Ведь они писались людьми разных социальных уровней и занятий, разных наклонностей, охваченных разными заботами и разным настроением. Одни письма написаны в горе, другие в порыве хозяйственного рвения. Порой рукой писавшего водил гнев, а порой — страх. Авторы грамот делали записи для личного употребления и для других людей, своих адресатов. Жизнь постоянно давала поводы для того, чтобы то один, то другой новгородец, отвязав от пояса отполированное частым употреблением «писало» и, расправив белый берестяной лист, садился царапать на березовой коре записку, письмо, распоряжение или донесение. Береста сохраняет все — от первых робких шагов в овладении грамотой до духовного завещания и извещения о смерти. И те четыре сотни грамот, которые собраны за двенадцать лет на Неревском раскопе, можно сравнить с разбитым на сотни кусков громадным зеркалом, каждый осколок которого запечатлел небольшую, случайно отразившуюся в нем частицу давно исчезнувшего мира.
Эта пестрота текстов определила и многообразие возможностей познания прошлого, заложенное в исписанной бересте. Уже сейчас к началу третьего десятилетия нашего знакомства с новым, открытым в 1951 году историческим источником, этот источник бросает яркий свет на многие, долго остававшиеся в тени закоулки новгородской истории, знакомя нас со средневековым Новгородом подчас с неожиданной стороны.
Вот, к примеру, найденная в 1957 году около мостовой Великой улицы в слое середины XV века грамота № 298. Это небольшой прямоугольный, обрезанный со всех сторон кусок бересты со следующим текстом:
«Костка сына Лукина, Офремова сына.
Купра Иванова сына, Онитвька.
Купра Фомина сына.
Игнатья Юрьева сына».
Что это? Запись перечисляет четырех человек, названных в уважительной форме, с отчеством, а в одном случае даже с именем деда. Такое перечисление не может быть записью должников. Около их имен тогда были бы проставлены суммы долга. Не может эта записка быть и поминанием, в котором отчества никогда не писались. Имена перечисленных в грамоте лиц поставлены в винительном падеже, отвечающем на вопрос: «Кого?»
А. В. Арциховский, пытаясь объяснить смысл найденной записки, предложил такое интересное решение: «Думаю, что перед нами избирательный бюллетень». В условиях вечевого строя органы власти в Новгороде были представительными главным образом от боярства разных концов и улиц города. Избирались посадники и тысяцкие, архиепископы и архимандриты, кончанские, уличные и купеческие старосты, сотские. Возможно, одно из свидетельств таких выборов и дошло до нас теперь. Речь в нем не может идти о выборах высших государственных сановников. Они, как правило, все известны летописцу по именам, среди которых нет, однако, ни Константина (Костки) Лукинича, ни Киприана (Купра) Ивановича, ни Киприана Фоминича, ни Игнатия Юрьевича. Названные в грамоте лица, если предположение верно, избирались, нужно думать, в органы уличного управления.
Эта находка существенно изменяет распространенное представление о новгородском вече. Вече казалось многим историкам некой вольницей, которая все вопросы государственного управления решала криком и потасовкой. Такие представления основывались на том, что вечевые собрания порой выливались в вооруженное столкновение разных концов города. При этом историки не учитывали, что вечевые собрания происходили ежегодно, а иногда и по нескольку раз в году, а столкновения группировок отмечались далеко не каждое десятилетие. Конечно, общественная жизнь в Новгородской республике была организована и регламентирована. Летопись, например, сообщает, что на вече новгородцы сидели, а не стояли, а это не совпадает с привычным образом буйной толпы. Что касается выборов, то при широком распространении грамотности они вполне естественно, осуществлялись не криком, а подачей бюллетеней, подобных найденному на Неревском конце.
Л. В. Черепнин выдвигает относительно этого берестяного листка несколько иную гипотезу: «Новгородская судная грамота говорит об обязательном присутствии на суде четырех заседателей, по два представителя от каждой из тяжущихся сторон. Может быть, эти четыре заседателя и имеются в виду в берестяной грамоте № 298?» Такое толкование тоже не лишает грамоту качеств бюллетеня.
А вот два небезынтересных документа, связанных с военно-политической историей Новгорода. Напомню, что некоторые известия такого рода, сохраненные на бересте, уже изложены в предыдущих главах этой книжки.
Грамота № 332, найденная в слоях пятнадцатого или шестнадцатого яруса, сохранилась в обрывке. Она написана Кюрьяком и адресована Вышене. Вышеня должен — в том случае, если «князь пойдет», — прислать Кюрьяку шлем, брони, щит, копье и вороного коня. Пятнадцатый и шестнадцатый ярусы дендрохронологически датируются 1197–1238 годами. Это было время почти ежегодных походов новгородцев на чудь, на литву, на немцев, на соседние русские княжества. И, конечно, установить, с каким из многочисленных походов рубежа XII–XIII веков связана грамота № 332, нам не удастся. Но, может быть, она имеет отношение к сборам новгородцев в поход 1207 года, закончившийся по возвращении воинов домой грандиозным антибоярским восстанием, знаменитым в истории Новгорода. Или, возможно, эта грамота написана в дни подготовки похода 1216 года, когда при активном участии новгородских полков в Липицкой битве решилась судьба суздальского наследства великого князя Всеволода Большое Гнездо. Кто знает?
Другая грамота — № 69 — выброшена в конце XIII века, между 1281 и 1299 годами, и найдена в 1952 году. Она сохранила следующий текст: «От Тереньтея к Михалю. Пришьлить лошак с Яковьцем. Поедуть дружина Савина чадь. Я на Ярославля, добр здоров, и с Григоремь. Углицане замерзьли на Ярославли. Ты до Углеца, и ту п(о)лк дружина».
Терентий написал Михалю из Ярославля — редкий случай, когда в берестяной грамоте указан «обратный адрес». Он находится в Ярославле вместе с Григорием, пребывает в добром здоровье и просит Михаля прислать к нему лошака с Яковцем, присоединив его к дружине Саввы, направляющейся к Угличу. «Угличане замерзли на Ярославле». Эту фразу нужно, по-видимому, понимать так, что угличские суда вмерзли в лед под Ярославлем. Дело происходит во время ледостава, в начале зимы.
Письмо Терентия Михалю особенно ценно тем, что повествует о событиях, не запечатленных летописцем. Между 1281 и 1288 годами политическая жизнь Новгорода, так же как и политическая жизнь Ярославля и Углича, тесно связана с ожесточенным соперничеством двух сыновей Александра Невского — Андрея и Дмитрия, с переменным успехом боровшихся за великое княжение Владимирское. Братья несколько раз сменяли один другого на великокняжеском столе. Новгород попеременно был союзником то Андрея, то Дмитрия, в отличие от ярославского и углицкого князей, поддерживавших Андрея Александровича. Летописец сохранил воспоминание о многих красочных подробностях этого соперничества. Но о походе новгородцев в тот период под Углич и Ярославль мы впервые узнали только из сообщения берестяной грамоты № 69.
Прорись грамоты № 69. Письмо от Терентея к Михалю, посланное в Новгород из Ярославля в конце XIII века.
Нужно сказать, что А. В. Арциховский и Л. В. Черепнин связывают эту грамоту с другими событиями — с войной киевского князя Изяслава Мстиславича против Юрия Долгорукого в 1148 году. В эту войну на стороне Изяслава были втянуты и новгородцы, которые вместе с ним совершили поход под Ярославль, прервавшийся с наступлением зимы.
Трудно согласиться с таким мнением. Грамота попала в землю в конце XIII века. Сохраниться на воздухе в течение полутораста лет она никак не могла. Представить себе, что она переместилась в земле, оказавшись в более высоком слое, невозможно. Полтораста лет, отделяющих 1148 год от конца XIII века, — это полтора метра культурных напластований, насыщенных остатками построек. Если бы она переместилась из девятнадцатого яруса в двенадцатый в результате рытья глубокой полутораметровой ямы, такая яма была бы легко обнаружена. Она была бы заполнена более поздним грунтом, остатки построек в ней были бы перерублены. Между тем, грамота № 69 найдена в спокойных напластованиях конца XIII века.
Чрезвычайно малочисленны грамоты, своим содержанием связанные с дальней торговлей Новгорода и купечеством как особым сословием. Разумеется, когда удастся раскопать купеческие усадьбы, историки будут вознаграждены за скудость сведений, собранных в первые годы открытия бересты. Но кое-что найдено и на Неревском раскопе.
О грамоте № 125 уже упоминалось. В ней некая Марина, жившая на рубеже XIV и XV веков, просила своего сына Григория купить ей зендянцу — хлопчатую ткань, которую в Новгород привозили с восточных рынков. В другой грамоте — № 282, написанной в конце XIV века, упомянут еще один товар из далеких стран: «Купил есмь соль немецкую…». В Новгороде существовало солеварение — на Белом море и в районе Руссы, но своей соли не хватало и ее в большом количестве везли из-за рубежа. Главными поставщиками были немцы, которые торговали не своей солью, а вывезенной в основном из Франции и Испании.
Возможно, о соли говорится в обрывке берестяной грамоты № 44, написанной в XIV веке: «…Науму Соленови. Хто мое целование не надоби… побегле во Немьце, а товару…». И определенно, хотя и не очень вразумительно — в другом обрывке № 32, датированном также XIV веком: «Фешке Юрьгию целом… соле наборзи не была от тебе сол по 2 года мни… купиле…».
В иных грамотах предметом покупки оказываются менее важные, хотя и весьма распространенные привозные товары. Вот, например, грамота № 173, найденная в одном слое с письмом Марины Григорию: «Поклон от Панфил к Марье и ко попу. Купите маслеца древяного, да пришлите симъ».
Деревянное масло — так называется худший сорт оливкового масла — в большом количестве сгорало в лампадках и употреблялось при некоторых обрядах так же, как и миро — деревянное масло, сваренное с красным вином и благовониями. Кстати, — правда, в слоях более древних — однажды на Неревском раскопе была найдена серебряная бутылочка, разделенная глухой перемычкой на две половины, подобно ружейной масленке. На одной из этих половин нацарапано: «масло», а на другой: «мюро».
В некоторых грамотах предметом купли-продажи является рыба. Это каким-то образом связано, по-видимому, с особенностью хозяйства живших на раскопанных участках землевладельцев, имевших отношение, как уже было показано, к рыбным ловам на севере Новгородской земли. Мы видели, как они охотились за наиболее дорогими породами рыб, предпочитая даже брать проценты на отданные взаймы суммы в виде лососей и сигов, чтобы выгоднее реализовать свой доход. Сиги и лососи становились затем товаром на новгородском торгу. Вот грамота № 144, написанная в первой половине XIV века: «Приказ Косарику от Есифа. Възми у Тимофея 50 сигов о 3 рубля, а роко на роство» — «Приказ Косарику от Есифа. Возьми у Тимофея 50 сигов рубля на 3, а срок на рождество».
Серебряная масленка конца XIII века с надписью: «Масло» и «Мюро».
Здесь сиги приобретаются в кредит с обязательством уплатить за них к рождеству. Каждый сиг весит в среднем около двух килограммов. Всего, таким образом, Есиф приказывает купить около ста килограммов рыбы, что приблизительно составляет бочку. Следовательно, бочка сигов в Новгороде XIV века стоила около трех рублей. На такие деньги Онцифор Лукинич приобрел бы трех коней для своего хозяйства.
Л. В. Черепнин несколько иначе понимает эту грамоту. Он считает, что Тимофей уже получил от Есифа три рубля, срок его долга истек, и взять у него сигов Косарик должен в возмещение этих трех рублей. По мнению исследователя, мы наблюдаем здесь один из способов закабаления рыбака купцом или феодалом. Вряд ли это правильно. Есиф пишет: «о 3 рубля». Предлог «о» в древнерусском языке в соединении с числительным обозначал приблизительное количество, в данном случае: «рубля на 3». Если бы речь действительно шла о покрытии денежного долга, автор письма не стал бы обозначать его так приблизительно.
Редкие рыбы в Новгороде очень ценились. Ими иногда и в самом деле получали долги, ими расплачивались. Во второй половине XIV века написано письмо № 186: «Поклоно от Стьпана ко Смьнку. Возми у Кануниковыхо десять лосой, а другую десять возми у Данилки у Бешкова. А дай Смьну Флареву. А язо тобе ся кланяю».
По существу из тех немногочисленных грамот, которые дают возможность говорить о торговле, купеческими письмами — да и то с оговорками — могут быть признаны лишь сообщающие о приобретении немецкой соли и о расплате лососями. В остальных упоминаются отдельные покупки новгородцев.
Распространенным средством извлечения дохода из человеческой нужды было в Новгороде ростовщичество. В слое самого начала XIV века на усадьбе «Б» найдена грамота № 138, которую трудно толковать иначе, как запись долгов, сделанную ростовщиком:
«Се азо, рабо божий Селивьстро напсах рукописание. У Лунька полтина. У Захарьи полтина. У Алюевиць полтина. У Кузмиць у Онисимова 2 гривне. У Смена у Яколя двои чепи в 2 рубля с хрестом, брони во 2 серебра. У Кюрика у Тюлпина семьдесято гривен. У Бориска полутора рубля. И у Петряица бумажнико и корова поруцьная. У Селиле 10 гривен. У Слинька шапка в 13 гривне. У Иванися Япкыто, у Федореца 2 гривне. У Селекуевица 3 гривне. У Григорьи у Роготина 2 рубля… гривне».
Селивестр сделал запись об отданных им в долг — вне всякого сомнения, на выгодных для него условиях — разным людям деньгах и имуществе. Здесь и дорогие цепи с крестом, и брони — пластинчатый доспех, и «бумажник» — ватное одеяло, и шапка ценой в 13 гривен, сделанная, судя по цене, из дорогого меха.
Запись Селивестра имеет форму духовного завещания, начинаясь традиционными для этого вида документа словами: «Се аз, раб божий… написах рукописание». Эту особенность хорошо разъяснил Л. В. Черепнин, который привлек для сравнения порядки, известные в Пскове XV века. В случае возникновения тяжбы о ссуде после смерти заимодавца, пишет он, «главным документальным доказательством прав умершего, которым должны пользоваться душеприказчики, Псковская судная грамота признает письменное распоряжение покойного („рукописание“), сданное им при своей жизни в государственный архив при Троицком соборе». Подобный порядок должен был существовать и в Новгороде. Вероятно, рукописание Селивестра было берестяным черновиком его официальной духовной грамоты.
А в грамоте № 141 — документе второй половины XIII века, найденном на той же усадьбе «Б», ростовщичество предстает в другой своей форме. Если Селивестр отдавал деньги и вещи нуждающимся в них новгородцам под проценты, то его предшественник — человек с тремя именами Сидор Тадуй Ладопга завел у себя дома на Холопьей улице настоящий ломбард. Он отдавал деньги под залог вещей. Вот эта грамота: «У Сидора у Тадуя у Ладопги положиле Гриишка с Костою. А во тоболахо. У Гришки кожюхе, свита, сороцица, шяпка. А Костина свита, сороцица. А тоболи Костини. А сапоги Костини. А другии Гришкини. А цто ся подите на Мовозири, присллавъши възмете».
Гришка и Коста заложили Сидору свою одежду. Гришка — кожух (шубу), свиту (верхнюю одежду), сорочицу (рубаху), шапку и сапоги. Коста — свиту, сорочицу и сапоги. Одежду они упаковали в принадлежащие Косте тоболы — кожаные чемоданы. И эти тоболы тоже составили часть заклада. В условиях заклада имеется один весьма любопытный пункт. Если Гришка с Костою пойдут на Мовозеро, они могут взять свои вещи. Очевидно, такая поездка была чем-то выгодной Сидору, но он понимал, что без сапог и одежды Гришка и Коста не смогут туда отправиться.
Много ценных новостей сообщили берестяные грамоты о новгородской денежной системе XIII–XIV веков. Каждому человеку, интересующемуся историей, ясно, как важны бывают точные сведения о величине денежных единиц. В древних документах, в том числе и в берестяных грамотах, мы постоянно встречаемся с обозначением разных денежных сумм, идет ли речь о денежном оброке, долге или цене вещей. Без точного знания того, как относились друг к другу различные денежные единицы, эти обозначения останутся для нас пустым звуком. Между тем в большинстве документов XIII–XIV веков денежные суммы до сих пор так и остаются для исследователей если и не пустым звуком, то, во всяком случае, звуком, который каждый слышит по-своему.
Более или менее хорошо известны новгородские денежные системы XII века и XV века. Но как непохожи они одна на другую. В XII веке главной единицей была гривна серебра, слиток весом около 196 граммов. Он делился на 4 гривны кун. Каждая гривна кун делилась, в свою очередь, на 20 ногат или на 50 резан или на 150 вевериц. Круглые цифры, удобные соотношения, легкие расчеты.
А вот система XV века. Ее главной единицей был рубль, который в чистом серебре весил около 170 граммов. В рубле было 216 денег. Каждые 14 денег образовывали гривну. А гривен в рубле было даже не целое число. 15 гривен равнялись 210 денгам, а 6 денег составляли какой-то непонятный излишек. Существовала в этой системе и еще одна единица — «бела», равная двум денгам. В гривне, следовательно, было 7 бел.
Само собой очевидно, что между двумя этими системами лежит длительный путь превращений. Было бы возможно проследить этот путь, изучая сами денежные единицы XIII–XIV веков, взвешивая их, сравнивая друг с другом. Но в том-то и сложность проблемы, что XIII и XIV века были в Новгороде безмонетным периодом. Торговлю и денежное обращение обслуживали крупные слитки серебра — гривны серебра или рубли, а роль мелких единиц выполняли всякие случайные товары от беличьих шкурок до украшений. Напомню, что Онцифор Лукинич в первом берестяном письме приказывал скопить рубль мехами или серебром. Единственная возможность разобраться в системе — это выяснить, сколько разных единиц содержалось в слитке и высчитать их в серебре. Однако источники не давали возможности произвести такие расчеты.
Главная трудность изучения денежных единиц промежуточного времени — XIII и XIV столетий — заключалась в том, что мы не знали, когда происходила смена систем. Одни исследователи связывали эту дату с 1420 годом, когда в Новгороде стала чеканиться собственная монета. Другие предполагали, что смена систем осуществилась в 1410 году, когда на короткий срок в новгородское обращение была принята западноевропейская монета. Третьи относили ее к началу XIV века, когда в источниках впервые упомянут рубль. Понятно, что, остановившись на неправильной дате, мы начнем сравнивать между собой единицы, которые в действительности относятся к разным системам, а это не приведет ни к чему, кроме серьезных ошибок.
Чтобы правильно понять главную проблему, вставшую перед исследователями, нужно заметить, что, разумеется, нельзя представлять себе историю новгородской денежной системы таким образом, будто в один прекрасный момент на смену «системе XII века» пришла «система XV века». Все обстояло значительно сложнее. На протяжении XIII и XIV веков система видоизменялась неоднократно. Внешний признак одного из таких видоизменений — появление на месте гривны серебра новой единицы, которую назвали «рублем». Поскольку мы до сих пор пользуемся этим термином, посмотрим, что могут нам сообщить о его рождении берестяные грамоты.
Начнем это знакомство с одной из самых знаменитых грамот № 65, найденной в 1952 году. Она исписана с двух сторон, но сохранилась неполностью. На одной стороне Матвей просит Есифа привезти ему медвежьи шкуры, какие-то одежды и попону, а на другой нацарапано: «Ажь водя по 3 рубля, прода. Али не водя, нь продай».
Прорись грамоты № 65. Древнейшее упоминание рубля.
Историческое значение этой грамоты состоит в том, что в ней запечатлелось самое древнее упоминание рубля. Двенадцатый ярус, в котором найдена грамота, датируется 1281–1299 годами.
Этот период — конец XIII века — для исследователей новгородской денежной системы берестяные грамоты сделали в высшей степени интересным. Оказалось, что многие денежные термины, привычные для XII века, перестают употребляться именно в конце XIII века, а многие термины, хорошо известные по позднейшим документам, возникают подобно рублю впервые тоже в текстах конца XIII века. Вот, например, куна. Как название определенной денежной единицы она встречена в десяти берестяных грамотах и в последний раз в слое рубежа XIII и XIV веков. Гривна серебра, встреченная в четырех грамотах, не упоминается после 1299 года. Резана упоминается в грамотах десять раз, в последний раз на рубеже XIII и XIV веков. Зато одновременно с рублем, в тех же слоях конца XIII и начала XIV века в берестяных грамотах прочное место занимают полтина, бела, белка, «серебро».
Казалось бы, все очень просто. Мы уже знаем, чем отличался рубль от гривны серебра. Он весил около 170 граммов и, следовательно, примерно на 26 граммов был легче гривны серебра. Располагая всеми этими данными, мы, наверное, очень легко можем теперь в коллекциях древних денежных слитков положить в раздел XII–XIII веков «гривны серебра», а в раздел XIV–XV веков — «рубли». Что такие разновременные слитки различались между собой, хорошо известно из летописных сообщений. Вот одно из них. В 1547 году Иван IV, находясь в Новгороде, занялся поисками древней «сокровенной» казны. Сначала он приказал пытать софийского ключаря и пономаря, но ничего не добился от них. Тогда он сам поднялся в лестничную башню и повелел ломать стену на правой стороне «всхода»: «и просыпася велие сокровище, древние слитки в гривну и в полтину и в рубль, и насыпав возы и посла к Москве».
Значит, действительно существовали в виде слитков и гривны серебра, и рубли. И различить их не составит труда. Те, что весят около 196 граммов — гривны серебра, а те, что полегче — рубли. Уже сорок лет тому назад выдающийся русский нумизмат Николай Павлович Бауер выяснил, что среди многочисленных дошедших до нас новгородских денежных слитков имеются две группы, различающиеся между собой внешним видом. Одни — длинные, в форме брусков, другие — короткие, с горбатой спинкой. Длинные встречаются в ранних кладах, они исчезают из обращения на рубеже XIII–XIV веков. Их сменили короткие. Даты существенных изменений в терминологии новгородской денежной системы и смены формы слитков идеально совпадают. Ясно, что длинные слитки — гривны серебра, а короткие — рубли!
А как обстоит дело с их весом? Кладем длинный слиток на одну чашку весов, а короткий на другую. Сейчас чашка с коротким слитком должна прыгнуть вверх — ведь он легче на 26 граммов. Но что это? Обе чашки замерли на одном уровне, а стрелка весов показывает их равновесие. Оба слитка имеют один и тот же вес! Какой же был смысл изменять их форму? И почему изменение формы породило новую терминологию? Ведь новый термин должен отражать новое явление.
Десятки лет эти вопросы занимали исследователей, не находя решения. До тех пор, пока и те и другие слитки не были тщательно исследованы в Государственном Эрмитаже Мариной Петровной Сотниковой. Она обратила внимание на то, что горбатые слитки имеют шов, свидетельствующий об изготовлении их в два приема. Сначала в литейную форму выливалась порция расплавленного серебра, а потом к ней добавлялась еще одна порция. Были сделаны химические пробы обеих частей слитков. И тогда выяснилось, что основная часть отливки выполнена из серебра пониженного качества, а доливка — из высокопробного металла. Если посчитать, сколько же в таком слитке высокопробного серебра, то окажется — около 170 граммов.
Итак, слитки имели один и тот же вес и в XIII, и в XIV веке, но гривны серебра содержали высококачественного металла действительно 196 граммов, а рубли — лишь 170 граммов.
Только теперь стало ясно, почему в новгородском рубле XV века такое неудобное количество денег — 216. Когда в 1420 году новгородцы приступили к чеканке собственной монеты, они, будучи озабочены необходимостью удобных расчетов с главным своим торговым партнером Москвой, приняли для своих монет московскую норму — 0,79 граммов. А таких монет в новгородском рубле уложилось 216. Неудобное соотношение рубля и денги, следовательно, было порождено сочетанием в новой системе элементов разнородного происхождения.
Но ведь в новгородской системе кроме рубля и денги были и другие единицы, которые, в отличие от денги, существовали и задолго до 1420 года. К их числу принадлежат гривна и бела. В гривне было 7 бел или 14 денег. С рублем же гривна находилась в очень неудобном соотношении: рубль равнялся 15 гривнам и 6 денгам. Значит, в 1420 году, с принятием в Новгороде денги, изменилась и величина старинных новгородских единиц гривны и белы. Они подстроились к денге, вступив в сложные отношения с древним рублем. Но почему гривну приравняли 14 денгам? И в XII веке в Новгороде, и в XV веке в Москве система счета денег, а вместе с ней и денежные системы опирались на кратность единиц десяти. Здесь же мы видим другой принцип — кратность семи. Можно предположить, что в Новгороде до 1420 года уже существовала денежная система, основанная на таком принципе.
Это предположение легко проверить. В 1399 году в торговых книгах Тевтонского ордена сделана запись для сведения немецким купцам о том, как выглядит новгородская денежная система: «Также в Великом Новгороде 13 маркштейнов составляют 1 штюкке, и 28 мартхоупте составляют 1 маркштейн». Здесь названия новгородских денежных единиц переведены на немецкий язык и легко расшифровываются. «Штюкке» — рубль, горбатый слиток, «маркштейн» или правильнее «марк шин» — гривна кун, «мартхоупте» — кунья головка, куна. Мы видим, что и в самом деле до реформы 1420 года в новгородском рубле укладывалось целое число гривен — 13, а гривна построена на семиричной основе. Переход от десятиричного счета к семиричному можно признавать не менее коренным преобразованием новгородской денежной системы, чем смену гривны серебра рублем. Когда же это коренное преобразование произошло?
Вернемся к берестяным грамотам. Среди берестяных документов XIII века найдено несколько, представляющих для нас совершенно исключительный интерес. В 1961 году в слое одиннадцатого яруса (1299–1313 годы) экспедиция обнаружила берестяной обрывок — грамоту № 392, в которой упоминалась «гривна из ногат». Примерно в то же время в грамотах появляется еще один новый термин. В документах № 218 и 349, найденных в тринадцатом ярусе, который датируется 1268–1281 годами, и в грамоте № 355, найденной М. X. Алешковским при раскопках около церкви Параскевы-Пятницы и датированной XIII веком, упомянут никогда раньше не встречавшийся ни в летописях, ни в актах денежный термин «семница», заменяющий ногату. Если под семницей понимать одну седьмую часть гривны, то значит гривна уже во второй половине XIII века состояла из 7 ногат, которые стали называться семницами, а затем белами.
Берестяные грамоты позволили иначе посмотреть и на некоторые сообщения известных раньше письменных источников. В хронике Генриха Латышского под 1209 годом названы «гривны ногатами». А самое раннее их упоминание снова можно извлечь из берестяного документа — грамоты № 227, найденной в слоях 1197–1224 годов: «А се пакы шьдошы воземи десять гривьно ногатами…».
Если к семиричному счету перешли в начале XIII века, почему же затем еще целое столетие гривну продолжают называть не просто «гривной», а «гривной из ногат»? Казалось бы, так ее должны именовать только на первых порах, пока не исчезла привычка считать и на ту прежнюю гривну. Ответ дает грамота № 218, в которой упомянута «семница». Эта грамота, относящаяся к 1268–1281 годам, оказалась только одним из обрывков большого документа с записью должников. Кроме нее от этого документа сохранились еще три не складывающихся между собой куска, получившие номера 215, 216 и 217. Вот текст одного из этих кусков: «…лная же по 10 резано намо. У Марка у половинка 3 гривне по 10 резано и полоте дару и поцте. У… ава 2 гривне, у поповица по 10 резано».
Мы видим, что между 1268 и 1281 годами одновременно употреблялись какие-то гривны, состоящие из 10 единиц, и гривны, состоящие из 7 единиц. Если последние утвердились в Новгороде и употреблялись затем в нем в XIV веке, когда ногата стала называться белой, то первые в XIV веке возможно обнаружить уже не в Новгороде, а в Москве.
Таким образом, уже сейчас берестяные грамоты дают возможность понять некоторые детали сложного процесса развития денежных систем. Не все в этом процессе ясно до конца, но ведь и грамот такого рода пока мало. И нет сомнения, что будущие находки откроют нам новые детали, о которых сегодня мы даже не подозреваем.
Разумеется, деньги, о которых, только что рассказано, требовались не для приобретения одного лишь зендянца, соли, лососей и лампадного масла. Главная цель их накопления новгородскими землевладельцами заключалась в максимальном расширении своих владений, в приобретении новых и новых земельных участков. Этот процесс отразился и на бересте. О таких покупках говорится, например, в грамоте № 178, документе конца XIV века:
«Поклон от Синофонта ко брату моему Офоносу. Буди тоби сведомо, купил есом перво Максима Ещерски уезд и Замолмовсови и свое сироти в Симовли, а на Хвойни. А Максиме, Иване Широки ту же быле».
Ксенофонт сообщает своему брату Афанасию, что купил у Максима большие земельные участки и сирот — зависимых крестьян. Новые владения Ксенофонта можно без особого труда найти на современной карте Новгородской области: в 50 километрах к северо-западу от Новгорода протекает река Ящера и находится озеро Хвойно.
Грамота № 318 не менее выразительна: «Се купило Михало у князя великого бороце у Василия — Одреяна кузнеца и Токову, и Островну, и Ротковици, Кодраця, и Ведрово. Да 2 рубля и 3 гривны даете Яков. Атно се замешете Михалу брату, егдасте серебро двое».
Михаил, написавший эту грамоту в середине XIV века, у великокняжеского «борца» — сборщика дани Василия купил кузнеца Одреяна и несколько деревень. Часть суммы он еще не уплатил Василию. Эти деньги должен внести его брат Яков, по-видимому, задолжавший Михаилу. Если Яков замешкается с уплатой, Михаилу придется платить Василию вдвойне. Таким было условие покупки.
Дошел до нас и один лист из обширного описания на бересте владений какого-то новгородца конца XIII века; на этом листе перечислены принадлежавшие ему участки на притоках реки Меты. Берестяной лист найден в 1961 году и получил номер 390.
А вот еще одна сторона новгородской средневековой жизни, отразившаяся в берестяных текстах. Выше уже рассказывалось о том, что крестьяне порой в поисках менее жестоких условий жизни уходили от своих феодалов к другим господам. Один из таких переходов в тяжелую для новгородских простых людей пору середины XV века запечатлен в грамоте № 243: «Поклон от Сменка от Корелина. Пришле, господине, к тобе на село Пытарево. Цим его пожалуешь? И ты, осподине, прикажи всякое слово. А яз тобе, своему господину, чолом бью».
Такие переходы приводили к заключению договора между крестьянином и его новым господином. Договор, заключенный с Семеном Карелиным, нам, к сожалению, не известен. Но вот договор между Мысловыми детьми и неизвестным по имени господином дошел до нас. Этот документ найден не при раскопках и поэтому может быть датирован только в рамках всего XIV века: «Се доконьцяху Мыслове дети Труфале з братьею давати успов 6 коробей ржи да коробья пшеници, 3 солоду, дару 3 кунници да пуд меду, детем по белки 3 и 3 горсти лену, боран, уновину».
Составившие грамоту № 136 Мысловы дети Труфаль и его братья обязуются платить натуральный оброк («успы») в размере шести коробей ржи, одной коробьи пшеницы, какого-то количества солода. Кроме того, они платят «дар» — три куницы, луд меда, 3 белки, 3 горсти льна, барана и холстину. Суммы все немалые. Очевидно, Мысловых детей было трое.
Грамота № 366. Официальный акт взыскания по бессудной грамоте. XIV век.
Другой договор, найденный в 1952 году в слое первой четверти XV века, оказался записанным даже не на бересте, а на дереве. На поверхности небольшой бирки нацарапано: «В Глиньски у Пръкьпие и у Ивана успов: ржи 2 крбие, а овса 2, а кун 11 грвна, а мяса плть, а ж (и) та 3 крби». А по краю бирки нанесено девятнадцать зарубок: одиннадцатью глубокими и широкими зарубками обозначены гривны, двумя косыми и мелкими — овес, двумя прямыми и мелкими — рожь, тремя широкими — жито и одной узкой — мясо.
Нужно особо отметить, что договоров такого рода до сих пор историки древней Руси не знали. Подобные договоры в тот же период, однако, были распространены в Западной Европе. Находка грамоты № 136 и бирки показала, что процесс развития феодальных отношений у нас и на западе шел параллельно.
О жизни крестьян в боярских вотчинах выше написано уже немало. Однако трудно удержаться, чтобы не привести еще один документ рубежа XIV и XV веков — берестяную грамоту № 361, полностью сохранившееся письмо крестьян из деревни Побратилово на реке Шижне под Тихвином своему господину: «Поклон от Шижнян Побратиловиць господину Якову. Поеди, господине, по свою верешь. Дать, господине, не, господине, е. А нынеця есме, господине, погибли, верешь позябля, сеяти, господине, нечего, а ести такоже нечего. Вы, господине, промежю собою исправы не учините, а мы промежю вами погибли».
Словом «верешь» в древней Руси называли хлебные всходы. В переводе грамота звучит так: «Поклон от Шижнян Побратиловичей господину Якову. Приезжай, господин, на свои всходы. Дать, господин, нечего. Нынче мы, господин, погибли. Всходы, померзли. Сеять, господин, нечем и есть также нечего. Вы, господин, между собой никак не договоритесь, а мы из-за вас погибаем».
Многие тексты берестяных грамот ярко освещают подробности судопроизводства, тщательно регламентированного в средневековом Новгороде. Вот, пожалуй, один из самых интересных — грамота № 366 середины XIV века:
«Сь урядеся Яковь с Гюрьгьмо и с Харетоном по бьсудьной грамоте, цто был возял Гюрьге грамоту в ызьежьной пьшьнеце, а Харетоно во проторехо своех. И возя Гюрьге за вьсь то рубьль и тре гревоны и коробью пьшьнеце. А Харетон возя дьсять локоть сукона и гревону. А боль нь надобе Гюрьгю не Харетону до Якова, не Якову до Гюрьгя не до Харетона. А на то рядьце и послусе Давыд Лукен сын, Сьтьпан Таишен».
Яков нанес серьезные убытки Юрию и Харитону. Он потоптал лошадьми пшеницу Юрия и причинил какое-то разорение Харитону. Те вызвали его в суд, но Яков в суд не явился, пренебрежительно предоставив суду возможность обсуждать и решать эту жалобу без него. Суд рассмотрел заявление потерпевших, оценил их убытки и вынес постановление. Яков должен был уплатить Юрию деньгами рубль и три гривны, а также выдать ему коробью пшеницы. Харитону он обязывался выдать десять локтей сукна и деньгами гривну. Можно догадываться, что Харитон пытался защищать пшеницу Юрия, но на нем порвали одежду и избили его. Ведь Юрий за потравленную пшеницу получает кроме денег пшеницу же. Нужно думать, что и сукно назначено Харитону за испорченное Яковом сукно. Получив постановление суда, жалобщики пришли с ним к Якову и при свидетелях получили с него присужденные им деньги, сукно и пшеницу. А берестяную запись, составленную по этому случаю, Яков в гневе швырнул на землю и затоптал в грязь.
Думаю, что Л. В. Черепнин, предположивший в Якове городского купца на том основании, что он расплачивается сукном, не прав. Грамота № 366 найдена на одной усадьбе и в слоях одного хронологического периода с грамотами № 318 и 361, о которых уже рассказано выше. В грамоте № 318 тот же Яков упоминается как брат крупного землевладельца Михаилы, купившего у великокняжеского сборщика дани несколько деревень. Адресатом второй грамоты снова оказывается Яков, а пишут ему крестьяне из села Побратилово. Он, как и его брат, Михайло, сам крупный землевладелец.
До находки грамоты № 366 историки знали о так называемых бессудных грамотах, которые выдавались истцу в случае неявки ответчика и содержали постановление, принятое на основании заявления истца без судебного разбирательства. Однако способ применения таких грамот был неясен. Теперь же мы увидели в подробностях весь заключительный этап такого судебного дела.
В грамоте № 154 мы познакомились с настоящим протоколом допроса свидетеля, дававшего показания в суде в середине XV века. В грамоте № 25 прочли письменное свидетельское показание человека, который опознал у немца коня, вероятно, похищенного у адресата грамоты; это свидетельское показание написано на рубеже XIV и XV веков. В грамоте № 142 ее автор советует своим домашним, как сделать, чтобы при нарушении обязательства ответчиком оказалась противоположная сторона. Примеры можно было бы умножить. Л. В. Черепнин тщательно сравнил все найденные в Новгороде берестяные грамоты с древними юридическими кодексами — Русской Правдой, Новгородской и Псковской судными грамотами и другими актами законодательства — и открыл на бересте целый мир живых иллюстраций к сухим параграфам действующего закона и его процессуальных норм.
Многообразие берестяных текстов на протяжении всех лет раскопок дополнялось многообразием других надписей, нацарапанных и вырезанных на каменных, деревянных и костяных предметах. Таких надписей на Неревском раскопе обнаружено несколько десятков. Они заслуживали бы специального рассказа.
Собирание берестяных грамот переживает пору своего младенчества. Сегодня мы знакомимся с результатами лишь первых двенадцати лет замечательного открытия. Но уже сейчас мы видим не только через призму исторического анализа, но и воочию многие явления, до сих пор надежно скрытые от нас глухой стеной столетий. Находка берестяных грамот в 1951 году прорубила в этой стене первые, еще узкие окна, которые постепенно расширяются с находкой каждой новой грамоты. И можно искренне позавидовать будущим историкам. Они, сосредоточив в своих руках тысячи берестяных писем, будут знакомы с доброй половиной средневековых новгородцев и услышат от них ответ на любой вопрос, встающий в процессе исследования. Для них стена столетий рухнет и взору предстанет живая картина средневекового города, сверкающего сотнями красок и наполненного шумом тысячи голосов.
Глава 15
Самые древние грамоты
В своем рассказе о берестяных грамотах Неревского раскопа я почти не касался древнейших периодов новгородской истории, сосредоточив все внимание на документах XIII–XV столетий. Это не значит, однако, что до начала XIII века в Новгороде не писали на бересте. Более ранних грамот найдено много. В слоях XII века их собрано пятьдесят, в слоях XI века — семь. Это почти в тридцать раз больше, чем сохранилось до наших дней пергаменных актов того же времени. Но все же ранних материалов пока мало для столь же существенных наблюдений, какие оказалось возможным сделать, изучая позднейшие берестяные грамоты. Это естественно. Ведь от XIII–XV веков сохранилось в семь раз больше берестяных листов. Большинство древнейших грамот дошло в мелких обрывках. Это обстоятельство тоже затрудняет изучение древнейшей бересты.
Однако некоторые наблюдения можно сделать и сейчас. Главная тема, которой посвящено подавляющее большинство берестяных текстов XII века, — это деньги. Деньги в разных формах их применения — при уплате долга и покупке, при уплате штрафа и продаже собственности. Демьян приказывает своему адресату продать коня за любую предложенную сумму, записать убытки и внушить Кузьке, чтобы тот не потерял деньги (№ 163, конец XII века). Прокош советует Нестеру заплатить шесть гривен, а штраф не платить (№ 115, конец XII века). Автор грамоты № 78 пишет во второй половине XII века: «Возьми у Тимощи одиннадцать гривен, у Воицина шурина на коне расписной хомут, и вожжи, и оголовье, и попону». Автора грамоты № 160 Василия тогда же волнует вопрос о продаже его коня светло-желтой масти. Семка, который в середине XII века бывал или, может быть, даже жил в Переяславле под Киевом, прослышав, что некий Кулотка продолжает числить на нем долг, сообщает, что этот долг выплачен компаньону Кулотки — Лазовке, когда оба товарища были в Переяславле (№ 105). Твердята, новгородец начала XII века, приказывает Зубери взять у госпожи — «господыни» — 13 резан (№ 84). Его современник Яким велит Нестеру отдать векшу; так называлась одна из мелких денежных единиц XI–XII веков (№ 120). А другой его современник Петр клянется Влотьку, что он «ни векшею не должен» (№ 336). Некий новгородец с редким именем Носок, покрывавший какую-то церковь свинцом, требует уплаты ему и его товарищам двух гривен за работу. Этот свой «счет» он написал даже не на бересте, а на образчике строительного материала — листочке свинца. Такая небывалая грамота найдена в 1957 году в слое первой трети XII века. И опять: «едешь по корову, а вези три гривны» (№ 8, конец XII века). Одна грамота за другой знакомят нас с монотонными расчетами: на таком-то взять такую-то сумму, тот-то столько-то должен. Суммы крупные и мелкие, денежные единицы в разных комбинациях: гривны и веверицы, резаны и куны, векши и ногаты, числа, написанные цифрами, и числа, написанные словами… Можно продолжать цитирование этих «денежных документов», но тогда нам пришлось бы перечитать почти все 57 древнейших грамот. О деньгах говорится буквально в каждом документе.
Одному только веселому попу Дрочке как будто ничего не нужно. Он в конце XII века написал письмо только для того, чтобы передать привет своим знакомым: «От Дрочке от папа пъкланяние ко Демеану и к Мине и к Вануку и к вьсемо вамо добре створя» (№ 87). Впрочем, может быть, в следующем письме он собирается попросить денег. Этого мы, конечно, не знаем.
Деньги в грамотах XII века занимают столько же места, как земля и продукты сельского хозяйства в более поздних берестяных грамотах. И даже большее место, так как о земле в них не упоминается вовсе, а о деньгах в грамотах XIII–XV веков написано достаточно. Сейчас еще рано делать по этому поводу решительные выводы, однако вряд ли такая разница может быть случайной. Вероятно, на протяжении XII века исподволь происходило накопление денежных ресурсов новгородскими феодалами, позволившее им затем осуществить решительное наступление на те земли, которые в большом количестве в XII веке еще принадлежали свободным новгородским общинникам. Когда во второй половине XIII века в Новгороде были проведены многочисленные реформы, окончательно сосредоточившие в руках боярства всю государственную власть, за этим преобразованием республики, наверняка, стояли существенные экономические сдвиги. Может быть, эти сдвиги и отражает замеченная разница в содержании берестяных грамот нижнего и верхнего ярусов новгородского культурного слоя.
Но, разумеется, содержание древнейших грамот не сводится к денежным расчетам. Эти листы берестяных писем, нацарапанных восемьсот и девятьсот лет тому назад, также вводят нас в мир сложных человеческих взаимоотношений, знакомят не только с новыми для нас лицами и именами, во и с общественной жизнью того времени.
В грамоте № 9, найденной в числе золотого десятка первых берестяных документов 1951 года, отражена драма новгородской семьи третьей четверти XII века: «От Гостяты к Васильви. Еже ми отьц даял и роди съдаяли, а то за ним. А ныне водя новую жену, а мне не вьдасть ничьто же. Избив рукы, пустил же мя, а иную поял. Доеди, добро сотворя».
Об этой грамоте много спорят до сих пор, причем главным предметом спора является автор письма Гостята. Исследователи никак не могут решить, мужское это имя или женское. Но обстоятельства житейского происшествия в общем ясны. Какой-то человек, женившись на новой жене, отобрал у Гостяты имущество, оставленное Гостяте отцом и родственниками, нарушил свои обязательства по отношению к Гостяте и выгнал из дому. Думается, что злодеем Гостяты был отчим. После смерти отца Гостята находился под опекой близких родственников, потом его мать снова вышла замуж, и Гостята был дан «на руки» новому опекуну — отчиму. А когда мать Гостяты тоже умерла, начались описанные в грамоте неприятности. Василий, которого Гостята просит о помощи, мог быть свидетелем того, как отчим давал клятву заботиться о своем пасынке, а может быть — он принадлежит к числу родственников Гостяты. Называя Гостяту в этом рассказе в мужском роде, я допускаю некоторую условность, но если Гостята — женщина, существо дела не изменится.
Грамота № 155 написана также в третьей четверти XII века:
«От Полоцька к… Пояле девъку у Домаслава. На мне ти Домаславе възяле 12 гривне. А присли 12 гривне. Или не прислеши, а мне ти стати… зя и у владыке. А больше ти протеря гоши…».
Мы не знаем, как звали адресата письма, его имя не сохранилось. Но у Полочка с ним очень сложные и трудные отношения. Адресат письма забрал у Домослава «девку» — рабыню, в результате чего Полочек вынужден был заплатить Домославу 12 гривен. 12 гривен — такая сумма в глазах историка оказывается весьма любопытной. Именно таким был установленный Русской Правдой штраф, который надлежало получить с владельца беглого или украденного раба. Очевидно, адресат письма опознал в «девке» Домослава свою украденную некогда рабыню. Домослав вынужден был уплатить этот штраф, но, естественно, он, в свою очередь, потребовал эту сумму с того человека, который продал ему «девку». Таким человеком был Полочек.
Полочек отдал 12 гривен, но чувствует себя несправедливо ограбленным: он сам рабыню не крал, а купил ее у кого-то. Самое простое дело для Полочка было бы взыскать свой убыток с продавца рабыни. Но найти его, как видно, нелегко: может быть, и в Новгороде-то его нет. Существует, однако, еще один способ, которым и решил воспользоваться Полочек. Процедура следствия, «свода» по делу о краже раба предусматривала розыск только до «третьего свода». Истец обязан был следовать по цепочке перепродаж лишь до третьего звена. Если эта цепочка продолжалась дальше, истец взимал штраф с этого третьего, а тот настоящего вора, «конечного татя» должен был разыскивать сам, чтобы возместить свой убыток. Но ведь Полочек — только второй! Он может пойти к князю и владыке и потребовать, чтобы следствие, прекратившееся было, продолжилось, чтобы адресат письма разыскал того человека, который продал рабыню Полочку, взял с него штраф, а 12 гривен вернул Полочку. Вот Полочек и требует: верни мне деньги сейчас же, а то заставлю тебя продолжить следствие, и ты истратишь на него больше, чем я требую с тебя сегодня — найти-то третьего временного владельца рабыни трудно!
Интереснейший берестяной документ — грамоту № 109 — сохранили слои двадцать первого яруса, который средствами дендрохронологии датируется 1096–1116 годами. Вот его текст: «Грамота от Жизномира к Микуле. Купил еси робу Плескове. А ныне мя в том яла кънягыни. А ныне ся дружина по мя поручила. А ныне ка посъли к тому мужеви грамоту, е ли у него роба. А се ти хочу, коне купив и къняжь муж въсадив, та на съводы. А ты, атче еси не възял кун тех, а не емли ничьтоже у него».
Автор письма Жизномир, который, вероятно, был княжеским дружинником, попал в серьезную переделку, обещавшую ему немало хлопот. Его слуга Микула купил в Пскове рабыню. Но эта рабыня оказалась похищенной у княгини. Княгиня, опознав свою рабыню, приказала схватить Жизномира, но за него поручилась дружина. На этом дело могло бы и прекратиться, но Жизномир, естественно, чувствует себя обманутым. Он затеял не только вернуть свои деньги, но и наказать похитителя, начав расследование, скрупулезно придерживающееся норм древнейшего русского закона Русской Правды. Он хочет купить коня для приглашенного следователя, «княжьего мужа», и начать «свод». Так в Русской Правде называется система очных ставок, позволяющих проследить цепочку перепродаж краденого имущества. С подобным «сводом» мы только что встретились, читая грамоту № 155. Разумеется, рабыня, оказавшаяся таким «краденым имуществом», должна участвовать в «своде». Поэтому на время расследования княгине нужно было предоставить другую рабыню. Такой порядок также предусмотрен Русской Правдой. Жизномир и пытается добиться через Микулу, чтобы эту вторую рабыню предоставил в распоряжение княгини человек, у которого Микула купил рабыню. Кроме того, ни в коем случае не следует брать с него денег, если он попытается вернуть их. Иначе все продуманное в деталях юридическое предприятие может лопнуть, и, Жизномир, виноватый лишь в том, что ему подсунули краденый товар, останется ни с чем.
До сих пор о нормах древнейшего судопроизводства мы знали только по показаниям самих статей древнего кодекса. Теперь мы во многих грамотах знакомимся с наглядными случаями применения этих статей. Добавлю, что княгиня, упоминаемая в грамоте Жизномира, может быть только женой новгородского князя Мстислава Владимировича, время княжения которого точно совпало с датами двадцать первого яруса. Жену князя Мстислава звали Христиной.
Какие же новгородские грамоты могут быть признаны древнейшими среди всех других? Какие берестяные письма должны внушать наибольшее уважение к их древности? Таких грамот четыре. Две из них найдены в условиях, не дающих возможности достаточно точно датировать их. Они найдены на уровне двадцать второго, двадцать третьего или двадцать четвертого яруса, то есть попали в землю между 1025 и 1096 годами. Грамота № 247 из числа этих двух дошла до нас в обрывке и упоминает какого-то клеветника, замок и двери кельи, а также смердов, которые должны побить клеветника.
Грамота № 109. Письмо от Жизномира к Микуле, повествующее о судебном разбирательстве начала XII века.
Зато гневная грамота № 246 сохранилась целиком. Она угрожает:
«От Жировита к Стоянови. Како ты у мене и чьстьное древо възъм и вевериць ми не присълещи, то девятое лето. А не присълещи ми полупяты гривьны, а ходу ти вырути в тя, луцьшаго новъгорожянина. Посъли же добръм».
Стоян девять лет тому назад взял у Жировита «честное древо» и до сих пор не расплатился, он должен ему четыре с половиной гривны. Л. В. Черепнин в выражении «взял честное древо» видит указание на то, что Стоян, взяв деньги взаймы у Жировита, целовал ему крест, клялся вернуть долг в срок. А. В. Арциховский понимает это выражение буквально: Стоян взял крест у Жировита и не заплатил за него денег. Как бы то ни было, Стоян остается должником Жировита на протяжении девяти лет. Жировит грозятся ославить его, осрамить при всем народе, что для Стояна должно быть особенно позорным, так как он принадлежит к числу «лучших новогорожан», иными словами, к верхушке новгородского боярства. Заметим, что Жировит называет Стояна не «новгородцем», а «новогорожанином». В XI веке слово «Новгород» еще воспринималось его жителями на слух как «Новый город». И, производя от него другие слова, новгородцы образовывали эти слова в точное соответствии с истинным смыслом названия, которое еще не успело окостенеть.
Две другие древнейшие грамоты найдены в слое двадцать третьего яруса и датируются более точно 1055–1076 годами. Они могут быть более древними, чем письмо Жировита, но могут оказаться и моложе его. В конце концов, это и не так уж существенно: обе грамоты уцелели лишь в незначительных фрагментах. В грамоте № 181 читается начало первой строки: «Грамота от Дробьна…». В грамоте № 123 обрывки ее шести строк таковы, что возможно прочесть целиком лишь одно слово в первой строке. И этим словом оказалось: «грамота».
Есть нечто глубоко символическое в том, что древнейшее слово, сохранившееся на бересте, — «грамота». Одной из самых острых и интересных проблем истории русской культуры давно признан вопрос о начале русской грамоты, о времени сложения русской письменности, древнейшие памятники которой не опускаются глубже середины X века. Берестяные грамоты пока не дали материалов для решения этой проблемы. Древнейшие грамоты еще остаются в пределах времени, от которого и до открытия бересты были известны редкие памятники русской письменности. Но вряд ли нужно сомневаться, что решить эту проблему в будущем способна именно береста из древнейших слоев русских средневековых городов.
Первые намеки на то, что такие поиски в новгородских слоях не окажутся безрезультатными, дают некоторые находки, уже сейчас занявшие прочное место в коллекциях Новгородской экспедиции. В 1954 году в слое двадцать четвертого яруса (1025–1055 годы) в Неревском раскопе найдена недоделанная резчиком дощечка для писания по воску. В слоях первой половины XI века в разные годы археологи нашли три костяных «писала». Но самые важные находки связаны со слоями X века. Одно костяное «писало» удалось обнаружить в 1955 году в слоях двадцать седьмого яруса (972–989 годы), другое — еще в 1951 году найдено буквально на материке, в слоях двадцать восьмого яруса, а этот ярус датируется 953–972 годами.
И если уж мы нашли орудия письма, то наверняка найдем и самые тексты, этими орудиями написанные. Как-никак, а ведь каждым «писалом», несомненно, нацарапан не один десяток берестяных писем. Придет время, и о берестяных грамотах X века мы будем знать не из сбивчивого рассказа арабского путешественника, а из самой бересты, вложив в коллекцию новгородских писем грамоты, извлеченные из самых древних прослоек новгородского культурного слоя.
Глава 16
Семь лет спустя
Много надежд археологов оправдал раскоп на Дмитриевской улице Новгорода. Однако постепенно все меньшая и меньшая площадь оставалась здесь неизученной, и, наконец, работы на Неревском раскопе осенью 1962 года закончились. Внутри исследованного экспедицией участка, достигшего к тому времени десяти тысяч квадратных метров, было найдено 395 берестяных грамот. Еще семь грамот тесно связались с Неревским раскопом, хотя они и найдены за его пределами. Эти грамоты собраны на территории того же квартала Дмитриевской улицы, в траншеях и строительных котлованах, в непосредственной близости к раскопанному участку.
Пришла пора перенести работы в другие районы города, чтобы сравнить результаты новых раскопок с наблюдениями, полученными на Неревском конце. Только такое сравнение определило бы, насколько изложенные выше материалы характерны для Новгорода в целом. Экспедиция перебазировалась на другой берег Волхова — в Славенский конец. К этому времени Новгород поднялся из руин. Пустыри военного времени быстро исчезали, застраиваясь новыми зданиями. И если поначалу, когда возможности новгородского культурного слоя как важнейшего источника новой информации о прошлом еще не могли быть оценены по достоинству, котлованы новых зданий беспрепятственно уничтожали этот источник, теперь настало время иными глазами посмотреть на задачи научного исследования.
Археологам порой приходится выслушивать жестокий упрек: вот вы двенадцать лет копали большой участок на Неревском конце, а рядом с вами экскаваторы вгрызались в нетронутые слои великолепной сохранности, выбрасывая на поверхность десятки тысяч древних предметов и в их числе сотни, а может быть и тысячи берестяных грамот. Самосвалы развозили землю с этими предметами по всему городу, насыпая из нее газоны и клумбы, цветы на которых пышно цвели оттого, что перегноем для них послужила живая ткань нашей древней культуры. Целые районы древнего Новгорода, еще тридцать лет тому назад хранившие в земле бесценные свидетельства истории нашего Отечества, навсегда потеряны для науки. Не лучше было бы раскопать и их до того, как на них поднялись этажи новых зданий? И еще: именно вам потомки предъявят спрос за эти невосполнимые потери, назвав вас варварами.
Давайте перенесемся на минуту в те, теперь уже неблизкие послевоенные годы, когда Новгород лежал в развалинах. В эти годы с вала Софийской стороны был виден вал Торговой стороны, а вся линия окольного города зимой обозначалась бесчисленными столбами дыма. Дым поднимался из железных труб. И под каждой трубой была землянка — жилье многих новгородцев тех лет. Дым тянулся и из развороченных коробок немногочисленных кирпичных зданий. Разгороженные фанерой клетушки внутри них — тоже временное жилье. Повсюду груды изуродованного кирпича, ржавые прутья перепутанной железной арматуры. Изуродованные пробоинами храмы с рассевшимися и грозящими обвалом стенами. Заросли цветка пожарищ — кипрея. И тяжелый запах кустарника пожарищ — бузины. Страшный след войны — на поверхности и непосредственно под чахлым дерном: стреляные патроны и неразорвавшиеся боеголовки, колючая проволока и осколки снарядов, искореженные взрывами и пожаром вещи, еще недавно служившие их владельцам — вот первые находки археологов.
И ежедневное увеличение населения. Новгородцы, воевавшие на фронте и работавшие в тылу, спешили домой, не к очагам, а к пожарищам, в родной город — жить, строиться, поднимать его из пепла. И каждый новый дом был новой победой восстановления, новой победой жизни. Правительство поставило Новгород в список важнейших русских городов, нуждающихся в быстром и первоочередном восстановлении, направив в него лучшего советского архитектора Алексея Викторовича Щусева. И если при этом оно нашло возможность выделить средства и для научных исследований Новгорода и для реставрации памятников его старины, оно тем самым смогло создать Новгороду невероятный в другие времена и при другом строе максимум условий в труднейшей обстановке послевоенных лет.
Да, строительные котлованы тогда вгрызались в живое тело древнего Новгорода, вынуждены были это делать! И под цветами на газонах гнили берестяные грамоты. И это в самом деле было варварством. Варварством фашизма, счет которому не ограничивается теми цифрами нанесенного нашей стране ущерба, которые подсчитаны в актах Правительственных комиссий. Счет военным потерям не закрыт 9 мая 1945 года, он пополняется и сегодня преждевременной смертью бывшего фронтовика, неожиданным взрывом затаившейся с войны мины, а в те годы — и вынужденными жертвами во имя восстановления нормальных условий жизни и работы.
Экспедиция в те годы добилась максимального эффекта. Если бы ее средства были распылены на исследование небольших котлованов, на шурфовку, мы никогда уже не смогли увидеть столь значительного района древнего города, а располагали бы лишь небольшими фрагментами такой картины, в большинстве случаев не поддающимися осмыслению.
Сегодня обстановка в Новгороде иная. Город не только залечил военные раны, но и более чем вдвое превзошел довоенный Новгород по площади и населению. Теперь одной из первоочередных стала задача уберечь те культурные ценности, которые пережили фашистское разорение. И в число мероприятий охраны этих ценностей органически вошло Постановление горсовета Новгорода, запрещающее строительные работы в пределах распространения древнего культурного слоя без его предварительного археологического исследования. Позднее это Постановление подкреплено решением Правительства, распространившим такой порядок еще на 114 древних городов Российской Федерации.
В жизни экспедиции наступил новый этап совместной работы с планировщиками города. Выбор места раскопок зависит сейчас непосредственно от планов развития города, а это придает археологическим работам мобильность, позволяет получать новые данные из разных районов города, сохраняя при этом для науки максимум нужных ей материалов.
О работах, начавшихся после завершения Неревского раскопа, нам еще предстоит рассказать. Теперь же, нарушая их хронологию, перенесемся снова в Неревский конец, где в 1969 году, спустя семь лет после завершения Неревского раскопа, был в связи со строительством нового дома заложен еще один, на этот раз небольшой археологический котлован. Нужно прямо сказать, что, хотя мобильное освоение материалов из отдаленных от Неревского конца районов представлялось тогда и представляется сейчас наиболее важной научной задачей, мы все же очень стремились возобновить раскопки поблизости от хорошо исследованного места. И дело здесь не в том, что экспедиция за двенадцать лет, как говорится, приросла душой к этому району. Причина возвращения — в тех проблемах, которые поставил перед наукой, но не решил до конца Неревский раскоп.
Я хочу напомнить, что одним из важнейших открытий на Неревском раскопе было установление множественности усадеб, принадлежащих одному боярскому роду, одной семье. Определенно установлено, что в пределах раскопанного участка по крайней мере тремя усадьбами — «Е», «К» и «И» — владели Мишиничи-Онцифоровичи. Относительно других раскопанных здесь же усадеб мы не располагаем подобными сведениями. Однако достоверные владения Мишиничей не отделены от них с очевидной ясностью. С другой стороны, предполагали, что владения Мишиничей-Онцифоровичей простирались и далеко за границы Неревского раскопа. Там, вне квартала на Дмитриевской улице, были намечены некоторые ориентиры, на связь которых с Онцифоровичами указывали известные ранее письменные источники. Один из таких ориентиров — церковь Сорока мучеников в 150 метрах к югу от Неревского раскопа, в направлении к Кремлю. В ней в 1316 году похоронен Юрий Мишинич, а в 1342 году — Варфоломей Юрьевич. Другой ориентир — церковь Спаса на Разваже улице в 80 метрах к западу от Неревского раскопа, построенная в 1421 году по инициативе Лукьяна Онцифоровича. Третий — церковь Кузьмы и Демьяна на Козмодемьянской улице, в 40 метрах к западу от Неревского раскопа. Сюда в 1400 году Юрий Онцифорович с другими боярами подарил богослужебную книгу. Значит, исследуя новые участки неподалеку от Неревского раскопа, на той территории, которая предположительно также принадлежала Онцифоровичам, мы можем эту догадку проверить. Если и здесь найдутся грамоты, адресованные Онцифоровичам, — значит, действительно, их владения не ограничивались тремя исследованными усадьбами.
На плане Неревского раскопа помечены места находок берестяных грамот, адресованных членам семьи Мишиничей-Онцифоровичей. Бросается в глаза их концентрация на трех усадьбах.
Неревский раскоп с юга и запада окружен церквами, построенными Онцифоровичами. Исследованный в 1969 году Тихвинский раскоп подтвердил принадлежность всего этого большого участка одной боярской семье.
На осень 1969 года было запланировано начало строительства нового многоэтажного дома на углу Тихвинской (ныне улица Комарова) и Садовой улиц, но на том их углу, который принадлежит уже соседнему современному кварталу города. От этого строительства до Неревского раскопа метров пятьдесят. Кое-что об этом квартале мы уже знали: чуть дальше, при сооружении соседнего дома, в его котловане, еще в 1959 году обнаружены остатки той самой церкви Спаса, которую в 1421 году построил Лукьян Онцифорович.
Нижний этаж запроектированного дома предназначался для городского Дворца бракосочетаний. Поэтому не следует особенно удивляться, что одна из первых грамот, найденных здесь, когда экспедиция заложила раскоп на месте будущего строительства, содержала пророческий текст: «…оженивося ту» — «женился тут» (№ 448).
Раскоп — его назвали «Тихвинским» — был небольшим, всего лишь около 330 квадратных метров, но все же в напластованиях исследованной здесь части древней усадьбы найдено семнадцать берестяных грамот и множество разнообразных предметов, в числе которых впервые встретились целые резные гусли с рельефными и гравированными изображениями львов и райской птицы. Гусли относились к XII столетию, когда жил Сотко Сытинич, прообраз былинного Садко.
Однако сейчас нас интересуют слои не XII века, а на двести лет более поздние. Кому адресованы письма, полученные на этой усадьбе в конце XIV и в начале XV века? Юрию Онцифоровичу? Или человеку, имя которого окажется абсолютно новым для нас?
Первая грамота 1969 года найдена как раз в прослойках рубежа XIV и XV веков. Ей присвоили очередной номер 446. Вот ее текст:
«Поклон от Кондрата осподину своему Юрью и от всих селян. Что еси, осподине, коне подавал, и тыи, осподине, коне Захарья въдаваеть у нас. Что бы еси, осподине, унял его. Или, осподине, не уймешь, и ты, осподине, пошли по остаток. А нам, осподине, не мочьно жить».
Снова крестьянская жалоба на самоуправство ключника. Кондрат и все селяне сообщают своему господину, что Захарья раздает в своих интересах коней, которых господин прислал по их просьбе. Раздает не по назначению, а им, Кондрату и селянам, невозможно жить, пока господин не уймет Захарью. «А если не сможешь унять, — пишут они, — пошли кого-нибудь забрать еще не розданных коней». Господина звали Юрием. Его имя встретилось там, где его надеялись найти. И мы имеем достаточно оснований включить грамоту с этим именем в общую коллекцию документов Мишиничей-Онцифоровичей.
Другие грамоты этой усадьбы в большинстве своем сохранились в небольших обрывках, лишенных имен адресатов. Зато в слое первой трети XIV века найден весьма любопытный предмет, немаловажный для нас в связи с историей боярского рода Мишиничей. Это небольшая костяная иконка, некогда предназначенная для ношения на груди в несохранившейся до нас металлической оправе. На плоскостях этой иконки размером 3 на 3,5 сантиметра изображен с одной стороны святой Власий, а с другой — святой Георгий.
Иконка с изображением Власия и Георгия, найденная на Тихвинском раскопе. Увеличено.
Изготовлена эта иконка неплохим художником-резчиком, но значение ее определяется не качествами художественной работы. Подобные предметы могли иметь очень личный характер, владелец носил такую иконку на груди, и выбор изображенных на ней сюжетов не был случайным. Уже давно искусствоведам и историкам Новгорода известна подобная, но более ранняя каменная иконка с изображением святых Иоанна и Захарии, которая принадлежала новгородскому посаднику второй половины XII века Иванке Захарьиничу. На ней, следовательно, изображены святые покровители его самого и его отца, художественными средствами передано его имя и отчество. 3 данном случае можно было предположить, что владельца найденной на Тихвинском раскопе иконки звали Георгием (Юрием) Власьевичем или Власием Георгиевичем (Юрьевичем).
И вот что особенно интересно. В Русском музее в Ленинграде хранится одна из самых знаменитых новгородских икон, написанная прекрасным художником на метровой высоты доске, но оказавшаяся в ближайшем родстве с нашей маленькой нательной иконкой. Эта большая икона ориентировочно датируется последней третью XIII века и изображает стоящего во весь рост святого Ивана. Но не только его. По сторонам Ивана на иконе присутствуют еще две фигуры, в два с половиной раза меньшие, чем центральное, главное изображение. Слева — фигура святого Георгия, справа — фигура святого Власия. Георгий и Власий — те же имена, что на найденной в 1969 году иконке. Более того, Георгий и Власий порознь много раз изображались на иконах и на предметах прикладного искусства, но здесь они вторично встретились вместе как двойники изображенных на иконе Русского музея: совпадают не только имена, но и мельчайшие детали изображений. Например, Георгия обычно изображали со щитом и мечом. Здесь же — на нашей иконке и на иконе Русского музея — он держит у груди мученический крест. Иными словами, и здесь и там подчеркнута не воинская доблесть святого патрона, а пережитые им страдания.
Икона Русского музея с изображением Ивана, Власия и Георгия.
Из этого сопоставления следует неизбежный вывод. Человек, заказавший большую икону с изображением святого Ивана, был, очевидно, самым тесным образом связан с человеком, носившим некогда найденную в Тихвинском раскопе нательную маленькую иконку. С тем самым Юрием Власьевичем или Власием Юрьевичем.
А какое отношение имеют ко всему этому Мишиничи? Да самое прямое. Ведь иконка-то найдена на одной из их усадеб!
В поисках владельца костяной иконки отправимся в первую треть XIV века. До 1316 года главой рода Мишиничей был Юрий Мишинич. Его сменил сын — Варфоломей Юрьевич, умерший в 1342 году. У Варфоломея были дети — давно известный всем историкам Лука и ставший известным только в 1961 году Иван, имя которого прочитано на принадлежавшей ему деревянной ложке.
Цепочка имен на иконе «Иван — Власий — Георгий (Юрий)» и генеалогическая цепочка Онцифоровичей начала XIV века «Иван — Варфоломей — Юрий». Они совпадают в двух звеньях, но не совпадают в одном. Если бы на иконе был изображен не Власий, а Варфоломей, понять ее замысел не составило бы труда. Мы сказали бы, что эта икона была заказана Иваном Варфоломеевичем в честь своего святого патрона. Но, в традициях того времени, на иконе также помещены изображения и патронов его отца и деда. Однако, поскольку мы видим там все-таки не Варфоломея, а Власия, приходится с сожалением констатировать, что обращение к именам Мишиничей оказалось бесплодным…
И все же! Ведь костяная иконка с изображением Власия найдена на усадьбе Мишиничей. И это предмет сугубо личный. Имена Власия и Варфоломея начинаются на одну букву. Не подскажет ли это совпадение хотя бы узкой тропки для раздумий? В самом деле, существовал в древности такой обычай. Если человек принимал схиму, постригался в монахи, то ему давали новое имя как символ обновления, вступления в новую жизнь. Но это имя почти обязательно должно было начинаться с той же буквы, с какой начиналось его прежнее, домонашеское имя. А может быть, Варфоломей Юрьевич в конце жизни принял монашество? Как рассказывает летопись, почти все новгородские посадники в конце жизни принимали схиму, постригались «в ангельский образ». О монашестве Варфоломея летопись прямо не говорит, но в ее рассказе об этом посаднике имеются явные признаки того, что в своем предположении мы на верном пути. Вслушайтесь в рассказ о кончине и погребении Варфоломея Юрьевича в 1342 году: «Месяца октября преставися раб божий Валфромей, посадник новгородчкый, сын Юрия Мишинича, на память святых мученик Маркияна и Мантуриа, в 25; и положиша тело его в отне гробе, владыка Василий с игумены и с попы. Покой, господи, душю его со всеми святыми».
Обратим внимание на три важные детали. Во-первых, бросается в глаза подчеркнуто благочестивый тон повествования. Варфоломей — посадник и сын Юрия Мишинича, но, прежде всего, он «раб божий», душу которого бог упокоит со всеми святыми. Во-вторых, — и это самое главное — можно перелистать всю новгородскую летопись и убедиться, что игуменов призывали в торжественные процессии только тогда, когда дело касалось встречи или погребения высоких лиц монашеского состояния. Игумены, бывшие пастырями монашеской братии, погребали не мирян, а монахов. И, наконец, само погребение Варфоломея не в собственном гробу, а среди останков его отца носит заметный оттенок приличествующего лицу монашеского звания уничижения. Добавим к этому, что в последний раз в качестве политического деятеля Варфоломей Юрьевич в источниках упомянут под 1334 годом. Последние восемь лет своей жизни он остается в тени. В эти годы на страницах летописи мелькают имена других посадников.
Но если в эти годы Варфоломей принял монашество, его должны были назвать иначе, хотя и на ту же букву. Предположив тождество нашего Власия и Варфоломея, мы найдем ключ к расшифровке сюжетов и большой иконы Русского музея, и маленькой иконки Тихвинского раскопа. Более того, мы поймем и особенности изображения Георгия на этих двух предметах. Юрий Мишинич в 1316 году погиб под Торжком в битве новгородцев с тверским князем Михаилом. Но в это время он был уже далеко не молодым человеком. Ведь в посадники его впервые избрали еще в 1290 году, значит уже тогда, в момент первого избрания, он обладал немалым жизненным опытом. Гибель в битве старого человека неизбежно несет на себе отпечаток не столько военной доблести, сколько мученичества. И если на патрональных иконах Мишиничей воспоминание о нем воплощено в образ не святого-воина, а святого-мученика, их можно хорошо понять.
Итак, мы предположили, что найденная на Тихвинском раскопе иконка изготовлена для Варфоломея-Власия Юрьевича в последние годы его жизни, а икона Русского музея заказана тем же Варфоломеем-Власием в честь своего сына Ивана или же самим Иваном Варфоломеевичем.
Раскопки 1969 года подтвердили возникшие ранее предположения. Мишиничи в XIV–XV веках владели значительным комплексом усадеб, а громадный Неревский раскоп 1951–1962 годов только частично вторгся в пределы их городского землевладения.
Ну, а раньше? Был ли этот комплекс приобретен только Мишиничами, скажем, в конце XIII века? Или им владели и их предки? Является ли картина, установленная для XIV–XV веков, характерной только для этого периода или она традиционна? Может быть, подобное состояние боярского городского землевладения в Новгороде восходит к древнейшим порядкам этого города? Ведь очень важный элемент традиционности свойствен, например, каждой отдельно взятой усадьбе. На протяжении столетий, с X до XV века, они и на Неревском конце, и во всех раскопанных экспедицией местах не меняли своих границ. Их частоколы из яруса в ярус возобновлялись на линиях, проведенных тысячу лет тому назад.
Перед нами, таким образом, встает новый вопрос — о предках Мишиничей. Кто они? Где они жили?
А. В. Арциховский предположил, что ближайшим предком Мишиничей-Онцифоровичей был знаменитый новгородец Миша, о котором рассказано в Житии Александра Невского как об одном из шести наиболее отличившихся героев Невской битвы 1240 года: «Четвертый же новгородець, именем Миша; сий пешь с дружиною своею наскочи, погуби три корабли Римлян». «Выводить этот род от другого Миши невозможно, — пишет А. В. Арциховский. — Остальные летописные Михаилы были, вероятно, Мишами для родных и друзей, но это уменьшительное имя на страницах летописи встречается лишь под 1228–1257 годами. Оно было для всего Новгорода связано только с одним популярным человеком и отличало его от многочисленных тезок. Своеобразие отчества Мишиничей это подчеркивает».
Обратимся к одному, хотя и позднему, составленному в конце XVII или начале XVIII века, но чрезвычайно любопытному источнику. Тогда еще в Новгороде существовала на Прусской улице церковь Вознесения. И в этой церкви был составлен или в указанное время переписан синодик — поминальная книжка с именами людей, о которых особенно прилежно полагалось молиться в этой церкви, поскольку они заботились о ней и в ней похоронены. В этом синодике говорится, что первыми «создателями» церкви Вознесения были «Михаил, Терентий, Михаил, Симеон, Иоанн иже прозванием Морозовых». Их имена не просто названы, а здесь же рассказывается, что каждый из них «в свое время» умер и похоронен в церкви Вознесения «на южной и северной стенах в настенных гробах». И не просто похоронен, но и изображен в настенной росписи: «И образы — подобие их, — и одежды, яковы носяху, написаны суть и внутрь постороне южных церковных дверей, в написании том 17 лиц». Здесь же сообщается, что первый Михаил и был сподвижником Александра Невского. Те же сведения с описанием подвига Миши в Невской битве имеются и в родословце Морозовых, составленном в XVI веке.
Выходит, следовательно, что Миша — герой Невской битвы жил вовсе не на Неревском конце, а на Прусской улице, в совсем другом районе Новгорода. Но может быть, его потомство переселилось в Неревский конец? Нет, синодик перечисляет это потомство, называя совсем иные имена, нежели у наших Мишиничей. Дети и внуки Миши продолжают жить на Прусской улице; их и хоронят на Прусской улице.
А может быть, сведения цитированных источников недостоверны? В XVI и XVII веках бояре любили измышлять для себя знаменитых предков. Существует возможность кое-что проверить в показаниях этих источников. В числе ближайших потомков Миши назван Иван Мороз. Человека с таким именем хорошо знает древний, достоверный источник — Новгородская первая летопись XV века. В ней под 1413 годом сообщается, что Иван Морозов поставил каменную церковь Ивана Предтечи на Десятине. А Десятина, или Десятинный монастырь, непосредственно примыкала к Прусской улице. Значит, действительно потомки знаменитого Миши продолжали жить на Прусской улице и к Неревскому концу не имеют никакого отношения. Непосредственным предком Мишиничей был совсем другой Миша.
Поскольку сведений о нем у нас нет вовсе, сегодня достоверную генеалогию Мишиничей приходится обрывать на этом лице. Не зная его отчества, мы ничего не сможем сказать об имени его деда и более ранних предков. Однако, выйдя из области достоверного, мы имеем право и возможность высказать кое-какие предположения. Не нужно только забывать, что любому предположению очень далеко до точного вывода. Потомков знаменитого Миши погребали в церкви Вознесения. Могилы потомков нашего, незнаменитого Миши находились в другой церкви — Сорока мучеников. Лишь когда Юрий Онцифорович создал Колмов монастырь в конце XIV века, его соборная церковь стала родовой усыпальницей Онцифоровичей. Но если Мишиничи так тесно связаны с церковью Сорока мучеников, не стоит ли нам поближе познакомиться с историей этой церкви и с именами людей, имеющих к ней отношение? Эта церковь была заложена в 1200 году. Летопись не называет инициатора постройки, но спустя тринадцать лет, под 1213 годом так рассказывает об окончании строительства: «Того же лета, волею божиею, съверши церковь камяну Вячеслав Прокшиниць, вънук Малышев, Святых 40; а дай бог ему в спасение молитвами святых 40». На этом деятельность Вячеслава не закончилась. Под 1227 годом летописец сообщил, что Вячеслав, Малышев внук, расписал ту же церковь.
О Вячеславе Прокшиниче летописец знает не только как о строителе интересующей нас церкви. В 1224 году он был членом новгородского посольства к князю Юрию Всеволодовичу. В 1228 году он был новгородским тысяцким. А 4 мая 1243 года умер в монашеском чине под именем Варлаам в Хутынском монастыре.
Летописцу известен и большой круг его родственников. В 1247 году в том же Хутынском монастыре и тоже в монашеском чине под именем Анкюдин умер сын Вячеслава Константин Вячеславич. В 1219 году во время очередного столкновения в Новгороде был убит брат Вячеслава Константин, которого летопись прямо называет жителем Неревского конца. Под 1228 годом упоминается другой брат Вячеслава — Богуслав. Хорошо известен и отец Вячеслава Прокша Малышев, судьба которого стала образцом для его сына и внука. Летопись под 1207 годом сообщает о Прокше следующее: «В то же лето преставися раб божий Парфурий, а мирьскы Прокша Малышевиць, постригся у святого Спаса на Хутине, при игумене Варламе; а покой, господи, душу его».
У нас нет возможности сомкнуть Малышевичей и Мишиничей в одну цепь генеалогических связей: в середине — второй половине XIII столетия сведения о том и другом роде прерываются на полвека. Но мы уверенно можем утверждать, что на рубеже XII–XIII веков комплекс усадеб, хозяевами которого спустя сто лет были Мишиничи, принадлежал Малышевичам. Чтобы убедиться в этом, нам нужно вернуться на старый Неревский раскоп.
Еще в 1954 году во время раскопок усадеб «А» и «Г», расположенных к северу от Холопьей улицы, подряд были найдены две грамоты № 114 и 115. Первая обнаружена в слоях шестнадцатого яруса, который датируется 1197–1224 годами. Вторую, более древнюю извлекли из напластований семнадцатого яруса с дендрохронологической датой 1177–1197 годы. Грамота № 114 оказалась целым, хотя и очень коротким письмом:
«От Богош ко Уике. Водай гривену исту».
«Истом» назывался отданный в долг основной капитал. Возвращать его нужно было с процентами. Здесь Богош, написавший Уику свое распоряжение, процентов не требует.
Грамота — № 115 — оборвана: «От Прокошь к Ньстьру. Шьсть гр… плати, а вире не плати, а Домит… зь на плоть, а Жиро… льи…».
Для нас в этих двух грамотах важнее всего имена. В более ранней — Прокош, в более поздней — Богош. С этими именами мы имели дело только что. Прокош, иначе Прокша, — это Прокопий. Богош, иначе Богша, — Богуслав. Но ведь как раз в то время, к которому относятся эти две грамоты, в Новгороде, на Неревском конце, жили сначала Прокша Малышевич, а потом его сын Богуслав — Богша Прокшинич. Не их ли автографы попали в руки археологов в 1954 году?
Если эти сопоставления верны, то, даже не решая вопроса о связи Малышевичей и Мишиничей, мы имеем основание утверждать, что Малышевичи на рубеже XII–XIII веков распространяли свое влияние на значительный район Новгорода, от церкви Сорока мучеников до усадеб на Холопьей улице, тогда как в XIV–XV веках этот же участок принадлежал Мишиничам. Иными словами, картина городского землевладения новгородских бояр, установленная для XIV–XV веков, обретает характер традиционности.
Почему это наблюдение представляется нам очень важным? Попробуем вместе разобраться в одной необычайно сложной проблеме.
Если один боярский род владел на территории Новгорода значительным комплексом усадеб, то есть большим районом города, а в этом районе кроме самих бояр жили многочисленные представители самых разнообразных сословий Новгорода, значит подавляющее большинство населяющих эти усадьбы людей жило не на своей земле. Все эти люди находились я разных формах зависимости от владевших комплексом усадеб бояр. Вместе с тем боярский род, увеличиваясь с течением времени, сохраняет единство, которое проявляется в совместном владении комплексом этих усадеб. Такая организационная ячейка общества называется патронимией, она носит на себе очевидные черты пережиточности, восходя к древней большой семье. Разумеется, существо этой организации в условиях феодализма было уже иным. Однако классовое общество склонно бывает не только сохранять, но даже культивировать некоторые пережитки тогда, когда это ему выгодно.
Следовательно, если замеченная для XIV–XV веков форма действительно является традиционной, это и в самом деле патронимия. И нам нужно задуматься, почему она была выгодна боярскому обществу.
В том, что мы стоим на правильном пути, убеждают некоторые особенности планировки новгородских концов. Рассказывая о землевладении Мишиничей-Онцифоровичей в городе, мы заметили, что принадлежащий им комплекс усадеб со всех сторон окружен церквами, возникающими по инициативе владельцев усадеб. К району городских владений Мишиничей-Онцифоровичей примыкают четыре церкви: Сорока мучеников, Спаса, Козмы и Демьяна на Козмодемьянской улице, Саввы, образуя гнездо. Об одной группе церквей в Новгороде кем-то было сказано, что они «кустом стоят». Вот такой куст мы видим и вокруг усадеб Онцифоровичей. Но если внимательно рассмотреть план древнего Неревского конца, мы обнаружим на нем и другие подобные «кусты». К северу от комплекса изученных усадеб, на некотором расстоянии от них, имеется подобный же «куст» — церкви Козмы и Демьяна на Холопьей улице, Георгия, Якова и Мины. В том же конце существуют еще два подобных, но менее выраженных района. Не такие же ли это патронимии, как на Дмитриевской улице?
В этой связи интересно происхождение слова «конец». Мы привычно вкладываем в него значение окраины, части целого. Но в новгородских писцовых книгах при описании сельских местностей под словом «конец» подразумевают совокупность. «Концом» в них называется группа деревень, объединенных организационно, нечто вроде позднейшей «волости». Применительно к городским концам мы можем предположить, что ими называлась совокупность таких боярских гнезд, патронимии, изолированных одно от другого пустопорожними пространствами. А поскольку коней — обозначение изначальное, то, предполагая такой процесс, мы присутствуем при возникновении городской структуры Новгорода на заре образования этого города.
С развитием города пустопорожние пространства между первоначальными боярскими родовыми поселками застраивались. И самими боярами, и горожанами иных сословий. Здесь могло возникать и возникало городское землевладение иного характера. Отражением такой разницы, по всей вероятности, было существование рядом с кончанской административной системой в Новгороде сотенной административной системы. Концы объединяли боярские патронимии, а сотни — усадьбы горожан других сословий. Соответственно и посадник представлял бояр, а тысяцкий — начальник над сотскими — житьих, купцов и черных людей, сохранявших независимость. И хотя эти должности были представительными, бояре часто захватывали их, становясь сотскими и тысяцкими.
Почему же новгородские бояре культивировали патронимическую систему? Из истории Новгорода хорошо известно, что это был город, в котором на протяжении столетий не прекращалась вооруженная борьба. Но эта борьба даже в тех случаях, когда непосредственной ее причиной было классовое недовольство простых людей государственными порядками боярской республики, приобретала форму столкновения разных территорий Новгорода. Если борьба приводила к смене посадника, то в ходе столкновения на сторону наличных властей становился тот конец, родом из которого был правящий посадник. Другие концы выступали против него, выдвигая своих претендентов на этот пост. Концы Новгорода боролись друг с другом, создавая изменчивые блоки, а победителем в такой борьбе, в конечном счете, становилась та или иная группа бояр, утверждавшая своего ставленника на посадничьей степени. Во всех случаях конец выступал как цельная политическая единица.
Исследователей давно интересовал механизм политической борьбы в Новгороде. Была высказана, например, такая мысль. Разные районы города населяли люди разной социальной принадлежности. В одних местах жили бояре, в других купцы, в третьих ремесленники. Поэтому столкновение территорий отражает расстановку классовых сил в новгородском обществе. Эта мысль опиралась на особенности в названиях разных концов и улиц города. Полагали, что на Торговой стороне жили купцы, в Плотницком конце — плотники, в Гончарском конце — гончары, на Холопьей улице — холопы, на Щитной улице — ремесленники, изготовлявшие щиты, и т. д.
Археологические раскопки развеяли эту гипотезу. И на Торговой стороне, и на Холопьей улице открыты богатые боярские усадьбы, а следы ремесленного производства оказались характерными для любых участков древнего города. Более того, выяснилось, что и боярские хоромы, и ремесленные мастерские во многих случаях располагались на одних и тех же усадьбах. Иными словами, стало очевидным, что значительная часть простого населения Новгорода зависела от бояр больше, чем принято было думать. Эти люди не имели своих дворов, а вынуждены были жить на земле, принадлежащей боярам, составляя, таким образом, один из элементов боярской патронимии.
Патронимия была организацией политического единства боярского рода, а с помощью уличных и кончанских вечевых собраний — средством политического единства бояр целого конца. Но в то же время она препятствовала политическому объединению простого населения, например, ремесленников. Разделенное частоколами боярских усадеб и патронимических комплексов простое население было лишено возможности объединяться по профессиональному признаку. Именно поэтому в Новгороде не возникло ремесленных цехов, а купеческие организации объединяли лишь самых богатых купцов, уже превратившихся в феодалов.
Простое население патронимии испытывало, нужно думать, еще более сильный классовый гнет, нежели независимое население сотен, однако классовое недовольство боярских ремесленников и холопов всегда могло быть направлено их господами в нужное боярам русло. Вы недовольны условиями своей жизни, говорили бояре, но в ваших трудностях виноваты плохие правители. Их нужно свергнуть, а на их место посадить нас. Помогите нам в нашей борьбе за должность посадника или тысяцкого, а мы не забудем вашей помощи.
Схема народных восстаний в Новгороде на протяжении столетий однообразна. Простой люд поднимается на борьбу против усиления классового гнета, но, в конечном счете, оказывается помощником то одной, то другой боярской группировки, стремящейся утвердить во главе боярской республики своего ставленника. Таким образом, сама структура организации новгородского боярства препятствовала быстрому росту классового самосознания трудящегося населения. Лишь в XV веке, когда боярство в целом пришло к власти, организовав верховный орган республики с участием представителей всех патронимии, наступило всеобщее разочарование, направленное не против отдельных бояр, а против всего боярского сословия. Именно тогда впервые стали говорить обо всех боярах как супостатах «простой чади», о неправедном суде, об отсутствии закона. И тогда, в эпоху последнего столкновения боярского Новгорода с великокняжеской Москвой, республика бояр не нашла поддержки у «простой чади», отказавшейся воевать за своих господ.
Глава 17
Усадьба Феликса
Возвратимся теперь к берестяным грамотам. Уже в годы работ на Неревском конце территория находок древних берестяных писем раздвинулась далеко за пределы изучаемого раскопками квартала. В 1955 году грамоту нашли в Славенском конце Торговой стороны, на углу улиц Кирова и Первомайской. В 1956 году берестяная грамота найдена в Славенском конце, в котловане, выкопанном на углу улиц Большевиков и Московской. В 1958 году две грамоты нашел М. X. Алешковский при архитектурно-реставрационных раскопках у церкви Параскевы — Пятницы на Торгу. В 1959 году одну грамоту извлекли из строительного котлована на углу Садовой и Тихвинской улиц, в соседнем с раскопками квартале, а другую обнаружили около церкви Михаила Архангела на берегу Волхова в Славенском конце. В 1960 году еще одна грамота пришла из строительного котлована на Ильинской улице Славенского конца. В 1962 году берестяное письмо нашли в траншее у знаменитой церкви Петра и Павла в Кожевниках, в ближайших окрестностях Неревского крица. Наконец, еще две грамоты в 1957 и 1960 годах обнаружили в цветочных клумбах, земля для которых была взята из неустановленных с достаточной точностью мест. Шесть берестяных грамот из десяти найденных за пределами Неревского раскопа концентрировались в Славенском конце, демонстрируя тем самым и важные для нас особенности культурного слоя в этом районе Новгорода.
Отмеченное обстоятельство послужило одной из главных причин, окончательно определивших выбор нового участка раскопок, начатых в 1962 году и оконченных в 1967 году. Этот участок, имевший площадь около 800 квадратных метров, заложен в Славенском конце, на углу Первомайской и Ильинской улиц, в районе древней Ильиной улицы. Здесь исследовался мощный — до шести с половиной метров толщиной — культурный слой древнего городского района, расположенного в непосредственном соседстве с всемирно известной церковью Спаса на Ильине, сохранившей до наших дней гениальные фрески Феофана Грека, и рядом со Знаменским собором, основанном в XIV веке специально для хранения одной из главнейших новгородских реликвий — Знаменской иконы. Этой иконе легенда приписывала спасение Новгорода от войск Андрея Боголюбского в 1169 году.
Если говорить о количестве открытых на Ильинском раскопе грамот, то новый участок оказался менее щедрым. Здесь найдено сравнительно немного берестяных листов, всего двадцать одна грамота. Но зато по своему содержанию грамоты Ильинского раскопа могут быть поставлены в число самых интересных новгородских документов на бересте.
Вид с запада на участок Ильинского раскопа. На заднем плане церковь Спаса на Ильине улице XIV века, справа Знаменский собор XVII века.
Первое же письмо Ильинского раскопа — ему дали номер 413 — сообщило любопытные подробности новгородского быта XV века:
«Челобитье от Смена к попу Ивану. Чоби еси моего москотья моего пересмотреле, дадбы хорь не попортиль. А я тоби, своему осподину, челом бию в коробки. А послал есмь клучь Стопаном. А помитка горносталь».
Семен называет попа Ивана своим «господином», но, как это ясно из дальнейшего текста, в данном случае употреблена лишь вежливая формула, подобная позднейшим уважительным формулам русской переписки. Семен бьет челом попу Ивану «в коробке». Это значит, что Семен просит относительно какой-то коробки, ключ от которой он послал попу Ивану со Степаном. Степан, по-видимому, привез от него и это берестяное письмо. В коробке хранится какое-то «москотье», которое может попортить — если только еще не попортил — «хорь». За заботу о содержимом коробки Семен обещает попу Ивану в подарок горностаевый мех.
Что-то странное есть в этом письме, не правда ли? Хорь, или хорек, питается птицей и мелкими зверьками, которые вряд ли могут находиться в коробке под ключом. Объяснить содержание грамоты мог бы термин «москотье», но он встречен в древнем тексте впервые.
Имеется, правда, в договоре новгородцев с магистром Ливонского ордена, заключенном в 1481 году, такая фраза: «А приедет Новгородец на Ругодив с воском, или с белкою, или с москотильем…». Но эта фраза не объясняет ничего, кроме того, что загадочное «москотье» или «москотилье» было одним из важнейших товаров на международном рынке. Объяснить этот термин позднейшим понятием «москотильный товар» вряд ли возможно: так назывались красильные и аптечные припасы, употребляемые в разных ремеслах. Такие припасы никогда не играли важной роли в новгородской торговле с Западной Европой. К тому же и хорь вряд ли мог ими заинтересоваться без вреда для здоровья.
На помощь, как во многих случаях, приходит словарь В. И. Даля. В нем среди значений слова «хорь», кроме общеизвестного «хищный зверек» имеется еще и такое: «моль платяная». Вот теперь все встало на место. Можно догадываться, что «москотьем» назывались какие-то пушные товары, которыми Новгород на международном рынке действительно славился. Может быть, в понятие «москотье» входили также и кисти, что и породило впоследствии обозначение красильных припасов «москотильными»?
Как бы то ни было, а Семен просит попа Ивана пересмотреть его меха, хранящиеся в запертой на ключ коробке, — не начала ли их тратить моль? Но почему этим должен заниматься поп? На такой вопрос ответить очень легко. Мы и раньше знали, что каменные церкви в деревянном Новгороде служили не только для отправления обрядов. Они были надежными складскими помещениями, своего рода несгораемыми ящиками, которым доверяли различные ценности.
С расположенной по соседству церковью связана и вторая грамота Ильинского раскопа, найденная в слоях первой половины XIV века. Автор этой грамоты, получившей номер 414, некий Феликс обращался к Семену и Юрию с просьбой вложить в церковь какой-то прибыток «в весе», дав предварительно жене Феликса столько, сколько ей будет нужно. Эта находка открыла целую серию древних предметов, связанных с именем Феликса, который оказался владельцем раскалываемой усадьбы в первой половине XIV века.
Имя Феликса повторилось в грамоте № 415: «Поклоно от Фовронее к Филиксу с плацомо. Убиле мя пасынке и выгониле мя изо двора. Велише ми ехате в гоородо или сам поеди семо. Убита есемо».
Грамота № 414. Письмо Феликса.
Что и говорить, документ не из приятных. Пасынок избил Февронью и прогнал со двора. И теперь Феликсу предстоит решать, звать ли ему Февронью к себе в город или ехать самому наводить порядок в ее семье.
Разумеется, найдя только эти две грамоты, мы смогли бы установить, что усадьба Ильинского раскопа принадлежала какому-то Феликсу, но кем был этот Феликс вряд ли возможно догадаться, если бы не находка на его усадьбе одного не совсем обычного предмета. В слоях первой половины XIV века здесь была поднята свинцовая печать. На одной ее стороне изображен кентавр, или, как его называли на Руси, китоврас. А на другой все пространство печати занимала надпись в три строки, выполненная изящным почерком: «Печать Филиксова».
Находка свинцовой печати дала исключительно важные материалы для характеристики Феликса. Дело в том, что свинцовой печатью в средневековом Новгороде мог пользоваться далеко не всякий человек. Право скрепления официальных документов свинцовыми печатями было строго ограничено. В число лиц, пользовавшихся таким правом, входили князья и княжеские тиуны, архиепископы и владычные наместники, посадники, тысяцкие, «тиуны новгородские» и некоторые другие высшие должностные лица. Находка печати с именем Феликса говорила, что ее владелец принадлежал к высшей государственной администрации Новгорода. Его имя можно попытаться найти в письменных источниках. И такая попытка сразу же увенчалась успехом.
Печать наместника Феликса. Увеличено.
Договор Новгорода с немецкими купцами, заключенный 17 мая 1338 года, начинается следующими словами: «Да будет ведомо всем людям, которые эту грамоту слышат и видят. Приехали заморские послы, от Любека господин Маркворт фан Косфельде, от Готланда господин Венемер фан Эссен, а от великого князя Филипп, от новгородцев Андрей, и Филипп, и Павел, и Анисим, и Микула, наместник Феликс…». Эта грамота сохранилась лишь в немецком варианте, где титул Феликса записан в его искаженном русском звучании: «месеник». Если бы до нас дошел русский вариант, в нем наверняка было написано более определенно, чьим именно наместником был Феликс. Однако можно догадываться и по немецкому тексту, что он не был наместником великого князя: от имени великого князя в переговорах участвовал Филипп. Значит, он мог представлять интересы или архиепископа, или же светской республиканской власти Новгорода. Чьим же все-таки наместником он был?
Думается, что ответ на этот вопрос дает грамота № 417, найденная уже в 1963 году в слоях начала XIV века: «Приехав и(з) Заволоцея, носили серебро Климець с племенъм на заветре по Петрове дни. Носиле Фодорку Слепеткову с з братею. А серебром хо(ди)л Григорей Фларев, Давыд Попов, Матвей Кенище, Лука Онишков, Софрон М(а)шкин».
О чем здесь идет речь? Из Заволочья — так в Новгороде часто называли Двинскую землю — пришли с серебром какой-то Климец и его родственники на другой день после Петрова дня, то есть 30 июня. Это серебро они передали какому-то Федорку Слепеткову. И тут же перечислено все «племя» Климеца, ходившее за Волок. Чтобы разобраться в смысле этого необычного документа, сравним его с некоторыми статьями договорных грамот, которые Новгород заключал с приглашенными на новгородский стол князьями. Вот, например, ближайший по времени договор с тверским князем Михаилом Ярославичем, проект которого составлен около 1304–1305 годов: «…А се, княже, волости новгородьскыя: Волок со всеми волостьми… А судье слати тобе свое на Петров день, тако пошло… А за Волок ти своего мужа не слати, слати новгородца: а тобе серебро емати…»
За Волоком, в «новгородской волости», дани для князя собирались не княжескими людьми, а самими новгородцами, контролировавшими все доходы со своих колоний. За данью ездили не раньше Петрова дня. Любопытно что сбор дани на Петров день сохранялся в русской деревне в виде пережитка даже в начале XX века: к этому дню в деревнях накапливали разные припасы для пастухов, попов, бобылок и солдаток, типа грамота и является, по всей вероятности, памятной запиской о выплат княжескому уполномоченному надлежащей суммы заволочскои, то есть двинской дани. А если это так, то владелец усадьбы, раскапываемо Ильиной улице, имел какое-то отношение к сбору дани с Двинской земли. Однако мы уже знаем, что здесь жил наместник Феликс. По всей совокупности свидетельств о нем мы должны связывать с ним наместничество в Двинской земле.
Знакомство с собранными в Новгороде свинцовыми печатями древних пергаменных документов обнаруживает существование наместников новгородского архиепископа, ведавших целыми областями Новгородской земли Известны печати ладожских, новоторжских и двинских наместников архиепископа. Казалось бы, вопрос о том, чьим наместником был Феликс, легко решается ссылкой на эти печати. Феликс связан с Двиной, он наместник, существуют двинские наместники владыки — значит, Феликс и был владычным наместником на Двине. Однако в действительности вопрос далеко не так прост. Оказывается, Новгород выделял владыке в управление не больше одной области одновременно, причем сам выбор такой области определялся необходимостью скрепить их принадлежность Новгороду высоким авторитетом архиепископа. В 1282 году ладожане попытались отложиться от Новгорода, в ответ новгородцы сделали Ладогу наместничеством архиепископа. После событий 1316 года, когда спор между Новгородом и Тверью о Торжке достиг наивысшей остроты, наместничеством архиепископа вместо Ладоги стал Торжок. А когда с конца XIV века объектом борьбы между Новгородом и Москвой стала Двинская земля, вместо Торжка архиепископ получил в управление Заволочье. Значит, во времена Феликса двинскими делами занимался не владыка, а новгородские посадники, и сам Феликс был не владычным наместником, а наместником боярского правительства Новгорода.
Вот какую интересную усадьбу открыли археологи в Ильинском раскопе. В других собранных здесь грамотах было немало важных подробностей новгородского быта. Из грамоты № 420 мы узнали, сколько стоили в XIII веке бобровые шкуры: «От Панка к Захарьи и ко Огафону. Продал есмь сорок бобров Миляте на десяти гривн серьбра. Олна же взьмь серебро, тоже дай бобры. А дай серебро Захарьи». Найдя грамоту № 421, посочувствовали новгородцу XII века Братяте, которому пришлось уплатить громадную сумму в 20 гривен в виде штрафа за преступление, совершенное его скрывшимся от расплаты сыном Нежилой. Такая колоссальная сумма, равная килограмму серебра, как это показывает обращение к древнерусским памятникам законодательства, могла быть штрафом за нанесение серьезного увечья или за убийство неверной жены: «Пойди, сыну, домове, — пишет Братята Нежилу, — свободне еси. Паки ли не идеши, а послу на тя ябьтьник. А заплатил 20 гр(и)вен, а ты св(о)бо(де)нь» — «Пойди, сын, домой. Если же не пойдешь, пошлю за тобой ябедника. А заплатил я 20 гривен, а ты свободен». Напомню, что «ябедниками» в Новгороде назывались судебные приставы. Поскольку сын скрылся, Братяту заставили принудительно заплатить за него штраф. Теперь Братята узнал, где скрывается его преступный сын, и требует его к себе.
Осенью 1963 г. работы на Ильинском раскопе — он достигал тогда площади в 600 квадратных метров — остановились на уровне напластований начала XII века. Откровенно говоря, раздумывая о перспективах следующего года, мы не чувствовали твердой уверенности в том, что наступающее лето может значительно пополнить число берестяных грамот. Предстояло исследовать древнейшие пласты, отложившиеся в первые столетия истории Новгорода. В них можно было надеяться найти документы исключительной важности, поскольку известные сейчас русские письменные памятники тех времен вообще-то можно пересчитать по пальцам. А можно было и ничего не найти. На огромном Неревском раскопе за двенадцать лет работы обнаружено всего семь грамот, твердо датируемых XI веком, и из них только одна целая. Да еще семь грамот там датируются рубежом XI и XII веков. Но ведь на Неревском раскопе и исследованная площадь равнялась десяти тысячам квадратных метров, а здесь всего лишь шестистам — в шестнадцать раз меньше. Разделите семь на шестнадцать и вы увидите, как мало у нас было оснований надеяться.
И, тем не менее, надежды сбылись. В слоях XI века и самого начала XII века в 1964 году найдено еще шесть грамот. Правда, в пяти случаях это были мелкие обрывки, почти не дававшие материала для осмысления текста, но когда речь идет об XI столетии, каждое свидетельство грамотности драгоценно. Что касается шестого письма с порядковым номером 424, оно оказалось одним из наиболее значительных документов на бересте.
Берестяную трубочку извлекли из напластований начала XII века, где она лежала под прослойкой золы сгоревшего сруба. Огонь, уничтоживший постройку, опалил и письмо: выгоревшие места видны на его нижнем крае, к счастью — ниже процарапанных строк. Обгорел и верхний край грамоты, но здесь уничтожено лишь первое легко восстановимое слово, а следующие слова сохранили нижние концы букв и хорошо читаются. Письмо, как это показывает подсчет сгоревших букв, начинается с традиционного слова «Поклон», а дальше следует имя автора: «от Гюргея…».
«Поклон от Гюргея к отцеви и к матери». Гюргий пишет своим родителям — отцу и матери: «Продавше двор, идите же семо Смольньску ли Кыеву ли…» — «Продав двор, идите сюда, в Смоленск, или в Киев».
Грамота написана Гюргием не в Новгороде и не в Новгородской земле. Она прислана им из далекого Смоленска и проделала путешествие в 400 километров, прежде чем попасть в руки его родителей. Мы и раньше были знакомы с примерами такой дальней переписки. Напомню письмо, присланное Терентием из Ярославля, однако там был документ конца XIII века, а здесь на два века более ранний.
Гюргий написал грамоту в Смоленске, но сам он намеревается идти дальше, в Киев. Родители, продав свой двор, могут присоединиться к нему в Смоленске, но могут идти и в конечный пункт его путешествия. Зачем? Каковы причины такого решительного жизненного поворота? Почему нужно было ликвидировать хозяйство в Новгороде и переселяться на юг? Грамота дает самый недвусмысленный ответ на этот вопрос: «Дешеве ти хлебе» — «дешев хлеб». «Али не идете, — заканчивает Гюргий свое письмо, — а присъ(ли)те ми граматицу, сторови ли есте» — «Если же не пойдете, то пришлите мне грамотицу, здоровы ли вы».
«Дешев хлеб» — эти слова поставили нашу грамоту в один ряд с повторяющимися на многих страницах летописи сообщениями о частых недородах в Новгородской земле. Перелистаем несколько таких страниц.
1127 год. «На осень уби мороз верше всю и озимице, и бы голод и церес зиму, ржи осминка по полугривне».
1128 год. «В се же лето люте бяше: осминка ржи по гривне бяше; и ядяху люди лист липов, кору березову, инии молиць (мякоть дерева) истълокше, мятуце с пелъми (мякиной) и с соломою; инии ушь, мох, конину… а друзии разидошася по чюжим землям».
1137 год. «Не бе мира… ни с сужьдальци, ни с смольняны, ни с полоцяны, ни с кыяны. И стоя все лето осминка великая по 7 резан».
1161 год. «Стоя все лето ведромь, и пригоре все жито, и на осень уби всю ярь мороз… И купляхом кадку малую по 7 кун. О, велика скорбь бяше в людех и нужа».
1215 год. «И зая князь вершь на Торжку, не пусти в город ни воза… А в Новегороде зло бысть велми: кадь ржи купляхуть по 10 гривен, а овса по 3 гривне, а репе воз по 2 гривне; ядяху люди сосновую кору и лист липов и мох».
1230 год. «Изби мраз… обилие по волости нашей, и оттоле горе уставися велико: почахом купити хлеб по 8 кун, а ржи кадь по 20 гривен, а во дворех по пол 30, а пшенице по 40 гривен, а пшена по 50, а овсе по 13 гривен. И разидеся град наш и волость наша, а полни быша чюжии гради и страны братье нашей и сестр, а останок почаша мерети. И кто не прослезиться о семь, видяще мертвеця по улицам лежаща, и младенця от пес изедаемы».
Число таких невеселых сообщений можно увеличить, здесь приведены наиболее яркие. Если мы выпишем их из летописи все, то в глаза бросится одно немаловажное обстоятельство: большинство сообщений о голодных для Новгорода годах падает на древнейший период — XI–XIII века. Позднее, в эпоху расцвета Новгородской республики, летописец лишь в редчайших случаях пишет о голоде. Новый документ относится к ранней эпохе, углубляя это наблюдение.
Можно с уверенностью говорить, что причиной хлебных затруднений в Новгороде XI–XIII веков были не плохие почвы, хотя новгородские почвы и малоплодородны. Такими же они в сущности остались и в более позднее время. Вряд ли следует думать, что XI–XIII века были менее благоприятными и в климатическом отношении. Причина, по-видимому, в том, что к древнейшему периоду пахотных земель в Новгороде было освоено гораздо меньше, чем в последующие столетия. Местная сельскохозяйственная основа города тогда была чрезвычайно узкой и дополнительным источником снабжения новгородцев хлебом оставалась торговля с южными соседями: Смоленском, Киевом, Суздалем, Полоцком. Не случайно разлад с этими городами всякий раз связывается летописцем с возникновением хлебного кризиса в Новгороде. Лишь широкое освоение пахотных земель во второй половине XIII–XV веках, создавшее основу могущества Новгородской республики, сделало Новгород независимым от ввоза хлеба извне.
Елена Александровна Рыбина, исследуя найденные при раскопках многочисленные предметы, ввезенные в Новгород из южнорусских городов, установила, что на конец XI века приходится перерыв в торговле. Между Новгородом и Киевом в это время возникли решительные политические разногласия, и пути торговли Новгорода с югом были блокированы киевскими князьями. В грамоте № 424, написанной на рубеже XI–XII веков, — живая иллюстрация к современным ей летописным рассказам. В Новгороде очередной неурожай и голод. И хотя в Смоленске и Киеве хлеб дешев, смоляне и киевляне не везут его в Новгород. Гюргий отправился на юг поискать там счастья. Он зовет своих стариков уезжать из Новгорода. Если не поедете, сообщите о здоровье, беспокоится он: ведь болезни всегда были спутниками голода.
Еще об одной находке на Ильинском раскопе нужно рассказать особо, хотя это и не берестяная грамота. В слое середины XII века обнаружена деревянная заготовка для маленькой иконки. На двух ее сторонах, обрамленных высоким бортиком, нет изображений. Их не успели сделать. А может быть, они и были сделаны, но полностью разрушились во влажной почве. Вместо изображений каждая сторона расчерчена на четыре четверти, и в каждой четверти помещены надписи. На одной стороне в верхнем левом углу написано: «Иесуса ту написить», в верхнем правом: «Богородицу», в нижнем левом: «Онуфрия ту написи», в нижнем правом: «Феодора Тирона». На другой стороне также четыре надписи. В верхнем левом углу: «Михаила», в верхнем правом: «Евана», в нижнем левом: «Климента», в нижнем правом: «Макария». Впервые мы познакомились с заказом художнику. Заказчик назвал святых, каких он хотел бы видеть на маленькой походной иконке.
Мы не знаем, кем был автор письма Гюргий и кто заказал художнику иконку. Трудно сказать также, принадлежали ли они к числу предков жившего на полтора-два века позднее Феликса. Такие связи возможно улавливать лишь при обилии берестяных документов во всех ярусах раскапываемой усадьбы. Не знаем мы и «степени родства» с усадьбой Феликса еще одной знаменательной находки 1964 года.
К концу лета раскоп был исчерпан и доведен до материка. Работы начались на новом участке, примыкающем к старому с запада. И здесь, уже в самом начале систематических работ, при расчистке слоев рубежа XIV–XV веков, экспедиция обнаружила фундаменты и остатки каменной кладки древнего здания. Вся восточная стена этого здания, сложенного из розового известняка, оказалась внутри раскапываемого участка. А восточная стена всегда важна для определения характера постройки: в церковных зданиях восточная стена снабжена алтарным выступом. Здесь такого выступа нет. Значит, это гражданская постройка. Значит, это еще один боярский терем, подобный терему Юрия Онцифоровича. Они и построены оба в одно и то же время. А если это боярский терем, то и принадлежал он, вероятно, человеку с не менее громким именем, чем имя посадника Юрия Онцифоровича. Раскопки терема продолжались два года. Были выявлены все детали его планировки, расчищены остатки кирпичных и деревянных полов в нем. Но не найдено ни одной берестяной грамоты, раскрывающей имя его владельца. Остатки терема было решено сохранить и не вести под ним раскопок. Может быть, эти сохраненные для будущих исследований слои когда-нибудь и назовут имя человека, жившего в каменном доме Ильине улице.
Остатки каменного терема на Ильинском раскопе.
А пока мы можем довольствоваться только предположениями. Эти предположения очень неточны, но рассказать о них стоит.
Историкам и искусствоведам давно известна обнаруженная в Новгороде в прошлом веке икона «Молящиеся новгородцы», украшающая сегодня экспозицию Новгородского музея. На этой иконе в верхней ее половине изображен сидящий на престоле Христос, по сторонам его Богородица, Иван Предтеча, архангелы Михаил и Гавриил и апостолы Петр и Павел. А в нижней половине — обращающаяся к ним с молитвой боярская семья: шестеро взрослых мужчин, одна женщина и двое младенцев Исследователи уже оценили значение этой единственной в своем роде иконы. Ведь на ней современник передал не только лица известных ему людей, но и подробности их причесок, детали их одежды и обуви. На нижнем поле иконы имеется надпись: «В лето 6975 индикта 15 повелением раба божия Антипа Кузьмина поклонение хрестианам». Икона «Молящиеся новгородцы», следовательно, написана в 1467 году по заказу какого-то Антипа Кузьмина. Но какое же отношение она может иметь к нашему Ильинскому раскопу?
Икона «Молящиеся новгородцы», 1467 год.
Продолжим чтение надписей на иконе. Посредине иконы, над головами молящихся новгородцев, еще одна надпись: «Молятся рабы божии Григорей, Марья, Яков, Стефан, Евсей, Тимофей, Олфим и чады Спаса и Пречистой Богородицы о гресех своих». Все взрослые члены молящейся семьи, как видим, поименованы. Но надпись содержит и еще одну важную деталь. Ту ее часть, где упоминаются Спас и Богородица, исследователи обычно понимают как указание на адресатов молитвы. Но грамматическая форма надписи недвусмысленна. «Рабы божии» молятся действительно Спасу и Богородице, но надпись-то именно молящихся называет «рабами божьими Спаса и Богородицы». Так могли написать, лишь тогда, когда хотели обозначить, в каком приходе молятся эти люди, иными словами, надпись указывает «адрес» изображенных на ней, людей. Значит, чтобы выяснить, где они жили, нужно отыскать приход, в котором одновременно были бы церкви Спаса и Богородицы.
В Новгороде был только один такой приход. В него входили две, стоящие рядом церкви: Спаса на Ильине улице и Знамения Пречистой Богородицы. Но ведь как раз в пределах этого древнего прихода и заложен Ильинский раскоп, где обнаружена усадьба с воздвигнутыми да ней в конце XIV или начале XV века каменными хоромами. Разумеется, в этом приходе были и другие; усадьбы. Икона может и не быть; прямо связанной с комплексом, исследованным в 1962–1967 годах. Но мы теперь хорошо знаем, что основой городской боярской организации была; патронимия, а это увеличивает шансы близкого родства нашей усадьбы и знаменитой иконы.
Иконе «Молящиеся новгородцы» свойственна одна странность, до сих пор ставящая исследователей в тупик. Она написана в 1467 году. Спустя одиннадцать лет Новгород потерял самостоятельность и был присоединен к Москве. А спустя еще несколько лет Иван III, решив окончательно разделаться с любыми возможностями противодействия ему со стороны новгородских феодалов, произвел так называемый «вывод». Он принудительно выслал из Новгорода всех бояр и других крупных землевладельцев, расселил их по московским городам, а на их место прислал москвичей. Вскоре была организована перепись Новгородских земельных владений с указанием, кому до «вывода» принадлежал тот или иной участок, село или вотчина. Казалось бы, в материалах этой; переписи — писцовых книгах — мы легко обнаружим всю изображенную на иконе боярскую семью. Однако ее там нет. В чем дело?
Обратим внимание еще на одну интересную деталь. Антип Кузьмин, давая заказ художнику, подобно своему предшественнику XII века, нужно думать, говорил ему: «Григория ту написить, Марью, Якова…». Но почему же он не добавил: «Антипа ту написить, Кузьму…»? Почему среди изображенных нет ни его, ни его отца?
Ответ на все эти вопросы, как мне кажется, дает одно обстоятельство, — бросающееся в глаза. В надписи иконы поименованы только взрослые участники моления. Дети имен не имеют и обозначены просто: «чады». Дети не имели христианских имен до тех пор, пока не были крещены. Почему же не крещены эти «чады»? Не успели их крестить? Но это можно бы сделать, пока писалась икона. Не могли их крестить только в одном случае — если они к тому времени умерли. Но тогда понятны и все остальные странности иконы. На ней изображены не живые люди, а люди, к 1467 году уже умершие. Они, в отличие от заказчика иконы Антипа, находятся около престола божества и молят не только о своих собственных грехах (какие могут быть грехи у умерших сразу после рождения младенцев!), но и об оставшихся на земле родственниках. Если это так, значит в 1467 году был жив не только Антип, но и его отец Кузьма. А новгородцев, изображенных на иконе, и в самом деле нет никакого смысла искать в писцовых книгах конца XV века. Они жили в середине, а может быть и в первой половине XV века.
Попробуем проверить этот вывод. В 1475 году, когда в Новгород приехал Иван III, его встречали все новгородские бояре, имена которых сохранил летописец. В их числе было трое с именем Кузьма. Из этих троих Кузьма Феофилатов и Кузьма Остафьевич Грузов жили на Софийской стороне, а Кузьма Овин — на Торговой. Между тем Кузьма Овин, как и его родной брат посадник Захарья Овин, были детьми Григория, в котором с наибольшей вероятностью можно предполагать посадника Григория Кирилловича Посахно, владельца знаменитого в истории русского прикладного искусства серебряного ковша. Если наши сопоставления верны, то изображенный на иконе «Молящиеся новгородцы» Григорий и есть Григорий Посахно. И не исключено, что он был потомком Феликса и одним из первых владельцев открытого на Ильинском раскопе каменного терема.
Глава 18
…и книжка с картинками
В конце раскопок 1952 года экспедиция провожала уезжавшего в Москву Артемия Владимировича. На вокзал пришли в полном составе — что-то около ста человек студентов и сотрудников, у которых на счету было уже свыше восьмидесяти берестяных грамот, а в перспективе сотни новых находок. И пока не отошел поезд, сто человек дружно скандировали: «Сто грамот найдем!». А кто-то добавил: «И книжку с картинками!».
Над этим пожеланием тогда весело посмеялись. Но в нем, в сущности, не скрывалось ничего несбыточного. О том, что на бересте писали книги, ведь было хорошо известно гораздо раньше, чем найдена первая берестяная грамота. Почему бы в земле не оказаться такой книжке? Или хотя бы обрывкам такой книжки, отдельным ее тетрадям или страницам? Когда мы представили себе реальность такой находки, у всех даже дух захватило. И, в частности, вот по какой причине.
Известно, что в древней Руси рядом с официальной книжной культурой, насквозь пронизанной элементами церковного мироощущения, развивалась светская культура, отразившаяся и на страницах официальных летописей, и в рассказах о деяниях святых подвижников, но в основном жившая вне стен монастырских библиотек и смыкавшаяся с поэтическим устным народным творчеством. Светская литература древности поддерживалась главным образом изустно, но она имела и письменную традицию, сохранившую для нас редчайшие свои драгоценности. Редкость памятников древнерусской светской литературы объясняется двумя причинами. Во-первых, светские книги бытовали главным образом в светской среде, то есть в деревянном доме, а не в каменном укрытии церкви или монастыря. Значит, и горели они в пожарах чаще, чем духовные книги. А во-вторых, при фантастической дороговизне книг их изготовление в монастырях направлялось в значительной степени «социальным заказом» того времени: переписка светских книг — кроме летописей — в стенах монастырей не была желательной для средневековых ревнителей благочестия.
А если так, значит именно берестяная книга могла быть главной опорой письменной традиции в развитии светских жанров древнерусской литературы. Значит, именно на бересте можно надеяться прочитать в будущем новые литературные шедевры древности.
Лето 1953 года началось с твердой уверенности, что «сто грамот и книжку с картинками» обязательно найдем. Однако выполнить первую половину этого пожелания оказалось много легче, чем его вторую, столь заманчивую часть. Сто грамот было найдено уже в 1953 году, в 1956 году их число перевалило за двести, в 1957 году их уже более трехсот, в 1961 году одной из очередных находок дан четырехсотый номер. А вот книжек что-то не находилось. И даже листов из книг в числе грамот отметить было невозможно.
Постепенно складывалось убеждение в том, что книжек, а тем более с картинками, в мире исписанной бересты искать безнадежно. Целиком их не выбрасывали. Во время пожара вместе с иконами не выносили. А если и раздирали на листы, то, может быть, раз в сто лет, не чаще. Только дважды выдался случай снова помечтать на тему, родившуюся в 1952 году на новгородском вокзале: когда в 1956 году нашли рисунки Онфима и когда в 1957 году мы прочли письмо Якова куму и другу его Максиму с просьбой прислать ему «чтения доброго». Эта просьба лишний раз напомнила о существовании мало изведанного мира литературных образов древней Руси. За строчками письма Якова, мы, вместе с ним жаждавшие «чтения доброго», увидели библиотеку Максима Онцифоровича, в которой среди дорогих пергаменных книг были, наверное, и дешевые берестяные.
Возобновлявшиеся каждый год работы не давали новой пищи надеждам, и лозунг «Найдем книжку с картинками!», когда-то популярный в Новгородской экспедиции, полинял и повыцвел. И когда этот лозунг давно уже и вспоминать перестали, когда с момента его провозглашения прошло целых одиннадцать лет, в 1963 году на Ильинском раскопе среди других документов на бересте мы как-то так, между прочим, нашли и берестяную книжку.
Да-да, самую настоящую книжку. Она не была громадным фолиантом в пуд весом, который когда-то снился кое-кому в экспедиции. Напротив, книжка была почти невесомой. Ее можно спрятать в ладони. Это была настоящая «книжка-малышка» размером всего-навсего пять на пять сантиметров. И число страниц в ней невелико — двенадцать. Но все же это самая настоящая книжка, написанная и потерянная во второй половине XIII века. Включив ее в общую нумерацию берестяных грамот, мы дали ей номер 419.
Берестяная книжка конца XIII века.
В книжке три двойных листа, сохранивших следы прошивки по краю. Первые четыре страницы — пустые. Это как бы обложка, предохранявшая текст. Следующие семь страниц сплошь исписаны. Последняя страница снова пустая, она служила задней обложкой. В начале первой исписанной страницы виньетка — простенький узор из переплетающихся лент, подражающий нарядным заставкам пергаменных книг. Можно поэтому, не кривя душой, утверждать, что найдена не просто книжка, а именно «книжка с картинкой».
Вот только текст первой берестяной книжки оказался мало интересным — это наиболее трудные части пространной вечерней молитвы. Записанная на бересте вечерняя молитва исполнялась редко. Ее пели по воскресеньям один раз в восемь недель. И книжка служила своему владельцу как бы шпаргалкой. Владелец книжки не был, по-видимому, духовным лицом. В этом убеждают отдельные ошибки в записи, сделанной со слуха. Он любил музыку и пел в церковном хоре.
Ну что же! На 500 берестяных грамот только три или четыре религиозных текста — не так уж много, принимая во внимание распространенное до находки берестяных грамот представление об исключительно поповской принадлежности грамотности в древней Руси.
Теперь мы хорошо знаем, что земля сохраняет не только берестяные письма и записки, но и берестяные книги. И мы теперь снова надеемся, что в необозримых берестяных архивах, которые станут одним из основных источников для будущих историков русского средневековья, заметное место займут древние берестяные книги. И тексты этих книг донесут из глубины веков не только слова молитв, но и вдохновенные строки поэтов.
Глава 19
Немного о торговле
В предыдущих главах уже говорилось, как резко изменили результаты раскопок устоявшееся представление о месте дальней торговли в экономике средневекового Новгорода. В берестяных грамотах заморские товары упоминаются крайне редко, в сотни раз реже, чем земля и связанные с ней обстоятельства жизни и быта. И тем не менее, невозможно сомневаться в том, что торговля составляла одну из существенных основ новгородской экономики. В этом, в частности, убеждает знакомство с многочисленными древними вещами, собранными в ходе раскопок. Привозные предметы исчисляются в коллекциях Новгородской экспедиции многими сотнями экземпляров. Просто купеческие комплексы пока ускользали от археологов. Потом такие комплексы были обнаружены. Но прежде чем рассказать о них, познакомимся, хотя бы и очень бегло, с тем, что сообщают о дальней торговле сами привезенные из-за рубежей Новгородской земли предметы.
Читатель уже достаточно хорошо знает, что своей сохранностью древние новгородские вещи обязаны особенностям культурного слоя, идеально консервирующего предметы, которые изготовлены из различных органических веществ. Однако этих предметов не найти в музейных экспозициях. Мы увидим в музейных витринах каменные литейные формы и иконки, стеклянные бусы, металлические инструменты, железные замки и ключи… Когда мы спросим о вещах, изготовленных из дерева, тканей, кости, кожи, нам покажут берестяные грамоты и костяные украшения. Но нам не доведется увидеть деревянных ковшей и ложек, остатков механизмов, веретен, деталей мебели, санных полозьев, лодочных шпангоутов, детских колыбелей — подавляющего большинства найденных при раскопках вещей. Мы только на картинках в археологических изданиях проникнем в открытый раскопками причудливый мир образов средневекового прикладного искусства, расселившихся на деревянных поверхностях наличников и кресел, тарелок и ложек, на рукоятках ковшей, на копылах саней, на резных колоннах крылец. Вот только деревянные гребни найдутся в любой витрине, посвященной древнему Новгороду.
Когда археологи говорят, что древние предметы сохраняются «идеально», они не всегда вкладывают в это слово исчерпывающий смысл. Идеальная сохранность новгородских вещей означает, что в момент находки, сразу после извлечения из земли, древние предметы полностью сохраняют свою изначальную форму. Их можно сфотографировать и нарисовать во всех нужных ракурсах. Однако от музейной витрины такие вещи отделены долгим и трудным путем. Древний деревянный предмет, побывав во влажной почве, столетиями пропитываясь этой влагой, попав на воздух, начинает быстро сохнуть. Он коробится, трескается и, наконец, навсегда теряет форму. Чтобы сохранить его, нужны сложнейшие приемы консервации, на протяжении многих десятилетий не удовлетворявшие исследователей. Только в самые последние годы найдены надежные и дешевые методы сохранения древних деревянных предметов. А пока такие методы не были разработаны, тысячи добытых при раскопках деревянных вещей продолжали свою жизнь, подобно рыбам, в специальных аквариумах в ожидании будущей консервации. Почему же гребням повезло больше, чем другим вещам, если они сразу отправлялись в музейные витрины?
Оказывается, деревянные гребни не нуждаются в сложной консервации. Они и на воздухе быстро высыхают, не изменяя своей формы. Их многочисленные тонкие зубцы не коробятся и не трескаются, а если гребень украшен орнаментом, его причудливые линии и сегодня остаются такими, какими их вырезал новгородский мастер шестьсот или восемьсот лет тому назад.
Загадка гребней была решена тогда, когда их исследованием занялись ботаники-лесоведы. Выяснилась, на первый взгляд, совершенно невероятная вещь: материалом для новгородских гребней служил самшит, а это дерево растет за тысячу верст от Новгорода — на Кавказе. Может быть, в Новгород везли с Кавказа уже готовые гребни? Нет, при раскопках обнаруживались и заготовки для гребней, свидетельствующие об их местном производстве. Да и сам их орнамент местный, новгородский.
Или вот янтарь. В Новгороде при раскопках постоянно встречаются отходы янтарного производства: осколки, испорченные при сверлении бусы, расколовшиеся под ножом мастера крестики, негодные в дело куски окаменевшей смолы. Но янтаря близ Новгорода нет. И везли янтарь, чтобы сделать из него украшения, сначала из Поднепровья, а потом из Прибалтики с ее знаменитыми до сегодняшнего дня месторождениями.
И хотя при раскопках найдено немало предметов, изготовленных или собранных далеко за рубежами Новгородской земли — к ним относятся некоторые ткани, грецкие орехи, вино, от которого, к сожалению, в земле сохраняются лишь осколки больших глиняных корчаг, — основным двигателем торговли Новгорода с дальними странами была потребность новгородского ремесла в сырье.
Конечно, не янтарь, и не самшит составляли основу сырьевого импорта. Заметим, что Новгородская земля полностью лишена запасов собственного металлического сырья. Только железо в виде болотных и луговых руд распространено в ней практически повсеместно, везде, где в ручьях и болотах железные окислы бурой ржавчиной оседают на дне и корнях растений. Ни меди, ни свинца, ни олова, ни серебра, ни золота, ни ценных поделочных камней новгородская почва не знает. Это сырье, дающее жизнь ремеслу, нужно было ввозить. Поэтому любая вещь, произведенная из меди, серебра или свинца, свидетельствует не только о местном производстве, но и о международном обмене.
По письменным документам известны многие месторождения полезных ископаемых, откуда начинался их долгий путь в Новгород. В списке торговых партнеров Новгорода — германские города, Венгрия, Англия, страны Скандинавии, Фландрия… Раскопки детализируют карту международных контактов Новгорода, порой нанося на нее новые линии торговых связей. Расскажу об одной такой находке.
Летом 1965 года раскопки велись в непосредственной близости к обнаруженным на древней Ильине улице каменным хоромам рубежа XIV–XV веков. Покоились эти хоромы на валунном фундаменте, и мы уже привыкли натыкаться по соседству на отдельные валуны, не использованные в свое время для постройки. Археологическая точность требует, чтобы каждый камень был зачерчен и нанесен на план прежде, чем его удалят из раскопа.
Так было и на этот раз. Валун расчистили, нанесли на план и стали вытаскивать наверх. Но эта простейшая операция вдруг до крайности осложнилась. Землекоп, взявшийся за камень, не смог его приподнять, а когда валун общими усилиями взвалили на носилки, они затрещали и развалились…
Взвесив находку, мы выяснили, что сравнительно небольшой камешек весит 151 килограмм, но этот вес уже никого не удивил, поскольку еще в раскопе стало очевидно, что найден не очередной валун из фундамента, а слиток свинца. Он имел даже вырубку на боку, чтобы цеплять его канатом. На канате слиток, между прочим, и извлекли, в конце концов, из раскопа.
Свинец в Новгороде употребляли в немалых количествах. Больше всего его шло на церковные кровли. Как мы уже знаем, поблизости от Ильинского раскопа расположены две древние церкви. У церкви Спаса на Ильине улице свинцовой кровли никогда не было. Видимо, найденный в раскопе свинец предполагали использовать для построенной в 1354 году церкви Знамения.
Мы уже выяснили, что свинец в Новгороде был только привозной. Основываясь на общих наблюдениях над залеганием свинцовых руд в Европе, историки торговли и древней металлургии давно высказывали предположение, что свинец поступал в Новгород через Любек, но происходил из месторождений Венгрии и Англии.
Согласно международным договорам того времени, слитки металла обязательно клеймились. И вот слиток вымыт, клейма на нем хорошо видны. На одном — изображение одноглавого орла, увенчанного короной. На другом — буква К, тоже под короной.
Одноглавый орел. Их на монетах — двойниках клейм — целые стаи. Но у одних нет корон, у других короны иные. Иногда несходно оперение, порой различен весь стиль изображения. Геральдические таблицы проходят перед нами, как аллеи фантастического зверинца, в клетках которого щелкают хищные клювы небывалых птиц. И наконец — полное тождество, как у орлов, кричавших в раннем детстве в одном гнезде. У нас в руках монета Казимира Великого, короля Польши.
Другое наше клеймо — буква К под короной. И снова поиски приводят к монете Казимира. Два клейма, и оба — Казимира Великого, правившего Польшей между 1333 и 1370 годами, как раз в то время, когда новгородцы строили Знаменскую церковь и запасались свинцом для ее кровли.
Свинец из Польши! Это нечто новое на карте торговых связей Новгорода. А может быть, клейма случайны? Может быть, Казимир, перепродав русским тот же венгерский или английский свинец, сорвал малую толику в свою пользу на пути металла из туманного Альбиона в Новгород?
Маленький кусочек свинца был исследован с помощью спектрального анализа. Такой анализ выясняет состав рудной свиты, примеси других металлов, неповторимой для каждого месторождения. Анализ произведен, и его результат недвусмыслен: металл слитка добыт в районе Кракова.
И еще одна, последняя проверка. Бели на слитке стоит клеймо, значит, этим клеймом удостоверяется и правильность его веса. Мы уже знаем, что наш слиток весит 151 килограмм. Соответствует ли это какой-нибудь средневековой весовой единице, принятой в международной торговле? Оказывается, соответствует. Как раз столько весил прусский шиффунт, иначе берковец, принятый в польской и восточно-балтийской торговле.
Вернемся к началу этой главы, где говорилось, что почти полное отсутствие на бересте свидетелей дальних купеческих операций объясняется тем, что раскопки не затронули еще собственно купеческих комплексов. И в то же время дается понять, что, будучи получателями импортируемого в Новгород сырья, ремесленники так или иначе были вовлечены в систему международных торговых связей. Но ведь многие ремесленники жили на боярских усадьбах, где, между прочим, обнаружены и многочисленные свидетельства таких связей в виде привезенного издалека сырья и разного рода зарубежных предметов. Международная торговля, следовательно, входила важной составной частью в комплекс экономики любой городской усадьбы. Может быть, не нужно специально искать особых купеческих дворов? Может быть, сами бояре — не Мишиничи, так другие — вели международные торговые операции?
Приглядимся попристальнее к механизму новгородской экономики, заглянув для этого в очень ранние времена истории Новгорода — в последние десятилетия XI века. Это чрезвычайно важное время в развитии русской торговли, которое все исследователи признают моментом перехода ремесла от изготовления своих продуктов на заказ к изготовлению их на рынок.
Археологи распознают этот процесс по очень точным, хотя порой и не бросающимся в глаза признакам. Возьмем, к примеру, такую простую вещь, как кухонный нож. Ножи XII века внешне не отличаются от ножей XI века, но с точки зрения производственной технологии это абсолютно несхожие предметы. Нож XI века изготовлялся так называемой техникой «пакета». Его рабочая часть кропотливо сварена из трех полос: между железными щечками помещалось стальное лезвие. Уже тогда существовал открытый вновь в XX веке принцип самозатачивающегося инструмента: в процессе работы железные щечки постепенно стирались, все более и более обнажая стальную сердцевину. Нож изготовлялся на заказ и служил хозяину до тех пор, пока полностью не стачивался.
В XII веке к железной полосе приваривался узкий стальной край — рабочая часть ножа. Стоило ей лопнуть или стереться, нож нужно было выбрасывать. Внешне это производит впечатление упадка производственной технологии. Но в действительности отражает прогресс в экономике. Ремесленнику уже некогда возиться с качеством своей продукции. Он должен изготовить ее как можно больше. Ему приходится удовлетворять не потребности отдельных заказчиков, а возросшие аппетиты рынка. Пусть будет похуже и подешевле, но — главное — побольше!
Подобные явления свойственны в это время всем ремеслам, в том числе и тем, которые работают на привозном сырье. Расширение производства приносит определенные выгоды самому ремесленнику, но, коль скоро производство растет, ему нужно больше сырья. Он, естественно, покупает его не там, где живет и работает, а на торгу, у людей, занятых закупками такого сырья с выгодой для себя, у купцов, плавающих за море.
Купцы везут в Новгород все больше и больше сырья. Но любой ввоз требует эквивалентного вывоза товаров, которые сами купцы не производят. Знакомясь с особенностями спроса международного рынка, мы без особого труда сможем установить, что больше всего этот рынок нуждался в разного рода промысловых продуктах — мехах и ценной рыбе, меде и воске — тех продуктах, на которые мы вдоволь насмотрелись, побывав на боярских усадьбах. И не случайным кажется теперь, что именно во второй половине XI века происходит активнейшее освоение Новгородом северных земель, колоний, богатых мехом и рыбой, воском и медом. И это освоение ведется под эгидой бояр.
В механизме новгородской экономики, как в шестеренке, сцеплены все его колеса. Ремесленники трудятся, купцы поставляют им сырье, бояре снабжают купцов продуктами экспорта. И именно бояре, владеющие исходным запасом богатств, получают и наивысшую прибыль от работы всего механизма. Ведь именно на рубеже XI и XII веков новгородское боярство добивается торжества в антикняжеской борьбе, создав органы собственной власти над Новгородом. Повернулось маленькое колесико — ремесленник понес свою продукцию на рынок. Пришло в движение колесико побольше — торговля потребовала завоевания новых областей. И вот уже наверху, подобно кукушке в часах, выглянул боярин и прокуковал о захвате им власти.
Усадьба боярина поэтому демонстрирует нам лишь начальный и конечный результат работы всего механизма. Купец, специализировавшийся на международной торговле, составляет немаловажную деталь того же механизма, но он живет на собственном дворе. И если мы хотим изучать Новгород всесторонне, нужно найти и эти дворы богатых гостей.
Впервые мы вошли на такой двор в 1967 году, когда начались раскопки на территории новгородского телецентра, на Торговой стороне, неподалеку от древнего Торга. Котлован раскопа был заложен у самого подножия ретрансляционной башни и на глубине двух метров вошел в слои XIII века. Этот сравнительно небольшой раскоп площадью около 200 квадратных метров захватил только небольшую часть древней усадьбы, вернее — двух усадеб, поскольку его пересекала мостовая небольшой улицы. Но одна из этих усадеб оказалась необычной.
Начать с того, что в слоях XIII века на ней было собрано свыше тысячи маленьких кусочков янтаря, говорящих о несомненном наличии здесь янтарного производства. Здесь же обнаружена маленькая итальянская камея великолепной работы XIII века с изображением Мадонны. И, кроме того, девять берестяных грамот, датируемых тем же самым временем, что янтарь и камея.
Почитаем некоторые из этих грамот.
Берестяная грамота № 436. Она оборвана сверху и пострадала в пожаре: «…и пяте гривено осталося. А кланяюся, доняво серебра, при… язо ти, а путей…»
Берестяная грамота № 437 разорвана на пять несоединяющихся кусков: «…во восеме гривено… тых молодых коне… ечей в… законе… а дороге… доени… е по девяти резано… гривен…»
Здесь пока обычные, ставшие привычными для нас тексты. Взаимные расчеты, долги, резаны, гривны. Упоминаются, правда, «пути», «дороги», «молодые кони», но в непостижимых фрагментах.
Грамота № 438 дает больше, хотя она тоже сильно пострадала: «…40 резан. Подьшево 6-ре и 30, а в 30 резане… гр (и) вна. В пьрвое коробее на 12 гр(и)вне, а другее коробее дробь… (п)о резане, а большее по 3 резане ножевы 50. Полъгр(и)вне головице… м 2 гр(и)вне. На гребеньх гр(и)вна… (ко)жюхъм».
Перечислен и оценен разнообразный, главным образом кожевенный, товар: подошвы, головки сапог, но также гребни и шуба-кожух. В одной коробье лежит какого-то товара на 12 гривен, а в другой что-то помельче, «дробьное», ценой по одной резане, и побольше — ценой по 3 резаны. Это что-то тоже имеет отношение к обуви: «ножевые» значит «ножные». Больше всего это напоминает инструкцию приказчику-где какой товар лежит и сколько за него нужно требовать при продаже.
В грамоте № 440, дошедшей в крохотном обрывке, с кого-то требуют взять векшу. А в грамоте № 442 Радил велит матери взять на 9 гривен полвоза ржи.
Но самой интересной оказалась грамота № 439, сохранившаяся целиком с утратой только имени автора:
«…ко Спироку. Оже ти не возяло Матеека пи, воложи ю со Прусомо ко мне. Язо ти олово попродале и свинеце и клепание вохо. Уже ми не ехати во Сужедале. Воску куплены 3 пи. А тобе пойти суда. Воложи олова со четыри безмене, полотенеца со дова череленая. А куны прави сопроста».
Прежде чем перевести грамоту, остановимся, на трудных местах ее текста. Слово «пи», конечно, не имеет никакого отношения к известному математическому понятию, но его нет и в словарях древнерусского языка. Это как раз тот самый случай, когда с древним словом мы встречаемся впервые в берестяном письме. Обратим внимание, что это, как прямо следует из текста документа, единица измерения воска. А воск в древности измерялся кругами — большими кусками круглой формы. Ю. С. Елисеев нашел разгадку этого слова в карельском языке. По-карельски «пи» значит «голова». Вспомнив, что «головами» или «головками» измеряется также сыр, мы легко поймем теперь, что речь в грамоте идет о «головах» воска определенного размера и веса.
«Клепанием» назывались какие-то поковки. «Вохо» — одна из местных форм слова «всё». «Безмен» в данном случае не разновидность весов, а единица веса, равная двум с половиной фунтам, то есть примерно около килограмма. Очень трудное место текста: «полотенеца со дова череленая». Поскольку речь идет о металле, то под «полотенцем» можно понимать только плоские листы олова. Но «червоным оловом» в польском языке называют сурик, английское название которого на русский язык дословно переводится так же, как «красный свинец». Может быть, в полотенца упаковывалась эта краска, защищающая металл от ржавчины?
Теперь переведем письмо: «…ко Спироку. Если ты не взял пи Матейка, вложи ее с Прусом ко мне. Я тебе олово продал и свинец, и клепание все. Мне уже не надо ехать в Суздаль. Воску куплены 3 пи. А тебе нужно пойти сюда. Вложи примерно 4 безмена олова, примерно два полотенца сурика. А деньги собери поскорее».
Хотя имя автора письма и не сохранилось, мы хорошо видим этого человека в его хозяйственных заботах, отнюдь не похожих на заботы многочисленных уже известных нам бояр. Он продает олово, свинец, клепание. Он покупает воск. Он ради своих торговых операций совершает далекие поездки в Суздаль и доволен, когда можно без таких поездок обойтись путем взаимных расчетов. Вся его сложная, отраженная в грамоте № 439 торговая операция прямо связана с литейным делом и металлообработкой. Ведь даже воск был необходимой принадлежностью литейного ремесла: по восковой модели отливали бронзовые вещи. Но он не ремесленник. Будь он мастером-литейщиком, вряд ли ему пришло бы в голову продавать Спироку весь запас цветного металла.
И вот что еще интересно. Вся группа поименованных в грамоте лиц тесно связана друг с другом. В грамоте обсуждаются вклады куда-то, которые должны совершить все участники дела. Матейкову «пи», если Спирок еще не взял ее у него, нужно взять и «вложить» к автору письма.
Прорись берестяной грамоты № 439 — документ из переписки купцов-складников XIII века.
Еще три «пи» воску куплены этим автором, вероятно, для себя, Спирока и Пруса. Кроме того, Спирок должен еще «вложить» олово и сурик. Вся эта система взаимных услуг демонстрирует, по-видимому, организацию купеческого товарищества «складников», ведущих совместные торговые операции. А собирание «вклада», как можно предполагать, говорит о том, что все они были членами купеческой «сотни», куда кроме вступительного взноса требовалась также уплата ежегодного лая. Знаменитая новгородская купеческая гильдия «Иваньское сто» объединяла купцов-вощников. Не принадлежали ли к этому объединению и наши «складники»?
Мы должны отметить также большое разнообразие деятельности купца, над усадьбой которого ныне возвышается телевизионная башня. Он продавал металлы и покупал воск. Но он также торговал кожами и гребнями. На его дворе работал ювелир, резавший и шлифовавший янтарь. Будь раскоп побольше, мы смогли бы ближе познакомиться с этим человеком. Отложим это на будущее, до новых возможностей побывать на его усадьбе.
Еще к одному торговому комплексу экспедиция буквально прикоснулась летом 1971 года, когда небольшой раскоп был заложен на окраине новгородского торга, впервые освоенной на рубеже XII и XIII веков. Здесь найдены лишь четыре берестяные грамоты. Все они сохранились в обрывках. Некоторые из них, вероятно, были брошены прохожими или покупателями. Но одну — № 490 — следует процитировать целиком:
«…продажи. С три дни, в городи ако бихо, дало у дворо и ко складнику товоему. А ты ко мни нь явишися куни шити ношю».
Здесь прямо упоминается «складник», компаньон адресата грамоты. Но самое ее интересное место — в заключительной части письма: «А ты ко мне не явишься куны шить ночью?»
Что это за странное занятие — шить куны да еще ночью? Если речь идет о помощи скорняку, то шить куньи шкурки или кунью шубу из них, наверное, гораздо удобнее днем. Думается, что грамота имеет в виду совсем иное занятие. Документ относится к концу XIII или началу XIV века, а в это время кунами называли не только куньи меха как таковые, но и деньги. Зачем же нужно было шить деньги? Попробуем разобраться по порядку.
В одной из глав этой книжки рассказывалось, что чеканка серебряных монет в Новгороде началась только в 1420 году. За десять лет до этого нововведения в обращение были временно приняты иноземные, прибалтийские монеты, «а куны отложиша», — сообщает летописец. Иноземные серебряные монеты обращались в Новгороде и в раннее время — в X — начале XII века. А на протяжении всего XII, XIII и XIV веков роль монеты выполняли разного рода ее заменители — «товаро-деньги». Какие именно — этот вопрос волнует историков и нумизматов очень давно, но убедительного решения он не получил до сих пор.
Можно предположить, например, что в XII и первой половине XIII века роль монеты выполняли веретенные грузики, пряслица, сделанные из розового шифера. Такой шифер добывался только на Волыни, откуда пряслица распространялись по всей Руси. Цена их была стандартна и хорошо известна любому русскому человеку. Эта цена не менялась с течением времени, поскольку каменные пряслица не теряют с годами своего качества. С разрушением волы неких мастерских во время монгольского нашествия производство шиферных пряслиц навсегда прекратилось, и вместо них стали делать пряслица из глины и местных пород камня. Так вот, например, на Неревском раскопе в слоях X — первой: половины XIII века найдено свыше 2000 шиферных пряслиц, а в слоях второй половины XIII–XV века всего лишь около 300 глиняных и каменных пряслиц. Там на триста лет приходится 2000 находок, а здесь на 200 лет только 300. Поскольку прясть шерсть продолжали с неменьшей интенсивностью и в это более позднее время, нужно думать, что у шиферных пряслиц действительно кроме их прямой производственной была и еще одна, дополнительная функция.
Ну а чем же пользовались взамен монеты во второй половине XIII и в XIV веке? Почитаем, что пишет по этому поводу арабский путешественник Абу Хамид аль-Гарнати, побывавший, правда, не в Новгороде, а в Рязанской земле в XII веке: «Между собой они производят операции на старые шкуры белок… И каждые 18 шкурок в счете их идут за один дирхем. Они их укрепляют в пачку… Они везут их в полувьюках в разрезанном виде, направляясь к некоему известному рынку, где есть люди, а перед ними ремесленники. Они передают им шкурки, и ремесленники приводят их в порядок на крепких веревках, каждые 18 шкурок в одну пачку. Сбоку веревки приделывается кусок черного свинца с изображением царя. За каждую печать берут по шкурке из этих шкурок, пока не припечатают всех. И никто не может отвергнуть их. На них продают и покупают».
Не свидетельствует ли наша грамота о существовании в Новгороде порядка, подобного тому, какой в другом месте Руси и в другое время наблюдал арабский путешественник. Если это так, тогда понятна и необходимость ночной работы. Ведь утром начинался торг, и надо было подготовить для него деньги.
Глава 20
На усадьбе судьи
Экспедиция 1970 — года началась с предыдущей осени. Когда очередной сезон завершился и экспедиция готовилась к отъезду, было получено сообщение о начавшемся строительстве нового здания медицинского училища. Сообщение было неожиданным. На Суворовской улице, вблизи центра города, по согласованным графикам строительства и раскопок не предполагалось земляных работ. И проще всего было бы остановить эти работы и настоять на полной их отмене. К такому решению склоняло и состояние застраиваемого участка. Древний культурный слой начинался здесь буквально в метре от современной поверхности. Участок котлована пересекала мостовая древней улицы, а мощность слоя, как показала предпринятая тут же шурфовка, произвела впечатление даже на видавших виды давних сотрудников экспедиции: она превосходила восемь метров. Подсчет наших возможностей показывал, что с участком можно справиться не меньше, чем за два года, если какие-либо неожиданности не замедлят работу. А в графике на следующие годы предусмотрен немалый объем работ и в других местах. Завязнув здесь, мы рискуем невосполнимыми потерями в других районах города. Иное дело, если бы с участком на Суворовской улице можно было справиться за год. Но разве можно за один год сдвинуть и переворошить такие горы земли?
И тогда-то выяснилось, что горы может двигать такая великая сила, как взаимный интерес. Эту важную мысль высказал Иван Иванович Баранов, директор медицинского училища. Хорошо понимая нужды науки, не очень близкой к медицине, он предложил экспедиции провести раскопки за один сезон с помощью будущих медицинских сестер, заинтересованных в расширении своего училища.
Высоты, достигнутой ими на раскопках, еще не знала мировая археология. Шестьдесят девушек за три месяца прошли культурный слой мощностью в восемь с половиной метров на площади в 400 квадратных метров. Это значит, что они руками перебрали почти шесть с половиной тысяч кубометров земли, наполненной ценнейшими самородками отечественной истории. И опустившись до материка, мы знали, что ни один из этих самородков не потерян.
Каждые три-четыре дня сменялся план раскопа. За неделю счетчик нашей машины времени отсчитывал пятьдесят лет. Положив в понедельник на полки экспедиционного хранилища предметы, принадлежавшие внукам, мы в субботу отмывали от вековой грязи пожитки дедов. Счетчик машины времени работал тем летом особенно четко. Впервые за всю историю экспедиции дендрохронологические даты получали прямо в поле, через несколько дней после того, как образцы древесины поступали в экспедиционную лабораторию, отлично организованную Борисом Александровичем Колчиным.
Дерева было много — сменяющие один другой настилы уличных мостовых, нижние венцы срубов двух усадеб, попавших в раскоп значительными своими частями. И, как всегда, первый вопрос: чьи это усадьбы? До 1951 года такой вопрос требовал лишь общего ответа: усадьба купца, усадьба феодала-землевладельца. С момента находки берестяных грамот самый вопрос приобретал иной характер. Нас интересовало теперь, как звали человека, владевшего усадьбой. Знают ли его летописцы?
И вот прямая связь с XV веком установлена: «Поклон от Игнатья и от Григорьи от Матфьевича ко…». Принимаем ваш поклон, Игнатий и Григорий Матвеевич! Жаль только, что адресат грамоты № 464 оторвал свое имя. Ну что же, подождем следующей грамоты.
Ждать пришлось недолго. На другой день получено сразу два письма. Начнем с маленького обрывка, приберегая удовольствие от чтения большой грамоты. В обрывке № 465 три строки. Первая: «Челобитье от…». Вторая: «…ну к осподар…». Третья: «…кому Констан…». Жалкие обломки слов, не правда ли? И, однако, именно этот фрагмент дает основание понять характер раскапываемых усадеб. В нем нет имени автора письма, но зато есть возможность реконструировать имя адресата. В самом деле, что значит «…ну к осподар…»? Пышный титул: «к господину к осподарю». Соединение в титуле этих двух слов могло относиться лишь к одному из двух юридических лиц — к великому князю и к Великому Новгороду. Письмо, следовательно, адресовано в очень высокую инстанцию, но в какую? В третьей строке «…кому Констан…» может быть прочитано только как «великому Константину». И действительно, князь с таким именем был принят новгородцами в 1418–1420 годы. Это Константин Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, а слой, в котором обнаружен обрывок грамоты № 465, датируется двадцатыми годами XV века.
Прорись берестяной грамоты № 466 — полицейское донесение — начало следствия об убийстве.
Все как будто понятно и, тем не менее, все непонятно. Ведь мы надеялись прочесть имя владельца усадьбы, а великий князь Константин никак не мог быть ее хозяином. Он жил в двух верстах от Новгорода на Городище — в своей единственной резиденции. В городе князья вовсе не имели владений. Как же адресованная князю грамота оказалась на городской усадьбе?
Можно предположить только одно. Главной функцией князя в республиканском Новгороде было участие в «смесном» суде вместе с представителем бояр, посадником. Если адресованная князю грамота касалась судебных дел, то он мог ее по принадлежности передать другому члену этого суда — боярину. Мы не узнали имени этого боярина, но смогли высказать предположение о роде его государственной деятельности.
Что же в третьем письме — подтверждение или опровержение такой догадки? Читаем. Первая строка грамоты № 466 в начале повреждена, но остальное читается без труда:
«…на Софонтее во дворе голову убиле. А и кхъ бе взвеете неть. А живот взяле. Как, осподине, пецалуеше».
«Голова» — так в древности называли, между прочим, мертвое тело (убийство называлось «головничеством»; отсюда и наш термин — уголовное право), «живот» — имущество. «Кхъ» — кто. В переводе грамота звучит приблизительно так: «На Софонтьеве дворе обнаружен неопознанный ограбленный труп. Какие будут распоряжения?» Это первое ставшее известным науке древнерусское «полицейское донесение», начало следствия об убийстве. Кто мог быть получателем такого донесения? Да все тот же боярин, заседающий в смесном суде.
Еще и еще грамоты. Чаще обрывки. В них мелькают слова: «на поруку» (№ 469), «правду» (№ 473), «бирич» (№ 471), «отсылка» (№ 471) — снова юридические термины.
Грамота № 471 — одна из интереснейших. Она датируется 1407–1416 годами и сохранилась целиком: «У Онкифа 5 коробь ржи, коробья пшениць 5 год. А от бирица бьль в отъсилкь, било Митрофане».
Первая фраза письма элементарно проста: у какого-то Онкифа уже пятый год находятся пять коробей ржи и одна коробья пшеницы. Нужно полагать, что это зерно взято Онкифом в долг, а сроки возвращения долга нарушены. Онкиф — несостоятельный должник. И коль скоро грамота о нем обнаружена среди документов, связанных с судом, можно догадываться, что в дело о его долге вмешался суд. Наверное, именно об этом пойдет речь в следующей фразе письма? Но чтобы понять эту фразу, нужно сначала понять значение отдельных ее слов. А фраза целиком состоит из таких трудных слов.
Что такое «биричь»? Словарь И. И. Срезневского дает на этот вопрос однозначный ответ: «Бирич — полицейский чиновник, которому поручалось, между прочим, объявлять народу распоряжения властей». «Отсылка»? Посмотрим, что сообщает об этом термине «Новгородская судная грамота» XV века: «А кто обечается к суду х коему дни, ино после обета отсылки к нему не слать; а не сядет судья того дни, ино коли судья сядет, ино тогда к нему отсылка; а не видит отсылки, и почнет хорониться, ино слать к нему отсылка в двор трижды, да и биричем кликать; а не станет к суду, ино дать на него грамота обетная».
«Отсылка», — следовательно, повестка с вызовом в суд. А вот что такое «бьль» или «било»? И не просто «било», а «било Митрофане». Нам уже хорошо известно, что «белой» или «билой» называли мелкую денежную единицу. Очевидно, что вовсе не о ней идет здесь речь. А о чем же?
Несколько лет тому назад Я. Н. Щапов опубликовал неизвестный ранее памятник русского права XV века, в котором имеются такие строки: «Так же который свободный поимутся, да потом муж ея утаився жены да дасться в белмицу, а жена не восхощет с ним в робы, да от него восхощет, ино их разлучити». Если два свободных человека поженятся, а муж тайком от жены продаст себя в рабство, то по желанию жены, чтобы она также не сделалась рабыней, их можно развести. Слово «белмица» здесь означает холопство, рабство, но не личное, а полное, потомственное. В другом варианте написания — «обель», «обельный холоп» — этот термин давно и хорошо известен историкам. Вот только так же давно не прекращаются споры о том, каковы были во всем их разнообразии поводы превратить свободного человека в полного холопа.
Наша грамота как раз и демонстрирует один из таких способов. Онкиф должен Митрофану зерно, но у него нет возможности расплатиться. Митрофан обратился в смесной суд с обельной грамотой, «билом» — требованием передать ему Онкифа за долги в полные холопы. И вот уже ищет Онкифа «отсылка» — повестка в суд, уже кличут биричи на новгородских площадях об Онкифовой вине, вершится суд «бояр бесправдивых».
В грамоте № 474, написанной между 1387 и 1407 годами, — жалоба о нарушении межи, побоях жены и обидах детей: «…ця, господине, пережата чероз межь. Дьтък мои(х) и жонь… Жона моя зобижона. Бога деля, господине, оборони, Язо тоби…». Еще в одном обрывке слово «обороните» (№ 476).
Снова о земле. Грамота № 494, полученная на той же усадьбе между 1407 и 1416 годами: «Осподине, село Еремкинское и Кокова, осподине, у меня отнял, та ещо мя, осподине, напрасно…».
Самый вид обрывков подтверждает их принадлежность судебным органам. Грамоты, по миновании в них надобности, не разрывали, как мы к этому привыкли за многие годы, а разрезали ножом или ножницами. Так поступают не с частными письмами, а с официальными документами, чтобы избежать возможных злоупотреблений в дальнейшем.
А вот целый текст — берестяная грамота № 477 из слоев 1369–1387 годов:
«Поклоно Ань от Микыфора з Дорофьева жеребея. Что еси дала пожню в Быко(в)щине, то Шюега отимаеть, другую Осипоко. Землиди мало, а пожни отимають. Ничимь пособити, нь оче и се диьти: а ныне дай ми то мьсто Быковщину».
Автор документа получил от Анны землю, участок, на котором раньше сидел Дорофей. Но Анна не подтвердила это документально. Соседи у него «землицу» отнимают. «Пособить будет нечем, если не сделать так: дай мне теперь это место Быковщину». Дать нужно было с соблюдением всех формальностей, с официальными документами. Ради составления таких документов Анна, по-видимому, и обратилась в суд. Невольно вспоминается другое, близкое по своему содержанию письмо — грамота Петра Марье, которая должна была «списать список с купной грамоты и прислать семо», туда, где Озеричи отняли у Петра скошенное им сено.
Открытие документов, связанных с судом, важно для истории Новгорода. Именно в суде скапливались дела, отражающие социальное неравенство и классовый протест. Мы так еще недостаточно знаем эту сторону жизни древних новгородцев, что каждый новый документ поистине драгоценен.
Комплекс грамот, имеющих отношение к суду, встречался в слое первой половины XV и второй половины XIV века. Не меньше ста лет усадьбы, раскопанные на Суворовской улице, были свидетелями слез и жалоб новгородцев. В нижележащих слоях встречены берестяные грамоты более привычного для — нас содержания — о разных хозяйственных и бытовых нуждах.
В найденной в слоях 134,2–1352 годов грамоте № 478 хозяйственное распоряжение: «…(ку)нь у Рашка. Аже не буде кун у Рашка, купи своими кунами Колушке шапочнику». Если у Рашка не найдется денег, купи что-то для Колушки шапочника за свои деньги.
Грамота № 481, происходящая из слоев 1250–1275 годов, вводит в курс сложных забот крестьян, которые были профессиональными рыболовами, а платить господину должны зерном: «Поклон от ловца ко Остафии. Поели грамоту оже куны на сеть и найми ту. А роже — каков Зьиду бог дасть лов, тако зъзмуть».
В грамоте № 482, относящейся также ко второй половине XIII века, речь идет о взимании оброка, «успов», за текущий год и недоимок, «старых», «лонешних» успов: «…взя есме пятьнаца… и лонеского, и нинешнево… а что еси повельло у Евши взяти возо овса и жита другы — старыхо усопо, то ся не…».
Грамота № 483 середины XIII века упоминает гривны и «росты» — проценты. В ней, следовательно, говорится о ростовщической ссуде.
Древнейшая для Суворовского раскопа берестяная грамота обнаружена в слоях XII века. Это обрывок письма, написанного на обеих сторонах берестяного листа. Он не сохранил имен ни автора, ни адресата, но вводит нас в самую гущу острого семейного конфликта: «…живи жь с Гурьгьм, жь со Лукою, а вызова хотя — с строю ньвьстокою…» — «живи или с Гюргием, или с Лукой, а захотят позвать — так с дядиной невесткой». «Строй» — так в древности назывался брат отца. Почему же адресат письма мыкается, как неприкаянный, по дворам родственников? Поищем ответа на обороте грамоты:
«…ляшь дьяти. А ты чьрьсо силу дьяшь. Аж бы ты дбромь жил з братом…».
Письмо написано какому-то неуживчивому человеку, который плохо поступал со своим братом, действовал, как сейчас сказали бы, «с позиции силы». Он вынужден был оставить собственный кров и искать у родственников, которые тоже осуждают его, пристанища.
Всего на Суворовском раскопе найдено двадцать пять берестяных грамот. Это очень много, принимая во внимание незначительность размеров исследованного в 1970 году участка. По плотности насыщения слоя берестой тронутый раскопками район города не уступает кварталу на Дмитриевской улице. И в будущем к этому району должно быть привлечено особенно пристальное внимание археологов.
Глава 21
Бересту можно найти везде
На протяжении последних двенадцати лет источником пополнения фонда берестяных грамот были не только раскопки. Хотя, разумеется, именно в раскопках найдено подавляющее количество новых документов. Отдельные письма, как и раньше, обнаруживали в земле в ходе строительных работ. Будучи вырванными из цельных комплексов древних усадеб, они многое утратили в своей научной ценности, но, сохранив свои тексты, всякий раз так или иначе пополняют наши представления о прошлом, дают новые материалы для выводов и наблюдений.
В 1969 году Л. В. Черепнин писал, что документы не знают специальной повинности крестьян в пользу детей и других родственников феодалов. Поводом для этого послужил текст берестяной грамоты № 136, в которой имелось требование платить «детям по белке». Из содержания этой грамоты, найденной еще в 1954 году при случайных обстоятельствах, оставалось неясным, идет ли речь о крестьянах — «Мысловых детях», заключивших договор с феодалом, или о детях феодала. Поэтому требование платить «детям по белке» можно было понимать, как необходимость каждому из Мысловых детей платить по белке своему господину, но можно было толковать это место документа и иначе: Мысловы дети обязаны платить по белке каждому из детей своего господина. После находки этой грамоты прошло восемь лет, и в 1962 году в Кожевниках, неподалеку от знаменитой церкви Петра и Павла, была найдена — снова при случайных обстоятельствах — в водопроводной траншее грамота № 406. Она оборвана сверху, но сохранила значительную часть своего текста: «…то. А ми тобе, господине Офоносе, кланяесме, а даро ведаеше 3 куници 3 годо. А поцне прошати жене или сынове, — жени 2 бели, а сину белка». Новая находка, таким образом, зафиксировала, что повинности в пользу членов семьи феодала существовали, и дала правильное толкование спорному месту грамоты № 136.
В 1963 году на Торговой стороне, на берегу Волхова, близ нового моста, также в траншее нашли грамоту № 416, сообщившую об очередном неурожайном годе: «Погибло сено у Дорофея… погибло сено в Острове…».
В 1965 году также на Торговой стороне, но на этот раз вблизи церкви Ильи, обнаружен документ особого типа, не встречавшегося прежде, — опись чьего-то имущества. Грамота, получившая номер 429, сильно пострадала, но в основном читается неплохо:
«Монисто, усьрязи, кожуха… три отчька польпьна и с ъчьльцьм… шьсть гоубичь, пьрьни и възогьловие, лудии… 5 роужьныхо, а три бьла, оков… гълько, ларь».
«Монисто» это ожерелье. «Усерязи» — серьги. «Кожух» — шуба. «Оточек» — край одежды, тесьма. «Очелец» или «очелье» — головной убор, кокошник. «Губицы» — банные губки. Их привозили из Средиземноморья, и однажды в первые послевоенные годы раскопок такую морскую губку нашли в Новгороде. «Перени» — перины. «Возголовье» — подушка. «Лудии» — производное от слова «лудан», которое означало шелковую ткань. Далее говорится о каких-то пяти красных вещах и трех белых вещах, «окове» — окованной бадье, «голеке» — кувшине, «ларе» — сундуке.
В 1967 году в Плотницком конце Торговой стороны найдена берестяная грамота № 445 с текстом настолько ясным, что он не нуждается в переводе: «Всяло горончаро 2 сорока куницю, кобылу, 3 кожи, шапка, сани, хомуты. А целовало еси ко мнь, а не прислало еси. Ясо погибло».
Замечательную грамоту случайно нашли в 1969 году не в Новгороде, а в загородном поселке Панковке, но в земле, привезенной для клумбы из Кожевников, окраины древнего Неревского конца. Документ сохранился целиком и написан на обеих сторонах берестяного листа. По форме букв эта грамота № 463 может быть датирована первой четвертью XV века. Вот ее текст:
«Поклон от Федоря и от Кузми и от хого десяика Сидору и к Мафию. Переми посядничи куня ми, неси подяти а ото в лоних в недоборех, в ни(ни)шних. И проси борца о Петрове дни. Лоншии бориць своим недобором, а ни(ни)шнии бориць своим. В недоборех плати ми ся животиною».
О чем говорится в этой грамоте? Прежде всего, о вещах сугубо официальных, связанных с государственными доходами. Борцы — государственные чиновники, взимавшие государственные подати, обязаны к Петрову дню собрать подати текущего года и недоимку за прошлый год. Мы уже хорошо знаем, что такие подати собирались как раз в Петров день. Если за прошлый год и за нынешний будет «недобор», если борцы не смогут полностью собрать положенную сумму податей, то пусть они расплачиваются «животиною», собственным домашним скотом. Из этой суммы налогов нужно отделить то, что полагается посаднику, и прислать «мне». Хотя авторов письма несколько, главный выделен. Деньги нужны ему, но это требование имеет вполне официальный, законный характер, и поэтому как бы скреплено «подписями» целой группы лиц. Кто эти лица? В перечислении авторов есть очень трудное место «хого десяика», которое нужно перевести как «всего десятка»: «От Федора и от Кузми и от всего десятка». Кто эти Федор и Кузьма и что это за десяток? Если двенадцать человек свободно распоряжаются борцами и посадничьими кунами, значит им принадлежит верховная власть в государстве. Обратимся к спискам новгородских высших должностных лиц первой четверти XV века. В них легко обнаруживаются и Федор, и Кузьма. Во второй половине 10-х годов XV века неоднократно занимал должность степенного посадника боярин Федор Тимофеевич. А степенным тысяцким в те же годы не раз избирался другой боярин Кузьма Терентьевич. Если Федор и Кузьма степенные посадник и тысяцкий, кто же вместе с ними обязан был освящать государственные распоряжения? Верховный орган власти в этот период кроме степенных включал еще по одному посаднику и по одному тысяцкому от каждого конца. А коль скоро концов было пять, следовательно, рядом с Федором и Кузьмой сидело еще десять бояр, представлявших концы Новгорода. В важнейших решениях участие кончанских представителей было обязательным. Обязательным оно оказалось и тогда, когда возник вопрос об использовании государственных доходов за два года.
Прорись берестяной грамоты № 463 — распоряжение Совета господ начала XV века.
Самая сенсационная находка берестяных грамот вне раскопа сделана 9 июля 1974 года. Она лежала на экспедиционном столе спустя каких-нибудь десять минут после того, как работница 77 строительного управления Новгорода Раиса Павловна Филатова обнаружила ее, роя яму для новой ограды Новгородского водопровода на берегу Волхова на Торговой стороне. Такая оперативность — отрадный результат широкой пропаганды ценности древних предметов, которые при любых работах могут быть случайно извлечены из земли. Эту пропаганду неустанно ведет и Новгородская экспедиция, и Новгородский музей, развернувший эффектную экспозицию археологических материалов.
Трудно передать взволнованность, которую довелось испытать, держа в руках еще неразвернутый невероятной величины сверток бересты. Вся его лохматая поверхность была испещрена процарапанными строками текста. «Такого не бывает» — вот единственная мысль, которая вытеснила все остальные в первые минуты. Такого, действительно, не бывало. В свертке был не один лист, а целых три. Размер самого большого из них достигал полуметра в длину и двадцати сантиметров в ширину. Верхний лист сильно пострадал, распавшись на несколько фрагментов, и потребовалось несколько часов для того, чтобы, сняв его и собрав снова, развернуть остальные, увидеть их тексты. Нужно ли говорить, что в эти часы преодолевались не только технические трудности приближения к тексту, но и всеобщее нетерпение — чувство, всегда предшествующее чтению новых грамот на бересте, но на этот раз многократно возросшее.
Таким увидели археологи сверток берестяных грамот № 519–521 через 10 минут после его находки.
И вот, наконец, первый цельный, самый большой лист — под стеклом. Приступаем к чтению, предварительно сосчитав строки. Их пятнадцать.
«Се азъ рабъ божий Мосии пишю рукописание при своемъ животе…». Традиционная фраза духовной грамоты, завещания. Некий Моисей, находясь в добром здравии, распоряжается имуществом на случай смерти.
«А приказывае животъ свои детемъ своимъ…» Вторая фраза документа заставляет обратить внимание на видимое противоречие с первой фразой. Там употреблена грамматическая форма первого лица: «Се азъ» — это я, «пишю» — пишу. А здесь неожиданный переход к третьему лицу: «приказывае», т. е. приказывает. Если Моисей сам, собственноручно писал свою духовную, он не мог бы назвать себя в третьем лице. Иное дело, если он диктовал грамоту писцу или изложил ему существо своих распоряжений. Писец мог путаться в лицах. Духовные грамоты всегда излагались от первого лица, но когда записываешь чужие слова, ошибиться немудрено.
Итак, перед нами духовная грамота. Прежде чем продолжить ее чтение, нужно попытаться датировать ее. Ведь когда берестяная грамота найдена не при раскопках, возможности определить ее время по уровню залегания в слое отпадают. Единственный способ разобраться в хронологии текста предоставляет палеография — наука о форме букв, рисунок которых меняется от столетия к столетию. Уже в первой строке документа имеется несколько начерков, характерных для сравнительно узкого времени — второй половины XIV — первой четверти XV века. Место находки тогда было незастроенной окраиной города, слабо освоенным пустырем и, следовательно, сверток грамот, получивших номера 519, 520 и 521, скорее всего потерян случайно.
Продолжим чтение грамоты:
«А приказывае животъ свои детемь своимъ…» — А отказывает имущество свое детям своим.
«Сосенескую землю и Засосенкую землю по деловой грамоте, и Зашолонкую землю, где Матфею и Тарасиинимъ детемь, а ту мне трьть, и во Вшашкеи земле…».
Моисей перечисляет принадлежащие ему земли Сосенскую, Засосенскую, Зашелонскую и Вшашскую и объясняет, на каких правах он ими владеет. Эти участки достались ему по деловым, иначе раздельным грамотам с Матфеем и Тарасьиными детьми. Некогда и Моисей, и Матфей, и Тарасьины дети сообща владели перечисленными угодьями, а потом разделили их, и каждый получил свою треть в полную собственность.
«И Кромиски земли свою треть, и на Вышкове свою треть, а Вышковскии грамоте за Юриемь за попъмъ за Илиинскимъ…».
Кроме того, Моисею принадлежат Кромиская и Вышковская земли, которыми он прежде также владел сообща, но не с Матфеем, и не с Тарасьиными детьми, а с попом Ильинской церкви Юрием. По раздельным грамотам Моисею здесь также досталась треть, остальные две трети получил поп Юрий, у которого хранятся и «деловые» грамоты на эти участки, обоснование прав на них Моисея.
«А Сосенкии грамоте за Тарасииними дедми…». Здесь Моисей вспомнил, что не указал местонахождение документов на те земли, которыми он прежде владел вместе с Матфеем и Тарасьиными детьми, и сообщает, что грамоты хранятся у Тарасьиных детей.
«И Пожарискую землю, а грамоти за Лукой за Степановимъ…».
Еще один участок земли — Пожариский — принадлежал Моисею после раздела с неким Лукой Степановичем, у которого и находятся соответствующие «деловые» грамоты.
«А дети свои приказываю Василию Есифовицю и Максиму Василиевицю и осподе своей, роду племяни своему…».
Заботу о своих детях, еще малолетних (ведь в завещании даже не указаны их имена), Моисей поручает своей семье (осподе) и всем родичам (роду и племяни своему), но прежде всего Василию Есифовичу и Максиму Васильевичу. Оба душеприказчика названы уважительно с «вичем», а это значит, что они были авторитетными боярами. Максима Васильевича в летописях и других письменных источниках отыскать не удалось. А новгородский боярин Василий Есифович в 1405 году был степенным тысяцким, в 1410 году в той же должности участвовал в проведении денежной реформы, которая отменила обращение товаро-денег и узаконила пользование в Новгороде серебряными прибалтийскими монетами, а в 1416 году был избран степенным посадником. Как руководитель Новгородского государства Василий Есифович фигурирует в рассказе о знаменитом восстании Степанки против бояр в 1418 году и в последний раз как посадник упоминается в летописи под 1421 годом. Столь авторитетному человеку и поручает Моисей заботу об имущественных правах своих детей, беспокоясь, чтобы их не обидели после его смерти какие-нибудь любители чужой собственности. Обратите внимание, что Василий Есифович в грамоте Моисея никак не титулуется — ни тысяцким, ни посадником, а это значит, что духовная написана, по крайней мере, до 1405 года, когда Василий Есифович еще не имел никаких титулов. Следовательно, мы получаем право датировать грамоту в более узких пределах рубежом XIV и XV веков.
Поручением заботиться о детях грамота № 519 не оканчивается. Далее следует еще шесть строк:
«Аже не будьть остатка детей моихъ, ино мои оучастокъ Зашелоскои земле святому Николе на Струпини…» — а если не останется детей моих, то мой участок Зашелонской земли святому Николе на Струпине. Небольшой населенный пункт Струпино существует и сейчас в низовьях реки Шелони, в районе Шимска, неподалеку от впадения Шелони в Ильмень. В XV веке этот пункт занимал важное административное положение, будучи погостом, центром значительной сельской округи. Был в нем и Никольский монастырь, упраздненный в первой половине XVI века. Этому монастырю в случае смерти своих детей Моисей завещает участок Зашелонской земли.
Определив местонахождение Никольского монастыря, мы получаем возможность найти на карте часть земель Моисея. В непосредственной близости к Струпину при впадении ее правого притока речки Сосенки древние писцовые книги XVI века называют деревню Сосну, которая существует и сегодня, называясь несколько иначе — Сосница. Следовательно, Сосенские земли были землями деревни Сосна. Засосенская земля находилась здесь же, но по другую сторону речки Сосенки. С теми же местами связана и Зашелонская земля — напротив устья Сосенки, за Шелонью. По соседству с ней отыскивается Вшашская земля, но в документах и на картах она именуется Пшашской по имени речки Пшаги, впадающей в Шелонь слева как раз напротив устья Сосенки. Замена буквы П на В не должна удивлять. Эти звуки в новгородском диалекте могли меняться местами. В качестве примера можно указать деревню Пышково, которая иначе называлась Вышково.
Если в случае смерти детей Моисей предусматривает дальнейшую судьбу одного из принадлежащих ему участков, нужно думать, что он распорядился и относительно других своих владений. Действительно, все окончание грамоты № 519 посвящено таким распоряжениям:
«А Сосенская земля Тараснинимъ детемъ, а Скутовеская земля Матфею и его братану Григорию…». Остальные участки тех земель, которыми Моисей прежде владел сообща с Матфеем и Тарасьиными детьми, в случае смерти его детей возвращаются к бывшим складникам, совладельцам Моисея — Тарасьиным детям и Матфею, а также к двоюродному брату (братану) последнего — Григорию. Вшашский участок назван здесь Скутовским.
«А Кромеская и Вышковеская земля святей Богородици на Дубровни». Дубровна также легко отыскивается на современной карте, но не в тех местах, где располагались Сосенские владения Моисея. Этот населенный пункт находится в районе среднего течения Шелони, примерно в 80 километрах от устья Сосенки, на левом притоке Шелони реке Удохе. В XV веке Дубровна также была погостом с церковью Рождества Богородицы. На территории этого погоста писцовые книги конца XV века называют деревни Кромиско и Вышково, с которыми, таким образом, и связаны одноименные владения Моисея.
«А Пожариская земля тесту моему Костянтину». В том же Дубровенском погосте те же источники называют деревню Пожарища.
Итак, Моисей владел землями в Струпинском и Дубровенском погостах Новгородской земли. Но ведь это не все его имущество. В известных нам сейчас средневековых завещаниях сначала описываются земли, потом двор и хозяйство, а в конце грамот указываются свидетели — послухи. Как ни велика грамота № 519, однако она является только началом завещания. Где же его конец? Нужно думать, что на том берестяном листе, который завернут в эту грамоту. Он написан тем же почерком, но размер листа не так велик.
«А двор мои в городе, а пожня на Глушици, а другая за Городищем, а то Даниловимъ детемь…». Грамота № 520 начинается именно теми словами, которые ожидалось здесь увидеть. И, тем не менее, чтобы устранить все возможные сомнения и убедиться в принадлежности обоих берестяных листов одному документу, нам следует прочесть весь текст до конца:
«А не виноватъ есмь никому ницимъ, развие богу душою. А на то богъ послухъ и отець мои душевне игумень Демидъ святого Николе и попъ Офоносъ святей Богородице».
Вот теперь никаких сомнений не остается. На первом листе Моисей в числе своих возможных наследников на случай смерти детей называет монастырь святого Николы и церковь святой Богородицы, а на втором листе в качестве свидетелей-послухов поименованы игумен этого монастыря и поп этой церкви.
Второй лист позволяет установить место жительства Моисея. Он горожанин, владеет двором в городе. Грамота не называет имени города. Однако это не Новгород. В завещании Моисея называются его пригородные пожни (то есть покосы) на Глушице и за Городищем. Вблизи Новгорода есть Городище, знаменитое в его истории, но там нет Глушицы. Глушица имеется около города Старая Русса, но там нет Городища. И Городище, и Глушица вместе известны около города Порхова, расположенного на верхней Шелони примерно в 15–18 километрах от дубровенских владений Моисея и примерно в 100 километрах от его сосенских земель.
Каким же образом завещание жителя Порхова и владельца земельных участков на Шелони попало в Новгород? Причина выясняется достаточно легко. Если мы сравним духовную грамоту Моисея с другими дошедшими до нас завещаниями XV века, то обнаружим в нем некоторые особенности, касающиеся окончательной отделки текста. Все средневековые завещания писались по образцу — формуляру, который начинался обязательной фразой «Во имя отца и сына и святого духа», а оканчивался таким же обязательным заклятием против возможных нарушителей воли завещателя: «А кто сие рукописание преступит, судитца со мною пред богом в день страшного суда». В нашей грамоте ни начальной, ни заключительной фразы нет, и это позволяет думать, что перед нами не окончательный текст, а черновик духовной Моисея. Окончательный текст писался не на бересте, а на пергамене и снабжался свинцовой, висящей на шнуре печатью, которая, будучи приложена в канцелярии наместника новгородского архиепископа, придавала документу юридическую силу. К берестяному листу привешивать печать бессмысленно. Такой лист невозможно сохранять длительное время, а если привесить к нему печать, то она оторвется сразу же после появления первых трещин на бересте. А коль скоро любое завещание не могло, таким образом, миновать наместничьей канцелярии в Новгороде, следовательно, и черновик нужно было доставить сюда, чтобы здесь с него написали на пергамене документ по всей форме, включавшей и утверждение его печатью.
Только что были упомянуты другие новгородские духовные грамоты, давно известные исследователям. Таких пергаменных грамот дошло до нас около трех десятков. Не умаляет ли их наличие значения нашей находки? Напротив, сравнение нового документа с известными ранее придает ему особую ценность и превращает в первостепенный источник социальной истории Новгорода. Все известные нам прежде завещания сохранились в монастырских архивах, будучи связаны с передачей по духовным грамотам во владение монастырей земельных участков. Одни из них касаются только этих участков и, следовательно, не характеризуют собственности завещателей в целом. Другие, например духовные бояр Шенкурских, связаны с владениями очень богатых семей и, таким образом, не дают представления об имущественном положении землевладельцев из других сословий.
K какому же сословию принадлежал наш Моисей? Чтобы дать ему социальную характеристику, нужно, прежде всего, выяснить размер принадлежавших ему владений. Когда после присоединения Новгорода к Москве московскому правительству потребовалось освоить для обложения налогами новгородский земельный фонд, оно распорядилось переписать в писцовые книги все пахотные и сенокосные угодья бывших владений Новгорода. Эти писцовые книги, составлявшиеся несколько раз на протяжении конца XV и XVI века, к сожалению, дошли до нас не в идеальном порядке. Поэтому не каждую «волостку» можно отыскать в них. Однако большинство сведений все же сохранилось и изучается исследователями уже более ста лет. Поищем в этих книгах земли Моисея (разумеется, в конце XV и в XVI веках они принадлежали уже иным владельцам). Ценность всех описанных в писцовых книгах земель измеряется в обжах. Так называлась единица обложения, соответствующая земельному участку, который мог вспахать один человек на одной лошади. Такую единицу нельзя выразить через меры площади, поскольку сами условия пахоты на разных участках были различными, они зависели от рельефа местности, тяжести грунта, степени засорения участка валунами и т. д. Но все же в среднем обжа приравнивалась 15 десяти нам земли.
Вся пахотная земля деревни Сосна исчисляется писцовыми книгами в 3 обжи. Моисей владеет третью Сосенских земель, следовательно, только одной обжей. Пахотные земли деревни Кромиско оценивались в 4½ обжи. Моисею из них принадлежала треть, то есть полторы обжи. Пахотные земли деревни Пожарища равнялись всего лишь одной восьмой обжи. На долю Моисея здесь приходился буквально лоскут.
Не располагая точными сведениями о других участках, мы все же вряд ли можем допустить сколько-нибудь заметное их отличие от названных здесь. А это значит, что богатство Моисея было крайне незначительным. В самом оптимальном случае оно равнялось каким-нибудь 4–5 обжам. Для сравнения укажем, что, к примеру, у знаменитой Марфы Борецкой по писцовым книгам была 651 обжа земли, у Кузьмы Фефилатова 260½ обеж, а у посадника Захарии Овина и его сына Ивана 987 обеж.
И в то же время в Моисее невозможно видеть крестьянина. Уже в силу того, что его участки разбросаны на значительном пространстве, а сам он живет в городе, обрабатывать эти земли он может только эксплуатируя чужой труд или получая ренту от передачи своих участков арендаторам. И в том, и в другом случае он принадлежит к классу феодалов. Вопрос только в том, является ли он феодалом формирующимся или феодалом по наследству. Он мог владеть мизерными остатками когда-то крупной вотчины, измельчившейся в ходе наследственных разделов. Но мог быть и выходцем из черных людей — крестьян, мелкого духовенства, ремесленников или небогатых торговцев.
Обращает на себя внимание отсутствие в его духовной обычных для такого рода документов терминов «отчина и дедина», хотя Моисей не безродный человек: он упоминает свою семью, род и племя. Моисей владеет своими третями по раздельным грамотам, которые постоянно употреблялись при родственных разделах, но эти разделы произведены им с разными лицами, родственные связи с которыми в грамоте не показаны. В случае смерти своих детей он завещает свои участки монастырю, церкви, тестю (то есть не родственнику, а свойственнику). Пожалуй, только Даниловы дети, наследующие городской двор и пожни Моисея, могут претендовать на родство с ним. Другие наследники — Матфей и Тарасьины дети — были раньше совладельцами земель Моисея. Но были ли они его родственниками? Вряд ли. Передача им участков в случае смерти прямых наследников скорее всего была компенсацией за услуги по эксплуатации Сосенских земель, наиболее отдаленных от места жительства Моисея. Может быть, после отделения Моисеевой трети они ее у него арендовали?
Создается впечатление, что владение Моисея было его собственным «скоплением». Поначалу он был совладельцем земель на основе складничества с разными более состоятельными лицами (обращает на себя внимание, что документация по разделам хранится не у него, а у других участников земельных разделов), затем выделил свои участки по «деловым» грамотам. Такой характеристике не противоречит и то обстоятельство, что заботу о своих детях Моисей поручает, несомненно, крупным феодалам Василию Есифовичу и Максиму Васильевичу. Оба вотчинника, возможно, были его влиятельными соседями по владениям.
Мы и до сих пор знали, что классовое расслоение в Новгороде вело к постоянной социальной поляризации непривилегированных сословий. Значительное большинство свободного черного населения Новгорода беднело, а затем нищало, пополняя категорию боярской челяди. Другая же его часть получала возможность накапливать богатства и феодализироваться. На протяжении XIII–XIV веков в Новгороде расширяется и укрепляется сословие «житьих людей» — феодалов небоярского происхождения, выходцев из низших сословий, чьи владения порой достигали размеров боярских латифундий. И теперь впервые познакомились на конкретном примере с первоначальной стадией такого процесса, составляющего существенную черту развития феодальных порядков, поскольку обогащение части черного населения не превращало его в буржуазию, а расширяло класс феодалов.
«Рукописание» Моисея обернуто в еще один лист, получивший в общей нумерации грамот № 521. Тот самый лист, который от долгого лежания в земле распался на куски, а затем был снова составлен в экспедиционной лаборатории. Кое-какие его части утрачены навсегда, но и без них общий смысл текстов понятен. Именно текстов, потому что, как это выяснилось при прочтении, лист берестяной обертки, такой же большой, как грамота № 419, и снятый, по-видимому, со ствола той же березы, содержал несколько разнородных записей. Хотя сделаны эти записи в одно время с духовной грамотой, но иным почерком, который по многим признакам старше почерка духовной грамоты. Как это могло получиться, если все три грамоты писались практически одновременно? Да очень просто. Автор записей на оберточном листе был старше писца духовной грамоты и учился в более раннее время, когда начерки, характерные для рубежа XIV–XV веков, еще широко не распространились. Мы можем догадываться, что автором этих записей был сам Моисей потому, что только он мог привезти свою духовную в Новгород: ее оформление требовало его личного участия.
Верхняя часть листа заполнена разделенным вертикальной чертой на два столбца текстом в пять строк. Левый, начальный столбец был оторван еще в древности, а в правом читается следующая фраза: «…такъ ся розгори сертце твое и тело твое и душя твоя до мене и до тела до моего и до виду до моего». Нужно думать, что в оторванной, начальной части текста содержалась «симметричная» половина этой фразы: «Как разгорелось сердце мое и тело мое и душа моя до тебя и до тела до твоего, и до виду до твоего, пусть…», а дальше идет сохранившееся: «так разгорится сердце твое и тело твое и душа твоя до меня и до тела до моего и до виду до моего». Высказывались предположения, что перед нами так называемая «присуха», любовный заговор. Однако, скорее всего, это не так. Заговоры на Руси никогда не писались, они устно передавались от поколения к поколению и устно же произносились во время заговорного обряда. Здесь же набросок любовного письма, которое, нужно думать, в самом начале называло и имя адресата. Именно поэтому начальная часть, вероятно, и была оторвана автором, чтобы не компрометировать полюбившуюся ему женщину. Обратим внимание, что автор завещания Моисей был несомненным вдовцом. У него есть тесть и дети, но нет жены. Иначе она была бы упомянута в завещании вместе с детьми. Может быть, и необходимость в духовной грамоте, и включение в число наследников тестя вызваны намерением Моисея жениться вторично, а в связи с этим обеспечить своих детей от первого брака.
Ниже этой записи, в левой части листа, помещена другая:
«На том ся шлю. Отняли у мене Селиванке да Михеике да Якове (да) Болдькине кон(ь) в три рубле, седло в полтину, вотола в полтора… торокехъ. А то содеяло(сь)… дни межи Горкам (и) и Горками на Бору».
Автор записи рассказывает, как его ограбили Селиванка, Михейка… Яков и Болдыкин, и исчисляет свои убытки: коня ценой в три рубля, седло — в полтину, верхнюю одежду (вотолу) — в полтора рубля и что-то в «тороках» (притороченных к седлу вьюках). Он указывает день (число не сохранилось) и место, где «то содеялось»: между Горками и Горками на Бору. Все три населенных пункта с такими названиями известны писцовым книгам в Дубровенском погосте. Они существуют и сейчас. Близ Дубровны на речке Степеринке стоят неподалеку друг от друга деревни Верхние Горки и Нижние Горки (в писцовых книгах просто Горки и Горки) и между ними, чуть южнее, деревня Бор.
Запись об ограблении прямо связана с поездкой Моисея в Новгород. Судя по ее форме, он намеревается передать дело об ограблении в суд, а местопребыванием суда был Новгород.
Еще две записи расположены в нижней части листа. Левая запись очень сильно пострадала, но ее характер, судя по уцелевшим фрагментам, аналогичен прекрасно сохранившейся записи в правой части листа: «Оу Тимошке в Гуслехь полторе коробьи ржи. Оу Кюра 3 цетверотке ржи. Оу Выевка 3 цетверотки пшенице, 3 цетверотки жита». Как видим, здесь записаны долги. Деревня Гусли, в которой живет, по крайней мере, один должник Тимошка (а может быть и все трое названных здесь должников), известна по писцовым книгам все в том же Дубровенском погосте. Существует она и сейчас.
По всей вероятности, последние две записи также имеют самое прямое отношение к завещанию Моисея. В других дошедших до нашего времени средневековых завещаниях их авторы не только распоряжаются судьбой своих земель, строений и денного имущества, но и информируют своих наследников об имуществе и деньгах, розданных в долги. Подобные завещательные записи встречались и на бересте, мы уже знакомились с некоторыми из них в этой книге. Нужно думать, что как часть завещания заметки Моисея о его должниках предназначены для включения в окончательный его пергаменный текст.
Подобно тому, как в основном тексте завещания Моисей предстал перед нами небогатым землевладельцем, в только что цитированных записях он выглядит и незначительным заимодавцем. Зерно, которое ему задолжали крестьяне, исчислено здесь в коробьях и четвертках. Последняя мера сыпучих тел была мало распространена в Новгороде, но она характерна для Пскова (а Порхов находился у самой границы Псковских земель). Это весьма небольшая единица. Псковская летопись под 1476 годом, к примеру, оценивает четвертку ржи в 4½ деньги. Будучи ограбленным, вполне установленными по имени злоумышленниками, автор записей не имеет возможности сам расправиться с ними и пытается взыскать свои убытки законным порядком, а это также характеризует его как не очень значительного собственника.
Поездка Моисея в Новгород оказалась несчастливой. Черновики своих документов он потерял на глухом пустыре, где его может быть и еще раз ограбили. Но эта поездка сделала его судьбу достоянием истории.
Знакомясь сейчас с результатами открытий 1951–1974 годов, мы хорошо видим, что наши представления о средневековой культуре Новгорода и его истории стали в несколько раз полнее, чем прежде. Этим мы обязаны берестяным грамотам, самое существование которых привычно связывается теперь с Великим Новгородом. Однако берестяные грамоты не были узко новгородским явлением. Они широко употреблялись на Руси и не только в русских землях.
Уже на следующий год после знаменитой находки 26 июля 1951 года берестяная грамота была найдена за 400 километров от Новгорода в древнем Смоленске, где работала экспедиция Московского университета под руководством Даниила Антоновича Авдусина. К сегодняшнему дню эта экспедиция нашла в Смоленске десять берестяных документов. В 1958 году к числу городов, сохранивших в своих недрах древние берестяные тексты, присоединился Псков, где первую грамоту на бересте обнаружила экспедиция Григория Павловича Гроздилова. Сегодня известны уже три псковские находки. В 1959 году берестяную грамоту нашли случайно во время строительных работ в Витебске. Начиная с 1966 года отряд Новгородской археологической экспедиции ведет раскопки, которыми руководит Александр Филиппович Медведев, в одном из новгородских городов — Старой Руссе, в ста километрах к югу от Новгорода. Первая старорусская берестяная грамота найдена уже в 1966 году, а сегодня в берестяном «архиве» этого города уже тринадцать документов.
Познакомимся с тремя самыми интересными из них.
Грамоту № 2 «собирали» на протяжении двух лет. В 1969 году была найдена ее верхняя часть, а в 1970 году — и недостающая нижняя «Приказ от Кузми к сину к своему к Исаку, и к Улияну, и к Тимофию. Соли не купи… и не купя с триця… Зде соли по семи лубов за рубль. А наши хотя давать, а на день ни луба не продать. А просоле зде по пяти гривон бочка».
Автор письма Кузьма сообщает своему сыну Исаку и еще двум своим компаньонам-складникам о торговой конъюнктуре, сложившейся там, куда он с другими жителями Руссы привез на продажу соль. Соль добывалась в Руссе в больших количествах и распространялась оттуда даже за пределы Новгородской земли. Он находится в каком-то месте, где ловят рыбу и солят ее, нуждаясь в его товаре. Однако, по мнению Кузьмы, цену ему за соль дают недостаточно высокую. Ему предлагают продать ее оптом по рублю за семь «лубов». «Луб» или лубяной короб был единицей измерения соли. В розницу продавать выгоднее, но так можно надолго задержаться у рыбаков; за день в розницу удается продать меньше луба, а у Кузьмы, как кажется, еще около тридцати лубов. Попутчики Кузьмы решаются на оптовую сделку, о чем он и сообщает домой и компаньонам, оставшимся в Руссе. Попутно он информирует своих адресатов о ценах на соленую рыбу, которую, вероятно, собирается купить на вырученные деньги: бочка соленой рыбы стоит пять гривен.
Эта грамота относится к XV веку, а в 1971 году обнаружена грамота № 5, на триста лет более ранняя: «У Микуле 5-к (так пишут слово „пяток“) куне. У Стежира 5-к куне. У Городила 5-к куне. У Путяте полъпяте (сначала было написано „десяток куне“, потом эти слова зачеркнули), у Лобыне (это имя тоже оказалось зачеркнутым), у Прибыле 5-к куне, у Стороньке 5-к куне, у Петра 5-к куне». Грамота дает большую серию редких даже для древнейшей Руси имен: Стежир, Городило, Путята, Лобыня, Прибыл, Сторонька.
Грамота № 10, относящаяся к XII веку, найдена в 1973 году: «Сь грамота от Яриль ко Онание. Въ волости твоей толика вода пити в городищяньх. А рушань скорбу про городищяне. Аже хоцьши, ополош дворяна, быша нь пакостил». В грамоте употреблено не встречавшееся ранее образное выражение «толико вода пити», которое надо воспринимать как яркую характеристику нищеты и голода: городищане в волости Анании могут только воду пить, есть им уже нечего.
Вот ее перевод: «Это грамота от Ярилы к Ананье. В твоем владении у Городищан только воду пьют. А рушане (жители Руссы) скорбят о городищанах. Если захочешь, настращай дворянина, чтобы не пакостил». По-видимому, виновником голода городищан был управляющий, дворянин, которого и следует настращать, чтобы прекратить его самоуправство.
Содержание старорусской грамоты № 10 сродни хорошо известным по новгородским берестяным челобитьям крестьянским жалобам XIV–XV веков. В ней та же социальная коллизия: конфликт между крестьянами и ключником и классовый протест в виде жалобы вотчиннику. Однако, если в XIV и XV века, крестьяне сами писали своему сеньору, здесь перед нами переписка двух представителей привилегированного класса, основанная на взаимопонимании.
В грамоте отсутствуют традиционные поклоны. Ярила представительствует от рушан. Поэтому в нем нужно видеть высокого сановника, деятеля администрации Руссы. Он информирует Ананию о положении в его волости и дает советы, которые помогут избежать дальнейшего, невыгодного для феодалов осложнения событий.
Все эти находки подтвердили высказанное первооткрывателем берестяных грамот А. В. Арциховским еще в предварительной публикации открытий 1951 года мнение, что «берестяные грамоты будут найдены не только в Новгороде, но и в других русских городах, где сохраняются дерево и береста, например, в Ладоге, Белоозере, Вологде, Смоленске, а, может быть, и в Москве, а также в некоторых польских и чехословацких городах». Жизнь расширила список таких городов. А в число стран, где возможны будущие находки берестяных писем, встали также Скандинавские страны, Германия и Англия; в культурных слоях городов в этих странах хорошо сохраняются органические остатки.
Первая берестяная грамота недавно найдена в Швеции. Правда, она обнаружена не в земле. Нашел ее шведский ученый О. Одениуе в Упсальской библиотеке, где она около четырехсот лет пролежала в древней книге, будучи использована как закладка. Надпись на ней сделана чернилами: живший в XV веке монах Вадстенского монастыря записал на бересте свои весьма посредственные латинские стихи. Однако Одениус, ссылаясь на новгородские находки и на показание шведского писателя Олауса Магнуса, справедливо считает, что и в Швеции чаще процарапывали тексты, чем пользовались чернилами.
Ведь Олаус Магнус недвусмысленно написал: «Применяли бересту тем охотнее, что письма не повреждались и не портились ни дождем, ни снегом». Значит, нужно внимательно и терпеливо искать берестяные грамоты в средневековых слоях скандинавских городищ.
А. Ф. Медведев, тщательно собравший сведения о случаях находок на древних городищах орудий письма, перечисляет 28 таких пунктов, ограничив при этом свой подсчет только русскими городищами. Но ему известны такие же «писала» и из Польши, где они были найдены в Познани и в Гнезно. На многих из этих городищ береста не сохраняется, однако в ряде мест культурный слой насыщен хорошо сохранившимися органическими остатками.
Береста как новый источник по истории средневековья должным образом оценена и нашими зарубежными коллегами. Повсеместный интерес мировой науки к нашим находкам в большой степени объяснялся желанием исследователей других стран приобрести опыт в поисках подобных материалов.
Первая берестяная грамота на латинском языке.
Потом прошли годы, поиски казались безрезультатными. И все больше и больше стало распространяться убеждение, что письмо на бересте — преимущественно русское явление.
Теперь первая западноевропейская берестяная грамота наконец найдена археологами. Но не в Западной Европе. Ее обнаружил в 1970 году в Новгороде при раскопках шведской торговой фактории — Готского двора сотрудник нашей экспедиции Николай Петрович Пахомов, а прочел сотрудник Московского университета Донат Александрович Дрбоглав. На листе бересты, бывшем прежде днищем лукошка, кто-то написал пять строк изощренным готическим курсивом рубежа XIV–XV веков. Строчки не все связаны между собой, это три разные, хотя и сделанные одним человеком, надписи на латинском языке. По правилам курсивного письма в нем употреблено множество сокращений, усечены окончания слов. Поэтому первое чтение грамоты привело к дешифровке слов, как будто не связанных друг с другом, но стоявших в определенном порядке. Понятна радость исследователя и наша уверенность в правильности его чтения, когда он в средневековой латинской псалтири обнаружил те же самые слова и в том же самом порядке, но благодаря выписанным в них окончаниям изображающие осмысленные фразы. Полностью прочитана наиболее пространная надпись, содержащая, начало 94 псалма Давида. Д. А. Дрбоглав предполагает, что другие надписи этой грамоты содержат нотный комментарий к ее основному тексту.
Твердый почерк писавшего не оставляет сомнений в том, что ему хорошо знакомы правила и особенности письма на бересте.
Мы уверены в том, что это первое живое доказательство использования бересты иноземцем вдохновит наших западных коллег на новые поиски, а берестяные грамоты станут достоянием не только русской историографии.
Нужно учесть только одно важное обстоятельство, ставшее очевидным сейчас. На Руси очень поздно появилась так называемая скоропись, беглое письмо почерком, экономящим время писавшего, но достаточно трудное для понимания. Вплоть до конца XV века русские пишут четкими, мы сказали бы теперь — «печатными» буквами, так называемым «полууставом», перешедшим затем в шрифт печатных книг XVI века. Беглый почерк возникает, нужно думать, в связи с массовым распространением сравнительно дешевой бумаги, которая сделала главным инструментом письма гусиное перо.
Пока до бумаги употреблялась береста, беглому почерку не было возможности появиться. Привычка к берестяному письму требовала усилия, особой четкости, прямых линий. Беглому письму сопротивлялась сама фактура древесной коры. Только находка берестяных грамот сделала понятным загадочный консерватизм почерков на пергаменных рукописях: ведь они писались людьми, учившимися письму на бересте. Распространение же бумаги и гусиного пера убило письмо на бересте. Один интересный признак подтверждает это предположение. Выше было рассказано о привычке наших предков разных возрастов писать на церковных стенах во время богослужения. Так вот, надписей XV века на штукатурке еще много, а в XVI веке на стенах не писали. Понятно почету: гусиным пером на штукатурке не напишешь, а железного писала у пояса уже нет.
Конечно, проще сослаться на то, что в слоях XVI века уже нет берестяных грамот, но в этих слоях береста в Новгороде не сохраняется.
Однако если бумага отменила бересту на Руси, то она и на Западе должна была сыграть ту же роковую для берестяного письма роль. Но на Западе бумага распространяется на два столетия раньше, в XIII веке; тогда же там возникает и беглое, курсивное письмо. Значит, искать западноевропейские грамоты в Западной Европе нужно в сравнительно ранних слоях.
Глава 22
Раскопки продолжаются
Нам остается рассказать в заключение о самых последних новгородских находках. В 1972 году раскопки начались на новом для экспедиции участке Славенского конца, во дворе одного из современных домов по улице Кирова. Это место привлекло нас данными о наличии здесь очень мощного культурного слоя, достигающего 9 метров. Предположения о большой древности нижних слоев на этом участке не оправдались. Новгородцами он освоен только в первой половине XII века, а большая мощность напластований объясняется здесь тем, что обосновавшиеся в этом районе усадьбы использовали русло древнего мокрого оврага, которое требовало постоянных подсыпок и сооружения дренажных систем. Однако в ходе трехлетних работ здесь обнаружено немало важных находок. В их числе прекрасная по мастерству художественного исполнения иконка XIII века да черного камня с изображением святых Георгия, Симеона и Ставрокия, давшая много работы и любопытных открытий искусствоведам. И десять берестяных грамот.
Первая, самая молодая из них, найденная в слоях второй половины XV века, грамота № 495 — маленькая целая записочка: «У Ондрия три денги, Ивана денга, у Степана денга, у Вана денга, у Зуба московка, у Степана московка». «Московка», московская деньга, составляла ровно половину новгородской деньги. Таким образом, в грамоте говорится о выдаче шестерым людям крохотной «подотчетной суммы» на мелкие расходы. По новгородскому счету — всего-навсего 7 денег, полгривны, пять с половиной граммов серебра.
Две стороны одной каменной иконки. Выдающийся художник в первой половине XIII века изобразил на ней Симеона и Ставрокия, а другой мастер спустя почти сто лет добавил изображение Георгия.
Грамота № 496 задала нам массу хлопот и поначалу просто напугала нас. Это был второй за всю историю раскопок документ, не процарапанный, а написанный чернилами. Бересту покрывал липкий слой грязи. Чтобы ее прочесть, нужно было смыть грязь, но, если бы мы попытались это сделать, вряд ли нам удалось тогда прочитать ее: вместе с грязью в воде растворились бы и чернила. На помощь пришла ленинградская Лаборатория консервации и реставрации документов. Под руководством ее директора Дмитрия Павловича Эрастова сотрудники лаборатории проявили чудеса тщательности и осторожности. Они убрали грязь, сфотографировали грамоту в инфракрасных лучах, сделали макроснимки, и мы узнали подробности политической борьбы в Новгороде в первые годы после его присоединения к Москве.
В грамоте рассказывается, как на «Михайлицын» двор и к другим новгородцам пришли «разбоем» «люди». Дворы разграбили и взяли имущество (живот), а жителей перебили. «А то деялось всю неделю», — заканчивает автор письма. «Неделей» в древности назывались не все семь дней, как сейчас, а только один — воскресенье. В первой строке письма его автор высказал предположение об участниках бесчинств на дворах: «люди, деи, осударевы» — люди, вероятно, государевы. Хотя это и предположение, но оно датирует письмо временем после присоединения в 1478 году Новгорода к Москве. До 1478 года княжеская администрация находилась не в Новгороде, а на Городище, в двух верстах от Новгорода. Оттуда организовать столь беспримерное нападение на городские усадьбы новгородцев было, по крайней мере, затруднительно. А если бы такое нападение и случилось, оно повлекло бы за собой государственный конфликт между Новгородом и Москвой, о котором мы знали бы из летописи.
Скорее всего, грамота освещает события зимы 1488/89 года, предшествовавшие «выводу» из Новгорода житьих людей. Летописец так рассказывает об этих событиях: «Тоя же зимы послал князь великий, и привели из Новагорода на Москву болши семи тысящь житиих людей, занеже хотели убити Якова Захариича наместника Новогородского; и иных многих думцев Яков пересек и перевешал». Имена жертв нападения, перечисленные в грамоте, — а там названы Михаил Афанасьевич, Афанасий Игнатьев, его дети и его брат Макар, Климентий Степанов, — не встречаются в списках новгородских бояр последнего периода независимости. Поэтому вероятна их принадлежность именно житьим людям.
Все лето 1972 года экспедиция жила надеждой на находку берестяной грамоты № 500. Разумеется, не в номере дело. Самые интересные из берестяных документов носят ничем не примечательные номера. Но все же приятно завершить счет первой полутысячи писем. Эту грамоту нашли последней в сезоне 1972 года. Ее собирали по кускам несколько дней, через шестьсот лет после того, как кто-то разорвал ее и пустил по ветру. К удовлетворению от самой находки добавилось удовлетворение тщательностью поисков: грамота собралась практически вся, не хватает двух маленьких кусочков, но они могут еще найтись при дальнейшем расширении раскопа.
Содержание документа сродни одной из случайно обнаруженных грамот, о которой рассказано в начале предыдущей главы. Это опись имущества: «Поль(то)ра рубля серьбром. Ожерьлие въ… другое с хрустаю. Шюба немецькая. Кожа деланая. Ржи 6 коробьи. А 2 недьланы кожи. Чепь котьльная. Мьх кун. 5 телян. 5 овьцин. Котлець. Сковорода. Скобъкарь. Полътна 2 локти. О… полъсть. 3 хомуты рьмяны. Узда кована робична. Икона с гойтаном…» А на обороте написано: «У Яковли кобылке».
Нет сомнения в том, что многие вещи из поименованных здесь уже лежат в экспедиционных коллекциях — и котельная цепь, и сковорода, и хрустальные бусы из ожерелья, и даже икона с гайтаном. Ведь именно такой шейной иконой была найденная здесь же каменная иконка с изображением Симеона, Ставрокия и Георгия. И вообще эта «инвентарная опись» своей непоследовательностью больше всего напоминает наши полевые описи археологических находок, расположенных в том порядке, в каком они найдены. Воспримем же эту грамоту как символ неразрывного единства истории и археологии, письменных источников и источников вещественных. Ведь именно в этом единстве — залог наиболее существенных будущих исторических открытий.
В 1973 году экспедиция впервые за всю историю раскопок начала работы в Людином конце Новгорода, районе, где возможно открытие одного из древнейших мест городской жизни. Раскопки были продолжены в следующем году и установили, что самые ранние слои здесь относятся к X веку. Исследования этого участка не завершены, но на нем найдено уже девять берестяных грамот, подавляющее большинство которых извлечено из слоев XII–XIII веков и характеризует владельца этой усадьбы как духовное лицо. В непосредственной близости к раскопу, названному Троицким, в древности находились две церкви. Одна — Троицкая — существует и сейчас, другая — Святого образа — разрушена в XVIII веке. С какой-то из них и был связан владелец усадьбы в XII и XIII веках. Церковь Троицы впервые построена в 1165 году, а церковь Образа упоминается еще раньше, в документе 1134 года. Церковная принадлежность усадьбы характеризуется обнаруженными здесь находками — обломками риз храмовых икон, обрывками парчи от облачений, но, прежде всего, берестяными грамотами, среди которых несколько церковных поминаний. Процитирую одно из них — грамоту № 508:
«Иосифъ, Онуфрио, мплостиви на сиа: София, Федосия, Улияна, Пелагия, Деметре, Павело, Оводокия, Офимию, Гюръги, Мирофа».
Святые Иосиф и Онуфрий отмечаются в церковных службах в один и тот же день — 4 января по старому стилю. В этот день священнику, жившему на раскапываемой усадьбе, была подана записка с молитвой, обращенной к этим святым и призывающей их милость на большую группу богомольцев, названных здесь по именам.
Наиболее значительным документом с этой усадьбы оказалась берестяная грамота № 502, найденная в слоях конца XII века:
«От Мирслава к Олисьеви ко Грициноу. А тоу ти вънидьте Гавъко Полоцанино. Прашаи его, кодь ти на господь витаеть. А ть ти видьло, како ти было, и я Ивана ялъ, постави и пьредь людьми. Како ти взмоловить».
Перевод этого достаточно трудного для восприятия текста звучит так: «От Мирослава к Олисею Гречину. Тут войдет Гавко Полочанин (житель Полоцка). Потребуй от него ответа, где он остановился. Ведь ты это видел, как было, (когда) я Ивана схватил и поставил его перед свидетелями. Как он ответит?» Грамота связана с судебным разбирательством по делу некоего Гавки Полочанина. Мирослав советует Олисею Гречину, когда войдет Гавко Полочанин, спросить у него, где он в Новгороде остановился. По-видимому, от его ответа («како ти взмолвить») зависит дальнейший ход следствия. В этой связи автор записки напоминает Олисею Гречину какой-то прецедентный случай: ведь ты видел, как получилось, когда я точно так же поставил перед свидетелями Ивана. Нужно полагать, что эта записка написана и передана адресату во время судебного заседания перед допросом Гавки.
Чрезвычайно интересно выяснить личность автора этого документа, а также личность адресата. Три обстоятельства кажутся немаловажными для успеха такой попытки: характеристика места находки документа, фигурирующие в нем имена и сама причастность участников переписки к судебному следствию.
Как нам уже известно, грамота № 502 найдена на усадьбе церковников. Поэтому в поисках адресата наиболее интересны имена духовных лиц. Впрочем, и само прозвище «Гречин» подводит к мысли о принадлежности его владельца к духовенству. Новгородская летопись под 1193 годом рассказывает о событиях, последовавших за смертью новгородского архиепископа Гавриила. Когда решался вопрос о его преемнике, новгородцы назвали трех кандидатов — Митрофана, Мартирия и Гречина. Новый владыка по новгородской традиции выбирался жеребьевкой, и счастливый жребий был вытянут в пользу Мартирия. О Гречине в этом рассказе говорится, что он не впервые выдвигался на пост архиепископа и, значит, также неудачно для себя участвовал в жеребьевке в 1186 году, когда умер предшественник Гавриила Иоанн-Илия. Гречин в летописи не назван по имени, но само по себе это немаловажно: если бы в Новгороде в конце XII века было несколько Гречинов, летописец был бы более точным и конкретизировал свое сообщение.
Гавко Полочанин как историческое лицо неизвестен. Однако он был жителем Полоцка, отношения Новгорода с которым в конце XII века отличались крайней, неустойчивостью. В 1185 году новгородцы в союзе со смолянами воевали против Полоцка и взяли с ним мир. В 1191 году новгородцы уже в союзе с полочанами осуществили удачный поход на чудь, заключив перед этим между собой любовь. В 1198 году новгородцы снова воюют с Полоцком, избежав, впрочем, кровопролития и взяв мир. Таким образом, в грамоте речь идет о конфликте с полоцким гражданином, то есть о столкновении внешнего характера, затрагивающем сферу международной политики Новгорода.
Что касается принадлежности участников переписки к суду, то в это время дело Гавки Полочанина, имеющее тем более щекотливый, политический характер, могло разбираться только в смесном суде посадника и князя.
Самый характер записки, лишенной традиционных фраз о поклоне, самый характер содержащейся в ней просьбы демонстрирует иерархическое старшинство автора над адресатом. Если отождествление адресата с Гречином летописного рассказа 1193 года справедливо, то в авторе грамоты нужно предполагать лицо, носящее очень высокий сан в структуре новгородского общества конца XII века. Единственный человек этого времени, который может претендовать на авторство документа — знаменитый боярин и герой новгородской истории Мирошка Нездинич.
Мирошка Нездинич был избран на посадничество в 1189 году. Спустя семь лет новгородцы отправили его во главе посольства к могущественному князю Всеволоду Большое Гнездо с требованием прислать в Новгород на княжение сына вместо другого ставленника Всеволода князя Ярослава Владимировича. Всеволод схватил Мирошку, что привело к изгнанию из Новгорода князя Ярослава. В плену у Всеволода Мирошка находился до конца 1197 года, «седев 2 лета за Новгород», и его возвращению, как сообщает летописец, «рады быша Новегороде вси от мала до велика». В 1199 году Мирошка ездил с новгородским посольством к Всеволоду за новым новгородским князем Святославом Всеволодовичем. Умер он в 1203 году, приняв перед смертью пострижение в Юрьевом монастыре; в этом монастыре он и похоронен со всеми почестями.
Отметим одно любопытное обстоятельство. Под 1191 годом новгородская летопись сообщает, что некий Вънезд Нездинич заново построил деревянную церковь Святого образа. Как мы уже знаем, эта церковь находилась рядом с усадьбой Олисея Гречина. Если Вънезд был родным братом Мирошки, связь последнего с Олисеем Гречином могла быть и соседской. Признавая в Мирошке Нездиниче автора грамоты № 502, мы считаем несомненной и автографичность этого документа, который в силу своего содержания не мог быть продиктован писцу. Таким образом, сегодня это древнейший автограф новгородского политического деятеля из числа выдающихся русских людей.
Большие надежды на новые находки грамот из этого комплекса экспедиции связаны с планом ближайших лет. Доведенный до материка Троицкий раскоп сейчас расширен, но работы в нем к осени 1974 года остановились на уровне прослоек XIII века. Новые открытия здесь еще впереди.
А тем временем новый участок древнего Новгорода оказался в поле зрения экспедиции. Новгородский горисполком принял решение о строительстве здания в центре Софийской стороны, на углу Ленинградской улицы и улицы Декабристов. Этот район расположен сравнительно недалеко от Неревского раскопа, где работы велись в 1951–1962 годах, и, поскольку он примыкает все к той же частично исследованной тогда Козмодемьянской улице, окрестили его Козмодемьянским раскопом. Слой здесь был невелик, на части раскопа его до самого материка разрушили фундаменты позднейших зданий, и все работы удалось провести в один летний сезон 1974 года.
На этом участке найдено пять берестяных грамот. Все они дошли до нас в обрывках. Однако мы уже знаем, что порой даже небольшие фрагменты древних писем бывают интереснее иных целых грамот. Вот один из таких маленьких обрывков, сохранивший только начало первых двух строк и получивший № 515. В первой строке читаются слова: «От Яков…», т. е. «От Якова». Во второй: «ззззз…», буква «з», написанная пять раз подряд. Что это? Тайнопись? Было высказано и такое предположение. Но предположение неверное. Системы древнерусской тайнописи достаточно хорошо известны. Правда, мы знаем их по памятникам главным образом XIV и последующих веков, а здесь обрывок документа XII века. И тем не менее трудно предположить, что в раннюю эпоху способы шифровки написанного существенно отличались от более поздних. Вероятнее другое истолкование загадочной второй строки. Буква «з» в древности называлась «земля». Следовательно, слово «земли» можно было изобразить, написав подряд несколько раз эту букву. Примеры такого написания в древнерусских письменных источниках имеются.
Самым же интересным документом Козмодемьянского раскопа оказалась берестяная грамота № 510, обнаруженная в слоях первой трети XIII века. Вот ее текст:
«Сь сталь бьшь Коузма на Здылоу и на Домажировица. Торговала еста сьломь бьз мьнь. А я за то сьло пороуцнь. И розвьли есть цьлядь, и скотиноу, и кобыль, и рожь. А Домажирь побегль, нь откоупивъ оу Вяцьслава из долгоу. Како жь еста торговала, тако жь… (и)стьрю мою 6 сотъ. Пакы жь ли посли…»
Конец письма оборван, но это не мешает оценить главное содержание грамоты. Чтобы понять написанное, нужно сначала кое-что разъяснить. В грамоте изобилуют мягкие знаки. Ими в это время пользовались для передачи звука «е». Слово «торговала» дано здесь не в женском роде, а в неупотребимом теперь двойственном числе. В древности о трех людях, как и сейчас, сказали бы «они торговали», но о двух говорили: «они торговала». «Стать на кого-нибудь» означает выступить против кого-нибудь. «Бьшь» — редко употребимое слово, означающее твердо, окончательно, бесповоротно. «Пороуцнь» — поручник, поручитель. Теперь можно грамоту перевести:
«Это выступил окончательно Кузьма против Здылы и Домажировича. Торговали вы селом без меня. А я за то село поручитель. И вывели (из села) челядь, и скотину, и кобыл, и рожь. А Домажир убежал, не выкупив (этого села) у Вычеслава из долга. Как вы торговали, так и (здесь одно слово вырвано, но по смыслу его можно восстановить, как „верните“) то, что я потерял: шестьсот. В противном случае пошлите…»
Существо конфликта не вызывает каких-либо сомнений. Домажир купил у Вячеслава село, как мы сейчас сказали бы, в кредит. Был обусловлен срок выплаты денег за село, а до той поры за Домажира поручился Кузьма. Домажир раньше этого срока и, не уплатив денег, убежал из Новгорода, а его сын (Домажирович) продал фактически не принадлежащее ему село Здыле, который вывел из него челядь, скот и зерно (или часть этого имущества) в другие свои владения. Естественно, Вячеслав должен был заявить претензии Домажиру, а за его отсутствием Кузьме, а последний, в свою очередь, обязан был удовлетворить эти претензии. Кузьма поэтому обращается в смесной суд (именно этот суд разбирал подобные дела) с требованием избавить его от платежа, возложив ответственность на действительных нарушителей законопорядка — Домажировича и Здылу.
В грамоте указана цена села «шестьсот», но без обозначения денежных единиц. Гривны серебра весом в 196 граммов здесь подразумевать невозможно: это слишком большая сумма, чтобы быть ценой села. Вряд ли может идти речь и о таких мелких единицах, как ногаты или куны. Суммы, равные сотням таких единиц, предпочитали выражать в более крупных единицах — гривнах кун, как и мы сейчас не говорим «шестьсот копеек» или «шестьдесят гривенников», а скажем: «шесть рублей». Наиболее вероятно, что именно гривны кун опущены в грамоте после слова «6 сотъ». Если это так, то не названное по имени село, проданное Вячеславом в кредит Домажиру, было очень большим. Если выразить эту сумму в гривнах серебра, то она приравняется 40 таким гривнам (в первой половине XIII века в гривне серебра считали 15 гривен кун). Для сравнения приведем некоторые примеры. Новгородец Антоний Римлянин в начале XII века купил село и земли, на месте которых был построен Антониев монастырь, за 170 гривен, что в его время равнялось 25 гривнам серебра (в первой половине XII века в гривне серебра считали 4 гривны кун). В 1288 году волынский князь Владимир Василькович купил село за 50 гривен кун, 5 локтей скарлата (так называлась дорогая ткань) и брони дощатые (панцырь). Во второй половине XIII века новгородец Климент за данные ему взаймы Юрьевым монастырем 20 гривен серебра расплатился двумя селами «с обильем, и с лошадьми, и с бортью, и с малыми селищами, и пень и колода».
Прорись берестяной грамоты № 497 — приглашение погостить в Новгороде.
Высокая цена села позволяет догадываться, что изложенный в грамоте конфликт касается весьма значительных членов новгородского общества, и дает нам право хотя бы предположительно отождествить их с лицами, известными летописцу. Одного из них мы, по-видимому, достаточно хорошо знаем. Рассказывая о принадлежности исследованных в 1951–1962 годах усадеб Неревского конца в первой половине XIII века, мы упоминали Прокшу Малышева и его сына Вячеслава Прокшинича, который достраивал и расписывал ту самую церковь Сорока мучеников, в которой в XIV веке хоронили своих покойников Мишиничи. Под 1224 годом новгородская летопись упоминает Здылу Савинича и Домажира Торлинича. Первый из них назван в списке новгородцев, которых потребовал выдать поссорившийся с Новгородом князь Всеволод Юрьевич. Новгородцы гордо ответили князю: «Княже, кланяем ти ся, а братьи своеи не выдаваем», и этот ответ поручили передать Вячеславу Прокшиничу. Домажир Торлинич в том же году погиб в битве с литовцами. Эта битва произошла между Литвой и жителями Руссы, а не Новгорода, но летописец называет Домажира новгородцем. Мы видим, что действительно в последний период своей деятельности Домажир не жил в Новгороде, что соответствует словам нашей берестяной грамоты «а Домажир побегль». В той же битве 1224 года погиб и сын Домажира. Но этот сын не был единственным. Летопись сообщает, что в 1258 году новгородцы выбрали степенным тысяцким Жидяту Домажировича.
Закончить рассказ о находках последних лет лучше всего текстом берестяной грамоты № 497, найденной при расколках на улице Кирова в слое второй половины XIV века: «Поколоно от Гаврили от Посени ко зати моему ко Горигори, жи куму и ко сестори моеи ко Улити. Чоби есте поихали во городо ко радости моеи, а нашего солова не отставили. Да (и) бого вамо радосте. Ми вашего солова вохи не отставимо» — «Поклон от Гаврилы Посени к зятю моему Григорию, к куму и к сестре моей Улите. Поехали бы вы в город к радости моей, а своего обещания не отложили. Дай бог вам радости. Мы же все свое обещание помним».
Хочется приглашение Гаврилы переадресовать всем интересующимся прошлым Новгорода, в том числе и всем читателям этой книжки. И когда вы побываете в Софийском соборе, увидите фрески Феофана, обойдете вокруг неповторимого Петра и Павла в Кожевниках, посетите прекрасный Новгородский музей, — не забудьте побывать и на раскопках, чтобы узнать последние новости из прошлого, полученные с очередной берестяной почтой.
Возможности будущих открытий исписанной бересты по существу безграничны. И мы уже сейчас знаем, что объем источников будущих историков средневековья спустя каких-нибудь сто лет увеличится в несколько раз. Главным документом, с которым придется иметь дело грядущим исследователям экономики и государственного устройства, культуры и права древней Руси, станет лист бересты, покрытый прожилками и трещинами, покоробленный, подчас безжалостно разорванный, но неизменно порождающий чувство живого соприкосновения с прошлым.
Новгород, Смоленск, Псков, Витебск, Старая Русса, десятки других русских городов ждут нового лета, новых раскопок, новых успехов в поисках драгоценной бересты. А в книжке о берестяных грамотах никогда не будет написано последней главы, потому что новые успехи всегда сопутствуют энтузиазму исследователей.