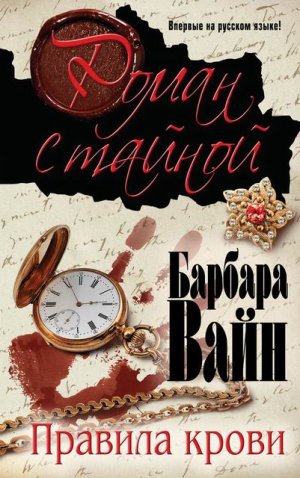
1
Кровь — вот что будет главной темой. Я принял это решение еще раньше, чем начал писать книгу. Кровь в метафизическом смысле, как средство передачи наследуемого титула, и кровь как переносчик наследственного заболевания. Теперь мы говорим о генах. Но не в XIX веке, когда родился, вырос и, если можно так выразиться, достиг величия Генри Нантер. В те времена говорили о крови. Хорошая кровь, плохая кровь, голубая кровь, это в крови, хладнокровно, кровавая драма, кровь не водица, кровавые деньги, кровное родство, плоть и кровь, написано кровью — список идиом поистине бесконечен. Интересно, которые из них можно применить к моему прадеду?
Я не уверен, что он мне понравился бы, хотя до сих пор мне казалось важным условием испытывать симпатию — или, по крайней мере, восхищение и уважение — к человеку, биографию которого я пишу. Возможно, на этот раз достаточно всего лишь интереса. А поддерживать его будет не трудно. Я решил описать жизнь Генри только потому, что обнаружил: он девять лет содержал любовницу, а когда умерла его невеста, женился на ее сестре (кстати, подарив ей то же самое обручальное кольцо).
Разумеется, я знал — как и все мы, — что он был выдающимся врачом, известным в свое время специалистом по заболеваниям крови, лейб-медиком королевы Виктории. Мне было известно, что за его заслуги Виктория даровала ему звание пэра, унаследованное мною, и что место в Палате лордов он занял в 1896 году. Я знал, что у него было шестеро детей, в том числе отец моего отца, а умер он в 1909-м. Но, несмотря на прижизненную славу, знакомство с Дарвином и дружбу (судя по упоминаниям в письмах) со многими известными людьми, в том числе с Т. Г. Хаксли[1] и сэром Джозефом Базалгеттом[2], а также на то, что он был первым доктором медицины, получившим наследуемый дворянский титул — великий хирург Джозеф Листер удостоился этой чести годом позже, — я не рассматривал его как первого кандидата на жизнеописание. Первым у меня значился Лоренцо да Понте, либреттист Моцарта. Прелюбопытнейшая личность: лишенный духовного сана священник, политический диссидент, дамский угодник, владелец магазина и винокурни, профессор музыки Колумбийского университета. Работа над его биографией могла привести меня в Италию или даже в Вену, но я с сожалением отказался от нее. У меня недостаточно знаний в области музыки. А потом пришло письмо от моей сестры.
Наша мать умерла в прошлом году. Саре пришлось — как говорит моя жена, эта обязанность всегда ложится на плечи женщин — разбирать ее личные вещи и решать, от чего следует избавиться, а что сохранить. Среди вещей обнаружилось письмо нашему дедушке от нашей двоюродной бабушки Клары. Сара подумала, что оно меня заинтересует. Она даже написала: «Раз уж ты отказался от автора “Женитьбы Фигаро”, то почему бы не заняться прадедом?» Я никогда прежде не видел писем Клары — откуда? — но у меня сложилось впечатление, что она вела обширную переписку. Наверное, в свое время моя мать занималась тем же, чем теперь моя сестра — разбирала вещи тестя, вернувшегося из Венеции, чтобы умереть дома, — и наткнулась на письмо, которое просто забыли выкинуть.
Тот факт, что Клара, четвертая и самая младшая дочь, называет его не «отцом», не «папой», не «папочкой», а «Генри Нантером», несколько смущает и беспокоит меня, но в то же время будоражит воображение. Странно, правда? Старая дева, как выражался мой отец, не очень образованная, тихо и незаметно жившая в Лондоне, никогда в жизни не работавшая и умершая в возрасте девяноста девяти лет, пишет брату об отце в таких выражениях, словно это просто знакомый, который не вызывает у нее особой симпатии. Ее письмо датировано началом 1966 года и, должно быть, отправлено в Венецию. Вот что писала Клара:
Ты всегда отзывался о Генри Нантере как о своего рода столпе общества, носителе высокой морали и все такое прочее. В отличие от тебя самого, как ты выражался. Я знаю, что ты не любил его точно так же, как и все остальные, за исключением бедного Джорджа. Ты скажешь, что если он и был равнодушным отцом и домашним тираном, то во времена нашего детства это считалось нормой. Но известно ли тебе, что он много лет содержал любовницу в доме на Примроуз-Хилл? Я уверена, ты не знаешь, что он был помолвлен с маминой сестрой Элинор, которую убили в поезде. Мы все слышали историю о поезде, но ни мама, ни Генри Нантер никогда не рассказывали, что сначала он был помолвлен с Элинор, а когда она погибла, женился на маме. У них — или у него — были какие-то причины скрывать это. Генри Нантер совершал и другие чудовищные, совершенно непозволительные вещи, но я не хочу рассказывать это в письме. Если тебе интересно, спроси меня об этом, когда приедешь домой в августе, и мы подробно поговорим. Но, мой дорогой Алекс, тебе не понравится то, что ты услышишь…
Состоялся ли их разговор и узнал ли мой дед, что это были за чудовищные вещи? В любом случае, он ничего не рассказал моему отцу — или мой отец мне. Дед умер, не успев вернуться домой. В июле месяце. Но это письмо меня заинтересовало. Сара была права. С тех пор я собирал все, что связано с Генри Нантером. К счастью, он явно хотел, чтобы его «жизнеописание» когда-нибудь появилось, и оставил после себя дневники, письма и собственные работы, словно хотел помочь будущим биографам. Однако совершенно очевидно, что он позаботился включить в эти материалы лишь то, что выставляло его верхом совершенства. И разумеется, в них не оказалось ни одного листка бумаги, фотографии или строчки, которые могли бы прояснить, на что именно намекала Клара.
Я в доме один. Дом пуст — как всегда в это время по будням. Джуд в своем издательстве в Фулхэме, где она теперь работает, а Лорейн, она убирает у нас в доме, ушла час назад. Я сижу в своей студии на Альма-сквер и работаю за столом, который раньше использовался в качестве обеденного. Это большое и массивное сооружение красного дерева шесть футов в длину и три фута в ширину, его поверхность усеяна блеклыми пятнами и черными кругами в тех местах, где мы с Джуд ставили тарелки, ошибочно полагая, что другой, накрывая на стол, не забыл положить войлочную подкладку под скатерть. Подобно большинству наших знакомых, мы перестали устраивать званые обеды, и поэтому я «экспроприировал» (по выражению моей жены) обеденный стол и перетащил его сюда.
Письменные столы недостаточно велики. Они предназначены для кабинетов руководителей, имеющих секретарей. На обеденном столе помимо компьютера и принтера поместились: «Малый оксфордский словарь», тезаурус Роже, стопка распечаток (практически бесполезных) из медицинских сайтов в Интернете, несколько груд скопированных страниц из медицинских пособий, сами медицинские пособия, труд Баллока и Филдса «Сокровища человеческой наследственности», записная книжка Генри, три коробки с его письмами, три книги из Лондонской библиотеки (кстати, я замечаю, что их нужно вернуть сегодня) и набросок генеалогического дерева, нарисованный мной самим и полный пробелами. Моя ветвь, начинающаяся с дедушки Александра и заканчивающаяся на данный момент моим сыном Полом, представлена точно и подробно. Тут и младший брат деда Джордж, умерший в одиннадцатилетнем возрасте, и его четыре сестры, Элизабет, Мэри, Хелена и Клара, хотя я пока не знаю имен их мужей, детей и, конечно, внуков, и мне еще предстоит заняться их поисками.
Кроме всего этого, здесь же находятся пятьдесят два блокнота в кожаных переплетах разного цвета, формы и размера — Генри начал вести дневник, когда ему исполнилось двадцать один, а бросил за год до смерти, — написанные им книги, альбомы с фотографиями и несколько разрозненных снимков. На столе также сложены письма о нем и письма, в которых упоминается его имя.
Он был одержим кровью. Интересно, почему? Генри писал о крови не только книги, но и секретные записки — странные очерки, которые при жизни, по всей видимости, он никому не показывал. Они были в блокноте с обложкой из черного муара. Одна из заметок — вот она, верхняя в красной коробке, но, как и все остальные, без даты — начинается так:
Я часто спрашивал себя, почему она должна быть красной, и задавал этот вопрос другим. Среди данных мне ответов был такой: «Потому что такой ее создал Господь». Если бы я никогда ее не видел, но знал о ее существовании, о присутствии в человеческом теле и функции, которую она выполняет, то предполагал бы, что она коричневая — светлая, желто-коричневая. Но она красная, чистого алого цвета, как растущие в полях маки, эти цветы я помню с детства. Одна из моих дочерей — любопытная, как все дети, — спросила, какой у меня любимый цвет. Я без колебания ответил ей: красный. Не помню, чтобы я растерялся, стал размышлять над этим вопросом, хотя никогда раньше об этом не задумывался. Мои губы естественным образом сами выговорили слово «красный», и, произнося его, я понимал, что говорю чистую правду. Мой любимый цвет — красный. Никто не знает, почему кровь красная, хотя нам известен ее состав, а также пигмент, придающий ей этот цвет. На мой взгляд, пролитая кровь прекрасна, и я абсолютно не понимаю тех, кто при виде ее морщится или даже падает в обморок.
Так или иначе, никакого криминала тут нет, правда?
Лейб-медик, которому пожаловали титул баронета, вряд ли является подходящим объектом для литературной биографии, если в его личности больше нет ничего интересного. Генри сделал одно важное открытие в своей области и тем самым внес вклад в развитие медицины, но, похоже, никого не вылечил; я сомневаюсь, что он даже облегчил чьи-то страдания или ставил перед собой такую цель. Может быть, именно это и интересно? Наверное, мое внимание привлекает не только его одержимость кровью, но также загадки и аномалии, с которыми биограф сталкивается в каждом десятилетии жизни Генри Нантера.
Я делаю себе сэндвич с сыром и съедаю его вместе с помидором. Если я хочу взглянуть на дом в районе Гамильтон-террас и по дороге заскочить в Лондонскую библиотеку, времени остается немного. Заседание Парламента начинается в 2.30 пополудни, и, жуя сэндвич, я напоминаю себе, что должен задать третий по счету вопрос, требующий устного ответа.
Дом, в котором живем мы с Джуд, никак не подходит под определение родового поместья — он принадлежал моему отцу и деду, но не Генри. Сам он обитал в громадном, украшенном лепниной здании по другую сторону Эбби-роуд, через два или три дома от гораздо более красивого особняка Джозефа Базалгетта, создателя дренажной системы и набережных Лондона, и недалеко от студии Лоуренса Альма-Тадема[3]. Погода довольно теплая, хотя на дворе еще зима. Я подхожу к Гамильтон-террас со стороны Серкус-роуд и останавливаюсь на противоположной стороне улицы, чтобы взглянуть на Эйнсуорт-Хаус, как назвал его Генри. В свое время разделенный на квартиры, дом затем вернулся к одному владельцу и теперь принадлежит мультимиллионеру Барри Дредноту, застройщику. Купив дом за три миллиона, новый хозяин вымостил палисадник, соорудил там две квадратные клумбы и установил два громадных вазона с колючими красными пальмами.
Внутри я никогда не был. В прошлом году я отправил Дредноту послание с просьбой посетить комнату, которая, как мне казалось, была кабинетом Генри, но ответа не получил, даже несмотря на то, что письмо было написано на почтовой бумаге Палаты лордов. Интересно, позволят ли нам пользоваться фирменными бланками после того, как нас упразднят? Полагаю, нет. Эта мысль никогда раньше не приходила мне в голову, и я немного расстраиваюсь. Если нам не оставят клубные привилегии и компьютеры, то уж о почтовой бумаге и речи быть не может.
Два подъемных окна на третьем этаже слева — это бывший кабинет Генри. По крайней мере, я так думаю. В доме есть — и было задолго до появления Дреднота — нечто неприятное, вызывающее тревогу, хотя я и не знаю, что это. Конечно, он уродлив, худший образец викторианского стиля, но причина моего беспокойства заключена в другом. Мне кажется, я чувствую, что в те времена, когда здесь жил Генри со своей семьей, эти стены скрывали страдания и горе, хотя никаких оснований так думать у меня нет, одни подозрения. Насколько мне известно, Генри был счастлив в браке и по викторианским меркам считался хорошим отцом. Наверное, я пришел к Эйнсуорт-Хаус в поисках вдохновения, как это часто со мной бывает. А возможно, ищу ответы на вопросы, на которые я как биограф Генри должен ответить, но пока не могу. В любом случае я не стал бы жить в этом доме, даже за все деньги его нынешнего владельца.
Из окна кабинета Генри на меня смотрит женщина. Мрачное, несчастное лицо одной из домашних рабынь, которые присматривают за детьми хозяев и отсылают деньги домой на содержание своих собственных. Нет, я все это придумываю. Почему она должна отличаться от Лорейн? Нельзя же набрасываться на миллионера с обвинениями только потому, что он не ответил на мое письмо.
Я сажусь на Юбилейную линию метро на станции Сент-Джонс-Вуд и выхожу на остановке Грин-парк, недалеко от Сент-Джеймс-сквер, где находится Лондонская библиотека. Остаток пути иду пешком, через парк, потом по мосту. Я проходил этой дорогой тысячи раз, но всегда на секунду останавливаюсь в верхней точке моста, чтобы бросить взгляд на Уайтхолл, Хорсгардз и Форин оффис: передо мной вода, деревья, величественные здания и пеликаны на своем острове. В это время года большой наплыв туристов еще не начался. Я просто иду к Вестминстерскому дворцу, а не пробиваюсь сквозь толпу людей с фотоаппаратами, как это иногда бывает. Рядом с входом в Палату лордов установлена статуя Ричарда Львиное Сердце; он сидит на коне, подняв руку с мечом. Я каждый раз смотрю на него и пытаюсь представить, что чувствовал человек, отправляясь в Крестовый поход во времена, когда воины Христа из бывших крестьян считали не только допустимым, но и достойным похвалы убивать неверных женщин и детей и поджаривать их на ужин. Привратник приветствует меня: «Доброе утро, милорд». На часах двадцать пять третьего, но всем пэрам, которые соберутся тут через пять минут, известно, что утро в Палате лордов заканчивается только после чтения молитвы.
Я вешаю плащ на крючок с табличкой «Лорд Нантер», через два крючка от вешалки лорда Норфолка, поднимаюсь по лестнице на административный этаж, захожу в канцелярию и беру отпечатанную повестку дня, в которой есть и мой вопрос, помеченный звездочкой, что означает требование устного ответа: «Какова, по мнению правительства Ее Величества, вероятность того, что продолжение Юбилейной линии метро будет завершено в срок и к январю 2000 года обеспечит доступ публике к Куполу тысячелетия?»
Я не люблю епископов и поэтому не вхожу в Палату до окончания молитв. Их всегда произносит один из епископов — их тут двадцать четыре плюс два архиепископа, и смена каждого продолжается неделю, — однако сегодня лишь немногие придерживаются стиля, который ассоциировался с Высокой церковью[4] времен юности моего отца. Я вхожу в Палату лордов вместе с потоком людей из вестибюля и занимаю свое место в третьем ряду от начала поперечных скамей для независимых депутатов, на стороне духовенства. Строго говоря, эти скамьи не поперечные — поперечные располагаются в центре, параллельно столу секретарей и трону, — а являются продолжением скамей правительства, позади их мест на передней скамье, предназначенной для членов тайного совета. Здесь часто сидят лорд Каллаган и лорд Хили, но сегодня их нет. Мой дед тоже занимал место на поперечных скамьях в тех редких случаях, когда присутствовал на заседаниях — он называл себя независимым и представителем богемы. Мой отец и Генри были твердыми приверженцами правого крыла, убежденными консерваторами.
Когда в возрасте одиннадцати лет я впервые вошел сюда и как наследник своего отца (достопочтенный Мартин Нантер) сел на ступенях трона, этот зал показался мне необыкновенно уродливым, его готика — нелепой, а цвета — грубыми, особенно небесно-синий ковер и кроваво-красные кожаные сиденья скамей. Позолота трона — тоже слишком яркая, так что больно смотреть — напомнила мне декорации к спектаклю об Аладдине, который я видел на Рождество. Тридцать пять лет назад готика все еще была немодной и считалась дурным вкусом. Особенно мне не понравились витражи с чистыми, яркими цветами — красные, зеленые, синие и желтые. И я был слишком юн, чтобы полюбить резные фигурки львов и единорогов, венчающие столбики барьера. Теперь мое мнение изменилось, хотя я не совсем согласен с тем, кто назвал Вестминстерский дворец самым красивым зданием Лондона. Он действительно красив, и я буду скучать по нему, когда уйду отсюда. Мне будет этого не хватать: как я похлопываю по блестящей голове единорога в проходе латунного барьера, который мы называем «решеткой», отвешиваю поклон в направлении трона и балдахина (несуществующего, воображаемого, только пустого пространства, того места, которое занимает королева, когда присутствует на заседании) и поднимаюсь по ступенькам к своему месту. Скамьи заполнены, поскольку сегодня первый день второго чтения законопроекта в Палате лордов. Первое чтение является простой формальностью, так что второе чтение очень важно, и страсти тут будут кипеть нешуточные. Многие наследственные пэры понимают, что их время ушло, что мужчины и женщины — наследственный титул может переходить и к женщинам, хотя такое случается редко — не должны иметь права принимать законы страны просто потому, что их прародитель был союзником короля в войне или прародительница спала с монархом. Большинство из них станут обсуждать вовсе не это, а то, каким будет Парламент после них, грубые разговоры о том, что «пора от них избавиться», и потерю привилегии есть, пить и курить в Парламенте и пользоваться его библиотекой — другими словами, клубных прав.
Но сначала вопросы. Один — о железнодорожном сообщении, другой — о ядерном оружии, а затем — мой. Секретарь Палаты лордов встает и объявляет: «Лорд Нантер». Я говорю: «Милорды, прошу позволения задать вопрос, стоящий напротив моего имени в повестке дня», — но не произношу его, поскольку вопрос напечатан и все могут его прочесть.
Министр отвечает, что Юбилейная линия метро, вне всякого сомнения, будет завершена. Я обязан задать дополнительный вопрос — многих пэров такая необходимость заставляет нервничать, если только министр не опередил их и уже не ответил на него заранее. Кроме того, можно формулировать дополнения в письменном виде, но не зачитывать их вслух. В первый раз я немного запутался, и консерваторы принялись скандировать: «Не читать, не читать!» Тогда я дал себе слово больше не задавать устных вопросов, но, естественно, не удержался, а потом еще и еще раз, и теперь меня это не очень волнует. А скоро вообще перестанет волновать, хотя к тому времени меня уже упразднят.
Я встаю и спрашиваю, в курсе ли министр, что попасть к Куполу тысячелетия можно только на метро и автобусе, и если пуск Юбилейной линии задержится, то будут предприниматься попытки добраться туда на машине, что создаст серьезные неудобства, поскольку там практически нет места для парковки. Тем не менее я воздерживаюсь от резких выражений, поскольку хоть и не встаю на сторону правительства официально, но симпатизирую ему и почти всегда голосую в его поддержку. Министр (вежливый человек, которого невозможно смутить) повторяет свой ответ и прибавляет, что линия метро будет закончена, а станция Норт-Гринвич откроется не к 31 декабря, а уже в октябре. Теперь наступает очередь других пэров, чем они и пользуются, — естественно, далеко отклоняясь от темы и бомбардируя министра вопросами о том, почему Северная линия метро так плоха и становится все хуже, будет ли Купол тысячелетия временным или постоянным сооружением и когда правительство предпримет меры по ограничению численности автомобилей в столице. Каждому устному вопросу и его дополнениям отводится по семь с половиной минут, чтобы мы могли уложиться в полчаса, и поэтому мы вскоре переходим к последнему вопросу, связанному с электронной почтой.
Сегодня галерея для публики переполнена — как и места для прессы, а также места за барьером, где со «светской» стороны располагаются гости пэров, а с «духовной» — получившей свое название из-за того, что тут сидят епископы, как, впрочем, и члены правительства, — супруги пэров. Как выразилась вчера газета «Санди таймс», реформирование Палаты лордов — это щекотливая тема. Я погружаюсь в мысли о Генри. Он представлял в Парламенте консерваторов, но, похоже, редко появлялся на заседаниях. Первая его речь была вполне уместной, о важности хорошей канализационной системы для здоровья, но после этого он выступал нечасто. Вне всякого сомнения, Генри был слишком занят своим исследованием крови. На гербе, разработанном для него Геральдической палатой, присутствуют (я могу ошибиться в геральдических терминах) зубчатые башни в двух четвертях, красные сердца в двух оставшихся, а также девиз «Deus et Ego», или «Бог и я», что, по утверждению Джуд, является очень плохой латынью.
Вопросы закончились, и главный организатор правительственной фракции встает и объявляет Палате, что хотя сегодня и завтра дебаты не ограничены по времени, ввиду длинного списка выступающих всем было бы лучше, если бы заднескамеечники ограничили свои речи семью минутами. Разумный и честный человек, он повторяет, что вправе лишь давать рекомендации, однако указывает, что в общих интересах было бы не затягивать обсуждение до поздней ночи.
— Время, когда Палата завершит работу сегодня и завтра вечером, полностью зависит от ваших светлостей.
Граф Феррерс, зорко следящий за любыми попытками общего руководства, встает и спрашивает, почему главный организатор всегда просит об ограничениях. Некоторые лорды будут сталкиваться с этим всю оставшуюся жизнь — так зачем же урезать обсуждение законопроекта, который направлен на то, чтобы их ограничить?
И началось. Леди Джей, хранитель печати, открывает свою речь такими словами: «Милорды, я выношу данный законопроект на второе чтение», — и члены Палаты лордов один за другим встают с разных скамей и излагают свое мнение. Пэры входят и выходят — выходят быстро, а входят медленно, обязательно останавливаясь, чтобы отвесить вежливый поклон в направлении трона. Во время перерыва в дебатах я покидаю зал, чтобы выпить чаю, а когда возвращаюсь, то на часах уже четверть шестого, и баронесса Янг со скамей партии консерваторов говорит, что это один из самых печальных дней в ее политической жизни. Законопроект, утверждает она, означает конец Палаты лордов и исторической традиции, насчитывающей сотни лет. Реформа не наделит Палату демократической легитимностью, поскольку пожизненные пэры точно так же не демократичны, как наследственные.
Она довольно долго рассуждает в таком же мрачном тоне, а когда заканчивает, мне хочется встать и возразить ей. Если в Палате нет и, по ее мнению, не может быть демократии, поскольку она состоит исключительно из пожизненных и наследственных пэров, лучшим решением было бы вообще ее упразднить, и тогда мы все отправимся домой. Но мне не дадут слова, потому что я не записался заранее. Оглядевшись еще раз, я вижу, что в Палату вошла Джуд и заняла место ниже барьера. Она сделала прическу и надела чрезвычайно элегантный брючный костюм. Женщины здесь стали носить брюки всего лишь пару лет назад, а жены пэров — и того меньше. Брюки не назовешь удачным выбором для женщин с избыточным весом, хотя для толстых мужчин — тоже, разве что у последних нет выбора. Я улыбаюсь Джуд, и она вскидывает брови и улыбается мне в ответ. «Ужин?» — беззвучно спрашиваю я. «Да», — так же одними губами отвечает она.
Слово берет лорд Трефгарн, указывая — к ужасу тех, кто не удосужился посчитать, — что почти двести лордов внесли свои имена в список выступающих в двухдневных дебатах. Он говорит, что не намерен ограничивать свою речь семью минутами, и призывает правительство осознать, какая серьезная битва ему предстоит. Шесть часов. Я встаю и выхожу, приостановившись, чтобы пропустить Джуд в вестибюль Палаты лордов. Мы направляемся в комнату для гостей, чтобы выпить вина.
— Похоже, вам всем удастся сохранить свои титулы, — замечает Джуд, глядя на меня поверх большого бокала шардоне. — Вас по-прежнему будут называть «милордом», «светлостью» и все такое, и ваши дети по-прежнему будут наследовать титул.
Я тронут попыткой Джуд подбодрить меня, особенно с учетом того, что эта попытка исходит от женщины, которую знают как леди Нантер и «миледи» только здесь, а во всех остальных случаях она настаивает, чтобы ее звали Джудит Кливленд.
— Не понимаю, к чему вся эта суета. Половина пэров никогда здесь не появляется.
Я спрашиваю, что, по ее мнению, сказал бы на этот счет Генри. Мой прадед вызывает у нее жгучий интерес, и моя жена любит поговорить о его судьбе, хотя издательство «Пакстон Осборн», где она работает главным редактором, не собирается публиковать его жизнеописание.
— Это ведь не первая попытка реформировать Палату лордов, правда? — спрашивает Джуд. — Кажется, в девятнадцатом веке, а потом в тысяча девятьсот одиннадцатом году? Генри не удивила бы эта идея.
— Он умер в тысяча девятьсот девятом, — говорю я. — Генри очень редко бывал здесь, но ценил пэрство. Может, именно поэтому он так хотел наследника? Но у него рождались только девочки, четверо, одна за другой, прежде чем, наконец, появился сын.
По лицу Джуд пробегает тень — сколько раз я клялся, что мои слова никогда не станут ее причиной, — и мне хочется прикусить язык или прикрыть рукой рот. Но я опять оплошал, и теперь уже поздно. Моя жена не реагирует — теперь такое случается редко. Но этого и не требуется — она лишь слегка морщится, словно от боли, и пытается улыбнуться. Всего через пять секунд Джуд возобновляет разговор, рассказывая о письме с упоминанием Генри, на которое она наткнулась в биографии одного музыканта, недавно присланной в издательство. Джуд даже принесла мне копию письма, и когда я беру у нее лист, то чувствую волнение. Вполне возможно, я начну понимать, какие мысли бродили в голове у Генри.
2
Письмо матери музыканта присоединилось к остальным в папке с названием «Корреспонденция № 1» на моем столе. «№ 1» потому, что эти письма относятся к периоду, когда Генри был относительно молод и служил в больнице Св. Варфоломея. Мать привела к Генри сына, который со временем станет известным во всем мире скрипачом, ожидая услышать диагноз «гемофилия» — у мальчика часто шла носом кровь. В письме она радостно сообщает двоюродной сестре результат врачебной консультации:
Доктор Нантер — в высшей степени очаровательный, вежливый и красивый мужчина. Он почти не разговаривал с Калебом, вне всякого сомнения, понимая, что семилетний ребенок, даже такой талантливый, не сможет судить о том, что с ним происходит, но был очень мил со мной. Во время нашей беседы я рассказала — была обязана, хотя сердце мое переполнял страх — о дяде моего мужа, который болел Bluterkrankheit, или гемофилией, как мы ее называем, и умер от кровотечения в возрасте пятнадцати лет. Вообрази мою радость, дорогая Кристина, когда доктор Нантер с необыкновенным терпением объяснил мне, что мальчик может унаследовать эту болезнь только от матери, но не от отца, и что, по его мнению, Калеб страдает просто Epistaxis, или хронической предрасположенностью к носовым кровотечениям, которую он перерастет…
И он действительно перерос — мы знаем об этом из его биографии — и дожил почти до восьмидесяти. Как бы то ни было, это письмо в большей степени характеризует Генри, а не ребенка. По всей видимости, он умел обращаться с пациентами. Фотографии Генри уже поведали мне о приятной внешности, но, разумеется, ничего не могли рассказать о вежливости и такте. С матерью — скорее всего, молодой и хорошенькой женщиной — он был очень мил, но ребенка не замечал.
Генри Нантер родился в Годби, неподалеку от Хаддерсфилда, 19 февраля 1836 года и был старшим сыном Генри Томаса Нантера, владельца шерстяной мануфактуры и активного члена общины уэслианских методистов. Его мать звали Амелия София, и она была дочерью Уильяма Пирсона.
Такие сведения содержатся в «Национальном биографическом словаре». Сухие, ничем не приукрашенные факты. В словаре упоминается о том, что Генри был старшим сыном, но никак не комментируется тот факт, что его родители уже четырнадцать лет состояли в браке, прежде чем он появился на свет. Сегодня можно встретить много супружеских пар, которые давно женаты, но не имеют детей, однако все это результат тщательного планирования — женщина хочет сделать карьеру, супруги строят подходящий для семьи дом и т. п. Во времена Томаса и Амелии Софии такого понятия, как планирование семьи, просто не существовало. В чем же дело? Может, у нее были выкидыши — это мне очень хорошо знакомо — или дети рождались мертвыми? Или она никак не могла зачать ребенка? Женщины, переживающие из-за своей неспособности к зачатию, беременеют реже, чем те, кто проявляет беспечность. Так сказал Джуд ее лечащий врач, хотя проблемы у нее вовсе не с зачатием. Маловероятно, чтобы Амелия не переживала — учитывая эпоху, в которую она жила, и тот факт, что при отсутствии детей в семье вину тогда возлагали на женщину.
Наконец, в семье появился ребенок. К тому времени Амелия, должно быть, уже перестала волноваться и распрощалась с надеждой на материнство, поскольку ей уже исполнилось тридцать пять. Мальчик, которому при крещении дали имя Генри Александр, родился в фамильном доме, Годби-Холле; это был здоровый и красивый младенец. Через два года в семье появился второй сын, но с ним все обстояло не так благополучно. С учетом почти полного отсутствия фактов, трудно сказать, что было не так с Уильямом Томасом Нантером, но, судя по тому, что его матери было почти сорок, он вполне мог страдать синдромом Дауна. Это было бы вполне правдоподобным объяснением того факта, что в письмах к своей сестре Мэри Амелия называет его «странным» и «особенным». В одном из писем она пишет: «Билли не похож ни на мистера Нантера, ни на меня. Жители деревни называют его дурачком, и я очень расстраиваюсь, когда это слышу, но стараюсь не обращать внимания на слова невежественных людей».
Генри Томас Нантер был владельцем шерстяной мануфактуры, которая давала работу большинству трудоспособного населения Годби. На склонах холмов были построены ряды стоящих вплотную домиков, предназначенных для семей, переселившихся сюда в поисках постоянной работы. Нантеры жили в большом доме в георгианском стиле, чуть в стороне от деревни; это было не очень приспособленное для йоркширского климата белое здание с лепниной, к его фасаду Генри Томас пристроил гигантский портик с купольной крышей, опиравшейся на восемь непропорционально толстых колонн с коринфскими капителями. Дом сохранился в неизменном виде — по крайней мере внешне, — а его внутреннее убранство поменялось не сильно.
К чести Генри Томаса и Амелии, они воспитывали Билли дома, а не сдали в какое-нибудь заведение. Вне всякого сомнения, родители знали, какими ужасными были тогда подобные учреждения; думаю, их можно сравнить с детскими домами и интернатами для душевнобольных, которые до сих пор существуют в Восточной Европе. Или еще хуже. Генри Томас был богат, и они с женой пользовались уважением местной знати, хотя и не стали для них своими. Он был глубоко религиозным человеком, с усердием исполнявшим обязанности проповедника методической церкви и стремившимся к тому, чтобы его поступки не расходились с его проповедями. Возможно, Генри Томас искренне верил, что не следует взваливать на плечи других людей тяжкое бремя, которое представлял собой его младший сын. Разумеется, в Годби-Холл была няня и помощница няни — помимо обычного набора слуг. Судя по словам матери, Билли рос добрым, послушным и любящим сыном. Как многие дети с синдромом Дауна. Если это был синдром Дауна. Вполне возможно, что его инвалидность стала следствием тяжелых родов, сопровождавшихся травмой головы или кислородным голоданием.
Когда старший брат перешел во второй класс дневной школы в Лонгфилде, в трех милях от дома, Билли заболел. Как свидетельствует судьба нескольких сестер Бронте[5], чей дом находился неподалеку, в Хауорте, в 30-х и 40-х годах XIX века среди холмов и долин Йоркшира туберкулез был весьма распространенным явлением. В то время еще не знали, что болезнь заразна, — вернее, считали, что инфекция вызывается «миазмами», вредными испарениями от стоячих и сточных вод. Почему Билли заразился туберкулезом, а его брат и родители — нет, так и осталось загадкой. Но, в конце концов, ведь Эмили, Анна и Мария стали жертвами болезни, а Шарлотта и их отец остались здоровыми.
К тому времени — Билли исполнилось пять — его мать явно была больше привязана к нему, чем к старшему сыну. И это несмотря на то, что раньше жаловалась сестре на необычность ребенка и задержку его развития. Болезнь сына поставила ее на грань безумия. Она писала Мэри сумбурные, взволнованные письма, полные угроз покончить с жизнью, «если Господь заберет моего Билли». Ее муж — возможно, вследствие занятости на фабрике, — по всей видимости, переживал не так сильно. А что чувствовал Генри? Мы не знаем. Он посещал школу в деревне, куда каждое утро его отвозили на пони, а после обеда забирали. Амелия пишет, что обычно сопровождала его сама — по крайней мере, утром, — но болезнь Билли заставила ее отказаться от этих поездок. Расстроился ли Генри? Наверное. По всей видимости, только по дороге в школу он мог побыть наедине с матерью. Теперь этого удовольствия его лишила болезнь брата, к которому он, судя по тревожному письму Амелии к Мэри, относился с некоторым презрением.
Прогрессивный врач, лечивший Билли, сказал родителям, что здоровью мальчика пойдет на пользу сухой горный воздух, и порекомендовал Швейцарию или Баварские Альпы. В 1843 г. в Йоркшире это было все равно что посоветовать современным родителям отвезти ребенка в Антарктиду или на вершину Гималаев. Нет, даже такое сравнение некорректно. Генри Томасу и Амелии идея переехать на континент представлялась более нелепой, чем современным родителям предложение отправить свое чадо в Непал или на крайний юг. Они оба никогда не покидали Англию и не имели такого желания. Вместо этого Амелия отвезла Билли в Озерный край. Как бы то ни было, мальчику стало хуже, и когда через две недели они вернулись, Амелия писала сестре, что три дня подряд она по утрам находила кровь на подушке Билли.
С нашей точки зрения, это выглядит чудовищным риском, но у двух маленьких мальчиков была общая спальня. Ее называли ночной детской, и Амелия часто упоминает о ней в письмах.
Сегодня утром с первыми лучами солнца я вошла в ночную детскую, пишет она, и нашла обоих мальчиков спящими, но на подушке Билли была кровь, третий раз за неделю, довольно много. При виде крови — после всех моих молитв и надежд, что этого больше не повторится, — мне стало так плохо, что я едва не лишилась чувств. Если бы Билли звал меня или няню, когда он кашляет и сплевывает эту ужасную кровь! Но он такой добрый и — только представь себе! — не хочет нас беспокоить!
Как часто Генри слышал кашель брата и видел, как тот сплевывает кровь? Совершенно очевидно, почти всегда. Нельзя забывать, что он не любил и презирал брата, считал, что тот занял его место в сердце матери. Знал ли он, что означает кровохарканье? Очевидно, нет никаких причин предполагать, что Амелия старалась скрыть свое горе. Вне всякого сомнения, Генри видел ее приступы тошноты и головокружения. Ему было семь — это уже сознательный возраст. Его брат харкал кровью, а мать вела себя так, словно наступает конец света; таким образом, кровь означала, что Билли серьезно болен и может умереть. Разве не мог Генри смотреть на кровь на подушке брата и радоваться тому, что она означает?
Я задаю себе вопрос — который, возможно, так и останется без ответа, — не началось ли увлечение Генри кровью с того, что он связал красное пятно на подушке Билли с устранением соперника и более счастливой жизнью.
После ужина мы с Джуд едем домой. Палата лордов заседает до десяти минут четвертого утра, и обсуждение прекращается после того, как лорд Вивиан приводит статистику, какое количество пэров присутствует ежедневно на заседаниях палаты, а лорд Фальконер заверяет, что изменения, предусмотренные законопроектом, сделают Палату более независимой. Сегодня дебаты продолжатся. Приближается Пасха, завтра Палата закроется до 12 апреля, а вскоре после этого начнется обсуждение в комитетах. Джуд взяла два дня выходных, и мы собираемся в Йоркшир, чтобы воспользоваться приглашением нынешнего владельца и взглянуть на родовое гнездо Генри.
Джуд почти на восемь лет моложе меня, то есть до сорока ей еще далеко. Эти несколько лет для нее очень важны — это значит, что у нее еще есть шанс родить ребенка. В отличие от Амелии Нантер, трудностей с зачатием у нее нет. Похоже, она не в состоянии носить ребенка больше двух или трех месяцев. У меня есть сын от первого брака, Пол, мой наследник, который в свою очередь сидел на ступенях трона. Если у нас родится ребенок, я буду счастлив за Джуд. Мне бы хотелось увидеть ее радость, и иногда я действительно представляю, что она скажет, какие планы будет строить и как ее лицо будет светиться счастьем. Но я не хочу ребенка так, как хочет она, и в глубине души не верю, что он у нас будет. Джуд забеременела три года назад, но потеряла ребенка на восьмой неделе, затем снова забеременела, и выкидыш случился на третьем месяце. Недавно она попробовала какое-то новое лечение, однако оно не помогает — по крайней мере пока, если судить по ее лицу. Джуд сидит в поезде напротив меня, с той стороны, где расположены одиночные сиденья, и нас разделяет столик. Она выглядит абсолютно нормальной, не бледной и не больной, но опущенные уголки рта и страдальческий взгляд свидетельствуют о том, что у нее менструация.
В ее поведении прослеживается параллель с тем, как вели себя женщины в 1840-х годах, когда менструация была запретной темой. По-видимому, Амелия какими-то словами сообщала Генри Томасу, что будет «нездорова» в ближайшие пять или шесть дней, но ее робость объяснялась ханжеством и женской деликатностью. Джуд ничего не говорит мне, потому что не в силах этого произнести; она не использует это слово или его синонимы, означающие, что минул очередной месяц, а к тому времени, как минет еще один, ей исполнится тридцать семь. Думаю, она убеждена, что в глубине души я расстроен, но ради нее скрываю свое разочарование. И никакие заверения, что мне все равно, не помогают. Когда мы впервые были вместе, и потом, после нашей свадьбы, я видел упаковку «Тампакса» в ванной или картонную трубочку, плавающую в унитазе, но теперь Джуд прячет все свидетельства, словно действительно живет в прошлом. Единственный признак ее менструации — несчастные глаза.
Никто на нас не смотрит, но в любом случае мне все равно, и я беру ее руку, подношу к губам и целую. У Джуд красивые руки, длинные и тонкие, с почти незаметными суставами и с миндалевидными ногтями, всегда не накрашенными. Для нас целовать руки — это эротика (она тоже целует мои), но иногда просто нежность, знак того, что я рядом и что все будет хорошо. Но будет ли? Если «все хорошо» означает ребенка, то мне кажется, что все, скорее всего, будет плохо.
У железнодорожной станции Хаддерсфилд с довольно внушительным викторианским вокзальным зданием мы садимся в такси, и оно за двадцать минут доставляет нас в Годби. К моему облегчению — но не хозяина, судя по многословным извинениям, которые он оставил, — владельца Годби-Холла, компьютерного магната по фамилии Бретт, вызвали в Брэдфорд на срочное совещание. Его жена, по словам открывшей дверь иностранной прислуги, уехала к больной матери в Скарборо и взяла с собой ребенка. Как бы то ни было, это меня радует. Одна из моих миссий в жизни — прятать детей от Джуд, хотя на самом деле я не знаю, действительно ли вид ребенка расстраивает ее или мне просто кажется, что должен расстроить.
Годби-Холл явно нуждается в покраске — белые стены и колонны все в черных и зеленых потеках, в тех местах, где вода выплескивалась из водостоков. Думаю, что во времена Генри Томаса дом был черным от сажи из заводских труб. Внутри все какое-то анемичное — белая краска на стенах, блеклые ковры на блеклых паркетных полах — и как будто холодное, хотя центральное отопление включено на полную катушку. Девушка — она немка и говорит на превосходном английском, хотя и с сильным акцентом — ведет нас на третий этаж, где раньше располагались дневная и ночная детские. У меня вызывает восхищение, причем не впервые, что викторианцы и их предшественники умудрялись помещать детей как можно дальше от своих комнат.
Я начинаю жалеть, что Джуд приехала со мной, хотя именно она настаивала на этом. Правда, в комнате ничто не указывает на тот факт, что раньше она была ночной детской. Теперь это спальня иностранной прислуги; один конец комнаты отгорожен, и там устроена ванная, и если не считать некоторого беспорядка, то внутреннее убранство такое же блеклое, как и во всем доме. Розовое пуховое одеяло на неприбранной кровати скомкано и свисает с одного края. В комнате есть стенной шкаф для одежды и встроенный туалетный столик, который девушка называет умывальным столиком; его поверхность заставлена разнообразной косметикой, баночками, флакончиками и тюбиками. Я пытаюсь представить, где располагались две детские кроватки и что еще могло быть в комнате. Игрушки? Книги? Наверное, нечто подобное «умывальному столику», возможно, рукомойник с лекарствами для бедняжки Билли. Интересно, пользовались ли на верхних этажах Годби-Холла свечами, или предпочитали лампы, в которых горело рапсовое масло? Внизу, должно быть, пользовались лампами, а здесь, скорее всего, свечами. Теперь я вспоминаю, как в одном из писем Амелия упоминает о том, что зажигала свечу, когда ночью поднималась к Билли.
Джуд выглядывает в одно из подъемных окон, и я присоединяюсь к ней. Мы любуемся пейзажем: зеленые холмы, темнеющий лес, а на переднем плане — деревня Годби, отмытая от сажи и сверкающая чистотой в лучах холодного мартовского солнца. Ветер такой сильный, что даже с такого расстояния мы видим, как бешено вращается флюгер на церкви. Дома, построенные для работников фабрики, похоже, превратили в жилье для молодых, стремящихся к карьерному росту людей: новая фасадная краска и яркая черепица, зеленые лужайки и кустарник на заднем дворе. Я представляю, как Генри забирался коленками на сиденье у окна или оттоманку и смотрел на знакомый пейзаж, а затем, должно быть, подкрадывался к кровати брата, чтобы насладиться видом крови на подушке.
— Младший брат, Билли, он ведь умер, да? — спрашивает Джуд и бросает печальный взгляд в угол, где, по моим предположениям, могла стоять кроватка. — Сколько ему было лет?
— Шесть.
Девушка-иностранка явно ошеломлена; она спрашивает, почему ребенку не давали антибиотики. Ради справедливости следует отметить, что она ничего не знает о той истории и думает, что Билли умер двадцать или тридцать лет назад.
— Это случилось сто пятьдесят лет назад, даже больше ста пятидесяти, — объясняю я, — лекарства от туберкулеза тогда не было. Он кашлял, харкал кровью, худел, слабел, а зимой тысяча восемьсот сорок четвертого года умер.
— Но мальчиков, кажется, было двое? — Девушка берет с «умывального столика» флакон и брызгает его содержимым на внутреннюю сторону запястья. — Что случилось с другим?
— Он вырос и стал лейб-медиком королевы — не нынешней, а ее прабабки. У него было шестеро детей, и ему пожаловали титул пэра.
— Почему он не заболел туберкулезом?
— Не знаю.
— Если бы в девятнадцатом веке заболевал каждый, кто контактировал с больным туберкулезом, то Англия обезлюдела бы.
Это преувеличение, но я знаю, что имеет в виду Джуд. Девушка спрашивает, умер ли кто-нибудь из детей Генри.
— Один ребенок. Второй сын. — Я нервничаю, рассказывая в присутствии Джуд о детях, выживших и умерших в юном возрасте, однако она выглядит безмятежной, а печаль ушла из ее глаз. — Его звали Джордж, и он умер в тысяча девятьсот восьмом, на год раньше отца. Но отцу было семьдесят два, а ему одиннадцать.
— Тоже от туберкулеза? — не успокаивается девушка.
— Не исключено, но я так не думаю. Скорее всего, от лейкемии, хотя я могу только догадываться.
Внезапно меня начинает тошнить от всего этого — от комнаты, от осознания того, что мальчики спали в ней, что Билли здесь страдал и умер, — и я предлагаю выйти и прогуляться по саду.
На улице слишком холодно для продолжительных прогулок. Кроме того, за полтора столетия сад полностью изменился, что, собственно, не стало для меня неожиданностью. Большой дуб, наверное, был в те времена молодым, и Генри даже мог лазить на него, однако остальные деревья и кусты посадили взамен прежних, причем уже второй или третий раз. Мы возвращаемся в дом, уже в гостиную Амелии, которая, по всей видимости, была заполнена безделушками, салфетками на спинках мягкой мебели, восковыми фруктами под стеклянными колпаками, вышитыми гладью подушками, но теперь обставлена любителем строгого стиля. Девушка говорит, что мистер Бретт распорядился налить нам выпить и предложить ленч, но нам обоим так хочется поскорее уйти, что мы в один голос восклицаем: «О нет, большое спасибо». И Джуд по мобильному вызывает такси.
Обедаем мы в Хаддерсфилде, очень поздно, почти в половине третьего, а потом решаем отступить от намеченного плана и не ночевать в Йорке, а ближайшим поездом отправиться домой. На Пасху мы собираемся во Францию, и было бы неплохо перед поездкой несколько дней провести дома. Джуд берет меня за руку и говорит, что я, наверное, заметил, что у нее месячные. Точно так же, как она, я считаю дни и по мере приближения критического дня начинаю — из-за нее, только из-за нее — нервничать; отчаяние сменяется надеждой. Возможно, нам обоим повезло, что месячные у Джуд необыкновенно регулярные, с точностью почти до часа. Но даже если бы ничего не произошло, сколько месяцев продолжалась бы беременность на этот раз?
— Ты думал, это меня расстроит, — говорит она. — Все эти разговоры о детях, об умирающих детях. Ничего подобного. Прошло ведь столько лет.
— Далекое прошлое с совсем иными ценностями.
— Что-то вроде этого, — кивает она, и мы выходим на дождь.
Старший сын Генри, Александр — тот, который выжил, — был моим дедом. Я хорошо его помню, и я приезжал к нему в Венецию. Теперь, вернувшись в свой кабинет за покрытый шрамами обеденный стол, я думаю о двух умерших мальчиках: Билли, скончавшемся от туберкулеза в 1844 году, и Джордже, которого забрала какая-то неизлечимая болезнь в 1908-м. Что чувствовал Генри, когда умер его младший сын? Он был уже стариком, и мальчик годился ему скорее во внуки, чем в сыновья. Клара намекает, что Джордж любил отца — во всяком случае, не презирал его, как остальные, — однако это могло быть проявлением «синдрома младшего», согласно которому даже не склонные к нежностям родители окружают любовью последнего появившегося в семье ребенка. Генри написал множество научных трудов о заболеваниях крови, но среди описываемых случаев ни разу — что, наверное, естественно — не упоминает о состоянии здоровья своего сына. Он вел своего рода дневник, где сухо фиксировал, что делал, что читал и писал каждый день, но в его записях почти ничего не говорится о чувствах — а в последних вообще ничего. Его необычные рассуждения о крови, очерки из блокнота, представляют собой почти метафизические записи самых глубоких, сокровенных реакций на те или иные аспекты, связанные с кровью, болезнью и болью. Чем-то они напомнили мне «Вероисповедание врачевателей» Томаса Брауна[6].
Я не знал ни случаев из врачебной практики, о которых пишет Генри, ни упоминаемых им людей. Детей он редко называл по имени — обычно «одна из моих дочерей» или «мой старший сын». Брат Генри не появляется даже в блокноте с черной муаровой обложкой. Похоже, мой прадед вообще не помнил, что у него был брат, и один или два раза он говорит о себе как о единственном ребенке в семье.
Тот факт, что Генри надеялся стать объектом внимания биографов, очевиден из того, с какой аккуратностью он сохранял каждое существенное (на его взгляд) письмо, а также нередко делал копии своих писем другим людям. В письмах почти нет ничего личного; вне всякого сомнения, таково было желание Генри. Все, что, по его расчетам, могло помочь в составлении биографии, он сохранял и складывал в три больших деревянных сундука. Их он оставил Александру, единственному из выживших сыновей, моему деду, указав в завещании, что именно в них содержится. Вероятно, Генри считал, что «Биография Генри Нантера» будет написана через несколько лет после его смерти. Зачастую представления ученых о хорошей биографии отличаются от того, что думают остальные люди; им больше всего подходит сухое, точно пыль, перечисление трудов и несколько скупых фактов о датах рождения, женитьбы и смерти. Содержимое сундуков подтверждает, что такого мнения придерживался и Генри. В них обнаружились экземпляры всех его опубликованных научных трудов, а также работы других врачей-гематологов, в том числе очень старые, которые, как он считал, внесли вклад в его открытия.
Александру еще не исполнилось пятнадцати лет, когда умер его отец. Он учился в Харроу[7]. Сундуки остались в Эйнсуорт-Хаус, где по-прежнему жила мать Александра со своими дочерями, а если точнее, то с тремя дочерями, поскольку старшая, Элизабет, вышла замуж в 1906 году. Дом тоже перешел в наследство моему деду, но леди Нантер получила право пожизненного проживания и оставалась в Эйнсуорт-Хаус, пока Александр не продал его и не купил особняк на Альма-сквер, где я теперь сижу и пишу эти строки.
Первая мировая война разразилась, когда Александр был в Оксфорде. Способный мальчик, он поступил в университет в семнадцатилетнем возрасте, но через год был призван в армию и через несколько дней оказался во Франции. Его ранило в первом же бою на реке Сомме, а затем — снова, у Монса, но Александр всегда возвращался в свою часть, десятки раз чудесным образом избежав смерти; демобилизовался он в 1918 году в звании майора, с «Военным крестом». Ему было двадцать три.
Несколько лет спустя он продал Эйнсуорт-Хаус. Его мать переехала на Альма-сквер, а вместе с ней и сундуки. Не будучи интеллектуалом, в школе и университете Александр прилежно учился. Теперь все изменилось. Может, на него повлияло увиденное во Франции? Те ужасные события настолько хорошо задокументированы, особенно в последнее время, что у меня нет необходимости обращаться к ним. Но независимо от причины Александр — по крайней мере, для матери и сестер это было очевидно — не собирался продолжать учебу, делать карьеру и вообще работать. Отец оставил ему довольно скромную сумму, но вложенные деньги приносили доход, более чем достаточный для жизни. Мой дед уехал и поселился на юге Франции.
Судьба, как выражались современники его родителей, покровительствовала Александру. Ему везло в жизни. В Ментоне он встретил американку, единственную дочь и наследницу миллионера, сделавшего состояние на копченой говядине. Согласно легенде, именно Ренбери Голдред первым назвал копченую говядину ответом нью-йоркских евреев на ветчину. Он был очень рад, что дочь свяжет свою судьбу с английским лордом, награжденным «Военным крестом», и свадьба Александра Нантера с Памелой Голдред состоялась в Каннах. У них была вилла в Кап-Ферра, и к ним часто приезжали гости — задолго до того, как этот уголок открыли для себя такие люди, как Сомерсет Моэм и низложенные коронованные особы из Европы.
Наверное, она была милой женщиной, эта Памела Нантер. Я бы хотел, чтобы она была моей бабушкой, но этого не случилось. Они с Александром развелись в 1929-м, незадолго до биржевого краха в Нью-Йорке. Благодаря умению вести дела, она и ее отец не пострадали из-за краха, и Памела имела возможность, хотя и не была обязана, оставить значительную сумму мужу, с которым развелась из-за постоянных и нетерпимых измен и прекращения совместного проживания. На бракоразводном процессе она заявила, что по-прежнему любит мужа и желает ему добра. Эти слова вызвали больший шок и ужас, чем любые откровения о других женщинах Александра.
На одной из них, Дейдре Прак, он и женился — причем как раз вовремя. Мой отец родился через три месяца после свадьбы, весной 1930 года. Достопочтенный Тео Серж Нантер. Никаких унылых викторианских имен, вроде Александра и Дейдры. Они вернулись в Англию и какое-то время жили в этом доме, предположительно потому, что вдова Генри, моя прабабушка Эдит, была при смерти. Когда она умерла, в Англии их уже ничего не держало, и по какой-то неизвестной мне причине они вместе с наследником обосновались в Женеве. Ящики с бумагами Генри и остальная мебель из Эйнсуорт-Хаус остались в доме на Альма-сквер, под присмотром моих двоюродных бабушек Хелены и Клары. Мэри, которая была на два года старше Хелены, в 1922 году вышла замуж за священника, преподобного Мэтью Крэддока, у которого был приход в Фулеме.
Александр и Дейдра вернулись в Англию за несколько месяцев до начала Второй мировой войны, а три года спустя мой отец стал посещать Сент-Полз-Скул[8]. Когда ему исполнилось четырнадцать, его мать сбежала с американским военнослужащим. Подорвавшись на собственной мине, Александр развелся с ней, женился в третий раз и вместе с супругой уехал в Венецию. Там они жили следующие двадцать лет, на четвертом этаже грязного старого палаццо, о котором можно было бы сказать, что он расположен в закоулке, не будь этот закоулок каналом. В 1965-м я жил там неделю вместе с родителями. Год спустя, после того как Александр скончался от рака легких, мой отец стал лордом Нантером. Помню, меня, десятилетнего мальчика, потрясло, как много дед курил. Я подсчитал: чтобы выкуривать восемьдесят сигарет в день, по пять в час — завидное достижение, — он должен был начинать в восемь утра, а последнюю выкуривать в полночь. Меня восхищала его несгибаемость, и я дал себе клятву, что последую его примеру.
Тем временем Хелена и Клара жили на Альма-сквер — две старушки, упустившие шанс выйти замуж, потому что мужчины, которые могли жениться на них, погибли в войну 1914 года. Иногда по воскресеньям мы с сестрой Сарой и родителями заходили к ним во время послеобеденной прогулки, и они угощали нас чаем, шоколадным тортом, мэрилендским печеньем и меренгами — никаких бутербродов. Мой отец был адвокатом, состоятельным, но не богатым, и мы жили в большой квартире на Мейда-Вейл. Только повзрослев, я осознал, что особняк на Альма-сквер принадлежит ему, оставлен ему его отцом и однажды, по всей вероятности, перейдет ко мне. Это был всего лишь дом, забитый всяким древним хламом, где жили мои двоюродные бабушки и где чай был вкуснее, чем в любом другом месте.
Мы с родителями и сестрой переехали в дом, когда умерла Хелена, а Клара спросила, не будет ли отец возражать, если она переселится в дом для престарелых. Клара прожила там много лет и умерла, не дожив нескольких месяцев до своего столетнего юбилея. Ее племянник, мой отец, умер вскоре после нее. К тому времени моя мать купила себе маленький дом в Дербишире, неподалеку от Сары, а мы с Салли и нашим сыном жили в доме на Альма-сквер — с тремя сундуками документов, копий научных трудов и дневников.
Салли презирала «семью», хотя тщательно следила, чтобы на конвертах все указывали ее имя как «достопочтенная миссис Мартин Нантер». Какой бы она стала, не разведись мы к тому времени, как я унаследовал титул, невозможно даже представить. Салли ушла задолго до смерти моего отца. Она была активным членом «Движения за ядерное разоружение», недолго сидела в тюрьме за то, что резала колючую проволоку периметра ракетной базы в Саффолке, а в середине восьмидесятых уехала в Гринэм-коммон[9], да так больше не вернулась. Я не видел ее с 1989 года, но до меня доходили слухи, что в любой коммуне и в любом обществе, где оказывалась Салли, она настаивала, несмотря на наш развод, чтобы ее называли леди Нантер.
Через какое-то время после смерти моей прабабушки Эдит (ее никогда не называли Луизой, только вторым именем) три сундука переместились на чердак. Никто никогда не привлекал моего внимания к ним, поскольку в глазах большинства людей они утратили свою ценность. Ни один биограф не изъявлял желания взяться за жизнеописание Генри, но я помнил о сундуках, хотя если и думал о них, то лишь в одном аспекте: удивлялся, как удалось затащить их на пятьдесят шесть ступенек. Я даже предположил, что сундуки могли поднять через окно чердака снаружи, с помощью полиспаста. Возможно, так оно и было. Пять лет назад я поднял крышку одного из них и увидел строгие темно-зеленые и темно-синие переплеты нескольких научных трудов Генри, «Болезни крови», «Наследственная предрасположенность к кровотечениям», «Носовые кровотечения и предрасположенность к ним». Внизу у нас были экземпляры этих и других трудов Генри, но до той поры я ни один из них не читал. Совершенно естественно, мне никогда не приходило в голову изучить их, поскольку я полагал, что ничего в них не пойму, — и оказался почти прав, когда пришло время их открыть.
Я бегу по каменным ступеням лестницы станции метро «Сент-Джонс-Вуд», и в руке у меня портфель, где лежит прабабушкин альбом с фотографиями: тот, который я считаю особенно важным. Он нужен мне, чтобы чем-то занять себя в Парламенте — но не в Палате лордов. На этой станции эскалатор на спуск не работал уже несколько месяцев и, вне всякого сомнения, еще несколько месяцев работать не будет. Это как-то связано с продолжением Юбилейной линии, насчет которой я задавал свой вопрос в понедельник. Ожидая поезда на платформе, я думаю, как хорошо будет, когда ветка метро дойдет до самого Вестминстера и я смогу добираться до здания Парламента без пересадки. А потом обзываю себя дураком. К тому времени, когда сюда дотянется линия метро, меня уже тут не будет — от меня избавятся.
Сегодня Парламент закрывается на Пасху, и я еду туда только затем, чтобы взять в библиотеке пару книг, хотя могу зайти и в Палату, чтобы заработать выплаты, которые положены мне за каждый день, когда я миную барьер. Дебаты по законопроекту не особенно интересные, участвовать в них я уже не могу и поэтому сажусь перед лордом Уэтериллом, руководителем независимых пэров, бывшим спикером Палаты общин, и позади лорда Эннана, и полчаса слушаю. Телевизионные камеры движутся справа налево и слева направо, медленно и ритмично, потом снова сдвигаются влево и задерживаются на премьер-министре, пока она говорит. Камеры всегда направлены на нас, но замечаешь их только пять минут в первый день заседаний. Потом воспринимаешь их как должное.
Исполнив свой долг, я покидаю Палату и иду в библиотеку и у двери в бар сталкиваюсь с очень старым наследственным пэром, членом консервативной фракции, получившим известность тем, что в 1957 году он голосовал против допуска женщин в Парламент. Он говорит мне — не сомневаясь в своем остроумии и смеясь собственной шутке так, что с трудом выговаривает слова, — что из-за распространения феминизма женщины теперь не менструируют, а «фемструируют». Мне не удается выдавить из себя смех или даже улыбку. Я вспоминаю Джуд, и меня вдруг переполняет любовь и жалось к ней. Старый антифеминист говорит, что у меня нет чувства юмора. Я качаю головой, беру свои книги и сажусь за один из столов. Запах в библиотеке напоминает мне о дедушке Александре. Пэры приходят сюда, чтобы покурить и почитать парламентские документы, а не только для работы или исследований. Посетители в библиотеку не допускаются, но когда узнают, что в этих помещениях курят, то удивляются, почему в библиотеке вообще разрешено курить. Разве это не вредно для книг, спрашивают они. Я не знаю, страдают ли книги, и запах табака мне не мешает, хотя я нарушил данную в Венеции клятву и не пошел по стопам Александра, за всю жизнь выкурив не больше пары сигарет.
Моя прабабушка Эдит, старшим сыном которой он был, запечатлела значительную часть своей жизни в фотографиях. Приблизительно до 1920 года это сепия, а позже — черно-белые снимки. Первый фотоснимок с помощью камеры был сделан в 1826 году, но любительская фотография стала возможной только в 1880-х с появлением широкопленочных фотоаппаратов. Генри и Эдит поженились в 1884-м, и, по всей видимости, она начала снимать пятью годами позже, используя ящичный фотоаппарат «Истмен Кодак» с удобной катушкой негативной бумаги. На одном из первых снимков запечатлен ее третий ребенок, Хелена, в возрасте трех месяцев; она наряжена в крестильную сорочку. Неужели Эдит купила фотоаппарат здесь? Маловероятно. Ее кузина Айсобел Винсент в 1886 году вышла замуж за американца и уехала в Чикаго, и поэтому «Кодак», скорее всего, был подарком от нее.
Эта фотография хранится в другом альбоме. Тот, что я принес с собой, содержит снимки внутреннего убранства Эйнсуорт-Хауса. Любимым увлечением современников короля Эдуарда было фотографировать интерьер своих домов — заставленные мебелью комнаты, которые содержались горничными в безупречной чистоте, — и большинство снимков в альбоме относятся именно к этой категории. Однако на некоторых фотографиях на фоне интерьеров присутствуют люди. Та, которую я разглядываю, запечатлела всех детей Эдит, сгрудившихся на диване в гостиной. Это большой мягкий диван, обтянутый бархатом или плюшем, и дети сидят посередине, образуя нечто вроде пирамиды.
Две старшие девочки, Элизабет и Мэри, девушкам ближе к двадцати, они откинулись на спинку дивана и улыбаются младшим сестрам, Хелене и Кларе, которые сидят на некотором расстоянии, но обнимают друг друга за шею. Между ними, так что их плечи и лица образуют арку над его головой, расположился Александр; на лице у него искусственная улыбка. По виду ему лет десять, и никакого удовольствия он от этого мероприятия не получает. У всех девочек длинные кудри и ленты в волосах, и на каждой соответствующий возрасту передник поверх темного или полосатого платья. На моем отце норфолкская курточка[10] и галстук-бабочка. Перед ним на низкой скамеечке сидит Джордж, младший ребенок в семье, больной ребенок. На нем матросский костюмчик, в котором он не выглядит ни здоровее, ни крепче. Джордж прислонился к коленям брата, одна рука вытянута на диване, другая на коленях, ноги поджаты; он улыбается мягкой, довольно печальной улыбкой. Тут они все, шестеро детей, увековеченные (по крайней мере, до тех пор, пока существует альбом) «Кодаком» матери.
Я переворачиваю страницу. Вот она, сделанная Эдит фотография, — я знал, что она есть в альбоме, но не видел ее много лет. Это Генри в своем кабинете; он сидит за письменным столом, но смотрит в камеру, а перед ним лежит его знаменитый труд «Носовые кровотечения и предрасположенность к ним». Возможно, книга была лишь недавно опубликована и этот экземпляр ему вручили или прислали. Не исключено, что Эдит сделала снимок для того, чтобы запечатлеть момент появления в доме книги. В таком случае фотография датируется приблизительно 1896 годом — для лорда и леди Нантер это было счастливое время, поскольку именно тогда Генри стал пэром и у него родился младший сын. Он выглядит довольным собой, этот все еще красивый шестидесятилетний мужчина, только что выпустивший очередную книгу. Фотография сделана анфас, и поэтому точно сказать невозможно, но, похоже, у него сохранились все волосы на голове, хотя и сильно поседели. Лицо у Генри гордое, самодовольное, но приятное, а изгиб губ и живые глаза намекают на его знаменитое очарование. На этом снимке нет ничего, что помогло бы понять, почему младшая дочь сухо называет его «Генри Нантером».
После того как наша семья переехала в дом на Альма-сквер, мы с Сарой нашли сундуки в одной из комнат на чердаке. Сюда больше никто не поднимался. Мы открыли только один сундук. Внутри обнаружились вещи, обычно не вызывающие интереса у молодых людей: дневники, пачки документов и писем, выцветшие коричневые фотографии в толстых альбомах в мягких обложках из потрескавшейся кожи с латунными застежками, сертификаты и дипломы в желтых бумажных конвертах, а также книги, экземпляры которых имелись внизу. Разочарованные, мы не стали углубляться дальше нескольких верхних слоев. Прошло почти три десятка лет, прежде чем Сара прислала мне письмо Клары и я снова занялся содержимым сундуков.
3
Пожизненный пэр из числа лейбористов, имени которого я не помню, останавливается у меня за спиной и заглядывает мне через плечо. Он спрашивает, кто этот «парень», и я отвечаю, что мой прадед. Естественно, он тут же цитирует знаменитую фразу Генри — возможно, единственные умные слова, которые тот произнес в Парламенте: «Управляйте обстоятельствами и не позволяйте обстоятельствам управлять вами».
Скорее всего, первым это сказал Фома Кемпийский[11], а Генри лишь цитировал его в своей первой речи. Но все об этом забыли — а может, и не знали. Более злопамятные лорды не гнушаются напоминать мне другое известное высказывание Генри, которое зафиксировала официальная стенограмма: «Вопрос в том, каков ответ». Пожизненный пэр спрашивает, слышал ли я историю о старом лорде, которого оппозиция «притащила» сюда для голосования во время дебатов на прошлой неделе.
— Он был в туалете, одном из тех, что рядом с баром, и услышал весь звон и грохот. Он выскочил оттуда как ошпаренный, спрашивая у всех, что это за ужасный шум. Разумеется, это был звонок, извещающий о начале голосования. Бедняга ни разу в жизни его не слышал, поскольку не был в Парламенте сорок лет.
Я смеюсь, потому что это забавно, хотя и испытываю некоторую неловкость, и пожизненный пэр неторопливо удаляется. Из-за того, что я совершенно очевидно не принадлежу к аристократам, люди забывают о моем наследственном титуле и не задумываясь употребляют в моем присутствии такие выражения, как «избавиться от наследственных пэров». Если быть точным, они имеют в виду, что нужно лишить наследственных пэров права заседать в Парламенте и принимать законы, но даже это выглядит не слишком приятно. Я должен сделать над собой усилие и избавиться от излишней чувствительности, хотя все прошлые попытки терпели неудачу. «Управляйте обстоятельствами и не позволяйте обстоятельствам управлять вами». Дело в том, что такое возможно лишь до определенной степени. Интересно, понял ли это Генри? Я никак не могу повлиять на обстоятельства, которые скоро изгонят меня отсюда, — в конечном итоге все мы жертвы обстоятельств.
Я переворачиваю страницу альбома и вижу следующую фотографию. Даты нет, но это последний снимок Генри. Он в той же комнате, где сидел в 1896 году, подтянутый и щеголеватый, но теперь с ним два сына, здоровый и больной. Младшему мальчику лет восемь или девять — промежуток времени, отделяющий этот снимок от предыдущего. Сама комната изменилась. В ней меньше мебели и безделушек. На окне более светлые шторы. Но перемены в комнате не идут ни в какое сравнение с тем, как изменился Генри. С фотографии на меня смотрит старый, сломленный человек. С его лицом, кожей и поредевшими волосами произошла настоящая метаморфоза, словно на лицо, шею и руки накинули чехол из какой-то мятой, грубой и потертой ткани, полностью скрывший то, что девять лет назад оставалось от его юности. Александр сидит рядом с ним, и вид у него радостный и безмятежный. Джордж — до его смерти остается, должно быть, не более двух лет — прислонился к плечу отца, а Генри обнимает его. Я не могу понять выражение лица Генри. Печаль? Горечь? Безмерная усталость? Наверное, все вместе. Надеюсь, я это выясню, когда узнаю о нем все, что только можно.
На телевизионном мониторе появляются большие белые буквы на красном фоне: «Палата закрыта». Я убираю альбом в портфель и иду по коридору к комнате принцев, лестнице, гардеробной и выходу. Относительно новый пожизненный пэр, женщина лет пятидесяти, королевский адвокат и председатель какого-то общества, с эффектными белокурыми волосами и ногами, почти такими же красивыми, как у Джуд, выходит из дверей комнаты Бэрри и идет к синему ковру. Позади нее беседует парочка старых наследственных пэров, и один из них спрашивает другого: «Кто эта новая девушка?»
Это мне кое о чем напоминает, и я возвращаюсь в библиотеку, чтобы взглянуть. Здесь можно найти все, что угодно, — или по вашей просьбе это сделают сотрудники. Вот он, фрагмент речи графа Феррерса, направленной против закона, который должен был позволить — и в конечном итоге позволил — женщинам становиться членами Палаты лордов.
«Откровенно говоря, — сказал он, — я считаю присутствие женщин в политике в высшей степени неприятным. Они, как правило, жесткие, энергичные и властные. Некоторые даже не знают, что такое верность своей стране. Я не согласен с теми, кто утверждает, что женщины в Палате лордов будут нас вдохновлять. Посмотрите на фракцию женщин, уже заседающих в Парламенте — на мой взгляд, их нельзя назвать волнующим примером привлекательности противоположного пола. Я убежден, что существуют определенные обязанности и определенная ответственность, к которым, согласно природе и традициям, больше приспособлены мужчины, а некоторые обязанности природой и традициями предназначены женщинам. Общепризнано, что главную ответственность в жизни должен нести мужчина. Общепризнано — плохо ли, хорошо ли, — что мышление мужчины более логично и менее эмоционально, чем мышление женщины. Зачем же нам поощрять женщин к тому, чтобы они прогрызали, словно кислота в металле, себе дорогу на серьезные и ответственные посты, которые прежде принадлежали мужчинам?
Если мы допустим женщин в Палату, где тогда будет предел этой эмансипации? Неужели через несколько лет будем говорить: “Благородная и высокоученая леди, леди-канцлер”? Эта мысли приводит меня в ужас. Что нас ждет? Последуем ли мы довольно вульгарному примеру американцев, назначающих послами женщин? Будут ли наши судьи, к которым мы питаем такое глубокое и заслуженное уважение, избираться из сомкнутых дамских рядов? Если да, то я рискну предложить достопочтенному архиепископу Кентерберийскому свой скромный и уважительный совет: берегитесь, пока вы не лишились своего поста…»
Эта речь прозвучала не во времена Генри, а в 1957 году, причем Феррерсу было всего двадцать восемь лет, когда он произносил ее. Я кладу в карман копию официального отчета о заседании, чтобы показать Джуд, и возвращаюсь тем же путем, по золотым и темно-красным коридорам Пьюджина, с синим ковром на полу.
Это странное место, очень древнее, и мне не хочется с ним расставаться.
Генри учился в школе Хаддерсфилда. В пятнадцать лет он оставил школу ради шерстяной мануфактуры отца в Годби, где два года изучал разные технологические процессы. Зачем? Судя по письму его матери к сестре Мэри, отец Генри пришел в ужас, узнав о желании сына стать доктором медицины. Единственный выживший сын должен был продолжить семейное дело. Затем Амелия на двух страницах письма изливает свое горе из-за смерти Билли; по всей видимости, время не облегчило ее страданий. Будь Билли жив, пишет она, то однажды изучил бы все, что связано с фабрикой, и Генри мог бы пойти избранным путем. Наверное, признавать это было слишком болезненно — Амелия игнорирует тот факт, что ее младший сын страдал некой формой умственной неполноценности и никогда не смог бы вести бизнес.
По всей видимости, Генри тоже не был на это способен. В любом случае, в 1853 году, в возрасте семнадцати лет он стал помощником хирурга в Манчестере и поступил в Оуэнс-Колледж на Куэй-стрит. Похоже, это была одна из первых медицинских школ в стране. Отец уступил и положил Генри довольно щедрое содержание. Возможно, он увидел за медициной будущее. Профессия медика уже не считалась низким занятием, и врачей уже не называли «лекарями» и не сравнивали с «отворяющими кровь брадобреями», как в начале века, когда он был молод. В Оуэнс-Колледже и в Манчестерской Королевской школе медицины Генри получал медали по химии, фармакологии, практической хирургии, физиологии и анатомии, а в 1856 году в Лондоне на первом экзамене на звание бакалавра медицины получил золотые медали по анатомии, физиологии и химии.
Маркус Грейди, профессор фармакологии в Манчестерской Королевской школе медицины, написал взволнованное письмо отцу Генри. Его бережно хранили — сначала, я уверен, Амелия, а потом Генри — в одном из сундуков между листами папиросной бумаги.
Когда в прошлый четверг мне выпал жребий объявлять о наградах, я сделал то, что никогда прежде не делал перед лицом такого собрания. Под аплодисменты присутствующих я поздравил вашего сына. Конечно, это отступление от правил, но я ничего не мог с собой поделать — до такой степени был поражен содержанием его работ, их научным стилем, свидетельствами удивительно глубокого знания предмета.
Нетрудно понять, почему Генри хранил письмо. Через год он стал членом Королевского колледжа хирургов и получил лицензию лондонского Общества аптекарей. Совершенно очевидно, он знал, чего хочет, и понимал свое истинное призвание. Учась в Манчестерской Королевской школе медицины, Генри начал вести дневник, и — по всей видимости, впервые в жизни — у него появился настоящий друг. Это был молодой шотландец, Ричард Фокс Гамильтон, годом старше его, младший сын двоюродного брата Лахлана Алджернона Гамильтона, лорда Гамильтона из Лалоха. Все это Генри аккуратно заносит в свой дневник, в том числе полное имя друга и подробности пэрства его кузена. В те дни записи были гораздо пространнее, но даже тогда их никак не назовешь эмоциональными — максимум, менее бесстрастными, чем впоследствии.
В своем дневнике Генри пишет о родителях, о том, как они радовались его успехам, об увеличении суммы отцовского содержания, а летом 1859 года — о том, как пригласил Гамильтона к себе домой в Йоркшир, где тот познакомился с его отцом и матерью, и они все выходные гуляли по вересковым пустошам. Похоже, Ричард Гамильтон очень понравился Амелии — Генри пишет, что она восприняла его как замену своему умершему сыну Билли. Сам Генри, вероятно, никогда не рассматривался как претендент на это место в ее сердце.
Первой должностью, которую он занял, стало место живущего при больнице врача в лондонской больнице Св. Варфоломея. В этот период Генри написал две статьи для «Британского медицинского журнала»: «Геморрагические заболевания» и «Носовые кровотечения». Это были его первые публикации. Пожелтевший экземпляр журнала я нашел в одном из сундуков под связкой писем от Роберта Гамильтона. Прежде чем перейти в больницу Грейт-Нотерн, Генри впервые в жизни поехал за границу. Он намеревался в течение года учиться в Венском университете, признанном мировом лидере среди медицинских школ. Вне всякого сомнения, поездку финансировал отец, явно смягченный блестящими успехами Генри на ниве медицины. В Вене Генри продемонстрировал способности к языкам, всего за три месяца выучившись бегло говорить по-немецки.
Его мать сохранила все письма, присланные ей и отцу. Генри тоже делал копии.
Я обнаружил у себя, писал он, неожиданную способность к овладению иностранными языками. Прежде я не делал подобных попыток, за исключением латыни, которую вряд ли можно назвать разговорным языком. Здесь я познакомился со швейцарским джентльменом, который обещает за оставшееся время обучить меня своему необычному языку. Речь идет о романском, или ретороманском языке, производном от вульгарной латыни — таким образом, не совсем уж незнакомом для меня — и распространенном в южных районах Швейцарии.
Будучи в Вене, Генри позволил себе предаться двум своим любимым занятиям — пешим прогулкам и путешествиям по железной дороге. Из поезда в Зальцбург он любовался «восхитительным видом» на монастырь в Мельке, описывая его в письме как «одно из самых красивых сооружений, которые только может предложить мир». Генри насладился пешей экскурсией по австрийскому Тиролю, а позже поехал на Тунское озеро в Швейцарии, захватив с собой «Бедекер», знаменитый путеводитель, впервые изданный лет за тридцать до этого. Была ли у него возможность воспользоваться новоприобретенными знаниями ретороманского языка, он не пишет. Но эта поездка зародила в нем любовь — оставшуюся с ним на всю жизнь — к Центральной Европе, к ее горам и озерам.
Если Генри писал и Гамильтону, то эти письма не сохранились. В его отсутствие друг стал помощником врача в Университетском госпитале, и вместе они снимали комнаты на Грейт-Тичфилд-стрит. Генри вернулся в больницу Св. Варфоломея и в тридцать два года уже читал лекции по анатомии. Во время работы в больнице он написал свою первую книгу «Болезни крови». В течение многих лет она считалась основополагающим трудом по гемофилии и использовалась в качестве учебного пособия не одним поколением студентов-медиков. Генри стал членом Королевского колледжа врачей.
В том же году они с Гамильтоном отправились в пешее путешествие по Австрии, сняв гостевой домик в окрестностях Инсбрука. Оба писали домой, а Гамильтон еще и матери Генри — вне всякого сомнения, он дорожил ее любовью. Дружба Генри и Гамильтона была искренней и глубокой, однако со стороны Генри в ней могла присутствовать некоторая доля восхищения родственниками Роберта из числа шотландской аристократии. В своих письмах к родителям он несколько раз напоминает им, что Гамильтон состоит в родстве с лордом Гамильтоном из Лалоха. Похоже, ему нравилось водить дружбу со знатью. Время от времени на Грейт-Тичфилд-стрит с визитами приходила сестра Ричарда Кэролайн, которая была на несколько лет младше его и жила неподалеку, компаньонкой у тетки в мрачном доме на Перси-стрит. Генри в не свойственном для него порыве откровенности описывает в своем дневнике Кэролайн Гамильтон как «красивую молодую леди». Упоминания о ней встречаются несколько раз — Генри явно тянуло к ней. Он пишет о ее «изысканных манерах», скромности, любви к брату, заботе о беспомощной тетке. Был ли он влюблен в девушку? Возможно. Скорее всего, хотя это и выглядит странно, Генри был влюблен и в брата, и в сестру. Он пишет о них с большей любовью и восхищением, чем о любом другом человеке, чье имя в тот период встречается на страницах его дневника. Следует, однако, помнить, что Генри вообще никак не характеризует тех, кто появлялся в его жизни в последующие годы. Об их существовании — например, людей, с которыми он обедал, или знакомых, которым наносил визиты, — просто упоминается.
Он постепенно, но неуклонно завоевывал авторитет в своей профессии, занимал несколько должностей — лектор по сравнительный анатомии в медицинской школе при больнице Св. Марии, врач-консультант в лондонской инфекционной больнице и врач в Западной больнице. Каким-то образом Генри находил время писать вторую книгу, еще более объемную, чем первую, и приезжать в свои любимые Альпы. В 1872 году он стал профессором патологической анатомии в Университетском госпитале Лондона и одновременно открыл частную практику на Уимпол-стрит.
Ричард Гамильтон устроился на должность врача-консультанта в Королевскую больницу Эдинбурга и уехал туда в 1869 году. Его тетя умерла годом раньше, и Кэролайн вернулась под родительский кров. В дневнике нигде не говорится о том, что чувствовал Генри, лишившись двух самых близких друзей. Он пишет: «Гамильтон уехал в Эдинбург. Сегодня утром я проводил его на вокзал Кингс-Кросс и смотрел, как поезд увозит его на север». Поездам было суждено сыграть важную роль в жизни Генри, причем роль трагическую. Но если две трагедии — первая была связана с другом, а вторая с женщиной, с которой он обручился, — и заставили его отказаться от поездок по железной дороге, в записях об этом нет и намека. Несмотря на то что путешествия по железной дороге были одним из любимых занятий Генри, своей жизнью он (а я — своим существованием) обязан отказу от одной из них.
К тому времени, как брат Кэролайн уехал в Эдинбург, ее имя уже целый год не упоминалось в дневнике. Может быть, Генри попросил ее руки, но получил отказ? Это всего лишь предположение. У меня нет никаких оснований в него верить. Кэролайн больше ни разу не появляется в дневнике, однако Генри ведет регулярную переписку с Гамильтоном, и многие полученные от него письма аккуратно датированы и сложены в один из сундуков.
Гамильтон пишет о своей работе, о семье, о мисс Сюзанне Мюррей, своей невесте, на которой он так и не женился, а иногда о Кэролайн. В письме, полученном осенью 1874 года, описывается ее свадьба с врачом, состоявшаяся в Абердине. Гамильтон был шафером. В дневнике — записи в нем становятся все короче и сдержанней — об этом нет ни слова. Тем не менее Генри пишет о своих поездках в Шотландию в 1876 и 1879 годах, причем в первой из записей с необычной многословностью описывает прелести путешествия по железной дороге. Он остановился в доме родителей Гамильтона, вместе с Ричардом совершил пешую прогулку по Озерному краю Троссакс, а одним незабываемым вечером обедал в замке Лалох неподалеку от Данди, вместе с лордом и леди Гамильтон. В другой раз двое друзей провели две недели в Годби-Холле с матерью Генри, по-прежнему обожавшей Гамильтона и его отца, который теперь был болен.
Такого близкого друга у Генри больше не было, но более или менее адекватную замену Гамильтону он, похоже, нашел в лице Барнабаса Коуча, еще одного врача, с которым познакомился, по всей видимости, в период работы в Западной больнице. Письма от Коуча и копии писем, отправленные им Коучу, аккуратно сложены в одном из сундуков. Но если к Гамильтону Генри часто обращался «мой друг Гамильтон» или «РГ», а однажды даже «старина Гамильтон», то к Коучу исключительно по фамилии. То же самое относится к Льюису Феттеру, другому врачу, с которым Генри был знаком и изредка обменивался письмами.
Сегодня структура медицинской службы при дворе королевы Виктории выглядит весьма необычно. В ней состояли три штатных терапевта и три штатных хирурга — все они были консультантами королевы и ее лечащими врачами; один из терапевтов занимал должность главы медицинской службы, а другой главного хирурга.
Ступенью ниже располагались внештатные терапевты и хирурги. Тех, кто хорошо себя зарекомендовывал и смог завоевать благосклонность королевы, принимали в штат, тогда как штатных лейб-медиков, которые уже не справлялись со своими обязанностями вследствие возраста или нездоровья, выводили за штат. Кроме них, в многочисленной армии медиков состояли акушеры, окулисты и отиатры, а также аптекари. Последние были скорее врачами общей практики, чем поставщиками лекарств. Некоторые из них, аптекари двора, следили за здоровьем всех, кто не принадлежал к королевской семье, а другие, личные аптекари, обслуживали королеву и тех членов семьи, которые жили с ней. Часть медицинского персонала находилась в Виндзоре, часть — в Балморале, часть — в Осборне. Положение Генри в их иерархии с самого начала было особенным.
Королева назначила его внештатным лейб-медиком в 1879 году. Большинство ее врачей постоянно жили при дворе, однако Генри — несмотря на то что время от времени проводил несколько дней в Виндзоре и не раз сопровождал королеву на остров Уайт — сохранил должность профессора и свой дом в Лондоне. Начав с низшей ступени в иерархии придворных медиков, он все же находился на особом положении. Генри был консультантом королевы по гемофилии.
Всего через год службы он получил повышение и стал штатным врачом младшего сына королевы, принца Леопольда, страдавшего гемофилией, заболеванием крови, на котором специализировался Генри. Второй очерк в блокноте как раз посвящен присутствию заболевания в королевской семье, о чем Генри пишет с необычной для него откровенностью. Наверное, нет нужды говорить, что содержимое очерка не попало ни в письма, ни в воспоминания, ни в какой-либо из опубликованных трудов.
С конца прошлого века врачи имели, по крайней мере, общее представление, что гемофилия проявляется только у мужчин, но передается по наследству женщинами. Королева должна была знать, что именно она является носителем заболевания — она, и никто другой — и что болезнь унаследована ею от семьи Рейсс-Эберсдорфов, к которой принадлежала ее мать. Разумеется, королева известна своей склонностью отрицать факты и не признавать очевидное. В отношении болезни Его королевского высочества она продолжает настаивать, что в «ней нет ничего семейного» и это отдельный случай. Я не взял бы на себя смелость сообщить ей, что она является проводником недуга и виновата в появлении болезни у одного из ее сыновей и, вполне возможно, внука Фредерика Уильяма Гессенского (известного как Фритти), который умер восемь лет назад в двухлетнем возрасте, выпав из окна. Ей в каком-то смысле даже повезло, что болезнь передалась только одному из четырех сыновей и, насколько можно судить до настоящего времени, лишь одной из пяти дочерей, но подробнее об этом ниже.
Полагаю, мой поступок не принесет никакой пользы, даже если я смогу заставить себя рассказать ей. В любом случае это бесполезно, поскольку ущерб уже нанесен и при нынешнем состоянии науки не может быть компенсирован. Никто не знает, что принесет нам будущее в смысле знаний, но я молю Господа, чтобы стать Его орудием в изучении болезни и нахождении если не лекарства, то способа облегчения ужасных симптомов.
Маловероятно, что принцесса Беатрис когда-либо выйдет замуж, что ей позволят вступить в брак, поскольку королева бережет ее как зеницу ока, но если это случится, я буду со страхом — удивительным для меня самого — ждать рождения ее сыновей. Сам не знаю почему — возможно, интуиция, основанная на моем опыте, — я вижу в гладком, юном лице и изящной фигуре принцессы некое предостережение, предупреждение, что она является проводником гемофилии, как и ее сестра Алиса, великая герцогиня Гессенская.
В 1881 году королева пожаловала принцу титул герцога Олбани, хотя он по-прежнему жил при дворе и не имел собственной резиденции. Но если Генри был убежден, что не в состоянии смягчить симптомы гемофилии, то королева Виктория, похоже, думала иначе. В письме младшей дочери, принцессе Фредерике Прусской (впоследствии кронпринцессе, а затем императрице), она утверждала, что «была просто поражена улучшением здоровья Лео после того, как его лечением занялся доктор Нантер». До такой степени поражена, что в 1883 году произвела Генри в рыцари, и на латунной табличке на Уимпол-стрит он получил возможность выгравировать «Сэр Генри Нантер, кавалер ордена Бани»[12], за чем следовал перечень его научных званий.
Говорили, что именно это улучшение здоровья герцога Олбани убедило королеву дать разрешение на его брак, хотя раньше она была против. Его выбор пал на Хелену, или Хелен, принцессу Вальдек-Пирмонт, и в апреле 1882 года они поженились. Похоже, новобрачная была очень предана своему мужу-полуинвалиду. В своем дневнике королева Виктория писала, что во время свадебной церемонии он выглядел «больным и слабым». По прошествии стольких лет трудно понять, что такого сделал мой прадед, чтобы королева поверила в улучшение здоровья Леопольда. В апреле 1883 г. в Виндзоре, где его жена родила их первого ребенка, принцессу Элис Олбани, Леопольд растянул ногу. Для больного гемофилией кровотечение в суставы вследствие внешнего повреждения представляет серьезную опасность. Возможно, Генри смог уменьшить боль и успокоить королеву. Но каким образом ему удалось завоевать ее доверие и любовь, так что в этом же году она произвела его в рыцари?
Возможно, все дело в его знаменитом шарме. Мне представляется, что он был настоящим королем по части умения обращаться с больным. Высокий и очень красивый, Генри, вне всякого сомнения, мог быть искусным царедворцем. В его загадочном восхождении к славе есть еще один фактор. Той весной умер Джон Браун[13], и королева была в смятении. Глубоко опечаленная смертью своего верного шотландца, она могла искать утешения у Генри. Со временем Виктория успокоилась, и обычно это приписывается обращению к спиритизму, но разве нельзя предположить, что именно Генри в какой-то степени смог заменить королеве — «погруженной в печаль и глубоко несчастной», как она писала принцессе Фредерике — ушедших из ее жизни мужчин?
Прошло чуть меньше года, и Леопольд — к тому времени успевший зачать сына — умер в Каннах от мозгового кровотечения; его смерть стала результатом незначительной травмы, которую другие даже не заметили бы. Но трагедия не только не отдалила Викторию от Генри, а наоборот, как будто укрепила ее веру в него, и королева включила его в число личных эскулапов, присвоив титул королевского врача, хотя он и подчинялся сначала сэру Уильяму Дженнеру, а затем сэру Джеймсу Рейду, сменивших друг друга на должности главного штатного врача. Положение Генри было исключительным и в том смысле, что он никогда не жил в королевских резиденциях — его просто вызывали при необходимости.
В письме к Коучу он описывает поездку на поезде в Осборн, в 1883 году.
Путешествие на остров Уайт заняло три часа. Как ты знаешь, я нахожу путешествие на поезде чрезвычайно увлекательным занятием. Скорость и легкость, с которой эти железные кони, приводимые в движение паром, несутся галопом по стране, никогда не перестает меня изумлять, наполняя гордостью за прогресс науки и достижения промышленности. Я прошел на паровоз, где меня пригласили посмотреть на загрузку топки — не уверен, что использую правильные термины, но ты поймешь, — и я завороженно наблюдал за бесконечным процессом, когда полуголый человек, покрытый потом ото лба до пояса, бросал уголь лопатой. Солент мы пересекли на яхте Ее Величества. Пролив довольно узкий, но воды были неспокойными, и судно бросало из стороны в сторону; должен признаться, я испытывал сильную тошноту. Но все, разумеется, прошло, когда мы ступили на землю и я бросил первый взгляд на прекрасный, зеленый остров…
Джуд вернулась домой раньше меня. Сегодня ее очередь готовить, и она теперь на кухне, что-то делает с куриными грудками и грибами. Я приношу ей бокал вина и наливаю себе. Джуд выглядит моложе и счастливее, чем всю последнюю неделю. Надежда вернулась. У нее начался новый цикл, и она опять стала принимать фолиевую кислоту, женьшень, эхинацею, выписанное гинекологом лекарство, и все такое прочее. Вспомнив об этом, я перестаю смеяться — потому что ненавижу надежду. Не думаю, что ее следует включать в число добродетелей, приравнивать к милосердию и вере. И я полностью согласен с тем, что надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце[14].
Джуд уменьшает огонь под сковородкой и садится, держа в руках бокал. Она еще не сделала ни глотка и теперь говорит, что, возможно, ей не следует пить. Она где-то читала, что алкоголь провоцирует выкидыши. От этих слов я злюсь, хотя не показываю вида — надеюсь. Мне кажется, она растрачивает свою жизнь на мечты о ребенке, которого, по всей видимости, у нее никогда не будет. Я мягко возражаю, что врачи даже рекомендуют выпивать пару бокалов красного вина, но Джуд качает головой.
— Если я буду пить вино и так и не смогу… ну, ты знаешь, — теперь она всегда произносит эту фразу «ну, ты знаешь», — то потом буду думать, что если бы я не проявила слабость, возможно…
— Ты должна делать то, что считаешь правильным, — говорю я.
Джуд начинает рассказывать о новых рукописях, которые пришли к ней в издательство. Нельзя сказать, что она боится разговоров о зачатии и о детях — просто не хочет утомлять и раздражать меня. Думаю — почти уверен, — что ее тяготит сам факт существования у меня сына Пола. Джуд любит его и с радостью принимает, когда он приходит к нам, но Пол невольно служит ей напоминанием, что мне больше не нужно детей. Если их у меня больше не будет, я не стану несчастным, не буду роптать, и кроме того — не знаю, насколько это важно, — мне есть кому передать титул. Джуд это чувствует, причем интуиция ее не обманывает, хоть я и притворяюсь изо всех сил. Правда, здесь тоже есть своя сложность. Если изображать, что я хочу ребенка так же сильно, как жена, а у нас ничего не выйдет, то она будет считать, что подвела и разочаровала не только себя, но и меня.
Джуд спрашивает, что еще я узнал о Генри, и я передаю ей стопку бумаг — копии его заметок, которые я увеличил до удобочитаемого размера. Она листает их, останавливается примерно на середине стопки и начинает внимательно просматривать фрагмент лекции Генри, прочитанной перед каким-то благородным собранием, точно так же, как и я, заинтригованная его рассуждениями.
Эти заболевания переносятся кровью. В этом у нас нет сомнений. Но что такого содержится в крови, от чего одни люди заболевают гемофилией, а другие — геморрагической сыпью? Разумеется, некая субстанция, которая передается с кровью от пациента его потомкам. Нам очень трудно представить, как кровь отца может попасть к плоду в утробе матери и оказать на него влияние — свой вклад отец внес при зачатии, посредством семени. Но это должно быть так. Вся кровь выглядит одинаковой, но на самом деле она разная. Врачи пытались перелить кровь от одного человека другому или от одного животного к другому с 1665 года. Пипс [15] в своем дневнике упоминает о подобном эксперименте с собаками. Во Франции Жан-Батист Дени переливал пациентам овечью кровь, пока один из них не умер, после чего врача арестовали. С тех пор мы не добились существенного прогресса, хотя пять лет назад Джеймс Бланделл сообщал об успешных переливаниях крови. При смешивании красных кровяных клеток одного человека с сывороткой другого человека в большинстве случаев происходит слипание кровяных клеток, а иногда — их разрыв. Узнаем ли мы когда-нибудь, почему?
— Да, узнаем, — говорит Джуд. — Узнали. А когда Бланделл сообщал об успешных переливаниях? Зная это, ты можешь датировать документ пятью годами позже.
Я обещаю проверить, и Джуд откладывает бумаги, говорит, что ужин, наверное, готов, и спрашивает, буду ли я пить ее вино. За едой мы обсуждаем потрясающий роман, который она готовит к публикации; книга написана автором с, как мы теперь его должны называть, «азиатского субконтинента», и, по мнению Джуд, является одним из главных претендентов на Букеровскую премию. Книга рассказывает об институте брака в Индии, и пять главных событий в ней являются свадьбами. Джуд спрашивает, выяснил ли я что-нибудь о женитьбе Генри — когда это произошло и почему.
Я говорю, что люди сами не знают, почему вступают в брак, но Джуд возражает, что в ее случае причина ей хорошо известна. Мы улыбаемся друг другу поверх курицы с грибами, и я говорю: конечно, каждый человек знает себя, но знают ли другие?
— Ты говорил, Генри запал на Кэролайн Гамильтон.
— Похоже, только она вышла замуж за другого.
— А еще была та женщина, чей портрет написал Сарджент, — напоминает Джуд. — На календаре в кухне есть репродукция.
— На ней он тоже не женился. Она вышла замуж за человека по имени Каспар Рейвен.
— А Генри?
— Он женился на Луизе Эдит Хендерсон, которую всегда называл Эдит, — на моей прабабушке. В то время он уже был сэром Генри, известным и уважаемым врачом. Это произошло в 1884 году, и Генри исполнилось сорок восемь.
— А сколько лет было ей?
Я говорю, что Эдит родилась в 1861-м, и значит, ей было двадцать три. Большая разница, замечает Джуд, хотя для XIX века это обычное дело, а потом спрашивает, как он удовлетворял свои сексуальные потребности все эти годы. Она слышала, что в те времена в Лондоне было полно проституток. Генри приводил их домой или посещал бордели?
— Он содержал женщину в доме на Примроуз-Хилл.
— Откуда ты знаешь?
— Из того письма Клары, а также от внучки той женщины. Я собираюсь встретиться с внучкой через пару недель. На данный момент я знаю только, что женщину звали Джемайма Эшворт, хотя все знали ее как Джимми. Она жила в маленьком домике на Чалкот-роуд, который Генри купил, или скорее снимал, для нее.
Джуд спрашивает, есть ли в дневниках и письмах Генри какие-либо свидетельства существования Джимми Эшворт, и я рассказываю ей о пентаграммах.
— Я не совсем понимаю, что ты подразумеваешь под словом «пентаграмма».
— Что-то вроде звездочек, пометок в тексте. Ты берешь ручку или карандаш, проводишь диагональную линию снизу вверх, потом вниз под углом сорок пять градусов к первой, потом снова вверх, чтобы она пересекла первую посередине, потом горизонтально и, наконец, вниз, пока не получится пятиконечная звезда. — Я показываю Джуд, как это делается, на листке бумаги, используемой для списка покупок, который мы прикрепляем к пробковой доске. — Пентаграммы в дневнике Генри встречаются в среднем два раза в неделю на протяжении девяти лет, начиная с 1874 года.
Я тут же вспоминаю: кто-то говорил мне, что женщины так отмечают дни начала месячных, ожидаемые или реальные, и кровь бросается мне в лицо. Джуд, похоже, ничего не замечает. Внезапно до меня доходит, что первая пентаграмма появляется в дневнике в день свадьбы Кэролайн Гамильтон в Абердине. Интересно, это совпадение или нечто намеренное? Может, Генри говорит: «Она не будет моей, все кончено, и поэтому я могу забыть о морали и завести себе любовницу?»
Мы отнесли посуду на кухню, и теперь моя очередь мыть посуду. При наличии посудомоечной машины задача нетрудная, особенно если вы ленивы и загружаете в нее кастрюли, как это делаю я. Джуд смотрит на календарь и листает его страницы назад, к февралю, пока не появляется лицо миссис Каспар Рейвен. Под репродукцией портрета информация, что Сарджент написал его в 1894 году. Ей тогда было тридцать четыре или тридцать пять, и это красивая женщина того же типа, что и Джуд (о чем я сообщаю ней), но, конечно, не такая стройная. Оливия Рейвен — пухлая, как того требовала тогдашняя мода, дама с высокой, полной грудью, округлыми руками и мягкими белоснежными плечами; на ней серовато-белое шелковое платье с глубоким вырезом, а на шее жемчужное ожерелье. Тонкая талия, похожая на узкую колонну, перехвачена лиловым кушаком. Волосы у нее — такие же, как у Джуд, темно-каштановые, почти черные, густые и слегка вьющиеся — подняты вверх, а один волнистый локон падает на плечо. Сарджент с удивительным искусством изобразил ее сияющую кожу и влажные красные губы. Женщина выглядит ухоженной, капризной, избалованной и, что неудивительно, любимой.
— Ей бы не помешало сбросить пару стоунов[16], — замечает Джуд, — хотя, наверное, тогда любили таких женщин. Она действительно мила. Почему Генри на ней не женился?
— Кто знает? Кроме красоты, у нее было много денег. По меркам семьи Бато — отцом Оливии был сэр Джон Бато — Генри не считался состоятельным, хотя был красив, удостоен рыцарского звания и лечил королевскую семью.
— У тебя есть его фотография в молодости?
— Свадебная. Сорок восемь — это молодость?
Джуд ухмыляется и говорит, что да.
— А как выглядела Джимми Эшворт?
Я понятия не имею. Может, внучка знает? На данный момент мне практически неизвестна эта сторона жизни Генри. Фамилия внучки не Эшворт, а Кимбелл, миссис Лаура Кимбелл, и она может быть дочерью сына или дочери Джимми, которые могли родиться как до Генри, так и после него. Через две недели я надеюсь это выяснить, хотя и опасаюсь, что миссис Кимбелл может оказаться очень старой дамой. Почерк в ее письме дрожащий и неровный. Ее дочь, с которой я разговаривал по телефону, сказала, что мама прекрасно держится для ее возраста, и эти слова прозвучали для меня предупреждением.
Я иду к себе в кабинет, беру дневник Генри и его свадебную фотографию, которую так и не поместили в рамку, а оставили в первоначальном обрамлении из тисненого кремового картона с белой шелковой лентой и серебряными завитушками по углам. Фотография хранилась не в сундуке, а среди вещей двоюродной бабушки Клары. После ее смерти они перешли к моему отцу. Мы с Джуд садимся на диван и вместе рассматриваем снимок. На нем дата: октябрь 1884 года. Они поженились в Блумсбери — там жили родители Эдит, на Кеппел-стрит; это довольно милый район, но очень далеко от Гросвенор-сквер, где находился дом сэра Джона Бато.
Генри очень красив в своей визитке — высокий и худой, в тот момент гладко выбритый. Усы появились позже. Волосы у него густые и все еще темные, хотя на фотографии седина могла быть и не видна. Джуд говорит, что его лицо напоминает ей первого президента Буша, и я понимаю, что она имеет в виду. Если бы я не знал его возраста, то дал бы ему лет на десять меньше, хотя подозреваю, что в то время фотографии ретушировали — впрочем, как и сегодня. На невесте невероятное количество белого шелка, расшитого жемчугом, а вуаль прикреплена к сложной конструкции из белокурых локонов при помощи жемчужной тиары. В руках у нее — по моим предположениям — молитвенник в переплете из белого бархата с длинной ленточкой-закладкой, она свисает на кринолин, и к ней каким-то образом прикреплены белые розы. Губы у нее полные, нос курносый, подбородок довольно маленький, но глаза красивые, большие и темные.
Генри и Эдит, мои прадед и прабабка. Помешанный на крови Генри, врач-гематолог, и его невеста, в два раза младше его. После того как их сфотографировали, он переоделся в дорожный костюм, какие носили в 1884 году мужчины среднего возраста (это мне еще предстоит выяснить), а она — в дорожное платье и шляпку, и новобрачные отправились в свадебное путешествие, в Рим и Неаполь. Кстати, именно туда Генри собирался поехать после свадьбы с умершей сестрой Эдит. Вероятно, в те времена, не знавшие зимних видов спорта, в феврале месяце Австрия и Швейцария считались слишком холодными.
— Что случилось с Джимми Эшворт? — интересуется Джуд.
— Ее бросили, — говорю я. — Печально, но таковы судьбы содержанок. Маловероятно, что Эдит знала о ее существовании.
— Я начинаю испытывать антипатию к Генри.
Я улыбаюсь и говорю, что, несмотря на все его очарование, приятным человеком Генри не назовешь. Хотя прежде, до событий 1879 года, он был гораздо милее. Событий ужасных и одновременно удивительных. Мы все слышали истории о людях, которые опоздали на самолет, приехав в аэропорт на две минуты позже, а через час самолет разбивался и все пассажиры погибали. Нечто подобное произошло с Генри, когда в канун Нового года он вместе с Гамильтоном поехал в Шотландию; это было за пять лет до женитьбы.
4
В законопроекте говорится, что никто не должен быть членом Палаты лордов в силу наследственного пэрства. Носитель наследственного пэрства в силу этого пэрства не будет дисквалифицироваться для голосования на выборах в Палату общин или членства в Палате общин. Когда законопроект станет законом, то вступит в силу по окончании парламентской сессии, на которой его примут, и получит название «Акта о Палате лордов 1999 года». И всё — это очень простой законопроект. Хотя провести его будет совсем не просто.
Некоторые пэры, причем не обязательно те, чей наследственный титул насчитывает несколько сотен лет, полагают, что право управлять даровано им Богом. Хотя они мало что могут сделать, заседая здесь, — впрочем, как и все мы. Правительство обладает подавляющим большинством в Палате общин, и почти все наши решения могут быть отменены. Единственное, на что мы способны, это отсрочить принятие закона или внести в него поправки. Вне всякого сомнения, в пожизненном пэрстве нет ничего плохого. Пока только средства массовой информации, ворчащие о назначенцах и друзьях премьер-министра, высказывают осторожные сомнения в их праве занимать свое место. Все может измениться, когда воинствующие наследственные пэры возьмутся за оружие. Приятно быть наследственным пэром, чей предок приятельствовал с Карлом I или женился на любовнице Карла II, но это было так давно, что все уже забыли, откуда все началось. Мы — наследственные пэры, получившие титул от прадедов и дедов, которые были послами, губернаторами колоний, фельдмаршалами, адмиралами, членами кабинета министров и, как в моем случае, лейб-медиками, — оказались между двух огней; наше пэрство не освящено временем и не оправдано сознанием личной избранности.
Все это я объясняю Полу за ленчем в гостевой столовой Палаты лордов. Я и не предполагал, что буду обсуждать эту тему, пока он меня не спросил. Похоже, услышанное ему не понравилось — такую реакцию я часто наблюдал, когда мой сын начинал настаивать на получении какой-либо информации. Словно он ждал, что рассказчик ради него подправит неприятные факты. Кто-то — Т. С. Эллиот? — сказал, что человеческие существа не могут вынести слишком много реальности. Это справедливо для Пола, и я, как всегда, задаю себе вопрос: не в том ли причина, что мы с Салли расстались, когда ему было всего шесть, и не стало ли это первой реальностью, от которой он научился бежать.
— Я никогда не буду называть себя лордом Нантером, — заявляет он.
Эти слова вызываю у меня улыбку, и я шутливо отвечаю, что он может еще передумать, и времени для этого еще достаточно — мне всего сорок четыре.
— Титулы отомрут, — настаивает Пол. — Это будет логичным продолжением реформы. Вы получите то же самое, что в Европе, где много графов и все такое, но все остальные забыли об этом, и только снобы упоминают их титулы.
— Возможно, ты прав.
— Да, причем в двух аспектах. Я прав, когда говорю, что ты не должен заседать тут просто потому, что твой прадед выписал несколько рецептов их королевским высочествам, и прав, когда говорю, что в этом году все закончится.
— Ты не особо деликатничаешь.
Пол печально улыбается. У него такая привычка — грубо формулировать свои мысли, и он радуется упрекам, даже едва заметным, и, похоже, черпает в них силу. Мой сын любит, когда его ругают. Пожалуй, я ошибаюсь, когда говорю, что шкура у него толстая, как у носорога; психологи возразят мне, что это лишь панцирь, скрывающий его чувствительность, на что я отвечу, что он мог меня обмануть. Полу почти девятнадцать; он умен и учится в Бристольском университете. Внешняя броня, умение быстро схватывать все, что привлекает его внимание, и готовность к битве с противником — все это, на мой взгляд, со временем сделает его идеальным политиком. К тому времени для попадания в Палату общин ему даже не нужно будет отказываться от пэрства.
Я заказываю кофе и спрашиваю Пола, как поживает его мать. Все хорошо, отвечает он — по крайней мере, ему так кажется. Последние несколько лет Салли живет в независимой коммуне на Внешних Гебридах, и Пол говорит, что не пишет ей обычных писем, только электронные — по его словам, это освобождает от каких-либо обязательств. В любом случае никто не ждет, что он в апреле месяце отправится на далекий шотландский остров, даже если бы у него хватило денег на билет. Мы пригласили его к себе на Пасху — в конце концов, это и его дом, — но он предпочитает остаться в квартире друга на Лэдброук-гроув, и я прекрасно его понимаю.
— Можно мне пудинг? — спрашивает он, словно маленький мальчик.
Эти его слова трогают меня, как в тех редких, очень редких случаях, когда он называет меня папой. Мне хочется обнять его, как в давние времена, до ухода Салли, и увести с собой, но об этом не может быть и речи — теперь уже навсегда. Приближается тележка со сладостями, и Пол берет себе профитроли в шоколадном соусе. Он выше меня и гораздо красивее. Я замечаю, что другие посетители столовой, пэры и их жены, женщины-пэры со своими мужьями, украдкой бросают на него взгляды. За столиком под портретом Генриха VII сидит бывший премьер-министр. Он заметил Пола, узнал его и удостоил взмаха руки и кивка. Слава богу, мой сын улыбается в ответ и наклоняет голову. Я подозреваю иронию, но никто об этом не догадывается.
В четверть третьего все приходит в движение, потому что заседание Палаты начинается в два тридцать. Все здесь поражает необыкновенной точностью, организация великолепная, никто ничего не пропускает и не забывает; кофе подают так, чтобы пэрам хватило времени его выпить, оплатить счет — хотя это можно сделать завтра или на следующей неделе — и прошествовать в прихожую и в залу Палаты лордов. Никакой спешки, никакой суеты, и в то же время все очень пунктуально. Мария прошла мимо нашего столика и улыбнулась мне — ее улыбка означает, что она и не думает получить от меня оплату раньше следующей недели, — а Фарук убрал тарелку Пола. Мы встаем.
Последний раз я приводил сюда сына, когда ему было шестнадцать, робкого и не такого уверенного в себе, как теперь. Швейцары назвали его тогда «достопочтенным мистером Нантером», дали расписаться в журнале и указали на ступени трона, где имели право сидеть старшие сыновья пэров.
С одной стороны, я был бы рад, если бы Пол приходил в зал заседаний. Я бы с гордостью смотрел, как он сидит на ступеньке, которая на самом деле представляет собой мягкое сиденье, прислонившись спиной к высокому сооружению, так ярко сверкающему золотом, что если долго на него смотреть, глазам становится больно, под воображаемым балдахином, ниже священного кресла, на котором имеет право сидеть только монарх. Через полчаса, после того как закончились вопросы, я бы поймал взгляд своего сына, и мы бы вместе вышли. С другой стороны, я боялся бы, что он что-нибудь натворит, будет вести себя неподобающе. Нет, не крикнет и не сделает провокационного заявления, после чего его удалят из зала, а обхватит голову руками или обведет Палату таким взглядом, который бросает на меня теперь, когда мы идем по коридору к комнате принцев, — надменным, осуждающим и слегка скептическим. Такой взгляд свидетельствует, что в это раз Пол отвергает ступени трона. Вполне вероятно, такой возможности больше не представится, но ему все равно.
— Я лучше пойду, папа, — говорит он, и мое сердце, естественно, тает. Я хочу, чтобы он остался. Тот факт, что в четыре часа у меня назначена встреча с людьми, которых мне очень нужно увидеть, уже ничего для меня не значит. Я спрашиваю его, на самом ли деле он не хочет в зал заседаний.
— А какой в этом смысл? — мрачно произносит Пол. — Скоро дорогу сюда мне все равно закроют, — жалуется он, словно я несу личную ответственность за законопроект о реформе.
Я спускаюсь с ним вниз и уже на улице, возле входа для пэров повторяю приглашение приезжать на Альма-сквер, когда ему захочется. Пол благодарит, замечая, что его все и так устраивает, а потом портит идеально сформулированный отказ, прибавляя, что, по его мнению, нам с Джуд больше никто не нужен. Я заметил, что в последнее время он говорит о нас так, словно у нас еще продолжается медовый месяц или мы парочка влюбленных подростков, которые только что стали вместе жить. Я бросаю на него последний взгляд, когда он стоит перед разодетой статуей Георга V на противоположной стороне улицы, — вероятно, окидывает ее своим скептическим взглядом. Но Пол стоит ко мне спиной, и я не могу видеть его лица.
Я заглядываю в канцелярию, беру стенограмму вчерашнего заседания, вхожу в зал во время первого устного вопроса и сажусь позади лорда Куирка, перед лордом Нортборном. Вопрос мне не очень интересен, и я тайком читаю записи вчерашних дебатов. Здесь разрешено читать, но только не газету и не книгу — это осуждается, и их могут конфисковать. Официальные стенограммы разрешены. В 1877 году казначейство выделило фирме «Хансард» субсидию, чтобы они наняли четырех репортеров и освящали работу палаты полнее, чем прежде, когда отчеты составлялись по газетным статьям. Генри стал членом Палаты лордов в 1896-м, но прошло еще тринадцать лет, прежде чем «Хансард» стал считаться официальным стенографическим отчетом, а его текст «полным». К тому времени Генри уже умер. Тем не менее соответствующие «Парламентские дебаты» вполне адекватно передают те несколько речей, которые он произнес после своего первого выступления. Я поднимаю голову и представляю его где-нибудь на стороне «духовных» лордов, когда власть принадлежала тори, гордого собой и, возможно, слегка смущенного, поскольку пэры по обе стороны от него принадлежат к древним дворянским фамилиям, а он сам носит титул первым в роду. Неужели только англичане, или только европейцы, ценят кровь (гены или ДНК, как их теперь называют) выше достижений?
Когда я решил написать биографию Генри, то разместил в «Таймс», «Спектейтор» и многих других изданиях объявления с просьбой откликнуться потомков тех людей, кто его знал, а также тех, у кого сохранились письма или документы, в которых есть упоминания о нем. Объявление в «Таймс» все еще публикуется и, как я надеюсь, должно принести дополнительную информацию. Естественно, я получил десятки откликов. Оставалось лишь отделить полезное от бесполезного. Среди ответивших мне людей были две женщины, которые придут сегодня днем. Они не похожи на читателей «Таймс», но младшая из них объяснила, что о моем объявлении ей рассказал сын.
Мне придется вернуться в зал заседаний Палаты, но не теперь. Комната Солсбери манит меня, и я проскальзываю туда и опускаюсь в одно из скользких кожаных кресел. Эти кресла, особенно приземистые черные, как будто специально сделаны так, чтобы сидящий в них человек не заснул — спинки слишком низкие, а сиденья слишком длинные. Лорд Солсбери (вернее, его бюст) смотрит сквозь меня на реку и больницу Св. Фомы, напоминая мне, что никому не позволено умереть в Парламенте. Предположительно это правило как-то связано с тем, что расследовать смерть всякого, кто умер в монаршей резиденции, должен королевский коронер, а это либо слишком сложно, либо слишком дорого — без разницы, как выражается мой сын. Всех умерших карета «Скорой помощи» доставляет в больницу Св. Фомы, и смерть констатируется после прибытия туда.
Я читаю стенограмму заседаний, а потом газету «Гардиан» — с таким вниманием, словно сижу на правительственных скамьях. «Гардиан» напоминает читателям о доктрине Солсбери — уместной в этой комнате, — утверждающей, что любое намерение, присутствующее в манифесте политической партии, следует считать волей народа, если партия побеждает на выборах и формирует правительство. Но мне почему-то кажется, что это правило не поможет сломать лед в отношениях с оппозицией, когда наступит время голосовать за права наследственных пэров, хотя правительство недвусмысленно заявило о своем намерении отменить их право заседать в Парламенте.
Я вспоминаю своих предков. Генри просто исполнял свой долг — произнес первую речь, иногда приходил на заседания, время от времени брал слово, — но Александр редко посещал Палату. Конечно, ему было всего четырнадцать, когда он унаследовал титул, но после возвращения из армии в 1918-м он за несколько лет жизни на родине, прежде чем уехать на юг Франции, показывался в Парламенте всего один раз, и еще пару раз — в тридцатых годах. Возможно, его раздражало, что в зале Палаты лордов не разрешено курить. Мой отец был исполнен сознания своего долга. В Парламенте профессия адвоката дает определенное преимущество, и он произнес пышную речь, посвященную чрезвычайно гуманной теме — запрету смертной казни. Затем он приходил сюда регулярно, раз в неделю, но больше никогда не выступал, если не считать редких дополнительных вопросов. Я регулярно присутствую на заседаниях, хотя не могу сказать, что внес какой-то запоминающийся вклад в работу Парламента или что мое отсутствие — после того, как законопроект станет законом, — будет заметно.
Вернувшись на полчаса в зал, я пытаюсь вникнуть в череду поправок, которые мне не нравятся и против которых я буду голосовать, если их поставят на голосование. Меня клонит в сон. Тут можно и вздремнуть, если тебе за шестьдесят, но на более молодых смотрят косо. Если вы оказались позади министра и вдруг задремали, служащий подойдет и деликатно вас разбудит, напомнив, что как только министр возьмет слово и встанет, вы тоже появитесь на телевизионном экране, храпящий, с приоткрытым ртом.
Без пяти четыре я спускаюсь по лестнице, сажусь в похожее на трон кресло справа от камина и жду прихода миссис Кимбелл и миссис Форсайт, двух женщин, ответивших на мое объявление. Я пытаюсь представить, какие они: миссис Кимбелл, наверно, маленькая и круглая, с седыми волосами, а ее дочь с похожей фигурой, но каштановыми завитыми волосами, обе одеваются в универмагах «Маркс и Спенсер», обе робкие, подавленные величием этого места. За столько лет можно было бы уже понять, что подобные фантазии бессмысленны, потому что я всегда ошибаюсь. На этот раз еще больше, чем обычно. Вращающиеся двери резко распахиваются — с такой уверенностью, как правило, входит лорд Крэнборн или леди Блэтч — и впускают двух высоких худощавых женщин с агрессивным выражением на лицах. У каждой в руках портфель. Разница в возрасте между ними, как минимум, шестнадцать лет, а скорее, года двадцать три, поскольку это мать и дочь, но выглядят они как сестры примерно одного возраста.
Мы пожимаем друг другу руки. Миссис Кимбелл около восьмидесяти, но держится она прямо, как восемнадцатилетняя девушка, а ее волосы выкрашены в густой черный цвет, что странно контрастирует с бледным, морщинистым лицом и темно-красной губной помадой. У ее дочери меньше морщин, а волосы темно-каштановые. Обе в плащах, длинных, темных, с поясами, поверх повседневных шелковых платьев в цветочек, бордового с белым и разных оттенков зеленого с белым. Швейцар берет у них плащи, и я спрашиваю, не нужно ли просветить сумочки дам с помощью рентгеновской установки, однако он отвечает: «Нет, если дамы ваши гости, милорд», — что вызывает у меня смешанные чувства. Благодарность к вежливому и внимательному персоналу смешивается с какой-то не очень приличной надеждой, что швейцар не принял миссис Кимбелл и миссис Форсайт за моих родственников.
Они более уязвимы, чем кажутся на первый взгляд. И более застенчивы. Огромная гардеробная и вешалки с именами августейших особ, таких как герцог Эдинбургский и принц Уэльский, ошеломляют большинство людей, и Лаура и Дженет (так они просят себя называть) не исключение. Дженет Форсайт интересуется, приходит ли сюда «принц Филипп», и я вынужден признаться, что ни разу не видел его, за исключением официальных открытий сессии Парламента, когда он сопровождает королеву. Она спрашивает, пользуется ли принц вешалкой, но этого я не знаю. Мы поднимаемся по громадной лестнице — еще одно потрясение для новичков, — и я показываю гербы на стенах, нарисованные семьей художников, где эта привилегия передается по наследству, от отца к сыну.
Худощавые лица, правильные черты и оливковая кожа матери и дочери — все это мне кого-то напоминает, но я не могу вспомнить, кого. Наверное, какую-нибудь фотографию или телевизионные кадры. Теперь нас буквально бомбардируют изображениями. Мы проходим через комнату принцев, и мне приходится предупредить, чтобы гости говорили тихо и быстро пересекли синий ковер; снова оказавшись на красном ковре, Лаура говорит, что принесла показать мне свидетельство о браке своей бабушки. Она настаивает, чтобы я взглянул на него немедленно, так что мы садимся на обтянутые красной кожей скамьи напротив картины, изображающей заседание Палаты лордов в те времена, когда многие пэры носили шелковые шляпы. У меня мелькает подозрение — это длится не больше двух секунд, — не предъявит ли она мне доказательство, что Генри тайно сочетался браком с Джимми Эшворт, что делает его многоженцем, а претензии его потомков от брака с Эдит Хендерсон заседать в Палате лордов несостоятельными. Но в брачном свидетельстве нет ничего особенного. В нем просто говорится, что 30 октября 1883 года в приходской церкви Девы Марии Джемайма Энн Эшворт, двадцати восьми лет, дочь Джорджа Эдварда Эшворта из Соммерс-Тауна, была обвенчана с Леонардом Уильямом Доусоном, тридцати трех лет, носильщиком, проживавшим на Лиссон-Гроув в Мэрилебоне.
— Мою мать звали Мэри Доусон. Она родилась в следующем году, — говорит Лаура.
А где же был Генри? Вероятно, переносил свои чувства с Элинор на Эдит. Без дневника, который остался у меня дома, я не могу вспомнить, когда в нем исчезают пентаграммы, хотя уверен, что это произошло в 1883 году. Лаура спрашивает, не хочу ли я «записать» подробности из брачного свидетельства, но я отвечаю, что у меня есть идея получше, и сворачиваю за угол, к ближайшему копировальному аппарату; дамы стоят за моей спиной и наблюдают за процессом.
Затем мы идем в гостевую столовую Палаты лордов. Это помещение всегда внушает благоговейный трепет, но сегодня особенно — за одним из столиков сидит баронесса Тэтчер в окружении внимательно слушающих ее мужчин. Лаура и Дженет смотрят на нее во все глаза, словно раньше сомневались, что она реальный человек. Для нас троих зарезервирован столик, и я прошу принести индийский чай с сэндвичами, кексами и печеньем. Судя по экрану на стене, обсуждается 32-я поправка к законопроекту, двусмысленная, с которой я не согласен, и скоро ее поставят на голосование. Лаура спрашивает, хочу ли я, чтобы она рассказала все, что знает, о романе (это ее выражение) бабушки с доктором Нантером, но как только я с воодушевлением соглашаюсь, на экране появляются белые буквы «ГОЛОСОВАНИЕ» и мерцающий символ колокольчика и раздается звонок.
Подобно наследственному лорду, не посещавшему Парламент сорок лет, Дженет спрашивает, что это за ужасный шум. Начался пожар? Я объясняю, как могу, и говорю, что вернусь через пять минут — к тому времени как раз принесут чай с сэндвичами.
Лаура успокаивается и просит не волноваться — она сама разольет чай, а я могу отсутствовать столько, сколько нужно. Обычно на голосование отводилось шесть минут, но после давления, оказанного пэрами, поддерживающими правительство, это время увеличили до восьми минут. Для меня их более чем достаточно — я против поправки и поэтому прохожу через холл для тех, кто не согласен, причем мне не требуется даже называть свое имя, поскольку меня узнают еще до того, как я подхожу к клерку[17]. Парламентский организатор от лейбористской партии улыбается мне и шепчет: «Еще не все». Его распоряжение ко мне не относится, поскольку я не подчиняюсь партийной дисциплине, но у меня вдруг возникает желание поддерживать правительство все то время, что мне осталось провести в Парламенте. Я возвращаюсь в столовую, пережившую «великий исход» — похоже, первым. Лаура и Дженет с удовольствием поглощают сэндвичи с огурцом и выглядят явно бодрее, чем раньше.
— Все в порядке? — спрашивает Дженет.
Я не очень понимаю, что она имеет в виду, и поэтому киваю, улыбаюсь и прошу Лауру рассказать о Джимми Эшворт. Из конверта с брачным свидетельством она достает еще какую-то вещь. Это одна из тех почтовых открыток, которые были популярны в эпоху Эдуарда и Виктории, — предшественница прикрепляемых на стену фотографий красоток времен Второй мировой войны и современных газетных вырезок с портретами фотомоделей. Знаменитые красавицы эпохи — так их можно назвать. Джимми Эшворт (подпись под фотографией Джемайма «Джимми» Эшворт) похожа не на миссис Лэнгтри[18], а скорее на Оливию Бато, а значит, и на Джуд. Это очень удачный снимок, поскольку шелковое платье женщины имеет глубокий вырез, открывающий великолепные груди, между которыми исчезают нитки жемчуга. На Джимми белые перчатки до локтя и корсаж с пышными цветами, похожими на лилии и стефанотис. Жемчуг сверкает также в искусно уложенных темных волосах и на браслетах, надетых поверх перчаток.
— Она очень мила, правда? — спрашивает Лаура.
Я соглашаюсь, поскольку ничего другого мне не остается, но если откровенно, мне кажется, что к ее красоте примешивается холодный расчет и что-то еще, не жадность и не «бессердечность», как можно было бы ожидать, а — это пугает меня самого — безысходность. Наверное, более подходящим было бы слово «отчаяние» — оно не столь глубокое, как безысходность. На фотографии Джимми Эшворт очень молода — до двадцати восьми далеко, — но она уже ничего не ждет от жизни, хотя и снимается для серии открыток с изображениями самых известных красавиц. Я спрашиваю Лауру, как с ней познакомился мой прадед, и по ее ответу понимаю, что процесс «обеления» всего, что только можно, уже начался.
Я могу понять, когда в рассказе, предназначенном для чужих ушей, люди находят убедительные объяснения поведению своих мужей, жен, детей и даже родителей. Это естественно, когда человек не хочет иметь отношение к мошенничеству, обману и даже неудаче или расточительности. Но бабушка? Кому какое дело до поступков бабушки? Какое значение в конце XX века имеет тот факт, что в XIX веке чья-то бабушка была не такой целомудренной, как от нее можно было бы ожидать? Что она заводила отношения с мужчинами только ради материальной выгоды? Что она была содержанкой? Кое-кто даже гордился бы этим, относил бы к числу занятных причуд своих предков. Но только не Лаура Кимбелл; она тут же начинает рассказывать, что Генри привел в «квартиру» Джимми кто-то из друзей, и он же их познакомил. Мог ли мой прадед видеть открытку из серии красавиц? Они познакомились, по всей видимости, в 1874 году, когда Джимми было девятнадцать. Я спрашиваю, где находилась квартира, но Лаура не знает. Все это, поясняет она, рассказывала ей мать, которую я тут же начинаю подозревать в том, что именно мать и приукрасила факты. Скорее всего, произошло следующее: приятель Генри «содержал» Джимми, возможно, подобрав ее на улице, а когда девушка ему наскучила — или он собрался жениться, — передал ее Генри.
Генри «безумно влюбился» в Джимми и, разумеется, она в него.
— Они были созданы друг для друга, — говорит Лаура. — Доктор Нантер очень хотел на ней жениться, все время просил ее руки, но она каждый раз ему отказывала.
Я спрашиваю почему — ведь они любили друг друга.
— Отец доктора Нантера был против. Он категорически запрещал сыну иметь какие-либо отношения с моей бабушкой. Вот почему влюбленные встречались тайно. Вот почему он снял тот маленький домик у черта на куличках — в то время это было у черта на куличках. Чтобы не узнал отец.
Я сочувственно киваю. Нет смысла говорить ей, что в 1874 году Генри было тридцать восемь, он уже более десяти лет не получал содержания от отца, а самое главное, что старый владелец мануфактуры умер в 1873-м, пролежав два года парализованным после удара. Генри не женился на Джимми Эшворт потому, что в 1870-х мужчины его положения не брали в жены таких женщин. В их глазах все люди делились на три пола: мужчины, добропорядочные дамы и падшие женщины. Добропорядочной женщиной в жизни Генри была Оливия Бато, она пребывала на пьедестале, тогда как Джимми, если когда-либо и поднималась туда, то давно была с него свергнута.
Если Лаура думала, что я ей поверю, то, наверное, пыталась бы убедить меня, что отношения между Джимми и Генри были исключительно невинными и Генри время от времени просто приезжал на чай к любимой женщине, но ни разу не тронул ее даже пальцем. Наверное, она понимает, что это было бы слишком даже для меня. Лаура окидывает меня испытующим взглядом и признает, что у нее нет фотографии с изображением ее бабушки и моего прадеда. В те времена процесс фотографирования был долгим и утомительным, не таким, как сегодня, что позволяло от него уклоняться. Лаура рассказывает мне о драгоценностях, которые Генри дарил Джимми — часть их перешла к ней. Не хочу ли я взглянуть на фотографию ее дочери с красивой брошью в виде звезды, с настоящими бриллиантами. Я отвечаю, что хочу, хотя насчет бриллиантов у меня есть сомнения. Человек, подаривший второй невесте обручальное кольцо, оставшееся от первой, не станет преподносить бриллианты любовнице.
— Ему устроили брак с мисс Элинор Хендерсон, — продолжает Лаура. — Он был несчастен и вместе с моей бабушкой провел много вечеров, отчаянно пытаясь придумать, как избавить его от этого, но они его накрепко связали.
Я спрашиваю, кто такие «они», и Лаура отвечает, что речь идет об отце Генри и мистере Хендерсоне, которые были «деловыми партнерами».
— О его браке с этой Элинор было объявлено в августе, и им с Джимми пришлось расстаться.
Последнее ее замечание выглядит довольно точным. Если я не ошибаюсь, пентаграммы в дневнике исчезают примерно в это время. В разговор вступает Дженет, напоминая мне, что Джимми вышла замуж двумя месяцами позже. По ее утверждению, Леонард Доусон был преданным поклонником ее бабушки еще в те времена, когда она не была знакома с Генри, но ему приходилось боготворить ее издалека.
— В те времена таких называли нежеланными ухажерами, — замечает Лаура. — Он вечно ошивался поблизости, преследовал ее, стоял на улице, где она жила, и смотрел в ее окна. — Она немного пугает меня, пропев надтреснутым сопрано несколько подходящих к случаю строк из «Моей прекрасной леди». — Ну а когда доктор Нантер — к тому времени он был уже сэром Генри — был вынужден расстаться с ней, а она с ним, то Джимми естественным образом обратилась к Лену. Думаю, можно сказать, что ее толкнуло к нему разочарование.
— Что случилось с домом?
— С домом?
— На Чалкот-роуд, в районе Примроуз-Хилл. Что с ним случилось?
— Дом принадлежал ей, разве не так? Они с Леном остались в нем, там же началась их семейная жизнь, там родилась моя мать. Потом они продали этот дом и переехали на Кинг-Кросс.
Я чувствую облегчение. Сам не знаю почему, не понимаю, какая мне разница. Возможно, потому, что мне не хочется записывать Генри в ряды законченных подонков, без единой — насколько я мог до сих пор судить — симпатичной черты. Но теперь одна появилась. Оставив Джимми, он отдал ей дом. Хотя, скорее всего, просто продолжал платить арендную плату. А может, он дал ей и мужа? Не исключено. В свидетельстве о браке Леонард Доусон назван носильщиком. Интересно, где он служил, на железнодорожном вокзале или в больнице? Дом, муж и приличная сумма денег? Пятьсот фунтов. Похоже, у Генри не такая черная душа, как я думал.
— Можно сказать, она обошла доктора Нантера — то есть сэра Генри — на финише. Он женился на той Элинор лишь в 1884 году. Она была вашей прабабушкой.
Я не спорю. Бессмысленно пускаться в долгие объяснения. Элинор могла бы стать моей прабабкой, если бы не погибла ужасной смертью, а Генри женился бы на ней, но этого не случилось. Он женился на ее сестре. Я не рассказываю об этом Лауре и Дженет.
Подходит официант с подносом печенья, и дамы выбирают себе сладости. Монитор светлеет, и на нем появляются результаты голосования: 66 «за» и 82 «против». Мы отвергаем поправку. Лаура начинает рассказывать о своей матери, родившейся в 1884 году, о своем счастливом детстве в Примроуз-Хилл, о том, как няня водила ее гулять в Риджентс-парк.
Все это время я спрашиваю себя, кого они мне напоминают, но так и не нахожу ответа. Лаура не сказала мне, когда именно в 1884 году родилась ее мать, и я не собираюсь спрашивать. Это я сам могу без труда найти в архивах. У Лена Доусона и его жены, похоже, было еще пять детей — по словам Лауры, все счастливые, успешные и обеспеченные. Дженет добавляет, что в их семье все живут долго, и с гордостью сообщает, что тетя ее матери по имени Элизабет, дочь Джимми, родилась в 1891-м (кстати, в том же году, что и Сара Нантер) и дожила до конца 80-х годов XX века.
Мы допиваем чай и возвращаемся тем же путем, что пришли сюда. Я спрашиваю, можно ли мне позаимствовать почтовую открытку из серии красавиц в качестве иллюстрации к биографии прадеда, которую напишу, и Лаура неохотно соглашается.
— Но пока вам открытка не нужна, да? — спрашивает Дженет.
— Вероятно, еще года два или три, — отвечаю я, а затем спохватываюсь — невежливо говорить такое человеку, родившемуся не позже 1923 года.
Чувства Дженет явно совпадают с моими. Она поспешно говорит, что открытка будет у нее в полной сохранности и что я обязательно получу ее, когда потребуется. Потом рассказывает о генеалогической таблице, составленной ею, которая иллюстрирует плодовитость и чадолюбие Мэри Доусон. С 1903 по 1918 год она родила восемнадцать детей.
— Все они выросли здоровыми, и у всех были дети, — с гордостью прибавляет Лаура.
Мы подходим к комнате принцев, и Дженет интересуется, что тут делает женщина, сидящая на стуле у камина. Я объясняю, что она «кнут», или организатор парламентской фракции лейбористов, и находится здесь для того, чтобы ее «стадо» проголосовало и вернулось на свои скамьи, — на тот случай, если они попытаются улизнуть домой. Обе дамы мне не верят, хотя это чистая правда.
— Почему они обязаны остаться? — спрашивает Лаура.
— Они должны голосовать и обеспечить победу правительству.
— А разве нельзя выйти другим путем?
— Именно так они часто и делают, — отвечаю я.
Пока Лаура и Дженет размышляют, не следует ли воспринимать это как шутку, я снимаю свой плащ с вешалки и выхожу вместе с ними на улицу. Я тоже собираюсь домой. У станции метро «Вестминстер» благодарю и прощаюсь.
— Большое спасибо за чай, милорд, — говорит Лаура. Я чувствую себя неловко, и, кажется, краснею.
По пути домой я прошу таксиста высадить меня на Примроуз-Хилл. В этом месте есть какая-то магия, особенно после наступления темноты. Зеленые склоны холма поднимаются вверх, а посыпанные песком дорожки пересекают их, словно в сельской местности, и возникает ощущение, что ты находишься на краю Лондона и дальше будут только поля и леса. Затем, поднявшись на вершину, ты видишь широкую террасу с большими домами в викторианском стиле, с магазинами и ресторанами, купающимися в золотистом свете, и узкими улочками, уходящими вглубь. И почти сразу же понимаешь, что оказался на маленьком городском острове, в самом его сердце, в самой красивой части, где Чалкот-роуд вливается в площадь Чалкот-сквер, на северной стороне которой жила и умерла Сильвия Плат[19]. Дома, викторианские или еще старше, розовые, бордовые, желтые и коричневые, стоят неровно, а над ними нависают кроны деревьев; посредине маленький зеленый сквер. В Лондоне нет площади красивее. Альма-сквер ей и в подметки не годится.
Занавески на окнах раздвинуты, и за стеклами сияют люстры, поблескивают вазы с цветами; листья растений сверкают, а разноцветные лепестки кажутся блеклыми от льющегося со всех сторон света. Я иду по Чалкот-роуд, широкой и прямой. Улица проходит через весь район, рассекая его почти точно по центру. Недалеко отсюда находится маленький паб под названием «Принцесса Уэльская», но не в честь Дианы, а в честь Александры, жены Эдуарда VII. Этот факт наводит на мысль, что сам паб и окружающие его дома были построены в 60-х годах XIX века, поскольку Эдуард женился на Александре в 1863 году, но это нужно проверить.
Улицу не назовешь красивой. Она слишком широкая, а дома на ней, почти не отличимые друг от друга, тянутся длинными скучными террасами. В одном из них жила Джимми, сначала одна, а потом с Леном Доусоном, но у меня нет возможности узнать, в каком именно. Похоже, через пару лет Доусоны съехали отсюда и перебрались в менее благоприятный для здоровья район Кингс-Кросс. Почему? Несомненно, из-за того, что Генри не хотел платить за аренду больше двух лет.
Я возвращаюсь тем же путем — к Ротвелл-стрит, главной дороге и холму. Сегодня чудесный вечер, теплый и ясный, и домой можно пройтись пешком. Я выбираю одну из дорожек, затем иду по Сент-Эдмунд-террас и попадаю в район Сент-Джонс-Вуд. По дороге размышляю о склонности людей поддерживать иллюзии по поводу респектабельного прошлого семьи, о пентаграммах в дневнике, а потом вдруг понимаю, на кого похожи Лаура Кимбелл и ее дочь.
На моего отца. Эти удлиненные, худощавые лица — «с впалыми щеками», как их обычно называют, — точно такие же, как у моего отца и, если я не ошибаюсь, у Александра. Внешность женщин, которых берут в жены мужчины из семьи Нантер, похоже, не оказывает влияния на потомство — по крайней мере, до того, как мой отец женился на моей матери. До той поры единственное, что могли унаследовать от матери дети семьи Нантер, это светлые волосы, а в редких случаях голубые глаза. Если Лаура и Дженет напоминают мне отца, значит, они также похожи на Генри. Ergo[20], они потомки не Доусона, а Генри, как и я сам?
5
Этим утром я отправился в архив записей актов гражданского состояния в Ислингтоне, где хранятся документы, и попытался дополнить составленное мною довольно жалкое генеалогическое древо. Там я выяснил, что первая дочь Генри, Элизабет, вышла замуж за Джеймса Киркфорда в 1906 году, однако прошло еще шестнадцать лет, прежде чем вторая, Мэри, сочеталась браком с Мэтью Крэддоком. У Элизабет был сын Кеннет и две дочери, а у Мэри — две дочери, Патрисия и Диана. Чтобы откопать эти сведения, потребовалось довольно много времени, а мне еще нужно было найти записи о Джимми Эшворт и ее семье. Я знал о ней достаточно, чтобы облегчить себе поиски. Ее дочь Мэри родилась в 1884 году, через четыре месяца после брака матери с Леонардом Доусоном. Отцом ребенка, родившегося в законном браке, считается муж его матери (Quern nuptiae demonstrant pater est[21]), и именно поэтому Генри хотел, чтобы Джимми и Лен поженились как можно скорее. Но Мэри была его дочерью, я нисколько не сомневаюсь.
Вчера вечером я хотел поговорить об этом с Джуд. Нашел снимок Генри, сделанный примерно в том возрасте, в каком теперь Дженет, и сходство оказалось еще поразительнее, чем я думал. Форма лба, высокая переносица, прямые брови, длинная верхняя губа — все одинаковое. У Генри, у моего отца, у Лауры и Дженет. А у меня? Я внимательно рассмотрел свое лицо в зеркале. Нет, я больше похож на мать. Обнаружив неизвестную ветвь своей семьи, испытываешь странные чувства — волнение и одновременное некоторое отвращение. Я убеждаю себя, что становлюсь похож на Лауру, когда начинаю «обелять» своего предка, которого не знал и к которому, по всей видимости, не испытывал бы симпатии. Однако меня беспокоило не это, а сам факт наличия общих генов с незнакомыми людьми, почти чужаками. Похоже на глупую шутку. Мне не понравились слова швейцара, вежливо намекнувшего, что любые мои гости вне подозрений, и посчитавшего Лауру и Дженет моими родственницами. Но они действительно родственницы — и всегда ими были.
На целых полчаса я почти полюбил Генри — за щедрость, за решимость помогать женщине, которую бросил. Потом мои чувства снова изменились. Что чувствовала Джимми Эшворт, когда любимый человек, чей плод она в себе носила, заставлял ее выйти замуж за мужчину, которого она ни в грош не ставила и который не был отцом ее ребенка? А Лен Доусон? Неслыханное унижение. Мы с Салли часто ссорились, особенно к концу нашего брака, но я помню, какую испытывал к ней нежность, когда она вынашивала Пола, а также гордость, когда смотрел, как изменяется ее тело, или когда шел с ней по улице, держа за руку. Мой ребенок. Всего этого был лишен Лен Доусон. Интересно, говорили они об этом между собой? О ребенке и о его отце? Я представляю, как Доусон бурчит накануне свадьбы: «Мы не скажем об этом ни слова», и «Сэр Генри все устроил, и мы благодарны ему, и у нас нет причин больше упоминать об этом».
Мне хотелось бы больше узнать о Джимми Эшворт — не только ее происхождение, дату свадьбы и то обстоятельство, что она вышла замуж за Лена Доусона в двадцать восемь лет. В то время ее родители были живы и проживали неподалеку, в Соммерс-Тауне. О них я ничего не знаю. Может, Джимми — после того, как бросила школу, вне всякого сомнения, в юном возрасте, — работала с утра до ночи за гроши на каком-нибудь потогонном производстве? Может, она рисковала потерять зрение или отравиться свинцовыми белилами? И поэтому пошла на улицу, подобно многим бедным девушкам викторианской эпохи? Не обязательно. Я не знаю, кто был первым ее «покровителем» и он ли познакомил ее с Генри. Хотелось бы знать, любила ли она его. Генри ее не любил — я в этом уверен. Потом появился ребенок, зачатый после девяти лет связи. Конечно, беременность могла быть не первой, но раньше Джимми делала аборты. Значит, она хотела этого ребенка? И даже подумала, что Генри женится на ней, если она забеременеет от него? Этого я никогда не узнаю. Генри не оставил никаких зацепок, кроме пятиконечных звездочек, указывающих, что в тот день он посещал свою любовницу.
Я не могу повторить все это Джуд. Не будет преувеличением сказать, что ее устроил бы и чужой ребенок. Чужие яйцеклетки, чужая сперма или, если хотите, чужая кровь и ДНК — не имеет значения. После второго выкидыша Джуд попросила меня найти суррогатную мать, которая вместо нее выносит моего ребенка. Как ни тяжело было ей отказать — я очень не люблю этого делать, — но пришлось. Мне безразлично, будет у нас ребенок или нет, но я ненавижу саму мысль об участии кого-то чужого. Лен Доусон тоже в каком-то смысле был суррогатом, и я не думаю, что это доставляло ему больше удовольствия, чем мне. Поэтому я промолчал и удовлетворился историей о катастрофе на мосту через Тей, но сначала рассказал о Лауре, Дженет и нашем чаепитии. Я не стал упоминать о сходстве женщин с моим отцом, но заметил, что Джуд немного похожа на Джимми Эшворт, входившую в число первых красавиц эпохи.
— А значит, и на Оливию Бато, — сказала она.
— И на Оливию Бато.
— Почему, черт возьми, Генри на ней не женился? — восклицает Джуд, а потом спрашивает то же самое о Кэролайн Гамильтон и интересуется, была ли Кэролайн похожа на двух других женщин.
Я не знаю ответов на эти вопросы и никогда не узнаю, если не найду другие письма. Поэтому я оставляю Джимми и ее потомков, возвращаюсь на несколько лет назад, в 70-е годы XIX века, и показываю копии страниц «Таймс» от 30 декабря 1879 года. Шрифт очень мелкий, и текст трудноразличим. Джуд говорит, что без увеличительного стекла прочесть ничего нельзя, и просит меня просто рассказать историю о Генри и этом злополучном поезде. Так ей будет гораздо приятнее, прибавляет она и целует мои руки. Это наш жест. Наш особый жест, думаю я и тоже целую ее длинные, очень гладкие пальцы.
— Отец Генри никак не мог противиться браку сына, — говорю я. — Он умер в тысяча восемьсот семьдесят третьем. Мать Генри по-прежнему жила в Годби-Холле. У нее были две сиделки, которых оплачивал Генри. Если он и не испытывал к матери особой любви, то всегда исполнял свой долг. Ей было восемьдесят, и она страдала слабоумием. Думаю, теперь мы назвали бы это болезнью Альцгеймера. В письме к Коучу, отправленному десятью годами позже, Генри отмечает, что мать больше не узнает его и почти потеряла память. Коуч, похоже, специализировался на гериатрии, и Генри описывает ему состояние матери.
— Все это было десятью годами позже?
— Совершенно верно. Когда мать была в своем уме, Генри имел привычку приезжать в Годби на Рождество. Вероятно, теперь он не видел смысла в этих визитах — ведь мать его не узнавала. Как бы то ни было, в том году, семьдесят девятом, Ричард Гамильтон пригласил его в дом своих родителей в Ньюпорт-он-Тей в графстве Файф. Кажется, теперь это довольно большой город.
После Рождества Ричард и Генри собирались на вечеринку в замок Лалох, куда их пригласили на несколько дней. Представляю, какой энтузиазм вызвала такая перспектива у Генри. Это было для него гораздо важнее, чем тихое Рождество в шотландской деревне с пожилой семейной парой. Он был снобом, хотя почему-то не всегда. Чтобы добраться из графства Файф в Данди, требовалось пересечь Ферт-оф-Тей, и в прежние времена это можно было сделать только на пароме. Первый железнодорожный мост через залив начали строить в 1871 году и закончили семь лет спустя. Он был открыт 1 июня 1878 года, а через девятнадцать месяцев рухнул в воды залива, вместе с поездом и пассажирами.
Джуд хочет знать, почему.
— На сооружение моста ушло семь лет, но первый же сильный шторм его разрушил?
— Мост был закончен и покрашен в феврале 1878. Инспектировал его какой-то генерал — я не помню, как его звали и почему выбор пал именно на него. Они соединили шесть локомотивов, каждый весом в семьдесят три тонны, и прогнали по мосту со скоростью сорок миль в час. Теперь я процитирую тебе отчет о расследовании катастрофы: «Поведение моста под этой нагрузкой, по всей видимости, было удовлетворительным: обнаружилась лишь одна деформация балки средней степени, незначительная вибрация, но никаких признаков ослабления перекрестных раскосов». Пятого марта генерал заявил, что не видит причин, по которым мост не следует использовать для пассажирского транспорта, но прибавил, что «было бы нежелательно, чтобы поезда проходили мост на высокой скорости». Двадцать пять миль в час — таковы его рекомендации. В то время это был самый большой мост в мире: две мили длиной, восемьдесят пять железобетонных пролетов, а средняя часть располагается на высоте сто тридцать пять футов над самой высокой отметкой воды.
— Что же произошло?
Я говорю, что мы должны вернуться к Генри. С 23 декабря он гостил у Гамильтонов в Ньюпорте. Они с Ричардом решили поехать поездом, шедшим из Эдинбурга, не экспрессом, а обычным поездом, который останавливался на бесчисленном количестве маленьких станций и после проезда по мосту должен был прибыть в Данди в 7.15 вечера. Это было воскресенье, 28 декабря, и в тот день разразилась сильная буря с ураганным ветром и ледяной крупой. Тем не менее двое друзей не видели причин откладывать путешествие. Они договорились, что на железнодорожном вокзале Тей-Бридж их встретит карета лорда Гамильтона.
Приблизительно за час до того, как они собирались покинуть дом родителей Ричарда, Генри получил телеграмму. Экономка Годби-Холла сообщала, что его мать быстро угасает, и Генри должен приехать как можно скорее, если хочет застать ее в живых. Мы не знаем, что думал об этом Генри. Он с нетерпением ждал визита в замок Лалох и, по всей видимости, предпочитал общество Ричарда Гамильтона всему остальному. В любом случае мать не узнала бы его — и скорее всего уже скончалась бы, пока он добрался бы до Йоркшира.
— Он поехал?
— В Годби? Попытался. Отказался от мысли о замке Лалох.
— Готова поспорить, только потому, что телеграмму видели другие, — замечает Джуд. — Если бы Генри был один и никто не видел мальчишку, доставившего телеграмму, он выбросил бы ее и сделал вид, что ничего не получал. Я его знаю.
— При необходимости Генри выбросил бы и приказ об освобождении из тюрьмы. Он был бы мертв, если бы сел в тот поезд.
— И тебя бы здесь не было, — говорит Джуд и берет меня за руку. — Я рада, что он получил телеграмму.
Я тоже, отвечаю я и прибавляю, что, возможно, Генри был не таким черствым, как ей кажется. Вне всякого сомнения, он любил мать и исполнял свой долг перед ней. Друзья отправились на станцию вместе, но Нантер ждал поезда на юг, а Ричард — на север. Естественно, поезд Генри так и не пришел. Он ждал, поезд задерживался, и Генри, наверное, спрашивал, что случилось, но ему отвечали, что телеграфное сообщение между Файфом и Данди прервано, поскольку буря повредила провода. Что он делал в эти часы, а затем и несколько следующих дней, нам неизвестно. Может, вернулся в дом Гамильтонов и оставался там. А может, ждал на станции, надеясь, что придет следующий состав. Не подлежит сомнению, что Генри пытался выяснить, что случилось с поездом на мосту через Ферт-оф-Тей. Он мог оставаться на вокзале всю ночь, верный своей великой дружбе с Ричардом Гамильтоном, — а возможно, и любви к нему. Наверное, он очень волновался, просто места себе не находил, но в конечном итоге должен был где-то провести оставшееся до утра время. В эту ночь умерла его мать.
— Откуда ты все это знаешь? — спрашивает Джуд. — Никогда не поверю, что Генри писал об этом в дневнике.
— Из очень длинного письма Кэролайн Гамильтон Ситон своей кузине из Леучарса.
Тем временем Ричард Гамильтон сел на поезд; всего пассажиров было около девяноста человек. Буря усиливалась. Нет никаких причин полагать, что машинист локомотива превысил предписанную скорость, двадцать пять миль в час. Поскольку в катастрофе никто не выжил, то у нас нет свидетельств очевидцев о происходившем в поезде, о силе бури, о том, боялись ли пассажиры. Тут Джуд — все-таки она издатель — вдруг вспоминает, что А. Д. Кронин в романе «Замок Броуди», опубликованном в 1931 году, описал крушение глазами пассажира.
— Но знать наверняка он не мог, — прибавляет она.
Никто не мог. Человек по фамилии Лоусон, живший в Данди, на Виндзор-Плейс (по сообщению газеты «Таймс» от 29 декабря 1879 года), в день катастрофы в восьмом часу вечера вышел на улицу вместе с приятелем. Они рассуждали о яростном юго-западном ветре и о том, решится ли поезд из Эдинбурга проехать по мосту в такую погоду. Они обвели взглядом цепочку огней на нижних пролетах и высоких распорках, а потом замерли, увидев яркую вспышку. Эта вспышка была похожа на огненный водопад, низвергавшийся в воды залива; пылающая масса рухнула вниз, и огни на мосту погасли.
Другой свидетель — я не знаю его имени, но в литературном даре ему не откажешь — так описывал произошедшее: «Вчера вечером я сидел у камина, слушал завывание бури, а потом сильный порыв ветра ударил в дымовые трубы дома напротив и сбросил их на землю; грохот был такой, что мы все вскочили. Высунувшись в окно, я окинул взглядом улицу, и в этот момент выглянула луна, осветив уходящие вдаль воды залива внизу и длинный изогнутый силуэт моста… Я инстинктивно посмотрел на часы. Было ровно семь часов. “Скоро прибудет эдинбургский поезд, — воскликнул я, обращаясь к жене. — Пойдем, посмотрим, попытается ли он пересечь залив в такую погоду”.
Потом мы выключили газовые лампы в гостиной и, благодаря Господа, что никто из наших друзей, насколько нам известно, не пересекает реку в этот час, стали ждать появления поезда. Свет к тому времени стал очень переменчивым; по небу бежали тяжелые тучи, иногда полностью закрывая полную луну. “Вот он идет”, — воскликнул кто-то из детей, и в этот момент из-за поворота у Вормита показались огни эдинбургского поезда. Затем состав миновал сигнальную будку с южной стороны и выехал на длинный прямой участок моста. На мосту он, похоже, мчался с большой скоростью, и когда локомотив нырнул под напоминающие туннель своды гигантских балок, моя маленькая девочка очень точно описала, на что похожи огни поезда, мелькающие сквозь ажурные фермы моста, воскликнув: “Смотри, папа. Правда, это как молния?”
Описывать это довольно долго, но глазу казалось, что все произошло почти одновременно: поезд въехал на мост, и похожий на комету сноп искр вылетел из локомотива и растворился в темноте. Длинная огненная лента протянулась к бурным водам внизу и исчезла в них. Затем мост погрузился в абсолютную темноту…»
«После этого, — пишет “Таймс”, — с эспланады послышались громкие призывы, обращенные к стрелочнику». Тот ответил, что сигнал поезда пришел к нему с южной стороны моста в девять минут восьмого, а в четырнадцать минут восьмого состав въехал на мост. Стрелочник пытался разглядеть поезд из своей будки, но не смог. Затем попытался телеграфировать стрелочнику на южной стороне моста, но между 7.14 и 7.17 «связь была прервана». Новость распространилась быстро, как и все новости подобного рода, и у вокзала Тей-Бридж собралась толпа. На поезд, следовавший в южном направлении, были проданы билеты, но состав так и не тронулся в путь.
— Это был поезд Генри?
— Тот, на который он так и не сел.
Совершенно очевидно, никто не знал, что делать дальше. Буря свирепствовала так, что поначалу никто не осмеливался ступить на мост. Затем два человека предприняли такую попытку. Управляющий железной дорогой и начальник станции Тей-Бридж. Они цеплялись за рельсы, раздирая руки в кровь; наверное, им было очень страшно. Представьте себе бьющий им в лица ветер и дождь со снегом, скользкие железные балки… Смельчаки сумели пройти достаточно далеко и увидели, что средней части моста больше нет, а высокие фермы исчезли. Но сначала они увидели облако брызг из трубы, которая проходила вдоль моста и доставляла воду в Ньюпорт, и поняли, что труба разорвалась, когда мост рухнул вниз.
Луна светила ярко, но часто скрывалась за облаками, и определить масштаб разрушений было невозможно. Смельчаки вернулись в Данди и «подтвердили худшие опасения людей». Однако многие продолжали верить, что, несмотря на разрушение моста, поезд не пострадал и целый и невредимый стоит в Файфе. Они цеплялись за эту надежду до тех пор, пока на другом берегу, в Броти Ферри, не были найдены мешки с почтой, которые перевозил поезд. Буря не утихала. В десять часов пришел паром «Данди», но не привез никаких новостей из Ньюпорта. Мэр Данди и железнодорожные чиновники погрузились на паром в Крейг-Пир; судно снова отправилось в путь и успело преодолеть довольно большое расстояние, прежде чем буря начала стихать. Когда паром приблизился к обломкам моста, стало ясно, что исчез целый пролет высоких ферм длиной в 3000 футов.
Ужас свидетелей катастрофы и неверный свет луны привели к печальному результату: очевидцам показалось, что они видят цепляющихся за опоры людей; эта иллюзия была вызвана причудливыми формами, которые приняло искореженное железо. Ветер смел тринадцать громадных ферм, но в городе не слышали звука падения такой массы железа. Рев бури заглушил все остальные шумы. Вскоре выяснилось, что к разрушенному мосту подплывать ближе опасно. Начальник порта стал у руля, и они поплыли прочь, в темноту, пристально вглядываясь в воду, но не увидели ни ферм моста, ни поезда.
Поначалу все считали, что в поезде было триста пассажиров. При катастрофах предполагаемое число жертв обычно оказывается выше окончательных цифр, но в данном случае погибших оказалось девяносто человек. Водолазные работы начались следующим утром. Удалось найти только одно тело — пожилую женщину, которую выбросило на берег примерно в это же время.
— Интересно, участвовал ли в этом Генри? — размышляет Джуд. — Может, он отправился с одной из лодок? Видел ли людей, цеплявшихся за разрушенный мост — или то, что они приняли на людей?
— Не знаю. То есть Кэролайн Гамильтон не знала.
— Значит, Ричарда Гамильтона не нашли?
— Нет, тела не нашли. Его багаж, маленький чемоданчик с инициалами, выбросило на берег в Броти Ферри вместе с коробкой столовых ножей и вилок, двухфунтовой упаковкой чая, пачкой карточек с зароком о воздержании от пьянства, выпущенных Католическим обществом борьбы за трезвость, и множеством других вещей. По сообщению «Таймс», два джентльмена — их имена не называются — собирались сесть на поезд, но передумали. Вероятно, одним из них был Нантер.
— Кэролайн часто упоминает Генри. Не знаю, откуда ей было известно о его чувствах, но, скорее всего, он отправил ей письмо с соболезнованиями, когда выяснилось, что Ричард погиб. А может, он написал родителям Ричарда. Судьба поезда прояснилась только на следующий день. Генри мог и не знать всех подробностей, пока не увидел газету, уже в Хаддерсфилде.
— Вероятно, первым делом, — говорит Джуд, — он возблагодарил Бога. Должно быть, Генри был потрясен тем, что находился на волосок от гибели.
Да, возможно. Однако он был глубоко привязан к Ричарду Гамильтону, а теперь лишился и сестры, и брата. Джуд спрашивает, почему я уверен, что Генри чувствовал скорбь, а не радость от чудесного спасения, и я отвечаю, что причина в изменении его характера. Потеря Ричарда Гамильтона изменила его к худшему.
Возможно, Гамильтон сдерживал его. Он должен был знать о Джимми Эшворт. Будучи неженатым, целомудренным человеком, прихожанином пресвитерианской церкви Шотландии, он мог уговаривать друга, чтобы тот оставил Джимми и женился. По всей видимости, в викторианскую эпоху считалось абсолютно приемлемым читать другу нотации, и поэтому Гамильтон, наверное, пытался наставить Генри на путь истинный и в какой-то мере добился успеха. Он мог с полным основанием заявлять: «Ты уже преодолел сорокалетний рубеж, и тебе пора остепениться, завести семью». К концу 1879 года Нантер уже познакомился с семьей Бато, и Гамильтон мог считать Оливию подходящей для него партией.
У меня есть фотография Ричарда Гамильтона. Он сидит в кресле, опираясь локтем на бамбуковый столик с пальмой в горшке; на нем мантия и академическая шапочка с плоским квадратным верхом. Он вполне мог быть братом Оливии Бато — или Джимми Эшворт. Очень красивый мужчина с такой же, как у них, светящейся кожей, темными глазами и волосами, правильными чертами лица. У него красивые губы, слишком пухлые для мужчины. Как и Оливия с Джимми, он относился к тому типу, который нравился Генри. Именно внешность Гамильтона делала его привлекательной — как для любви, так и для дружбы. Тем не менее после катастрофы имя Гамильтона ни разу не появляется в дневнике Генри. Записи становятся короче и суше. В своих письмах Нантер тоже никогда не упоминает друга. Ричард Гамильтон, чье тело было погребено в водах реки Тей, исчез из жизни Генри, не оставив следа, словно его в ней и не было. Эта фотография в пергаментной рамке, найденная в одном из сундуков, является единственной памятью о нем — если не считать писем.
В дневнике или блокноте Генри никогда не рассказывает о своих снах. Но ушедший из жизни любимый человек обычно появляется в сновидениях, обещая вернуться или вообще отрицая разлуку. Поэтому, убирая документы в соответствующие папки и коробки, я спрашиваю себя, видел ли Генри во сне Гамильтона, либо такого, каким тот был, либо в образе женщины, а может, видел, как они живут вместе — два врача, два стареющих холостяка. Но скорее всего, ему снилась ревущая за окном буря, разваливающийся и падающий мост, а также объятый пламенем поезд, который летит в воды залива навстречу своей судьбе.
6
Джуд проницательно замечает, что, покопавшись в личной жизни Генри, я могу найти в ней большие грехи. Худшее, что может обнаружиться, отвечаю я, это еще одна Джимми Эшворт, появившаяся после его женитьбы на Эдит Хендерсон. Маленький грешок, хотя и грязный. Я спускаюсь на кухню и вырезаю из календаря с репродукциями Сарджента портрет миссис Каспар Рейвен. Мы с Джуд вместе рассматриваем репродукцию, восхищаясь умением Сарджента изображать человеческое тело словно светящимся изнутри, как жемчуг, и Джуд говорит, что то же самое можно видеть в картине Гойи «Обнаженная маха». Внимательно вглядываясь в лицо Оливии Бато Рейвен и пытаясь найти в нем сходство с внуком женщины, Стенли Фарроу, я вижу в ее лице не только властность, но также испорченность и тщеславие. И вспоминаю об одном французском графе, чья дама, испытывая его любовь, швырнула перчатку в логово львов. Граф совершил этот безумный подвиг и принес перчатку, на что король Франции — в стихотворении Ли Ханта[22] — воскликнул: «Тщеславье шлет людей на риск, но только не любовь».
Миссис Рейвен была из тех женщин, которые швыряют перчатку через прутья клетки и лишают мужчин благосклонности, если они не осмеливаются бросить вызов льву и поднять ее. Однако ее муж сам швырнул бы ее ко львам, посмей она говорить с ним в таком тоне. Помня о том, что рассказывал мне лорд Фарроу, я беру страницу из календаря, несу в свой кабинет и кладу в папку № 1, размышляя, до чего могла Оливия довести Каспара, а он ее. До чего вообще может довести жена мужа, а муж жену?
Я никогда не читал об этом, не слышал от других людей, но довольно часто думаю: сколько мужчин, оказавшихся в таком же своеобразном положении, разделяют мои чувства? Это ощущение появилось у меня довольно давно — что я интересен, грубо говоря, только как источник спермы. Это никогда не произносилось вслух, но оно присутствует в моей голове и — я в этом абсолютно уверен — в голове Джуд, реальное и неотступное. Ее страсть, если можно так выразиться, достигает пика в решающие дни в середине месяца, в каждый из этих дней. Больше никакой спонтанности, только рассчитанная и, как мне кажется, притворная потребность. Когда я добиваюсь близости, в пылком отклике Джуд есть что-то неестественное. Ни отказа, ни даже колебания. Иногда я чувствую себя машиной для оплодотворения, которую включают так часто, как это возможно. Будь мне восемнадцать, я считал бы такое положение дел приемлемым, но мне не восемнадцать, и я так не считаю. Теперь иногда я если и не отказываюсь, то колеблюсь. Во мне проклевывается страх, что я импотент.
И что еще более странно, мне снятся эротические сны. Я не видел их уже несколько лет. Будь это предметом для шуток, можно было бы сказать, что с таким страстным партнером они мне не нужны. Но сегодня такой сон снился мне опять, под утро. В нем присутствовала Оливия Бато и, как это ни странно, ее сестра Констанс, а также Джимми Эшворт. Я перевоплотился в Генри, необыкновенно элегантного в своем сюртуке и шелковой шляпе, а женщины принимают участие в одном из tableaux vivants[23], которые в викторианскую эпоху были эквивалентом современных шоу в стрип-клубах. Они изображают трех граций, обнаженные, похожие друг на друга и на мою жену. Она крепко спит, и она меня не хочет. Во сне ее искусственная страсть куда-то пропала, и балом правит подсознание, та часть Джуд, которая показывает, что она действительно хочет — или не хочет. Она даже сердито шепчет: «Нет, нет», — но я настойчиво повторяю: «Да, да», — и она неохотно уступает, все еще полусонная. Наверное, это первый раз за год, когда я действительно хочу секса, действительно хочу той, настоящей любви, свободной и стихийной. Но только Джуд это не нужно, и когда все заканчивается, причем гораздо быстрее, чем следовало бы, то я, как мне кажется, торжествую — впоследствии мне становится стыдно, — что сумел настоять на своем.
Одно несомненно. Я абсолютно уверен, что этого больше не случится.
Генри написал свою первую книгу, когда ему было тридцать три. Он назвал ее «Болезни крови» и снабдил подзаголовком: «Гемофилия в Европе и Америке». В то время врачи считали гемофилию недавно открытой болезнью. Это соответствовало действительности, но нельзя сказать, что ею не болели раньше. Известно, что мужчины с незапамятных времен истекали кровью, а женщины были носителями заболевания. Вероятно, книга Генри должна была способствовать официальному признанию гемофилии Королевским колледжем врачей, что и произошло в середине 70-х годов XIX века.
Гемофилия — это состояние, характеризующееся хронической предрасположенностью к сильным кровотечениям. У больных либо полностью отсутствуют некоторые факторы свертываемости крови, либо наблюдается их недостаток. Ген гемофилии передается женщинами с одной из Х-хромосом, и поэтому сегодня эту болезнь называют сцепленной с Х-хромосомой. Носительница заболевания имеет одну Х-хромосому с нормальным геном, а одну — с дефектным. Таким образом, вероятность того, что каждый из ее сыновей будет болен гемофилией, составляет 50 процентов; с такой же 50-процентной вероятностью она передаст дефектный ген дочерям, которые с 50-процентной вероятностью станут носителями болезни. Мальчики, рожденные от отца гемофилика и матери, не являющейся носителем дефектного гена, здоровы, поскольку сыновья, будучи мужчинами, получают отцовскую Y-хромосому, однако все дочери у такой супружеской пары будут носителями болезни, поскольку девочки получают одну Х-хромосому от отца. У большинства женщин с дефектной хромосомой не отмечается проблем со здоровьем, связанных с геном гемофилии, хотя некоторые страдают от обильных менструальных кровотечений, а также от сильных кровотечений при операциях, лечении зубов и во время родов.
Часть этих сведений была известна в конце XIX века, но, разумеется, тогда ничего не знали о генах и хромосомах. Врачи не знали причину гемофилии, и поэтому не существовало эффективного средства лечения болезни. Генри лишь описал все задокументированные или предполагаемые случаи, накопившиеся в медицинской и немедицинской литературе за многие века невежества. Он упоминает иудейский трактат Иевамот, в котором рассказывается история четырех сестер, живших в Ципори. Первая сделала своему сыну обрезание, но кровь мальчика не свертывалась, и он умер от кровопотери. Младенцы, рожденные второй и третьей сестрой, разделили его судьбу. Когда у четвертой сестры родился сын, она обратилась за советом к рабби Шимону бен Гамлиелю, который посоветовал не делать мальчику обрезание. Поскольку Гамлиель жил во II веке до нашей эры, Генри утверждал, что это самое первое упоминание о болезни. Далее он приводит правило Маймонида, согласно ему мальчика не следует подвергать обрезанию, если двое его братьев, рожденных той же матерью, но от разных отцов, умерли после этого обряда, хотя Генри, разумеется, знал, что состояние здоровья отцов в данном случае не имеет значения.
В своей книге он приводит и другие примеры, описанные в литературе, цитируя «Ташриф» выдающегося арабского хирурга Альбукасиса. Там тот пишет об испанской деревне, где мужчины страдали от неостанавливаемого кровотечения даже при незначительных ранах. Мальчики умирали от кровопотери, если слишком сильно терли себе десны. В 1539 году Александр Бенедикт описал случай с брадобреем, который умер от потери крови, случайно поранив себе нос ножницами. Другой случай, довольно редкий, произошел с новорожденным мальчиком, истекшим кровью после перерезания пуповины. Далее Генри переходит к XIX веку и упоминает о Джоне К. Отто, враче из Филадельфии, и его книге «Свидетельства о предрасположенности к кровотечениям в некоторых семьях», опубликованной в 1803 году. Он излагает «закон Нассе», а другими словами, утверждение Кристиана Фридриха Нассе, профессора медицины из Бонна, о том, что гемофилия встречается только у мужчин, а передается через женщин, но прибавляет тот факт — возможно, это открытие сделано им, но, скорее всего, кем-то еще, — что дочери мужчин, страдающих гемофилией, всегда являются носителями заболевания. Эти принципы составляют основу монографии «Болезни крови» на восемьсот страниц, изобилующей родословными, гравюрами с изображением карт швейцарских кантонов и графств Новой Англии, генеалогическими таблицами, в которых больные отмечены черными кружками, а носители болезни — белыми квадратами. Все это сопровождается подробными и дотошными научными выкладками, которые Генри явно не стремился сделать понятными, не говоря уже о занимательности, обычному человеку. Текст книги сухой, словно пыль. Я сам не понимаю, как сумел продраться сквозь него. Но, несмотря на эти трудности, медикам книга понравилась, и с нее началась дорога Генри к славе.
Маловероятно, что королева Виктория ее читала. Но даже если читала и поняла прочитанное, если узнала, что средняя продолжительность жизни больного гемофилией составляет восемь лет, стала бы она назначать автора штатным лекарем ее страдающего гемофилией сына? В 70-х годах XIX века теория гемофилии и ее наследственный характер были хорошо известны и тщательно задокументированы в работах Эльзассера, Дэвиса, Коутса, Рейкена, Хьюджеса, Уошмута и многих других. Покойный принц Альберт очень увлекался наукой и — поскольку немецкий был его родным языком — мог быть знаком с некоторыми из этих ученых и, вне всякого сомнения, передать эти сведения королеве. Родители знали, что Леопольд болен гемофилией, но все дело в том, что королева Виктория не желала знать правду. Меньше всего ей хотелось верить, что именно она стала передаточным звеном для заболевания. Можно не сомневаться, что королева не читала ни эту книгу Генри, ни следующую, «Наследственная предрасположенность к кровотечениям», а также в том, что Генри не передавал ей мнение врачей, не рекомендовавших сестрам больных гемофилией выходить замуж. Вняв этому совету, следовало запретить династические браки — по крайней мере, трем сестрам принца Леопольда.
Вероятно, расположения Виктории Генри помог добиться талант царедворца. Судя по фотографиям, Генри был красив; кроме того, он обладал приятным голосом, «низким, густым и сладкозвучным», как пишет сестра Оливии Бато Констанция своей подруге Люси Райс. Генри был образован, умел обращаться с больными, и мы можем не сомневаться в его самоуверенности и убежденности, происходящих от успехов в деле, которое человек любит и которое у него получается. Говорил ли Генри королеве то, что подтверждает сегодняшняя наука, но во что сам он не верил, — что гемофилия может возникать случайно, по неизвестной причине? Если да, то в этом заключена горькая ирония. Только в конце XX века было доказано, что болезнь может обуславливаться случайной мутацией.
Независимо от того, что говорил или делал Генри, факт остается фактом: его назначили личным врачом принца, которому в то время исполнилось девятнадцать лет. Леопольд был самым непослушным из всех детей Виктории. Мальчики, больные гемофилией, нередко бывают сорванцами и играют в опасные для себя игры, вселяя страх в матерей. Обычные для всех детей мелкие травмы — разбитые коленки, небольшие порезы и царапины — вызывали у Леопольда длительное кровотечение. Еще большую опасность представляли внутренние кровотечения, кровоизлияния в суставы и кровоточивость десен.
По свидетельствам современников, Леопольд был самым красивым из четырех сыновей королевы, а также самым умным — он настаивал, чтобы его отпустили учиться в Оксфорд. Тот факт, что Генри иногда лечил его, подтверждают письма королевы к своей старшей дочери, кронпринцессе Фредерике. В 1881 году Леопольд стал герцогом Олбани и, наконец, решил жениться, несмотря на ужас матери и ее предупреждения. Возможно, Генри смог успокоить ее. Много лет спустя, во время отдыха со своей семьей в Озерном крае, он писал Барнабасу Коучу о больном гемофилией сыне принцессы Беатрис Баттенбергской:
Я очень хорошо помню, как расстроилась Ее Величество королева, когда Его Королевское Высочество герцог Олбани решил жениться. Она была твердо уверена, что Его Королевское Высочество слишком болен, чтобы думать о браке. По ее мнению, он должен был спокойно жить при дворе, уделяя время, если пожелает, своим научным изысканиям. Даже она, с ее пылким воображением, не могла представить, что больной гемофилией способен поранить себя принадлежностями для чтения и письма, хотя Его Королевское Высочество однажды вызвал сильное и длительное кровотечение, проткнув себе нёбо стальным пером! Затем, когда принц сделал предложение принцессе Хелене и оно было принято, это вызвало потрясение и скорбь, быстро сменившиеся со стороны Ее Величества заверениями, что именно она, и никто другой, устроила этот союз и что ничего более подходящего просто быть не может. Я очень не хотел лгать ей, но от одного вопроса всеми силами старался уклониться. К счастью, она его не задала. Я не мог сказать ей правду — дочери, которые могут родиться у Его Королевского Высочества, неизбежно будут носителями гемофилии.
Просто невероятно, какой грубой может быть Ее Величество. Она без всякого смущения и какой-либо застенчивости заявила мне, что сомневается в способности принца стать отцом. Тут она, конечно, ошибалась, поскольку герцогиня Олбани родила дочь — несомненно, носительницу заболевания, — а затем и сына, после чего ее муж встретил преждевременную смерть. Когда Ее Величество обсуждала со мной будущее Леопольда, касаясь в основном различных методов (прикладывание льда, катетеризация, отдых), которые я предлагал для облегчения его неизлечимого состояния, — она, если хотите знать, верила, что сын «это перерастет», — королева вдруг заговорила обо мне, заметив, что мне самому пора подумать о браке. Должно быть, я уже приближаюсь к сорока, сказала она, чем весьма мне польстила, сбросив пять лет. Затем несказанно изумила меня, процитировав Шекспира! Она посмотрела мне в глаза и заявила, что я не должен «дожить до гроба, не снявши копий с этой красоты» [24] . Вы, мой дорогой Коуч, единственный человек (мужчина или женщина), которому я рассказал об этих экстраординарных событиях. Как вам известно, три года спустя я женился, хотя мое решение и выбор жены никак не были связаны с советом Ее Величества.
Это единственное упоминание о жене в письмах и блокнотах Генри, если не считать записей в дневнике, сделанных в соответствующее время: «Э. родила дочь», а позднее «Э. родила сына». Разумеется, это почти ни о чем не говорит. Генри был викторианцем и, подобно большинству мужчин из верхнего среднего класса викторианской эпохи, проводил четкую границу между работой и семейной жизнью, вплоть до того, что считал свои дневники хранилищем профессиональных обязательств, а письма — дружеской откровенностью мужчин. Но все это ни в коем случае не указывает, что Генри женился на Эдит Хендерсон не по своей воле; на самом деле он ее любил.
Тем не менее во время женитьбы принца Леопольда на Хелене Вальдек-Пирмонт Генри был влюблен в Оливию Флоренс Шарлотту Бато — или очень умело имитировал нежные чувства. Девушка также ни разу не упоминала его имени в дневниках и письмах, в отличие от ее отца и матери, причем они писали о его визитах в их лондонский особняк, а также в загородный дом Грассингем-Холл в Норфолке. По всей видимости, Генри встречался с ними и раньше, но первая запись об этом в его дневнике относится к марту 1882 года. Генри отмечает: «Ужинал с сэром Джоном Бато на Гросвенор-сквер». На странице дневника напротив этого дня есть кое-что еще: пентаграмма, свидетельствующая о послеобеденном визите к Джимми Эшворт.
Генри еще раз ужинает с Бато в апреле, а затем в мае, за два дня до двухнедельного пешего путешествия по Швейцарии, а через неделю после возвращения едет на верховую прогулку в Гайд-парк вместе с «леди Бато и ее дочерями». Нигде нет никаких сведений о том, как он познакомился с семьей Бато, не говоря уже об отношении к ним. Однако в начале октября того же года Генри «поехал в Норфолк на охоту», и хотя он не упоминает, где остановился, запись заканчивается словами о том, что «Грассингем-Холл очень красив». В сентябре будущий лорд Нантер устраивал званый ужин в своей квартире на Уимпол-стрит, вероятно, после возвращения с Чалкот-роуд, потому что на этой странице тоже присутствует пятиконечная звезда. Этот званый ужин первый, когда-либо упоминаемый в дневнике, и Генри перечисляет гостей, причем в строгом алфавитном порядке: мистер и миссис Аннерли, сэр Джон и леди Бато — вот оно, опять — «с дочерями», доктор Барнабас Коуч, доктор и миссис Виккерсли. Кто такие Аннерли и Виккерсли? Время от времени их имена появляются в дневнике, но без всяких указаний на то, кто они такие. Генри не отступил от принятых правил, пригласив равное число мужчин и женщин. Однако из дневника выясняется один важный факт — по викторианским меркам Генри часто виделся с Оливией.
В октябре Констанс Бато пишет своей подруге Хелен Милнер:
Сегодня утром пришел с визитом доктор Нантер, якобы справиться о здоровье мамы, но у мамы, о чем доктор должен был знать, всего лишь обычная простуда, и ей даже нет нужды оставаться в постели. Истинная причина — увидеть Оливию, которой, если хочешь знать, не было дома. Поэтому он придет завтра, разумеется, чтобы навестить маму, чье здоровье его беспокоит, и принести какое-то лекарство от воспаления горла.
Доктор Нантер очень красив, очень приличен, очень умен и очень стар. Вернее, очень стар «для наших юных глаз», как говорит мама. Должно быть, ему сорок пять. А Оливии всего двадцать два. Плохо то, что она начинает волноваться, что стареет и упускает свои шансы. Понимаешь, она выходит в свет уже четыре года, но никто из тех, кто вызывает у нее симпатию, не сделал предложения. Доктор ей нравится, и Оливия расстроилась, узнав, что он приходил в ее отсутствие. Мама и папа хотели бы их соединить. Мама — она сама старая — называет доктора Нантера молодым человеком «в расцвете лет». Ее единственное возражение, насколько я понимаю, состоит в том, что он живет в квартире над своим кабинетом в немодном (по мнению мамы) районе на Уимпол-стрит.
Но Генри подумывал о переезде. Датируемая началом декабря запись в дневнике под большой, тщательно вырисованной пентаграммой сообщает, что он смотрел выставленный на продажу дом на Грин-стрит, в районе Мейфэр. Вероятно, дом пришелся бы по вкусу леди Бато, но Генри его не купил и в феврале осматривал уже другой, на Парк-лейн. Мог ли он позволить себе содержание дома в Мейфэр? Конечно, ему в наследство досталась шерстяная мануфактура в Годби, но лучшие времена фабрики давно миновали. Задолго до смерти отца Генри на фабрику взяли управляющего, но под его руководством дела пошли совсем плохо, и падение производства, помимо всего прочего, стало причиной ужасных страданий и бедности среди фабричных рабочих. Генри было бы трудно найти покупателя на дом, и выручить за него удалось бы немного. И действительно, Генри сохранил дом, который в конечном счете стал загородной резиденцией семьи Нантер. Годби-Холл продал мой отец в 1970 году — за гроши.
Таким образом, у Генри не хватало средств, чтобы иметь дом в престижном районе. Все это могло измениться, женись он на Оливии Бато — ее личный капитал составлял тридцать тысяч фунтов, что в 1880-х было громадной суммой. Почти всеми сведениями о семье Бато я обязан (так пишут в выражении признательности) Стенли Фарроу. Мой прадед, как обычно, рассказывает потомкам очень мало, причем в дневнике об этом нет ни слова. Потому что это не затрагивало его чувств? Потому что ему было безразлично? Или Оливия никогда не значила для него слишком много и он выбросил ее из головы после того, как познакомился с Хендерсонами?
Стенли Фарроу подошел ко мне в гостевой комнате Палаты лордов, где мы с двумя другими независимыми депутатами решили пропустить по стаканчику, и довольно нерешительно наклонился ко мне, опираясь рукой на красную кожаную спинку свободного стула за нашим столиком. Я подумал, что ему нужен стул, поскольку бар был переполнен, и сказал: «Конечно», — чем, похоже, озадачил его.
— Мне не нужен стул. Я лишь хотел сказать, что видел ваше объявление в «Таймс» и, кажется, могу сообщать вам кое-какую информацию. Хотя, конечно, все это может оказаться ерундой.
— Нет, вам определенно нужен стул, — сказал я и протянул руку. — Мартин Нантер. Присаживайтесь.
— Стенли Фарроу.
Я знал имена кое-кого из тех, кто участвовал в дискуссии о европейской монетарной политике.
— Вы новый пожизненный пэр. Пришли в минувшем июле. Я был в Палате, когда вас представляли. Вы лорд Харроу из Хэмпстеда.
— Хаммерсмита. Во всем остальном вы не ошиблись. Можно вас угостить?
— У меня уже есть. Но вам не помешает. — Я заказал ему джин с тоником. — Какую информацию вы хотите мне сообщить?
Стенли Фарроу был маленьким пожилым человеком, далеко за семьдесят, седым, с острым личиком эльфа; держался он очень прямо, как и многие люди небольшого роста.
— На самом деле ваше объявление увидела моя жена. Она сказала, что я должен с вами связаться. Имя Каспара Рейвена вам что-нибудь говорит?
— Это мужчина, за которого вышла замуж Оливия Бато.
— Понимаете, — сказал Фарроу извиняющимся тоном, — они мои бабушка и дедушка.
В Палате лордов трудно найти место, где можно побыть с кем-нибудь наедине. Во всех комнатах, где располагаются комитеты, постоянно идут совещания. Помещения для интервью вызывают клаустрофобию, а телевизионная комната забита зрителями. В библиотеке полно курильщиков. Нескольким пэрам повезло, и у них есть кабинеты, но и их приходится делить на четверых или на шестерых. 20 января народу было особенно много, поскольку в тот день баронесса Джей, лидер Палаты лордов, сделала заявление по поводу официального правительственного документа о реформе Палаты, который стал первым подтверждением (после объявления в речи королевы), что реформа действительно будет проведена.
Я решил отвести Стенли — вскоре мы уже называли друг друга по имени — в Королевскую галерею. Это просторный, необыкновенно величественный зал с высоким потолком, декорированный в красных, синих и золотистых тонах, с холодным мраморным полом, темными полированными столами, кожаными креслами и диванами. В Королевской галерее всегда холодно — это помещение практически невозможно нагреть, — но здесь, по крайней мере, тихо и почти пусто. Несколько человек, присутствовавших в галерее в тот день, не интересовались ни нами, ни нашим разговором.
— Ее дочь была моей матерью, — сказал Стенли. — Оливия вышла замуж в восемьдесят восьмом, а мама родилась в девяносто первом.
На одной из фотографий, которые он принес, была изображена Оливия, в простом белом платье в стиле прерафаэлитов, с распущенными волосами и улыбкой на лице. Я не прочь использовать этот снимок в своей книге, возможно, поместив его рядом с фотографией Джимми Эшворт, но в тот момент мог думать лишь об одном: это могла быть фотография Джуд. По какой-то причине сходство между ними здесь гораздо сильнее, чем на портрете Сарджента. Сомнения у меня вызывает поза Оливии — у нее в руках ребенок. Я мысленно отмечаю, что этого Джуд видеть не должна — по крайней мере, пока не случится невероятное.
— Вашей матери, конечно, уже нет в живых?
— Она умерла пятнадцать лет назад. Тому, что у меня все это сохранилось — фотографии, драгоценности и несколько писем, — услышав это, я навострил уши, — я обязан жене. Мужчин не особенно интересует генеалогия, семейные истории и все такое, правда? Джон Сингер Сарджент написал портрет бабушки, и Ви — моя жена — где-то увидела его репродукцию. После смерти мамы она сохранила все эти вещи, сказав, что Оливия была знаменитой и неизвестно, у кого может возникнуть желание узнать о ней.
— Предусмотрительная женщина, — согласился я. — Действительно, кое у кого возникло. А от кого письма?
— В основном от ее сестры Констанс. Парочка от мужа — то есть моего дедушки. Боюсь, если вы надеетесь найти письма от лорда Нантера, то будете разочарованы.
— Скажите мне вот что. Если у вас нет его писем, а также их совместных фотографий, — я убедился, что их действительно нет, по крайней мере среди лежавших на столе, — откуда вы знаете, что мой прадед был… скажем, неравнодушен к ней?
Стенли принадлежал к той категории мужчин, которые постоянно упоминают в разговоре жену. Похоже, она ужинает с ним здесь по меньшей мере один раз в неделю.
— Мама рассказывала Ви. Моя жена очень любила маму, они были близкими подругами, за что я, конечно, буду вечно ей благодарен. Понимаете, у моей бедной матери, у них с братом, было тяжелое детство, и она так и не смогла этого забыть, всегда рассказывала мне — а перед смертью и Ви, — полагая, что можно избавиться от бремени, рассказав о нем. Только ей, похоже, это не помогало.
Я был озадачен. В чем причина тяжелого детства дочери — а если уж на то пошло, и сына — процветающего Каспара Рейвена, владельца банка «Рейвенс», и его жены Оливии? Глаза бедного старины Фарроу вдруг заблестели, словно наполнились слезами. Нет, конечно, это не слезы. Я раскусил его — преданный сын матери-собственницы, который, когда мать постарела и, возможно, выжила из ума, женился, надеясь на то, что когда придет время, эта женщина сможет заменить ему мать. Слезы не пролились, но голос слегка дрогнул.
— Я вижу, вы не знаете, — сказал он. — У Оливии был любовник, в те времена таких назвали другом. Она сбежала от мужа и бросила троих детей. Имени этого человека я не помню, наверное, Ви знает. Мой дед получил развод, сложное дело в ту эпоху, хотя за два года до этого был принят закон, облегчающий разводы. Разумеется, не было и речи о том, что дети останутся с Оливией. Им пришлось нелегко.
— Когда это случилось?
— В девяносто шестом. Моей матери было пять, ее сестре — семь, а их маленькому брату — всего два. Мой дедушка, то есть Каспар, обладал крутым нравом, хотя проявилось это только после того, как от него сбежала жена. До этого он, как выразилась моя мама, боготворил землю, по которой ходила Оливия, и был ради нее готов на все. Потом Каспар выместил свои чувства на детях, и им, как я уже сказал, пришлось нелегко.
Я спросил его, что случилось с Оливией. Вышла ли она за того мужчину? Вместо ответа Стенли спросил меня, знаком ли я с работами Оскара Уайльда. Довольно хорошо, ответил я.
— Считается, что прообразом леди Уиндермир послужила моя бабушка, только бабушка действительно сбежала со своим мужчиной, а леди Уиндермир — нет. Что касается ее судьбы, то она не вышла замуж за этого человека, не знаю его имени, а сошлась с другим мужчиной, а потом еще с одним. Это было во Франции, где-то на юге Франции. Мой дедушка знал — он все рассказывал детям, причем самым грубым образом. Оливия вернулась сюда незадолго до начала войны. Моя мать к тому времени уже стала взрослой и иногда навещала ее, разумеется, втайне от отца. Когда в тысяча девятьсот двадцать четвертом году Оливия умерла, выяснилось, что у нее был порок сердца, развивающийся только у тех, кто переболел сифилисом.
Пока Фарроу собирал фотографии и прятал их в портфель, я решил, что нужно перечитать пьесу «Веер леди Уиндермир», чтобы сравнить даты.
— Послушайте, я собираюсь домой. Это всего лишь Хаммерсмит. Не хотите поехать со мной и поговорить с моей супругой?
7
Открытия Генри Нантера нередко опережали свое время. Ранней весной 1882 года в своем докладе, представленном Королевскому обществу, он указал на два фактора, влияющие на свертываемость крови. Один из них — кальций, а второй Генри назвал «тромбопластом». Он ошибался, но двигался в правильном направлении. Прошло двадцать лет, прежде чем появилась теория четырех факторов и двух веществ, и еще больше времени, прежде чем медицинская наука выяснила, что насчитывается двенадцать факторов, влияющих на активацию протромбина, — их обозначили римскими цифрами.
Для биографии все это не столь важно, но проиллюстрирует читателям стремление Генри стать пионером в своей области. И стойкость в преодолении превратностей судьбы. Похоже, он упорно трудился, вкладывал в свои исследования и практику душу и сердце, хотя понимал, насколько важны для него смена обстановки и отдых. Лучшим временем для него были ежегодные пешие походы. Путешествие за границу, которое он предпринял в конце апреля 1882 года, началась в Куре, или Куэре, ретороманском старейшем городе Швейцарии, ныне горнолыжном курорте, расположенном в юго-западной части страны. Возможно, эта местность была ему знакома — если вспомнить проведенное в Университете Вены время, когда в Генри зародилась любовь к Альпам.
Из Куре он, по всей видимости, отправился пешком по горным тропам в округ Хинтеррайн. Гамильтона уже не было в живых — не осталось ни компаньона для прогулок, ни адресата для писем. Скучал ли он по другу, с которым в прошлом совершил столько походов? Наверняка, причем сильно. Из деревушки высоко в горах, где он остановился в доме семьи Шиле, Генри писал еще одному врачу, с которым, похоже, познакомился и подружился в больнице Св. Варфоломея, Льюису Феттеру:
Мой дорогой Феттер!
Как я и предполагал, это глухое местечко, просто несколько домов, разброшенных по поросшим лугами юго-восточным склонам Граубюндена. Очень красивое, если вы любите живописные пейзажи. Сообщение между этими домами и внешним миром может осуществляться только по разбитым и опасным проселочным дорогам. Проехать по ним невозможно. К счастью, как вам известно, я всегда предпочитал ходить пешком, и меня не пугает перспектива преодолеть несколько миль. Чтобы добраться сюда из Версама, мне пришлось совершить шестичасовую прогулку; по моим подсчетам, расстояние составило не меньше двадцати миль. Можете мне поверить, когда я говорю, что был искренне рад увидеть очень необычный и живописный дом, принадлежащий милому семейству Шиле, где меня ждала трапеза из жареного мяса, картошки и чего-то похожего на фруктовое пюре, а затем — отдых на удобной кровати в чистой и просторной комнате.
Снег сошел, за исключением высоких пиков, и альпийские луга цветут во всем своем великолепии. Эта деревня открыта всем ветрам, но солнечный свет и сухой воздух делают ее благоприятным для здоровья местом. За исключением, по мнению В. и Г., как вам известно, одного аспекта. Но все это уже в прошлом. В настоящее время население деревни составляет около ста пятидесяти человек, в большинстве своем здоровых и крепких людей. Тем не менее здесь распространены такие болезни, как плеврит, пневмония и деформирующий артрит. Цинга и геморрагическая сыпь не встречаются вообще, туберкулез редок…
Оставшаяся часть письма состоит из комплиментов семье Феттера, вопросов о его здоровье и заверений, что он, Генри, «вернется на Уимпол-стрит к двенадцатому мая». В заголовке письма указывается Зафиенталь, кантон Граубюнден. Но кто такие В. и Г.? Общие друзья Генри и Феттера? Или авторитетные специалисты в области здравоохранения той эпохи? Может. В. — это доктор Виккерсли, один из гостей на званом обеде Генри в сентябре того же года?
Если Генри писал также Оливии Бато или Джимми Эшворт, эти письма пока не нашлись, но, как мне кажется, я начинаю понимать характер Нантера и склонен думать, что он не писал ни той, ни другой. Генри был последователем байроновской школы и согласился бы с утверждением, что «в судьбе мужчин любовь не основное»[25].
В тот вечер я не поехал домой к Стенли Фарроу, в Хаммерсмит. Мы с Джуд договорились поужинать в ресторане. По дороге домой я остановился, чтобы купить красные розы, — без всякой причины, просто потому, что Джуд их любит. В конечном итоге Стенли повторил свое приглашение. Похоже, он, как и многие его коллеги, легкомысленно относился к своей роли поддерживающего правительство пэра — приходил во время вопросов и исчезал до того, как нужно было голосовать, а иногда не появлялся совсем. Естественно, он мог присутствовать в те несколько дней, когда меня не было. Мы снова столкнулись уже ближе к концу февраля. Я пил чай в баре, когда он подошел ко мне и сказал, что Ви «умирает» от желания со мной встретиться, и пригласил нас с женой на ужин. Я так путано отказывался, что у него, наверное, сложилось впечатление, что у меня крайне неудачный брак и мы с Джуд живем каждый своей жизнью. В конечном счете я согласился прийти один, но не на ужин, а просто пропустить по стаканчику.
В тот день я получил посылку с письмами, которые Генри писал Барнабасу Коучу. Меня немного шокировало, что их владелец отважился отправить их почтой, даже заказной посылкой. Отправитель, миссис Дебора Коуч, вдова правнука друга Генри, не знала, что Генри снимал копии со всех своих писем. После смерти мужа она нашла аккуратно упакованную пачку, завернутую в газетные листы («Таймс», август 1906 года), когда наводила порядок на чердаке в старом доме приходского священника, где они жили. Из сотен писем Генри принадлежала всего дюжина. Коуч вел обширную переписку и, по всей видимости, сохранял всю полученную корреспонденцию, приказав — по словам миссис Коуч — своей незамужней дочери «сохранить их все, иначе, клянусь Богом, я вернусь и не дам тебе покоя». Это очень странно, но я часто замечаю, как расстраивает подобная угроза в высшей степени рациональных людей.
Я приехал в Палату лордов около четырех, встретился со Стенли, и приблизительно в половине шестого мы отправились к нему домой, на Куин-Кэролайн-гроув. Леди Фарроу оказалась такой, какой я представлял Лауру Кимбелл, — круглой, седоволосой, по-матерински заботливой. Может, это ее я имел в виду? Она помогла Стенли снять пальто и помогла бы мне тоже, если бы я позволил. Мы прошли в гостиную, отделка и мебель которой явно свидетельствовали о вкусах покойной миссис Фарроу. Очевидно, именно она была первой обладательницей буфета и обеденного стола из беленого дуба, «каминных» кресел и настольных ламп с мраморными девушками, обнаженными, но бесстрастно целомудренными, держащими в вытянутых руках пергаментные абажуры. Ее невидимое присутствие было почти осязаемым. Я вспомнил слова одной заботливой подруги, сказанные моей матери после смерти отца: «Он не ушел, Соня. Он здесь, с тобой, в этой комнате». Миссис Фарроу была в гостиной, вместе со своим сыном и невесткой. Вскоре выяснилось, что мысли леди Фарроу — или, если хотите, ее душа и сердце — заняты не только свекровью, но и матерью свекрови, причем обе женщины причудливым образом соединились, переплелись друг с другом, образовав единого матриарха семьи.
Стенли достал херес. Вино не предлагали, оно просто появилось, этот самый невкусный (на мой взгляд) херес, бледный, как совиньон; создается впечатление, что он должен быть сухим, но первый же глоток неприятно поражает какой-то липкой сладостью. Я пытался скрыть свое удивление. Вместе с хрустящим печеньем на стол были выложены фотографии. Биограф вроде меня, который обращается за помощью ко всем мыслимым источникам, вскоре оказывается заваленным фотографиями. Но я не жалуюсь. Мне очень помогает, если в памяти хранится образ человека, о котором я пишу, — а еще лучше, когда эти лица лежат передо мной, на письменном столе. Мне еще раз продемонстрировали Оливию в тунике, в которую обычно задрапированы классические статуи, с маленькой дочерью на руках. На других снимках, новых для меня, запечатлена Оливия во время свадьбы, Оливия с сыновьями, снова Оливия с дочерью, но уже лет пяти, в том же году, что Сарджент написал ее портрет.
— Как ее звали? — спросил я.
— Вайолет, — сказала леди Фарроу. — Вайолет — так же, как и меня. Чудесное имя, вам не кажется? Она была такой милой женщиной. Именно она познакомила нас со Стенли; я была ее самой близкой подругой, так что наша встреча была предначертана судьбой.
Значит, эти двое женаты всего пятнадцать лет. Стенли избежал сиротской судьбы, потому что умирающая мать подыскала себе замену. Жену, которая, благодаря удаче или стечению обстоятельств, была ее тезкой.
Она словно прочла мои мысли.
— О, меня крестили не как Вайолет. Меня назвали Джин. Джин Смит. Но Стенли хотел, чтобы у меня было такое же имя, как у его матери, и теперь мне кажется, что меня всегда так звали. Я, если можно так выразиться, в гораздо большей степени Вайолет, чем Джин. Вторая Вайолет Фарроу, как я говорю.
Стенли, похоже, это нравилось. Он согласно улыбался. Леди Фарроу взяла фотографию, вздохнула и снова отложила.
— Ее жизнь была трагедией. Сначала это ужасное детство без матери, потом одинокая юность… Понимаете, Каспар не разрешал ей видеться с матерью. Он был таким жестоким человеком, таким безжалостным. В конце концов, что ему было нужно? Каспар сохранил детей, положение в обществе. Его все уважали. А она была обречена на полное одиночество…
— Прошу прощения, — перебил ее я. — О ком вы говорите, об Оливии или о Вайолет?
Леди Фарроу прижала палец ко лбу, словно указывая на больное место.
— Вайолет. Да, о Вайолет. О моей подруге. Бывает, я их путаю — представляете? Мать и дочь, обе такие несчастные, обе жертвы мужской жестокости.
— Не расстраивайся, дорогая. — Стенли накрыл ладонь жены своей. — Давай я налью тебе еще хереса.
— Спасибо. С удовольствием. Понимаете, ей было всего пять лет, когда сбежала ее мать. Я говорю «сбежала», разумеется, потому что Каспар довел ее до отчаяния. Оливия словно ждала, чтобы появился кто-то чуть более добрый и столкнул ее в пропасть… — леди Фароу продолжала в том же духе, а я размышлял, как остановить этот поток слов и направить ее мысль туда, куда мне нужно.
— Леди Фарроу, все это очень интересно, — наконец произнес я.
— Вайолет. Называйте меня Вайолет.
— Все это очень интересно, Вайолет, но меня интересует жизнь Оливии. — Я решил прибегнуть к лести. — Только от вас я могу из первых рук (на самом деле, скорее, из третьих) узнать о ней. Что она чувствовала, какой была.
К счастью для меня, Вайолет Фарроу, урожденная Джин Смит, не обиделась. Она задумчиво улыбнулась, потом покачала головой, чтобы смягчить улыбку. Света в комнате было достаточно, однако она протянула руку и щелкнула выключателем между ступней малахитовой дамы, державшей абажур с зеленым греческим орнаментом по краю.
— Вот, так лучше. Теперь я вас хорошо вижу. — Эти слова всегда служат для того, чтобы смутить слушателя. — С Оливией с самого начала обращались дурно. Говорили, что они не сошлись характерами, но на самом деле это означает, что Каспар был грубияном, а Оливия не привыкла к грубости. Совершенно естественно, что такая красивая, защищенная девушка отличалась самостоятельностью. Правильно говорят: женился на скорую руку, да на долгую муку.
Стенли и Вайолет Вторая явно не торопились со свадьбой; должно быть, им понадобилось лет двадцать, чтобы созреть — или получить разрешение матери.
— Почему на скорую руку? — поинтересовался я.
— Нет, нет, ничего подобного. — Леди Фарроу как будто обиделась.
Я едва удержался от смеха. Мне и в голову не могло прийти, что такое было возможно в высшем обществе в 1888 году. Другое дело Джимми Эшворт и Лен Доусон.
— Вайолет говорила, что Оливия хотела замуж. Понимаете, ей уже исполнилось двадцать семь. В таком возрасте нельзя оставаться одинокой. Каспар был первым из сделавших ей предложение мужчин, кого, как ей казалось, она сможет терпеть рядом с собой. То есть, не считая вашего прадедушки — это же был ваш прадедушка, да? Она говорила мне, что Генри Нантер был любовью всей ее жизни.
— Вы имеете в виду, вам говорила миссис Фарроу?
— Совершенно верно! Разве я не так выразилась? Ее мать рассказывала ей, что была страстно влюблена в Генри Нантера. И очень разочаровалась, когда из этого ничего не вышло. Понимаете, он бросил ее. Мне неловко говорить вам такое о вашем прадедушке, и я надеюсь, что вы не обидитесь. Уверена, он был чрезвычайно благородным человеком, хорошим врачом и все такое, однако он бросил мою… то есть Оливию.
— Они не были помолвлены, моя дорогая, — вставил Стенли.
— Она этого и не говорила. Оливия говорила, что они понимали друг друга. Ее родители все знали и одобряли. Генри Нантер подыскивал для них дом, смотрел несколько особняков в Мейфэр. — Действительно смотрел. И вдруг слова миссис Фарроу обрели смысл. Все это не просто фантазии, искаженные временем. — Оливия хотела жить на Парк-лейн. Сегодня практически невозможно представить, правда, чтобы кто-то захотел жить на Парк-лейн? Видите ли, она не хотела уезжать далеко от семьи. Они жили на Гросвенор-сквер. Вайолет склонялась к мысли, что в том доме, где теперь американское посольство, но я не знаю, так ли это.
Я взял в руки фотографию Оливии с родителями и сестрой Констанс, на фоне летнего дома, предположительно в саду на Гросвенор-сквер. Неужели у них был свой сад? Или это сквер на самой площади?
— Что же случилось? — спросил я.
— Ничего, — ответила миссис Фарроу с каким-то мрачным торжеством. — Совсем ничего. Он просто исчез из жизни семьи Бато. Это произошло летом восемьдесят третьего. 14 июня, в четверг, его пригласили на ужин на Гросвенор-сквер, а в полдень он сообщил, что не придет. Телефонов тогда, конечно, не было — то есть они только начали появляться. Генри Нантер, или, я бы сказала, доктор Нантер, не хотел никого обидеть — кстати, в то время он уже был сэром Нантером — и прислал записку с сообщением, что ему нездоровится. Так он написал. Оливия потом говорила, что впоследствии слово «нездоровится», прочитанное или услышанное, всегда вызывало у нее душевную боль.
— Но тогда она этого не могла знать, Ви, — заметил Стенли. — Ничто не указывало, что доктор Нантер собирается ее бросить.
— У нее было предчувствие несчастья. И она оказалась права. Оливия его больше не видела. «Нездоровится, — повторяла она. — Его болезнь заключается в нежелании видеть меня».
Я не стал спрашивать леди Фарроу, откуда она может знать подобные вещи и мыслимо ли, чтобы мать рассказывала дочери о таком. В тот момент мне больше всего хотелось вернуться домой, открыть дневник и проверить, присутствует ли пентаграмма рядом с записью от 14 июня 1884 года.
— Понимаете, ее отец хотел подать судебный иск о нарушении обещания. Тогда это было принято. В газетах помещали объявления, призывающие родителей остерегаться мужчин, которые могут неподобающим образом обойтись с их дочерями.
— Но сэр Джон Бато этого не сделал?
— Оливия его остановила. Гордость не позволила ей согласиться на такое. «Застыла, как надгробная Покорность, — неожиданно продекламировала леди Фарроу. — И улыбалась»[26]. По крайней мере, так говорила Вайолет. Мило, правда? Она была очень талантлива, писала чудесные стихи. Если вам нужны фотографии для вашей книги, мы с радостью их предоставим.
— Не стесняйтесь, — прибавил Стенли.
— При условии, конечно, что их вернут в целости и сохранности. Кроме того, Стенли сделал для вас копии всех писем.
Хорошо еще, мне не пришлось слушать стихи. Я был уже в холле, когда хозяева вдруг вернулись в гостиную и принялись шепотом о чем-то совещаться. Затем леди Фарроу вышла, взяла мое пальто и настояла, чтобы подать мне его.
— Кстати, я надеюсь, вы не восприняли всерьез слова Генри о том, что у Оливии было… скажем, заразное заболевание. Ведь ты не это имел в виду, дорогой?
— Конечно, нет, дорогая. Конечно, нет, — ответил из-за ее спины Стенли, а затем здорово удивил меня, театрально подмигнув.
— Он имел в виду кого-то другого.
И только на улице, подходя к станции метро, я вспомнил, что словом «заразный» в викторианскую эпоху обозначали болезнь, которую теперь мы называем венерической, а более откровенные люди, в том числе сам Стенли, — просто сифилисом.
Чему из всего этого можно верить? Явно не всему. Когда я вернулся домой, Джуд была на званом обеде, устроенном издательством в честь одного из авторов. Я прошел к себе в кабинет, положил две позаимствованные фотографии к остальным и нашел дневник за 1883 год, блокнот в зеленой кожаной обложке форматом 1/8 листа. Почерк Генри был типично викторианским, наклонным, тонким и строгим, с высокими верхними петельками и глубокими нижними. 14 июня была сделана только одна запись: «Аудиенция у Ее Величества в 11 утра. Чувствую себя неважно, отменил вечерний визит». Никаких указаний, что это был за визит и куда, ни слова о семье Бато. Пентаграммы тоже нет. Следующая запись появляется в понедельник, 18 июня. Читая дневник в первый раз, в феврале, я еще не знал о Мэри Доусон, не познакомился с Лаурой Кимбелл. Теперь все выглядит иначе. Сидя на том же месте, что и два месяца назад, вооруженный новыми знаниями, я смотрю на записи за май, тот самый месяц, когда Джимми зачала дочь Мэри Доусон, и вижу три пентаграммы, одну 13 мая (в день, когда Генри вернулся из Озерного края), одну 17 и одну 29. Поскольку Мэри родилась 21 февраля 1884 года, то зачатие произошло, скорее всего, 13 или 17 мая. Разумеется, нет и не может быть способа выяснить это с абсолютной точностью. У меня мелькает мысль о Джуд, которая так любит подобные подсчеты.
Эти две женщины, Мэри Доусон и Вайолет Рейвен, были очень разными, я в этом не сомневаюсь. Судьба Вайолет в общем-то ясна — вышла замуж за человека, который был ниже по социальному положению, чем ее отец, и довольно счастливо жила сначала на вилле, а затем и в пригороде Лондона, Хаммерсмите. Единственный сын, Стенли, для которого она была любящей, но излишне властной матерью. Что сказала бы Оливия о своем внуке, который пошел по стопам «любви всей ее жизни» и стал членом Палаты лордов? Заглянув в справочник, я узнал, что Стенли был главой муниципального совета Хаммерсмита. Что касается Мэри Доусон, мне известно лишь, что она была матерью Лауры Кимбелл. И разумеется, моей двоюродной бабкой. Мне становится любопытно, и когда я пишу Лауре, прося прислать открытку с изображением Джимми Эшворт, то спрашиваю о Мэри, хотя и опасаюсь, что спровоцирую очередное «обеление».
Теперь я снова возвращаюсь к причине странного поступка. Вопрос в том, каков ответ, как выразился Генри в своей первой парламентской речи. Почему Нантер, настолько увлеченный Оливией, что начал подыскивать дом для начала семейной жизни, регулярно ужинавший у Бато и совершавший верховые прогулки с леди Бато и ее дочерями, три раза (судя по записям в дневнике) останавливался в Грассингем-Холле, почему он так грубо и безжалостно расстался с ней? Скорее всего, не бросил, поскольку «бросил» предполагает обручение. Однако Генри заставил Оливию поверить, что хочет взять ее в жены, а затем без всякого предупреждения расстался с ней. Внезапно до меня доходит, что причиной могла быть беременность Джимми Эшворт. С другой стороны, Мэри не могла быть зачата раньше середины мая, а в те времена не существовало никаких тестов, и 14 июня Джимми не могла знать, что беременна. Зачатие не могло произойти раньше, поскольку Генри всю последнюю неделю апреля и вплоть до 12 мая путешествовал по Озерному краю. Могла ли Джимми знать о своей беременности, если Мэри была зачата 13 мая? Не исключено, если у нее был регулярный цикл. Но почему известие о беременности Джимми заставило Генри расстаться с Оливией? Маловероятно, что Джимми решила шантажировать любовника. Последствия такой попытки для нее оказались бы хуже, чем для Генри. Вне всякого сомнения, жениться на ней Нантер не собирался… или собирался? Я спрашиваю себя, не мог ли он уже в 1883 году хотеть ребенка, наследника. Известны случаи, когда мужчины его положения и достатка женились на любовницах. Иногда. Крайне редко.
Похоже, этот тип женщин ему нравился — темные волосы, белая кожа, карие глаза, пышные формы и нежные черты лица с коротким носом и полными губами. Но Оливия тоже принадлежала к этому типу. И у Оливии было состояние в тридцать тысяч фунтов. Серьезный аргумент против гипотезы, что причиной расставания с Оливией была беременность любовницы. Генри не женился на Джимми. Не приходится сомневаться, что она бы с радостью согласилась, сделай он ей предложение. Джентльмен, отец ее будущего ребенка. Она бы ухватилась за такую возможность, была бы на седьмом небе от счастья.
В таком случае, почему?
8
Сегодня мы снова обсуждаем законопроект о Палате лордов. Тут много разговоров, а еще больше слухов о так называемой поправке Уитерилла, внесенной лордом Уитериллом, лидером независимых пэров. Именно он возглавлял группу переговорщиков от независимых депутатов; его коллегами были граф Карнарвон и лорд Марш, и им принадлежала идея сохранения 10 процентов от 750 наследственных пэров. Именно он внес эту важную поправку независимых, которая носит его имя, а также имя Марша, Карнарвона и виконта Тенби. Это значит, что в промежуточный период между полным упразднением наследственных депутатов и вторым этапом реформы в Палате останутся девяносто два наследственных пэра.
Кто будет выбирать этих девяносто двух? Только «наследственные» члены партии или все? Лорд Шепард спрашивал об этом в марте, но я не помню, что ему ответили. И кажется, именно он, впервые в этой Палате, предположил, что прохождение законопроекта будет зависеть от того, как поведут себя лорды.
Сегодня я пришел в Парламент к началу заседания, поскольку намерен выступить, а тут считается неприличным появиться, произнести несколько слов, а затем поспешно уйти. Перед началом заседания лорд Дайнвор, наследственный пэр, произносит клятву, напомнив мне о том, как восемь лет назад я впервые появился в Палате. Церемонию сократили, но пожизненных пэров по-прежнему представляют с большой помпой и пышными церемониями — перед ним и позади него шествуют поручители, все трое в красных мантиях. Однако наследственный пэр после смерти отца приходит на заседание в пиджачной паре. Он берет в руки Новый Завет, неразборчиво произносит несколько слов и пожимает руку лорд-канцлеру.
Я приносил клятву в тот день, когда представляли двух пожизненных пэров, и министры с организаторами фракций, оттесненные назад, чтобы освободить место для процессии, сгрудились у передних скамей. Я сомневаюсь, что кто-то вообще заметил бы мое появление, если бы на следующий день не вышла официальная стенограмма заседания: «Лорд Нантер впервые присутствовал в Парламенте после смерти отца и принес клятву». Я должен проверить, что говорилось в стенограмме о первом появлении Генри в Парламенте 19 июня 1896 года. Или в те времена, прежде чем был принят Акт о пожизненных пэрах, существовала особая церемония? Нужно проверить.
Сидя здесь, через две скамьи от ветеранов лейбористской партии, я пытаюсь свежим взглядом посмотреть на убранство зала, вспомнить, какие чувства испытывал, впервые попав сюда, и представить, что мог чувствовать Генри. Живопись меня не впечатляет — и никогда не впечатляла. Тут у нас имеется один Дайс[27], над троном, но картина не идет ни в какое сравнение с его фресками — аллегориями Благородства, Милосердия, Веры, — которые украшают комнату для облачения королевских особ. В высоких золоченых нишах стоят черные фигуры в кольчугах с пылью на плечах — неужели никакое приспособление для уборки не может туда достать? — но похожи они скорее на персонажей «Властелина колец», чем на архиепископов, графов и баронов, присутствовавших на лугу Раннимид, где в 1215-м король Иоанн подписал Великую хартию вольностей. Под ними по всему периметру зала ниже ажурной ограды галереи располагаются гербы правителей, начиная с Эдуарда III, а также лорд-канцлеров Англии с 1377 года. На них падает свет от скрытых источников, и они словно светятся изнутри. Иногда я считаю оттенки цвета на витражах. Когда-то мне казалось, что там только красный, синий и желтый, но потом я обнаружил изумрудно-зеленый, сизо-серый, коричневый и золотой.
В четыре я выхожу, чтобы выпить чаю, и снова возвращаюсь, желая услышать дискуссию по поводу позиции пэров от Шотландии. Мое выступление касается поправки, которая предлагает отложить вступление в действие закона до тех пор, пока Палата не рассмотрит отчет Королевской комиссии, и я встаю с места после того, как садится баронесса Блэтч. Моя речь длится не больше трех минут. Я говорю, что мне представляется неправильным лишать наследственных пэров права голосования до того, как станет известно, какая палата придет им на смену.
Прежде чем отправиться на ужин, я звоню жене и говорю, что не знаю, когда вернусь. Дебаты могут продолжаться всю ночь. Мне приходится оставить сообщение на автоответчике, потому что Джуд нет дома. Я какое-то время сижу за столиком с телефоном в дальнем конце холла для голосующих «против» и думаю о Джуд, своей жене, которая за последние недели отдалилась от меня. Я понимаю, почему это происходит, но не знаю, что делать. Я не могу поделиться с ней всеми своими чувствами и должен — или считаю, что должен, — избегать многих тем, и это смущает нас обоих, поскольку она очень хорошо знает, что у меня это плохо получается.
Если поправка лорда Уитерилла не пройдет, позволят ли мне остаться? Возможно. Но никто не знает, а если и знают, то я ничего не слышал о том, каким образом будут выбирать наследственных пэров, которые останутся в Палате лордов. Наилучший выход — голосование коллег. Но где и когда? Полагаю, нет никаких причин, чтобы не организовать пункт для голосования в Палате. В этом случае сюда явятся многие наследственные пэры, никогда не бывавшие тут прежде. Быть пэром, добросовестно выполняющим свои обязанности, — нелегкая работа. Если бы я не был тем, кто есть, и если бы мне предложили — это из области фантастики — на выбор: пожизненное пэрство или рыцарство, — я отдал бы предпочтение рыцарскому званию. А на месте женщины выбрал бы звание дамы-командора ордена Британской империи. Для рыцарей и дам-командоров не предусмотрено никаких обязанностей, помимо их основной работы. Минимум помоев со стороны средств массовой информации. И, как я полагаю, очень мало укоров совести.
Королева Виктория пожаловала Генри рыцарское звание весной 1883 года — думаю, в рамках присуждения почетных титулов и награждения орденами и медалями по случаю официального дня рождения монарха. Если в те времена уже существовал такой обычай. Это я должен проверить. Генри Нантеру исполнилось сорок семь; он был штатным лейб-медиком королевы, профессором патологической анатомии Университетского госпиталя, готовил к выходу вторую книгу. Я пытался читать «Наследственную предрасположенность к кровотечениям», но не сумел преодолеть сложные генеалогические таблицы и списки родственников. Тем не менее я не сдался окончательно, а лишь решил прерваться. Заставлю себя читать по пять страниц в день, пока не дойду до конца. Одну вещь я все же смог понять: Генри пришел к выводу о ложности утверждения, что переносчиками гемофилии являются мужчины. В тех случаях, например, когда гемофилия обнаруживалась и у отца, и у сына, она передавалась не напрямую, а через мать, которая сама являлась носителем болезни. Такое время от времени случалось в изолированных сообществах, где распространены браки между родственниками. Похоже, это первое и единственное открытие, которое Генри сделал в избранной области. Не очень лестный вывод, никак не объясняющий последующую славу и почести.
К моменту получения рыцарского звания Генри уже собирался расстаться с Оливией Бато, но не с Джимми Эшворт. За тремя пентаграммами в мае месяце последовали еще три в июне, но до этого он совершил благородный поступок. Можно сказать, героический. Это событие напоминает мне отрывок из романа Троллопа. Кто-то (не Троллоп) однажды сказал, что с человеком случается только то, что ему свойственно, но мне кажется, произошедшее совсем не в духе Генри. Хотя, что я могу знать? Несмотря на все мои изыскания, я почти ничего не знаю о его истинной личности или внутренней жизни.
Незадолго до этих событий Генри вернулся из пешего похода по Озерному краю; по всей видимости, он там простудился. Запись в дневнике, датированная средой, 23 мая, оказалась короткой. В отличие от заметки в «Таймс» за то же число. Генри написал: «Простужен. Смог оказать посильную помощь мистеру Хендерсону, на которого напал разбойник на Гоуэр-стрит». Скромняга Генри. Заметка в газете «Таймс» гораздо подробнее.
Мистер Сэмюэл Хендерсон, лицензированный адвокат, проживающий на Кеппел-стрит, счастливо избежал увечья или даже гибели прошлым вечером, когда в районе Гоуэр-стрит, неподалеку от Британского музея, на него напал преступник. Как мы понимаем, мистер Хендерсон только что покинул свою контору и направлялся домой. Возможно, посчитав, что он вышел из соседнего банка и имеет при себе крупную сумму денег, негодяй неожиданно напал на него сзади и ударил дубинкой.
К счастью для мистера Хендерсона, спасение пришло к нему в лице известного штатного лейб-медика Ее Величества королевы, сэра Генри Нантера, рыцаря-командора Ордена Бани, члена Королевского колледжа врачей. Сэр Генри, возвращавшийся из Университетского госпиталя, где он занимает пост профессора патологической анатомии, стал свидетелем всей этой сцены. Сильный и решительный мужчина в расцвете лет, сэр Генри тут же кинулся на бандита, вооружившись тростью, и вскоре обратил его в бегство. Затем он поспешил к несчастной жертве нападения и убедился, что травмы мистера Хендерсона ограничиваются синяками и сильной ссадиной правого плеча. Проходивший мимо мальчик-рассыльный был отправлен за помощью, и впоследствии мистера Хендерсона поместили в Университетский госпиталь, где он благополучно поправляется.
Возвращаясь домой, по всей видимости, после лекции перед студентами-медиками, Генри вряд ли предполагал, что его ждет встреча, изменившая его жизнь. Мне хочется предаться размышлениям о превратностях судьбы и воле случая. Помните мост через реку Тей и поезд, на который Генри едва не сел? Предположим, на Гоуэр-стрит его на пять минут задержал бы студент, отважившийся задать вопрос великому человеку. Или, охрипнув из-за «простуды», он закончил бы лекцию на пять минут раньше. Бедный мистер Хендерсон (мой прапрадедушка), вероятно, лишился бы жизни — или, по крайней мере, остался лежать, истекая кровью, на тротуаре. Помощь если бы и пришла, то из другого источника. В любом случае Генри никогда не познакомился бы с семьей Хендерсона и на свет не появился бы ни я, ни мои предки.
Кое-кто, разумеется, скажет, что это было «предначертано», но я не принадлежу к их числу. Это не судьба, которой невозможно избежать. Не рок, а случайность. Случайность, что отправленная телеграмма пришла вовремя и помешала Генри сесть на поезд. Случайность, которая свела вместе Генри, Сэмюэла Хендерсона и «злодея». Странная сила, но именно она определяет все наши события и приключения. Генри спас Сэмюэла Хендерсона от серьезного ранения или даже смерти, и каков результат? В качестве награды адвокат отдал ему в жены свою дочь? Разумеется, все было совсем по-другому — так бывает только в романах, которые читала горничная Генри. Вероятно, события развивались следующим образом: после возвращения Сэмюэла из больницы Генри нанес ему визит, чтобы справиться о его здоровье. В подобных обстоятельствах это считалось нормой. Сегодня мы просто позвонили бы по телефону; викторианцы были вынуждены приходить с визитом. Странно то, что Генри не упоминает об этом в своем дневнике. Возможно, из скромности. Робкий человек, который не выпячивает себя даже в личных записях. Только Генри не был ни скромным, ни робким. Он гордился собой, и кое-кто назвал бы его высокомерным. Визит на Кеппел-стрит (кстати, за шестьдесят семь лет до этого там родился Энтони Троллоп) объяснялся снисходительностью — Генри удостаивал своего внимания. По крайней мере, я так думаю, хотя могу и ошибаться.
Вполне возможно, что именно к этому времени относится одна из первых записей в блокноте, посвященная альтруизму. Мне пришлось купить сильное увеличительное стекло, чтобы разобрать почерк Генри. Буквы крошечные — возможно, это сделано специально, — а эта запись оказалась довольно скучной. Она не до такой степени меня заинтересовала, чтобы я с помощью новой лупы попытался расшифровать остальное. Джуд, которая тоже не читала блокнот, называет его «альтернативным Генри», хотя в первом фрагменте я не обнаружил ничего, что оправдало бы такое название.
Похоже, именно эти рассуждения стали побудительным мотивом «героического поступка», совершенного неделей раньше. Или наоборот, сам поступок навел на подобные размышления. Ничего нового или оригинального, подумал я. Почти все уже было сказано до него. Тем не менее это свидетельство, что Генри размышлял на подобные темы, а самое любопытное здесь — неизменное упоминание о крови.
Альтруизм, — пишет Генри, — существует ли он? Совершаем ли мы какое-то действие, не думая о себе? Разве все наши поступки не направлены на то, чтобы возвысить себя в глазах других или, по крайней мере, не создать у них впечатление нашей самоотверженности? Я убежден в этом. Греховный человек движим эгоизмом во всех проявлениях своей жизни. Если женщины кажутся более альтруистичными, то лишь потому, что с ранних лет в них воспитывали пассивность, послушание, уступчивость и привычку в первую очередь думать о других. Упаси Боже вообще исключать женщин из этой сферы, но если такое случится и в них будут поощрять независимость, самостоятельность и даже властность, их альтруизм исчезнет, а их характер станет напоминать мужской или даже превзойдет его.
Если я спешу на помощь невезучему прохожему, у которого обчистили карманы, — например, снабжаю несколькими монетами, чтобы он благополучно добрался до дома, и осматриваю его раны, — то просто пытаюсь произвести на него впечатление, причем двумя способами. Предлагая деньги, я демонстрирую свое богатство, а осматривая полученные им травмы, хвастаюсь своим искусством врача. Альтруизма тут нет, потому что я не подвергаю себя опасности, расходы мои незначительны, а поскольку все происшествие занимает не больше пяти минут, ощутимой потери времени тоже нет.
На самом деле я могу даже извлечь пользу из своего поступка. Предположим, раненый человек случайно оказался «склонным к кровотечениям». Маловероятно, но не исключено. Во всяком случае, допустим, что это случилось. Тогда я стану свидетелем того, что обычно не вижу, и это редкая удача. Обильное и, вполне вероятно, плохо останавливаемое кровотечение из раны, умышленно нанесенной всего несколько секунд назад. Я, конечно, попытаюсь остановить кровь — ведь я врач. Попробую применить разные методы, имеющиеся в моем распоряжении, но мой интерес будет заключаться в том, чтобы прямо здесь, если можно так выразиться, на месте событий, наблюдать непосредственную реакцию пострадавшего и его умственные процессы, сопровождающие несчастье. Зажав рану — я вспоминаю описанный Грандидье случай, когда сестра три дня зажимала пальцем кровоточащую десну брата, чтобы предотвратить обильную, а возможно, и полную потерю крови, — я буду с несомненным удовлетворением размышлять о том, как это приключение внесет вклад в неизменно увлекательное исследование гемофилии.
Сэмюэлу Хендерсону не обчистили карманы. И он не был ранен — в том смысле, о котором пишет Генри. Описанный «случай» гипотетический, нечто такое, чего никогда не было и не будет. Шансы слишком малы. Аллюзия с кровью типична для Генри, но тут есть другая странность. Почему именно это происшествие вызвало у Генри подобные ассоциации? Сэмюэл не болел гемофилией и не истекал кровью. Преступник использовал дубинку, а не нож или другое острое орудие. Или Генри был до такой степени погружен в профессиональные интересы, что видел возможные «случаи» во всех ситуациях?
Возвращаясь к тому, что произошло на самом деле, следует отметить: у нас нет никаких указаний на время, когда произошло нападение. Полагаю, не поздно. Если Сэмюэл вышел из конторы «Флиндерс, Хендерсон и Кокс», а Генри возвращался после прочитанной лекции, то, скорее всего, это было не позднее шести вечера. В тот день, 23 мая, до заката солнца было еще далеко. Неужели никого больше не оказалось рядом? Ни в газете, ни в дневнике Генри об этом ничего нет. Правда, мы прекрасно знаем, что на одного доброго самаритянина приходится дюжина священников и левитов[28]. Известно, что прохожие не обращают внимания на жертв нападения или ограбления. Разве мы регулярно не читаем в газетах о пассажирах метро, проявляющих безразличие к своим попутчикам, подвергнувшимся жестокому нападению?
В начале прошлого года ко мне обратился родственник, о котором я не знал, и попросил предоставить сведения для генеалогической таблицы. Мода на генеалогическое древо, похоже, достигла гигантского масштаба. Все заинтересовались родословной, хотя раньше никто из моих родных этим, похоже, не увлекался.
Дэвид Крофт-Джонс приходится мне троюродным братом. Он утверждал, что его мать Вероника Крофт-Джонс, урожденная Киркфорд, была дочерью Элизабет и Джеймса Киркфорда, а Элизабет приходилась мне двоюродной бабушкой и была старшей дочерью Генри. Похоже, генеалогическое древо Дэвид стал рисовать после покупки нового компьютера с программой, которая практически самостоятельно составляет таблицы. По крайней мере, мне так кажется, если читать между строк, поскольку напрямую он этого не говорит. Дэвид утверждает, что занимается этим «для истории», чтобы детям не в чем было его упрекнуть. Детей у него пока нет — он только что женился, — однако он очень серьезно относится к своему долгу перед будущими поколениями.
Вероятно, я много раз встречал его в Вестминстере, не зная, кто он такой. Дэвид государственный служащий и работает в Министерстве внутренних дел, мимо которого я всегда прохожу по дороге к Парламенту от Сент-Джеймсского парка. Теперь я с ним встретился — они с женой пришли к нам на прошлой неделе пропустить по стаканчику и принесли с собой черновик генеалогической таблицы. На фоне этого амбициозного проекта мои усилия выглядят жалко. Дэвид намерен проследить не только родственные связи Хендерсона, но также родословную Нантеров на протяжении двух столетий. Я смог сообщить ему имена трех жен моего дедушки Александра (Памела Голдред, Дейдра Парк и Элизабет Поллок), а также своей первой жены Салли и мужа моей сестры Сары, Джона Стонора.
Из таблицы Дэвида я выяснил, что его тетя Ванесса, а также мои троюродные братья и сестры, Крэддоки, Беллы и Эндрю, являются потомками второй дочери Генри, Мэри Крэддок. Со временем я свяжусь со всеми этими людьми, попробую поискать семейные письма. Дэвид Крофт-Джонс говорит, что прабабушка Эдит, похоже, не написала за всю жизнь ни одного письма, а если и написала, то они не сохранились. Если кто-то из дочерей Генри и вел дневник, он тоже не сохранился. Дэвид дал мне на время связку писем, которые Мэри написала своей замужней сестре, его бабушке Элизабет; эти письма ему вручила мать, когда он занялся генеалогическим древом, но для моих целей они подходят больше, чем для его. Думаю, эти бумаги сохранились потому, что Элизабет и ее дочери принадлежали к той категории людей, которые никогда ничего не выбрасывают. Такие скопидомы — истинные друзья биографа, но только в том случае, если хранят нечто действительно ценное.
От того времени, когда Эдит, вторая дочь Генри, увлеклась фотографией, тогда, когда Генри познакомился с Хендерсонами, лето 1883 года отделяли долгие годы. Однако среди ее «успехов» числилось и умение рисовать. Она имела способности к рисованию и живописи, а Элинор — к музыке. Благодаря тому, что Элизабет Киркфорд ничего не выбрасывала, а ее дочь Вероника переняла от матери эту черту, сохранился рисунок Элизабет, портрет ее сестры. Вероятно, Вероника хочет, чтобы я его вернул, но мне рисунок нужен ненадолго, чтобы снять фотокопию. Дата отсутствует, но Элинор на нем взрослая женщина, а не ребенок; ей где-то между семнадцатью и тем возрастом, когда ее жизнь так неожиданно и жестоко оборвалась.
Моя прабабушка Эдит использовала мягкий угольный карандаш и плотную бумагу, которая когда-то, наверное, была белой, а теперь приобрела охристо-желтый цвет. На рисунке хорошенькая девушка. Разумеется, Эдит могла польстить сестре и написать приукрашенный портрет, но я полагаю, что правильные черты лица и густые волосы она передала верно. Кстати, белокурые волосы. В лице Элинор Хендерсон можно заметить сходство с Оливией Бато, но волосы и глаза у нее светлые. Если сравнить ее с сестрой, на свадебной фотографии, то я отдал бы предпочтение Эдит — почти во всем. Лоб у нее выше, нос слегка вздернут, а подбородок не такой скошенный, как у Элинор.
— Хорошенькая, но ничего выдающегося, — замечает Джуд, заглядывая мне через плечо. — Не то что сестра. И что Генри в ней нашел?
— Наверное, шарм. А может, у нее был красивый голос или она умела его рассмешить.
— Это женщинам нравятся мужчины, которые умеют их рассмешить, — возражает Джуд, — а не наоборот.
Она очень хорошо выглядит, лучше, чем обычно во время месячных. Если они уже начались — спросить я не могу. Месячные обязательно будут. Они у Джуд регулярные, как восход солнца. Вместо этого я спрашиваю, не возражает ли она, если я приглашу Дэвида Крофт-Джонса и его жену поужинать с нами в Парламенте. Сегодня утром он прислал мне второй вариант нашего генеалогического древа. Джуд улыбается и говорит, что не против.
— Сколько лет было Элинор?
Я уточняю: на портрете или когда она умерла?
— Когда она умерла.
— Двадцать четыре.
— Бедняжка, — говорит Джуд. — Какой она была?
Я не знаю. Мне известно, как она выглядела, — и больше ничего. Сохранилось только одно ее письмо к Эдит, и ни одного ей от Эдит или от родителей. Когда пишешь о женщинах из среднего класса, живших в XIX веке, возникают трудности с идентификацией, а если точнее, то с детализацией. Большинство получили довольно ограниченное образование, не имели профессии, не знали тревог и забот, оставались невежественными и жили на содержании сначала отца, затем мужа. Их невозможно различить — как женщин последующих поколений — по вкусам, путешествиям, занятиям вне дома или даже политике. Конечно, их нельзя назвать «одинаковыми», но в их случае гораздо труднее составить портрет отдельной женщины, вывести из тени на яркий свет, чтобы проступила ее индивидуальность.
Записи в дневнике ничего не дают. Генри пишет: «Ужинал с мистером и миссис Хендерсон» или «Сопровождал миссис Хендерсон и двух мисс Хендерсон в театр». В одном случае, в июле месяце, он сообщает: «Консультация с миссис Хендерсон». Таким образом, новые друзья, по всей видимости, пользовались его медицинскими знаниями. В тот период Элинор ни разу не называется по имени. Из писем ее матери к Доротее Винсент, ее золовке, мы знаем, что Элинор была «музыкальна»; неизвестно, что это означало — возможно, она играла на фортепьяно. Как и все незамужние девушки, Элинор жила в родительском доме. Вне всякого сомнения, она шила и помогала по хозяйству, поскольку Хендерсоны были обеспеченными людьми, но не богачами, ходила с матерью или сестрой за покупками, изредка ходила на концерты и участвовала в «музыкальных вечерах». Возможно, она иногда посещала собрания, посвященные борьбе за права женщин, но я пока не нашел этому никаких доказательств. И нет никаких свидетельств того, что до Генри за ней ухаживали мужчины.
В семье был еще сын, старший из троих детей. Двадцатисемилетний Лайонел Хендерсон служил клерком в отцовской конторе. Он тоже жил с родителями. По свидетельству матери Дэвида Крофт-Джонса, семья была счастливой: родители — покладистыми и терпимыми для той эпохи, а взрослые дети привязаны друг к другу. С ними также жил Уильям Квендон, восьмидесятитрехлетний тесть Сэмюэла, перебравшийся на Кеппел-стрит после смерти жены несколькими годами раньше. Дом сохранился до наших дней — четыре этажа, подвал, довольно маленькие и тесные комнаты, кухня и спальни слуг в подвале. Нынешние хозяева или их предшественники объединили две гостиные третьего этажа в одну, однако получившееся помещение все равно не назовешь большим. Теперь верхние этажи занимают спальни, но во времена Хендерсонов весь второй этаж, скорее всего, был отдан под гостиную. Мой прапрадедушка Уильям Квендон, должно быть, с трудом забирался в свою спальню, разве что его смогли устроить в подвале.
Такой была семья — дед, отец, мать, сын и две дочери, — которая, вне всякого сомнения, с раскрытыми объятиями встретила Генри, когда он начал приходить с визитами в июне 1883 года.
В июле Джимми Эшворт была уже на втором месяце беременности. Если Генри раньше мог ничего не знать, то к этому времени уже знал. Что он чувствовал, думая о предстоящем событии: радость, благодарность, раздражение, угрозу, или ему было безразлично? Я нисколько не сомневаюсь в последнем. Джимми была уступчивой, покорной и благодарной — у меня нет никаких причин считать иначе. Самостоятельная женщина не стала бы терпеть Генри целых девять лет. Джимми была для него удобной. Вне всякого сомнения, он считал — и продолжал считать — ее очень привлекательной. Вне всякого сомнения, у нее он находил утешение, комфорт, отдых, что составляло полную противоположность остальной его жизни — Палате лордов, больнице, работе. Однако он никогда ее не любил. По всей видимости, к тому времени Генри испытывал подобное чувство к Элинор Хендерсон. Требовалось обеспечить содержание Джимми и найти отца ребенку. С Оливией он мог сохранить отношения с Джимми. Элинор была другой, и с ней его связывали серьезные отношения.
Последняя пентаграмма в дневнике появляется 15 августа 1883 года. Возможно, это была последняя встреча Генри с Джимми Эшворт, но, скорее всего, нет. Вероятно, он еще несколько раз возвращался на Чалкот-роуд: представить Лена Доусона, отдать распоряжение о свадьбе, вручить кругленькую сумму. По свидетельству «Таймс», где появилось объявление, Генри обручился с Элинор в четверг, 23 августа. Я представляю, как рассудительный Генри, благопристойный Генри, в среду последний раз наслаждается любовными утехами с Джимми Эшворт, потом в пятницу приезжает с визитом на Кеппел-стрит, чтобы продолжить ухаживание за мисс Хендерсон, возвращается в ближайший понедельник, делает предложение Элинор и, получив согласие, во вторник официально просит у отца руки дочери, а в четверг публикует объявление о помолвке в газете. До той поры в дневнике об этом нет и намека. В пятницу 24 августа появляется следующая запись: «Вчера в “Таймс” появилось сообщение о моей женитьбе на мисс Хендерсон». Завидное хладнокровие. Генри обеспечивает будущее матери своего ребенка, устраивает ее брак с больничным носильщиком — и одновременно готовится к собственной свадьбе, не говоря уже об обязанностях лейб-медика королевы и чтении лекций. Деловой Генри.
Тем не менее вопрос остается, и я должен найти на него ответ. Зачем ему, черт возьми, жениться на дочери не слишком успешного адвоката, без «настоящих» денег и перспектив, когда он мог получить Оливию Бато? Ведь, по всей видимости, Оливия любила его? Красивая, богатая — и явно принадлежащая к тому типу женщин, которые ему нравились? С отцом-баронетом, владеющим особняком в деревне и семью сотнями акров земли, и не скрывающим, что в качестве свадебного подарка он мог дать тридцать тысяч? Недостаточно сказать, что Генри влюбился, а любовь и бухгалтерия — вещи несовместимые. Предположение, что Элинор была не только хорошенькой — довольно милой, но «не сравнить» с сестрой, — но также умной, очаровательной или остроумной, не дает ответа на вопрос, как и утверждение, что мой прадед влюбился и ему ничего не оставалось, кроме как жениться. Он был мужчиной среднего возраста, опытным, который девять лет содержал любовницу. И он потерял голову от хорошенькой девушки, которой до него не интересовался ни один мужчина?
И почему он, такой сдержанный во всем остальном, отмечал любовные свидания с Джимми Эшворт пятиконечной звездочкой?
9
Джуд беременна. Она сказала мне утром, в десять.
Сегодня второй понедельник мая, и Джуд работает дома. Обычно это означает, что она встает чуть позже, но только не сегодня. В половину восьмого жена уже была в душе, потом принесла мне чашку кофе и сообщила, что ей нужно в аптеку.
— Раньше половины десятого они не открываются, — заметил я и спросил, к чему такая срочность.
Она не ответила и сделала вид, что ищет что-то в ванной. Я очень хорошо изучил свою жену и знаю, что у нее на уме. Если я задаю вопрос, а отвечать она не хочет, то предпочитает не лгать, а поспешно удалиться, словно вспомнила о каком-то забытом деле. Но зачем ей лгать? Я мыл посуду после завтрака, за собой и за Джуд, когда услышал, как она вернулась и сразу же пошла наверх. Это случилось приблизительно через полчаса. Дэвид прислал мне связку найденных его матерью писем от моей двоюродной бабушки Элизабет Киркфорд, и я сидел в кабинете, пытаясь разложить их в определенном порядке, когда вошла Джуд. Ее лицо пылало. Она выглядела потрясающе. Тогда она и сказала:
— Я беременна.
В аптеку Джуд ходила за тестом на беременность. Месячные задерживались уже на десять дней, и ждать у нее больше не было сил. Я вскочил, обнял ее, и мы стали целоваться. Я хотел сказать, что никогда не был так счастлив, но это не так — был, в прошлый раз, и в позапрошлый. Никаких слов не прозвучало — ни тревоги, ни всепоглощающей радости. Я забыл о работе, и она тоже. Мы вернулись в постель, любили друг друга, а потом лежали рядом, крепко обнявшись, и я позволил ей излить свое волнение, слушал ее, говорил, что это чудесно, что это лучшее, что могло случиться, и мы смеялись от радости, а потом встали, и я повел ее на обед в ресторан, чтобы отпраздновать.
Мне все это не очень нравится, но я понимаю, что единственная надежда нашего брака — ребенок. И я знаю, что если у Джуд не будет ребенка, вся ее жизнь станет блеклой, пропитанной горечью, несчастной; она всегда будет хотеть детей и всегда чувствовать, что лишена счастья материнства, что она не настоящая женщина. Но в глубине души я не хочу ребенка. Мой эгоизм непомерен, хотя и безвреден, пока я не выпускаю его на свободу — а стараюсь держать его в узде. Я мерзок. Мне не нужен ребенок, который плачет по ночам и требует внимания днем. Я знаю (в отличие от Джуд), потому что проходил все это с Полом. А поскольку именно я работаю дома, то на меня взвалят обязанности по уходу за ним, а если у нас будет няня — ее придется нанимать, — то ответственность все равно ляжет на меня. Я не хочу пеленок, бутылочек, бессонных ночей и жутких, загадочных болезней, которым подвержены маленькие дети, когда ты сходишь с ума от тревоги и сломя голову несешься в отделение неотложной помощи. Ты любишь ребенка, разумеется, любишь и поэтому не можешь ему помочь. Он сует пальцы в розетку, сбрасывает с плиты кастрюли с кипятком, падает со своего высокого стульчика. Тринадцать лет его нужно отвозить в детский сад и школу и забирать домой. Пока ему не исполнится шестнадцать. К тому времени мне уже перевалит за шестьдесят, и я буду хотеть отдыха и немного покоя.
Но, изображая радость — и я действительно радовался за любимую жену, — я также обещал себе, что она никогда не узнает, не увидит и не услышит ни малейшего намека, что моя радость хотя бы немного уступает ее радости. Я буду счастлив, буду ликовать и притворяться глупым будущим отцом, который хвастается друзьям, что скоро у него в семье появится пополнение. Я буду не меньше Джуд волноваться, чтобы она выносила ребенка полный срок, следить за тем, чтобы она принимала фолиевую кислоту, не употребляла алкоголя, делала специальные упражнения, отдыхала, правильно питалась. Рискуя показаться занудным, я буду заводить, когда Джуд устанет, разговоры о выборе имени, об украшении детской и крестильных сорочках, о том, нужна или не нужна детская коляска, о том, что маленький ребенок не должен спать на животе. В этих вещах я буду еще глупее своей жены, а когда придет время, стану заботливым родителем, как Джемайма Паддлдак[29]. А возможно, по прошествии нескольких месяцев сила мысли и решимость изменят меня и заставят ждать рождения дочери или сына с той же радостью, что и Джуд.
Хорошо бы.
Сегодня, 11 мая, четвертый день рассмотрения в комитетах законопроекта о реформе Палаты лордов, и мы должны обсуждать поправку Уитерилла. Ту, что предлагает сохранить в Парламенте 92 из 750 наследственных пэров. Предложение следующее: лейбористская партия избирает 2 человек, консерваторы — 42, либеральные демократы — 3 и независимые депутаты — 28. Предлагается также избрать 15 наследственных пэров, согласных занимать различные должности — то есть представлять лорд-канцлера и председателя Палаты лордов. Вместе с граф-маршалом и лордом обер-гофмейстером получается 92.
Вне всякого сомнения, я застряну здесь до самого вечера, и это очень кстати — сегодня сюда на ужин приглашены Крофт-Джонсы. Джорджина Крофт-Джонс на седьмом месяце беременности. Я говорю себе, что счастливо отделался, и размышляю, что чувствовал бы, не сообщи мне вчера Джуд радостную новость. Обе женщины заявляют, что не будут пить алкоголь; Джорджина заказывает особый томатный сок домашнего приготовления, а Джуд ограничивается минеральной водой. Жена выгладит великолепно, она помолодела на несколько лет и стала настоящей красавицей — очень похожа на портрет Оливии Бато кисти Сарджента, с такой же светящейся кожей, только чуть более розовой, и сияющими темными глазами. Один из пожилых пэров — кстати, тот самый, что сорок два года назад голосовал против допуска женщин в Парламент, — кладет ей руку на плечо и говорит, что ее вид радует его стариковский взгляд.
Дэвид не похож — по крайней мере внешне — на Нантеров. Он невысок, хрупок и светловолос, с необычайно синими глазами. Джорджи, как нам велено ее называть, чуть выше мужа, смуглая и очень худая, если не считать живота. Только живот у нее больше похож на куль с мукой, который она зачем-то привязала к худым бедрам и прикрыла обтягивающим платьем, темно-зеленым и полупрозрачным. Потом Джуд рассказала мне, что платье от дизайнера по фамилии Гост. Лицо у Джорджи белое, с острыми чертами и широким ртом — очень милое, когда она улыбается, а делает она это часто. Джуд похожа на портрет кисти знаменитого художника, а Джорджи — на киноактрису, вроде Джулии Робертс.
Она держит один конец длинного листа с генеалогическим древом, а Дэвид разворачивает его. Все присутствующие в гостевой комнате Палаты лордов, как обычно, с любопытством поворачиваются к нам. Я беру край листа из рук Джорджи, и мы с Дэвидом изучаем ветви, относящиеся к Квендонам и Хендерсонам. Женщины, похоже, обрадовались, что мы заняты делом, и принялись обсуждать беременности и детей. Мое смятение — из-за ребенка — быстро сменяется откровенным ужасом, но я в то же время рад за Джуд, переполнен радостью за нее, а при взгляде на ее лицо у меня к глазам подступают слезы. Я вздыхаю, с трудом сглатываю, ожидая удивленного взгляда Дэвида, однако тот никак не реагирует. Вероятно, он сам через это проходил — надеюсь, с несколько иными чувствами.
Дэвид не проявляет интереса к Оливии Бато, но когда я рассказываю ему о Джимми Эшворте и о том, что отцом ее дочери Мэри Доусон почти наверняка был Генри, он оживляется. Согласится ли Лаура Кимбелл пройти тест ДНК? Я говорю, что он сам может спросить ее, если хочет — у меня такого желания нет. Эти специалисты по генеалогии, любители и профессионалы, настолько погружены в свои ответвления, побеги и связи, что перестают замечать чувства членов семьи. По его лицу я вижу, что он размышляет: нужно ли добавлять в таблицу незаконную ветвь потомков Генри, оканчивающуюся внуком Дженет, Деймоном. Ему этого не хочется. Это аморально, и, кроме того, возникает вопрос о других родственниках, которые могли иметь «связи» на стороне. Он хочет знать, не будет ли это дурным вкусом, но я не желаю вмешиваться — пусть решает сам.
Мы заказываем еще напитки, но принести их не успевают: звучит сигнал к началу голосования. Я прохожу в холл для голосующих «за», поскольку речь идет о поправке Уитерилла, предлагающей оставить девяносто два пэра, а мне она больше нравится, чем предложение избавиться от нас всех. Обычно, проходя через холл для голосующих «за», чтобы их сосчитали, все оживленно беседуют, но сегодня пэры не отличаются разговорчивостью. Я тоже молчу, погрузившись в свои мысли, и внезапно кое-что понимаю. Скорее всего, наш ребенок был зачат в ту ночь, когда Джуд проявила уступчивость, а я — впервые за последнее время — испытывал сильное желание. Причем мое желание стало следствием эротического сна, где я в образе Генри смотрел «живую картину», изображавшую трех граций. Я убеждаю себя, что они все были похожи на Джуд, но теперь уже ничего не поделаешь. Когда я возвращаюсь в комнату для гостей, Джорджи спрашивает, почему здесь разрешено курить. Разве тут не слышали о пассивном курении и о его вредном воздействии на ребенка в утробе матери? Мне хочется ответить, что моя мать выкуривала по сорок сигарет в день, когда носила меня, но я сдерживаюсь. Это будет похоже на истории, которые я часто слышу в этих стенах — о том, как благородный дедушка какого-нибудь пэра был заядлым курильщиком, но умер во сне в возрасте девяноста лет. Кто-то за моей спиной говорит, что мы победили в голосовании с подавляющим перевесом и такого успеха правительство еще не знало, хотя на самом деле это была поправка независимых депутатов, поддержанная правительством.
Джуд, конечно, рассказала Джорджи и Дэвиду о своей беременности. Она всем сообщит, я это знаю. Лорейн узнает в ту минуту, когда завтра утром придет к нам домой. Почему бы и нет? Один из важных аспектов радости от успеха или достижений — рассказать другим. Мне страшно, потому что я вспоминаю прошлый раз, хотя говорить об этом не могу. Джуд носила плод два месяца и неделю, а потом, посреди ночи, ребенок вышел из нее вместе с кровью. Кровь. Если меня спросить, что я представляю, когда слышу или читаю это слово, то я отвечу: кровь на нашей постели, на нас обоих, слезы Джуд, ее всхлипывания, переходящие в бурные рыдания.
Но никто меня не спросит. Генри мог бы, однако он присутствует за этим столом (и в генеалогической таблице Дэвида) только в качестве предка, основателя рода. Дэвиду он безразличен, как врач и как человек. Теперь Дэвид отказался от мысли об анализе ДНК, отбросил прочь долгую связь Генри и Джимми Эшворт на основании того «что так было принято у этих викторианцев». Но Джорджи — думаю, ее интерес к таким вещам естественен — говорит, что Генри должен был обрадоваться появлению первенца, и возмущается, когда я выражаю сомнения.
— Я думаю, он был счастлив, — настаивает на своем Джорджи. — То есть взволнован. Кажется, вы сказали, что ему было сорок семь? Сорок семь лет, и это его первый ребенок. Он должен был радоваться.
Слишком похоже на мой случай, и мне становится неловко. Я выдавливаю из себя улыбку.
— Он мог бы жениться на ней. Она не была падшей женщиной, правда? Проституткой?
— Вероятно, была, — говорю я.
— Ну, в любом случае она ничуть не хуже Генри. Его поведение — яркий пример двойных стандартов, правда?
Мы приступаем к обеду. Бесполезно объяснять живущей в современном мире Джорджи, что невозможно судить по сегодняшним меркам мораль и обычаи, существовавшие сто двадцать лет назад. Поведение Генри было характерным для той эпохи — и всего лишь. Дэвид разложил свое генеалогическое древо, а затем снова сложил, наподобие карты, чтобы сверху оказалась интересующая нас часть.
— Генри, тот самый, кто затем стал лордом Нантером, женился в следующем году, — сообщает он и несколько раздраженно продолжает: — Не вижу в этом никакой загадки. Он дает объявление о помолвке в «Таймс» в восемьдесят третьем году и женится в октябре восемьдесят четвертого.
— Довольно продолжительная помолвка для тех времен, — замечаю я. — Тогда считалось, что долгая помолвка — плохо для девушки. Люди думали, что мужчина колеблется, и это плохо отражалось на ее репутации. Но все это не имеет значения, поскольку Генри был помолвлен с Элинор, а женился на ее сестре Эдит.
Здесь в генеалогическом древе ошибка, и Дэвид, похоже, хочет ее исправить. Джуд и Джорджи интересуются, почему не состоялась свадьба, хотя со стороны моей жены это просто вежливость — она уже знает. Приносят вино и первое блюдо; в руках у официантки корзинка с ужасным хлебом, который здесь подают. Стенли Фарроу останавливается у нашего столика и шепотом сообщает мне то, что я уже знаю, — мы выиграли голосование. Дэвид, уплетающий копченый лосось, говорит:
— Я не понимаю, как включить обручение в мое генеалогическое древо. Лучше я просто о нем забуду, правда?
— Конечно, если вы решили не включать туда Джимми Эшворт. У Генри не было физической близости с Элинор, можете не сомневаться.
В это Джорджи тоже трудно поверить. Все помолвленные спят друг с другом. Все ее знакомые живут с женихом или невестой. Я пожимаю плечами и бормочу, что времена меняются. Вероятно, Джорджи что-то узнала от Джуд, поскольку вдруг заявляет:
— Джуд сказала, что она умерла. Я имею в виду Элинор.
— Да, умерла.
Джорджи говорит, что в те времена люди часто умирали молодыми. Заболевали туберкулезом или чем-то еще, что сегодня оперируют, или умирали при родах.
По лицу Джуд пробегает едва заметная тень, и я борюсь желанием воткнуть нож в шею этой глупой женщине.
— Подхватывали пневмонию, — продолжает Джорджи, — и умирали через три недели, причем знали, что умрут, — помочь им тогда ничем не могли. Невозможно представить, правда? — Я понимаю, что передо мной любительница исторических романов, явно чувствительного свойства. — А еще они чахли, погибали от так называемой бледной немочи.
— Смерть Элинор была насильственной, — говорю я. — Нетипичной для того времени. Такое чаще случается сегодня. Ее убили.
— О, расскажите!
Я отказываюсь. Просто качаю головой и улыбаюсь. Возможно, потому что знаю: Джорджи Крофт-Джонс придет в возбуждение, скажет, что это, должно быть, сделал Генри, или выдвинет другие, столь же нелепые и необоснованные предположения. Потом объясняю, что еще не закончил исследование, хотя это неправда — я узнал все, что считал необходимым. Я не такой щепетильный, как Джуд, и допускаю «ложь во спасение», если на то есть причина. А желание избежать раздражения — это, как мне кажется, веская причина.
Мы пьем кофе. Наконец, Крофт-Джонсы спрашивают, что происходит в Парламенте. Я рассказываю, что идет обсуждение законопроекта о Палате лордов, или, как мы его называем, законопроекта о реформе. Джорджи думает, что все лишатся своих титулов, старшие сыновья утратят право наследования, а у знати отберут поместья. Никого больше не будут называть «лордом» и «леди», и все аристократы исчезнут — своего рода бескровная Французская революция. Просвещая ее, я думаю, что прежде чем мы закончим с законопроектом, вся страна будет думать примерно так же.
Похоже, Джорджи совсем не устала. Она спрашивает, куда мы отправимся потом, словно я собирался отвести их в ночной клуб. Но я устраиваю им небольшую экскурсию — показываю сокровища Парламента, в том числе смертный приговор Карлу I, который хранится под стеклом в Королевской галерее, и фрески Дайса, — рассказываю несколько забавных историй и спрашиваю, не хотят ли они пройти в зал заседаний. Джорджи очень хочет, но пыл ее несколько угасает, когда я говорю, что они с Дэвидом должны будут сесть прямо под барьером, а Джуд — слева, на местах для «супругов». Увы, таковы правила. Джорджи, которая, похоже, привязалась к Джуд, говорит, что правила пишутся для того, чтобы их нарушать. Я отвечаю, что если мы нарушим правила, то пристав удалит либо их, либо Джуд, и после этого мы идем вниз и прощаемся у входа для пэров. Дэвид обещает прислать мне генеалогическое древо, когда дойдет до следующего этапа.
Теперь в Парламенте очень тихо, и в воздухе чувствуется какое-то напряжение — все либо разошлись по домам, либо вернулись в зал Палаты лордов. Я говорю Джуд, что тоже немного задержусь и посмотрю, что там происходит, и спрашиваю, не хочет ли она домой. Жена отвечает, что останется со мной — она не устала и так счастлива, что не желает тратить время на сон. Когда мы медленно поднимаемся по величественной лестнице, устланной красным ковром, я беру Джуд за руку и очень тихо говорю:
— Я люблю тебя. Я так за тебя рад.
— Надеюсь, за себя тоже, — проницательно, слишком проницательно замечает она, и я начинаю убеждать ее, что да, конечно, и за себя тоже.
10
Эта история пользуется в нашей семье известностью не меньше, чем героический поступок Генри, спасшего Сэмюэла Хендерсона. Отец рассказал мне ее, когда посчитал меня достаточно взрослым, чтобы у меня не начались ночные кошмары; боюсь только, что рассказ получился с готическим оттенком, таким, каким — по всей вероятности — он услышал его от своего отца. Можете назвать это типично викторианским убийством.
В XIX веке люди предпочитали путешествовать поездом, который был единственным быстрым средством передвижения. Поезда дважды становились причиной катастрофы в жизни Генри — по крайней мере, любой другой счел бы это катастрофой. У меня нет способа узнать, что он чувствовал в этих двух конкретных случаях. Нантер довольно уклончиво пишет о смерти Элинор в своем дневнике, но не приводит никаких подробностей и тем более не распространяется о своих чувствах.
Однако я предполагаю, что эта трагедия потрясла его так же глубоко, как смерть Гамильтона в катастрофе на мосту через реку Тей. Он был влюблен в Элинор Хендерсон. Любовь — единственная причина его намерения жениться на ней. Они обручились, и свадьба должна была состояться в феврале. Думал ли Генри, помнил ли он, что именно в этом месяце Джимми Эшворт должна была родить ребенка? Неизвестно. Обручальное кольцо, которое Генри подарил Элинор, теперь принадлежит моей сестре Саре — не слишком изящное украшение, с бриллиантами, наполовину утопленными в массивный кусок золота. Его сняли с пальца Элинор перед похоронами, а потом оно каким-то образом вернулось к Генри и стало обручальным кольцом Эдит.
Эта вещь перешла к моей ветви семьи. Мой дед Александр знал о кольце и передал его своему сыну. Подтверждение пришло из письма Мэри Крэддок к ее сестре Элизабет Киркфорд. Ее мать Эдит рассказала ей, что кольцо, которое она носит, принадлежало Элинор. Эта информация была окружена всякой чушью — возможно, сочинения Мэри, а не Эдит — о святости первой любви Генри и о желании самой Эдит носить кольцо, чтобы они с Генри никогда не забывали о погибшей сестре, которая соединила их. Это одно из возможных объяснений. Другое состоит в том, что Генри каким-то способом вернул себе кольцо, не видя смысла тратиться на новое. Экономный Генри.
Ближайшим родственником Хендерсонов, если не считать членов семьи, была единственная сестра Сэмюэла, Доротея. Генеалогическая таблица, составленная Дэвидом Крофт-Джонсом, свидетельствует, что у Луизы Хендерсон, матери девочек, была сестра, а также брат, умерший в семилетнем возрасте. Естественно, они носили фамилию Квендон и были детьми Уильяма Квендона и его жены Луизы, урожденной Дорнфорд. По своему социальному положению Доротея Винсент была несколько выше Хендерсонов. Обеспеченная вдова, она жила с двумя дочерями в деревне Манатон, в графстве Девоншир, в поместье своего умершего мужа. Она была крестной матерью Элинор и поддерживала с ней более близкие отношения, чем с другими детьми Хендерсонов. Элинор обычно гостила у нее две недели в конце лета, сначала с матерью, потом с сестрой Эдит. В том году она всего лишь второй раз поехала одна.
Большую часть сведений о злополучном визите и его последствиях я почерпнул из газет. А отношения между людьми выбрал — по-моему, это самое подходящее слово — по крупицам из вороха мякины, то есть из писем матери и бабушки Дэвида. К сожалению, в них нет почти ничего о том, что думали и чувствовали люди — только шок от «ужасной трагедии» и размышления Вероники, что если бы не смерть Элинор, их не было бы на свете.
Обычно Элинор приезжала к тетке в августе, но в 1883 году имелась веская причина отложить визит. Возможно, она планировала поездку, но затем отложила ее, когда стало ясно, что Генри сделает ей предложение. Элинор отправилась в путь в начале октября, поездом Большой западной железной дороги, который ходил и продолжает ходить от вокзала Паддингтон до Пензанса; путешествовала она в первом классе. В 1883 году уже существовали купе только для дам, но не на этой железной дороге. В Ньютон Эбботе она пересела на местную ветку до Мортонхемпстеда и вышла в Бови Трейси, который в те времена назывался просто Бови. На станции ее встретила тетя, с пони и бричкой. Должно быть, для Элинор эти визиты были приятной сменой обстановки, возможностью уехать из Лондона с его зимними туманами, жарой и пылью летом. В те дни, да и сегодня тоже, деревня Манатон располагалась в живописной местности, на краю плато Дартмур, с высокими скалистыми холмами, глубокими зелеными долинами и реками, полными форелью. Дом у тети Доротеи был роскошнее, чем у них, на Кеппел-стрит. Тетя держала кухарку, двух горничных и двух садовников. Семья ни в чем не нуждалась. Удобная бричка, запряженная пони, возила их по окрестностям, а вокруг Мор-Хауса было много красивых мест для пеших прогулок. Элинор дружила с двоюродными сестрами и во время визита намеревалась пригласить их на свадьбу в качестве подружек невесты.
Бракосочетание назначили на 14 февраля, день Св. Валентина, хотя в XIX веке это не был праздник влюбленных — не то что сегодня. Обстоятельства сложились так, что свадьба не состоялась, и поэтому тот факт, что Джимми Эшворт родила дочь Мэри 13 февраля, уже не столь важен. Джуд, которая теперь с радостью обсуждает всех младенцев и предпочитает разговоры о детях любым другим, говорит, что перспектива появления ребенка должна была сильно подействовать на Генри. Наверное, он чувствовал вину, а также радостное волнение. Разве мог он просто отвернуться от своего ребенка?
— Не думаю, что тогда мужчины чувствовали то же самое, — возражаю я. — Граница между приличной женщиной и дурной женщиной с тех пор так сильно размылась, что это трудно представить, но в восьмидесятых годах девятнадцатого века она была очень четкой. Детей от законной жены и незаконнорожденных, или внебрачных, детей разделяла настоящая пропасть. Генри мог дать Джимми денег, возможно, в виде постоянного дохода мужа. Не исключено, что Нантер также поставил условие: он никогда не будет видеть ребенка или слышать о нем. И о его существовании ни в коем случае не должна была узнать его жена.
Джуд говорит, что не представляет, как можно жить в браке с одним мужчиной и вынашивать ребенка от другого.
— Они не могли поговорить об этом, как мы с тобой. Должно быть, ее все время мучили страх и стыд. Сегодня такое тоже происходит — женщины рожают детей от мужчин, с которыми не состоят в браке или не живут. Возможно, даже чаще, чем тогда. Что касается Генри, я не думаю, что он как-то связывал предстоящие роды и день бракосочетания. Он не считал их событиями… скажем, одного порядка.
— Омерзительный Генри, — говорит Джуд. — И ты должен писать его биографию? Он чудовище.
Я отвечаю, что должен и что Генри был нисколько не хуже любого человека свободной профессии своей эпохи. А что до вины и стыда, я сам их чувствую из-за притворного энтузиазма по поводу нашего ребенка. В то же время я радуюсь, что могу снова разговаривать с женой, высказывать свое мнение обо всем, не замолкать на полуслове и не краснеть, что просто неприлично для мужчины моего возраста.
Если Элинор и писала Генри из Манатона, ее письма не сохранились. Интересно, сколько раз я еще напишу это предложение, изменяя только имена и места? Биографы полагают, что письма должны быть обязательны для каждого, но еще более важным считают их сохранение. Тем не менее Элинор отправила одно письмо домой, своей сестре Эдит. Оно не пропало только потому, что написано непосредственно перед убийством, и по этой причине Эдит его сохранила.
Мы не знаем, как Элинор проводила время в Манатоне. Джуд говорит — и я с ней согласен, — что нам трудно представить, как проводили время женщины из среднего класса в викторианскую эпоху. Чем занять свой день, если у вас есть слуги и вы не работаете? Полагаю, читать, шить, писать письма, снова читать, гулять, беседовать, шить. Элинор в своем письме к сестре ни о чем таком не говорит. Похоже, главная ее цель — сообщить родным, что с вокзала Паддингтон она наймет кэб. Вот это письмо:
Мор-Хаус
Манатон
Девоншир
День Св. Луки
Дражайшая Эдит!
Погода стоит чудесная. Тетя говорит, что хорошая погода в середине октября называется «маленьким летом святого Луки». Вот почему в начале письма вместо 18 октября я указала день Св. Луки. Ты здесь была и знаешь, как красива сельская местность. После свадьбы я бы хотела жить где-нибудь поблизости, но Генри не может уехать из Лондона, где у него работа. Возможно, когда-нибудь мы купим здесь дом, хотя, как мне кажется, он назовет это романтической мечтой.
Айсобел и Летиция очень обрадовались приглашению и согласились быть подружками на моей свадьбе. Конечно, третьей будешь ты, моя дорогая сестричка. Ты уже выражала свое согласие, так что я не думаю, что проявляю самонадеянность, принимая это как должное! Генри говорит, что в свадебное путешествие мы поедем в Италию, а я даже не осмеливаюсь предложить, чтобы мы отправились сюда. Разумеется, в феврале тут будет не так мило.
Я опять неудачно упала. Это случилось во время прогулки с А. и Л. Моя ступня угодила посреди поля в кроличью нору, я споткнулась и упала ничком. Синее саржевое платье все перепачкалось, но хуже всего (ну, конечно!) это синяки. Черные и лиловые. Синяки на левом боку и ноге просто ужасны, но, к счастью, их никто не видит, кроме меня!
Я вернусь в воскресенье, поездом в 11.14 из Бови. Как ты знаешь, поездка довольно долгая, но поезд должен прибыть на вокзал Паддингтон в пять минут шестого. Папе совсем не обязательно встречать меня с поезда. Я вполне могу добраться сама, найму кэб. Шлю свою любовь папе и маме, дедушке, Лайонелу и тебе, моя дорогая.
Твоя любящая сестра Элинор
Она пишет о Генри так, как положено будущей жене времен королевы Виктории. Его работа — главное, и решения принимает он. Когда Элинор пишет, что «не осмеливается» предложить провести медовый месяц в Девоншире, это не так ужасно, как кажется. Приблизительно так же сегодня жена скажет, что не осмеливается попросить мужа о еще одном ужине в ресторане на этой неделе. Похоже, у них с Генри сложились простые и доверительные отношения. Возможно, страстно влюблен был только он. В письме Элинор нет ничего, что свидетельствовало бы о ее любви или гордости, что ей достался подобный приз. Хотя не исключено, что она все это уже говорила сестре. И все же мне трудно поверить, что семья Хендерсонов не торжествовала по поводу такого удачного брака одной из дочерей. Рыцарь! Лейб-медик королевы! Богатый человек — по крайней мере, по их меркам. Двадцатичетырехлетняя дочь, рискующая остаться старой девой, не имеющая приданого, скоро станет леди Нантер и в следующем году будет жить в доме, о котором они даже не могли мечтать.
Генри снова занялся поисками дома. Об этом он сам рассказывал своему приятелю Барнабасу Коучу, занимавшему должность приглашенного профессора анатомии в Оуэнс-Колледже в Манчестере. Вот это письмо, датированное 18 октября 1883 года.
Мой дорогой Коуч!
Позвольте поблагодарить вас за любезное письмо с поздравлениями по поводу моего обручения с мисс Хендерсон. Она вам понравится. Она нежная, очаровательная и скромная, совсем не похожая на «новых женщин», о которых столько говорят в последнее время. Сомневаюсь, что ей известно, что такое право голоса, не говоря уже о желании выбирать члена Парламента. Я уверен, что она будет верна своему долгу супруги и никогда не проявит признаков раздражительности или, хуже того, неврастении, все те расстройства психики, что мы с вами так часто наблюдаем у тех пациенток, на которых современные идеи о «свободе» и эмансипации оказали такое пагубное влияние. В настоящее время она гостит у тети в Девоншире, планируя предстоящую церемонию бракосочетания, но в воскресенье вернется.
Я занимался поисками подходящего для нас дома и хотел бы к концу января уже на чем-нибудь остановиться. Если свадебное путешествие продлится шесть недель — я собираюсь в Неаполь и Рим, — то к нашему возвращению сделка уже будет оформлена. Тем не менее мне придется снять какой-нибудь дом до середины лета, пока жена не приобретет мебель, ковры и все остальное, что необходимо для нашего будущего дома. Место нашего постоянного проживания, полагаю, будет находиться в районе, который я считаю самым здоровым в Северном Лондоне, в Сент-Джонс-Вуде. Я подумывал также об Эр-Эстейт или почти сельской Лондон-роуд, но завтра меня поведут в очень милое место, Карлтон-Хилл, ныне принадлежащее мистеру Хэпгуду, моему собрату по профессии.
Вы напомните мне, мой дорогой Коуч, о репутации района Сент-Джонс-Вуд как тайного убежища belle amie [30] джентльменов. Как говорят, епископ, узнав о том, что философ Генри Спенсер поселился в этом районе, спросил: «А как зовут даму?» Но я убежден, что дурная репутация Сент-Джонс-Вуда, если она и была, вещь преходящая. Как бы то ни было, Т. Г. Хаксли, знакомством с которым я горжусь, жил здесь на протяжении тридцати лет, по разным адресам. Мы с женой, вне всякого сомнения, будем посещать церковь Св. Марка на Гамильтон-террас, известную тем, что в ней служит каноник Дакуорт, который также живет по соседству и которого я имел честь знать, когда он был наставником Его Королевского Высочества принца Леопольда. Поэтому я верю, что мы можем поселиться там без ущерба для своей нравственности!
Надеюсь, вы в порядке, а здоровье миссис Коуч становится лучше. Не забудьте о 14 февраля! В должное время вы получите приглашение от мистера и миссис Хендерсон.
Искренне ваш,
Генри Нантер
— Не знаю, как у него хватило хладнокровия.
Так прокомментировала это письмо Джуд, имея в виду, конечно, Джимми Эшворт, которую Генри лишь недавно отправил в отставку. Но дело в том, что он не обязательно был лицемером; за этим худощавым телом и благородным лицом скрывался не один человек, а несколько.
Возможно, дом действительно был «очень милым», но Карлтон-Хилл — это совсем не Парк-лейн. В 1883 году Сент-Джонс-Вуд считался не Лондоном, как теперь, а пригородом, и на большей его части, особенно на западе, на Мейда-Вейл, велось строительство. В любом случае Генри не купил дом у мистера Хэпгуда. Женщина, которая должна была выбирать для него мебель и ковры, встретила свою смерть на следующий день после того, как ее жених осматривал дом.
В субботу утром, 20 октября, тетя отвезла ее на железнодорожную станцию Бови и посадила на местный поезд до Ньютон Эббота. Должно быть, они выехали довольно рано, чтобы Элинор успела добраться до узловой станции Большой западной железной дороги. Как и прежде, она путешествовала первым классом. Поезд вовремя прибыл на вокзал Паддингтон, где его встречал Сэмюэл Хендерсон. В поезде Элинор не оказалось, и Сэмюэл вернулся домой. Следующий поезд прибывал только в 10.20 вечера. Посоветовавшись с женой и другими детьми, он отправил телеграмму сестре, спрашивая, не приедет ли Элинор этим поездом. В конце XIX века телеграф был эффективным средством связи — им по-прежнему широко пользовались, хотя с появлением телефонов он утратил свою новизну, — однако ответ от Доротеи пришел на Кеппел-стрит только в воскресенье утром. Задолго до этого Сэмюэл Хендерсон вернулся на вокзал Паддингтон в надежде, что дочь приехала вечерним поездом.
К утру воскресенья к поискам подключили полицию. Но прежде чем они успели что-то предпринять, сельскохозяйственный рабочий из восточного Девоншира заметил тело женщины, лежавшее на железнодорожной насыпи где-то между Альфингтоном и Эксетером. На следующий день, в понедельник, Сэмюэл Хендерсон опознал в погибшей свою дочь. Вот довольно эмоциональный отчет о коронерском расследовании из общенациональной ежедневной газеты, хотя и не такой эмоциональный, как рассказ моего отца.
Вчера в Эксетере проводилось дознание в отношении мисс Элинор Мэри Хендерсон, двадцати четырех лет, проживавшей на Кеппел-стрит, Лондон, чье тело в воскресенье вечером было обнаружено на железнодорожной насыпи в Альфингтоне. Коронерское жюри вынесло вердикт об убийстве, совершенном неизвестным лицом или неизвестными лицами.
Уильям Ньюкомб, пастух из Альфингтона, рассказал, что увидел на траве железнодорожной насыпи темно-синий предмет, похожий на сверток ткани. Предположив, что это может быть дорожная сумка или какой-то другой багаж, выпавший из поезда, он перелез через забор, отделяющий насыпь от луга, и подошел посмотреть. К его ужасу, это оказалось тело молодой женщины, одетой в темно-синий костюм и накидку такого же цвета. Благоразумно решив не прикасаться к трупу, мистер Ньюкомб обратился за помощью в ближайший полицейский участок, до которого, к сожалению, было несколько миль.
Тетя погибшей женщины, миссис Доротея Джейн Винсент, чье лицо было почти скрыто вуалью, тихим, едва слышным голосом сообщила суду, что племянница гостила у нее последние две недели.
Она лично отвезла мисс Хендерсон на станцию в Бови, к поезду в 11.14. Миссис Винсент напомнила племяннице, чтобы та села в купе первого класса Большого западного экспресса, отправляющегося из Ньютон Эббот в 11.50, и мисс Хендерсон пообещала, что так и сделает. Миссис Винсет дождалась, когда племянница сядет на местный поезд, а затем поехала к себе домой в Манатон.
Доктор Чарльз Уоррен сообщил, что осмотрел тело. Оно принадлежит здоровой и упитанной молодой женщине в возрасте чуть за двадцать. У него нет сомнений, что смерть наступила от удушения. Он убежден, что мисс Хендерсон была уже мертва, когда ее сбросили с поезда. Все следы на теле, кроме травм на лице и шее, оставлены уже после смерти. Обнаружились также и синяки, но, по мнению врача, они появились несколькими днями раньше. На вопрос коронера, мистера Свитхуна Майлза, назвать время смерти, доктор Уоррен сказал, что сотрудники Большой западной железной дороги дадут более точную оценку, нежели он. Вне всякого сомнения, убийца мисс Хендерсон, совершив свое черное дело, поспешил избавиться от ее тела. Время смерти можно приблизительно определить по тому, когда экспресс проезжал Альфингтон. Со своей стороны, доктор предполагает, что смерть наступила поздним утром в субботу, 20 октября, между полуднем и половиной первого.
(Вне всякого сомнения, доктор провел собственное расследование, поскольку выяснилось, что поезд проходил через Альфингтон в 12.25.)
Только один свидетель подтвердил, что видел мисс Хендерсон в поезде. Мистер Кристофер Моррис, помощник адвоката, проживающий в Эксетере, на Хивитри-роуд, и путешествовавший из Плимута в Эксетер, рассказал, что видел, как молодая женщина в темно-синем костюме садилась в экспресс в Ньютон Эбботе. Она несла маленькую дорожную сумку черного цвета, а рядом с ней, кажется, был носильщик с большим чемоданом, но в этом мистер Моррис не уверен. Он обратил на нее внимание потому, что из двух дюжин пассажиров, ожидавших на перроне, она была единственной женщиной, путешествовавшей без сопровождающего. На вопрос коронера мистер Моррис ответил, что не смотрел, в какой вагон вошла женщина, первого класса или обычный, третьего класса. Больше он ее не видел.
Мистер Фредерик Формби, кондуктор Большой западной железной дороги, сообщил, что среди четырех забытых предметов, обнаруженных на вокзале Паддингтон в поезде после того, как его покинули пассажиры, была маленькая дорожная сумка и большой кожаный чемодан.
Коронер сказал, что это самый ужасный случай, с каким ему пришлось столкнуться за многие годы. Тут не может быть и речи о несчастном случае или felo de se[31], поскольку мисс Хендерсон не могла сама себе нанести подобные травмы, а также удушить себя, случайно выпав из поезда. Во время короткого перегона от Ньютон Эббота до Эксетера какой-то человек вошел в купе, где она, вне всякого сомнения, находилась одна, и сделал свое подлое дело. Присяжные должны составить заключение о том, что произошло.
Жюри совещалось не больше пяти минут и вынесло вердикт о том, что было совершено убийство.
Нам никогда не узнать, какова была реакция Хендерсонов и Генри на смерть Элинор. Отсутствие фактов заменит воображение.
Сэмюэл был заботливым отцом, о чем свидетельствует то обстоятельство, что он встречал поезд, а потом вернулся к следующему, несмотря на уговоры Элинор не делать этого. Мы практически ничего не знаем о жене Сэмюэла Луизе, за исключением ее набожности и частого упоминания «Промысла Божьего», но у нас нет основания сомневаться, что она была любящей матерью. Наверное, все они были — если воспользоваться модным теперь выражением — опустошены. В буквальном смысле. Эти родители, этот брат, эти сестры были опустошены, уничтожены, разбиты. Но даже в самом глубоком горе люди сохраняют гордость, снобизм и тщеславие. Для Хендерсонов Элинор была не просто любимой дочерью и сестрой, а нареченной невестой известного врача, профессора, лейб-медика королевы и богатого (по их меркам) человека. С ее смертью эта надежда угасла. Сэмюэл уже никогда не услышит, как его дочь назовут «ваша светлость». Не будет и визитов в великолепный дом в Сент-Джонс-Вуд, а Элинор не приедет в Блумдесбери в своем экипаже. Шансы найти мужа для ее сестры Эдит и устроить карьеру ее брата тоже потеряны. Сама Эдит, вероятно, меньше всего думала о подобных вещах. Она просто скорбела, потеряв любимую сестру.
А что же Генри? Как он реагировал на смерть девушки, с которой был помолвлен? Его дневник должен дать нам хоть какую-то зацепку, но там ничего нет — или почти ничего. В воскресенье, 21 октября, все очень беспокоились из-за исчезновения Элинор. От Доротеи Винсент пришла телеграмма, что Элинор села на поезд, отправлявшийся в 11.14. Позже, в этот же день, нашли тело. Но только в понедельник, 22 числа, тело было опознано Сэмюэлом. Вот запись в дневнике Генри от 21 октября: «В семь вечера я был дома, на Кемпел-стрит, когда мистер Лайонел Хендерсон принес мне тревожные новости (об обнаружении тела). Я, разумеется, вернулся вместе с ним на Кемпел-стрит». Непонятно, почему он не поехал с будущим тестем в Эксетер. Возможно, у него были неотложные дела в Букингемском дворце или в Университетском госпитале, но разве аудиенцию у королевы или лекцию можно сравнить с убийством невесты?
Как бы то ни было, с этого дня — так говорят при венчании — характер Генри, похоже, снова изменился. Смерть Гамильтона во время катастрофы на мосту через реку Тей сделала его суше и суровее. Теперь записи в дневнике стали еще более бесстрастными и лаконичными. Перед нами предстает непреклонный, целеустремленный и честолюбивый человек, по всей видимости, лишенный родственных чувств, имеющий большое количество знакомых, в число которых входили Хаксли, Дарвин, художник Лоуренс Альма-Тадема, а также каноник Дакуорт и сэр Джозеф Базалгетт, но практически без друзей, за исключением Барнабаса Коуча, Льюиса Феттера и, возможно, семьи Хендерсон. Он обхаживал сэра Джона Бато и его дочь, но затем хладнокровно порвал с ними без всякой видимой причины. От женщины, которая была его любовницей на протяжении девяти лет, он избавился, как только та забеременела. Уилфрид Торп, врач из Стэнфорда, который в 80-х годах был студентом Генри в Университетском госпитале, в письме к будущей жене характеризовал Генри как «пугающе бесстрастного, отталкивающе сурового, без тени остроумия и юмора, способных оживить лекцию и сделать обучение не только трудом, но и удовольствием». То есть неприятный Генри. Бесчувственный Генри. С другой стороны, леди Базалгетт писала дочери, что сэр Джон ужинал с Нантером и нашел его «необыкновенно очаровательным человеком, занятным собеседником и образцом галантности по отношению к нам, дамам».
Тем не менее было бы естественным ожидать, что после смерти Элинор он, соблюдая приличия, придет на похороны, но затем отвернется от Хендерсонов и больше не будет с ними видеться. Однако все произошло с точностью до наоборот. После 21 октября в дневнике Генри два или три раза в неделю появляются такие записи: «Вечером нанес визит мистеру Хендерсону» и «был на Кеппел-стрит, где провел два часа с мистером и миссис Хендерсон». Совершенно очевидно, Генри приходил, чтобы утешить их и, возможно, показать, что со смертью дочери они не лишились того, что она им принесла, — его дружбы. Совсем не похоже на Генри. Занятный собеседник — вполне возможно, однако он не относился к числу людей, которые обращают внимание на чувства других, особенно если это ничтожный адвокат, едва сводящий концы с концами, вкалывая в своей тесной конторе неподалеку от Британского музея. Однако факт остается фактом. Если одни лишь записи в дневнике не могут служить убедительным доказательством, на помощь приходят дальнейшие изменения в характере Генри, а также письмо, отправленное Луизой Хендерсон своей золовке Доротее Винсент в декабре 1883 года. Сохранилась только вторая страница. Миссис Хендерсон, очевидно, пишет о том, что это Рождество в семье выдалось очень печальным.
…только ужас. В этом доме скорби нет места для веселья. Если мы и находим какое-то утешение — я не могу считать утешением арест Байтфорда и его появление в полицейском суде, — то лишь в неизменной доброте и внимании доктора Нантера. Генри — как я привыкла его называть, и он настаивает, чтобы я так называла его и впредь — постоянный посетитель в нашем доме, причем он никогда не приходит без маленького подарка. Мы так избалованы им, что воспринимаем цветы и сладости как нечто само собой разумеющееся; но вчера он принес книги, новые романы, а не свои научные труды, чему я рада, хоть и понимаю, что это с моей стороны неблагодарность. Если кто-то сможет убедить меня не ставить под сомнение Промысел Божий, а со смирением принять все, что Он нам посылает, то только Генри, который так красиво и выразительно рассказывал о неисповедимых путях, ведущих к исполнению непостижимого замысла Божьего. Сэмюэл иногда признавался мне, что у него не хватило бы сил выполнять свои повседневные обязанности, если бы он не вспоминал слова утешения и истинной веры, сказанные Генри накануне вечером. Конечно, мы не можем видеть цели Господа, говорит Генри, но обязаны верить, и в душе своей…
Генри воспитывался в семье уэслианских методистов. В своих письмах к Коучу и проповедях Хендерсонам он предстает религиозным человеком. О Боге Генри упоминает в своем блокноте и иногда в дневниках. Поэтому странно, что в письме Т. Г. Хаксли, написанном через несколько месяцев после смерти Элинор, он называл себя «агностиком»[32] — термином, который несколько лет назад придумал сам Хаксли. Похоже, снова два разных человека — или несколько.
Моя прапрабабушка Хендерсон упоминает человека по фамилии Байтфорт, арестованного и ждавшего суда. Это был Альберт Джордж Байтфорд, безработный железнодорожный носильщик, который скрывался на плато Дартмур; полиция обнаружила его после нескольких дней поисков. Он пришел в дом к родителям и признался, что задушил Элинор Хендерсон, а затем сбросил ее тело с поезда. Отец не желал его покрывать и сообщил полиции. К тому времени Байтфорд исчез, но его обнаружили после того, как он напал на пастуха, отказавшегося его накормить, и угрожал ему.
На судебном процессе в Эксетере был задан вопрос: если он осознавал свои действия, когда убивал Элинор, понимал ли он, что это плохо? Обвинение успешно доказало, что в обоих случаях ответ положительный. Самому Байтфорду не было позволено давать показания. Его адвокат заявил, что увольнение с Большой западной железной дороги за оскорбление начальника сказалось на его душевном здоровье. Байтфорд сел в поезд в Плимуте и пошел по вагонам, заговаривая с пассажирами в поисках сочувствия и жалуясь на совершенную в отношении него несправедливость. Несколько пассажиров рассказали, что их встревожил его странный вид и агрессивное поведение. Адвокат сказал, что Байтфорд вошел в купе мисс Хендерсон, сел напротив нее и стал рассказывать свою печальную историю. Мисс Хендерсон, сильно встревожившись и испугавшись, угрожала дернуть сигнальный шнур. Чтобы заставить ее замолчать, Байтфорд, вне всякого сомнения, ударившийся в панику, задушил девушку ее же шарфом. Между Альфингтоном и Эксетером, когда поезд замедлил ход, он открыл дверь вагона и выбросил тело на железнодорожную насыпь.
Присяжные признали Байтфорда виновным. Другого и быть не могло. В январе 1884 года его повесили за убийство Элинор Хендерсон.
Тем временем Генри сопровождал королевскую семью в Виндзор и Осборн. В апреле королева отправилась в Дармштадт на бракосочетание принцессы Виктории Гессенской с принцем Людвигом Баттенбергом. На этой свадьбе младшая дочь королевы Виктории принцесса Беатрис познакомилась с братом жениха, принцем Генрихом, и влюбилась в него. Если мой прадед предвидел, что любимый ребенок и спутник королевы совершит немыслимый поступок и выйдет замуж, то, должно быть, с большим интересом ждал появления потомства принцессы Беатрис. Виктория была носителем гемофилии, как и ее дочь Алиса, а один сын и двое внуков болели гемофилией. Являлась ли принцесса Беатрис тоже носителем болезни, а если у нее родятся сыновья, унаследуют ли они это заболевание крови?
Генри написал статью под названием «Наследуемые носовые кровотечения». Он регулярно сотрудничал с медицинскими журналами, прочел лекцию в Королевском научном обществе, на которой присутствовали Герберт Спенсер и Чарльз Брэдлоу, и еще одну в Королевском обществе врачей. Он был внимателен к Хендерсонам. После окончания официального траура Генри устроил пикник в лесопарке Хэмпстед-Хит, куда всех привезли в экипажах. С ними была Доротея Винсент, которая вместе с дочерью Айсобел (она вышла замуж за американца и могла подарить Эдит фотоаппарат «Кодак») прибыла в Лондон на светский «сезон». В своем дневнике Генри отмечает, что в июле устроил званый обед, где присутствовали «мистер и миссис Хендерсон, мисс Хендерсон и мистер Лайонел Хендерсон, доктор и миссис Феттер, а также мисс Феттер». После смерти Элинор он не прекратил поиски дома, а продолжал этим усиленно заниматься. В конце июля Генри отмечает в своем дневнике: «Сегодня приобрел дом на Гамильтон-террас, в районе Сент-Джонс-Вуд. Миссис Хендерсон наняла для меня кухарку и двух горничных, которые вместе с лакеем и кучером будут составлять мое маленькое хозяйство.
Не такое уж «маленькое» по сегодняшним меркам. Учитывая, какое «хозяйство» было у моей прапрабабушки, я сомневаюсь, что она умела выбирать слуг, но Генри, похоже, просто влюбился в Хендерсонов. В его глазах они были безупречны. Генри ужинал с Лайонелом Хендерсоном в гостинице, сопровождал миссис Хендерсон и Эдит на танцевальный вечер, устроенный Доротеей Винсент, и, что гораздо важнее, поручил ведение всех своих дел фирме Сэмюэла. Но одного из Хендерсонов он явно ценил выше других. В августе Генри сделал предложение Эдит, и оно было принято; это произошло почти ровно через год после предложения Элинор, возможно, в той же самой комнате.
Надел ли Генри на палец невесты кольцо, снятое с руки ее мертвой сестры? Наверное. Спросила ли Эдит, не является ли она лишь второй в списке, просто напоминанием об умершей женщине? Не знаю. Никто не знает. Но в семье, похоже, все очень обрадовались. Луиза Хендерсон писала своей золовке, к тому времени вернувшейся в Манатон, что «Провидение» — моя прапрабабушка верила в провидение — послало им Генри в выпавших им испытаниях и теперь он «укрепил нашу радость», пожелав «упрочить узы с нашей семьей». Не обошлось и без упоминаний Элинор. Она «была бы рада видеть, что ее любимый Генри нашел утешение и выбрал счастливое будущее вместе с нашей дорогой Эдит. Не сочти меня глупой, если я скажу, что она знает».
Почему Генри сделал предложение? Есть несколько возможных причин. Он любил Хендерсонов. Вне всякого сомнения, он провел много вечеров наедине или почти наедине с Эдит, беседуя о погибшей девушке. Две молодые женщины были очень похожи, белокурые, с хорошими фигурами, но Эдит красивее, с большими — хотя и не темными, как у Оливии Бато и Джимми Эшворт — глазами. Возможно, она тоже была «нежной, очаровательной и скромной». Генри купил дом, и ему требовалась жена, а тут к его услугам покладистая, надежная женщина, которая доставит ему не больше беспокойства, чем доставила бы сестра. Ему пора жениться — давно пора. Через два года ему исполнится пятьдесят.
— Я не верю ни единому слову, — говорит Джуд. Похоже, ее неприязнь к Генри усиливается после каждого нашего разговора о нем. — Он что-то задумал. Наверное, тайно выведал, что Эдит, скорее всего, унаследует деньги тети Доротеи. Причем после смерти сестры ей достанется больше.
11
Я сижу в доме на Альма-сквер и смотрю на связку писем, которые мне прислал Дэвид Крофт-Джонс. Адрес на сопроводительном письме, где он благодарит меня за ужин в Парламенте, указывает на квартиру с выходом в сад недалеко отсюда, на Мейда Вейл. Я почему-то думал, что он живет в Вестминстере. Джуд не удивилась, поскольку выяснила это, пока я ходил голосовать; теперь она пьет кофе с Джорджи на Лаудердейл-роуд. Она пошла пешком, услышала от кого-то или прочла в газете о пользе пеших прогулок, и теперь они прочно вошли в ее новый, полезный для здоровья режим.
Мы очень счастливы. Как во время медового месяца. Такого не было уже года четыре. Я должен быть благодарен и не забивать себе голову размышлениями. Я действительно благодарен, но… все трудности в нашей семейной жизни, все размолвки и все недоговоренности были связаны со страстным желанием Джуд иметь ребенка. Конечно, я упрощаю. Это правда, но не вся. Попробую перефразировать. Причина всех наших трудностей — моя неспособность примириться со страстным желанием Джуд иметь ребенка. Я полагаю, что если двое любят друг друга, живут вместе и вступают в брак, то они обязаны продолжать любить друг друга и в несчастье. Трудности должны укреплять их чувства — в горе и в радости, в богатстве и бедности, как говорят вам на церемонии бракосочетания. Но у нас так не получается. Неужели я хочу сказать, что могу быть счастлив, только когда все хорошо? Или мы можем быть счастливы, только когда у нее все хорошо? Истина, в которой мне стыдно признаться даже себе, состоит в том, что я думаю: Джуд должно быть достаточно одного меня, точно так же, как мне достаточно ее.
Сегодня пятый день обсуждения в комитетах законопроекта о Палате лордов, и мы, вероятно, задержимся, причем еще дольше, чем во вторник, но я не пойду в Парламент, пока Джуд не вернется от Джорджи и мы не пообедаем вместе. А пока я почитаю, по всей видимости, интересные письма, присланные мне Дэвидом. Их написали Веронике ее двоюродные сестры из семьи Крэддок, Патриция и Диана, дети второй дочери Генри, Мэри. Теперь у меня есть огромное количество писем, полученных Вероникой от матери, Элизабет Киркфорд, от ее тетки Мэри Крэддок и этих двух кузин. Это наталкивает меня на размышления, почему среди них нет ни одного письма от сестры Вероники, Ванессы. Может, женщины жили так близко друг от друга, что переписываться не было необходимости, или Ванесса пошла в бабушку и вообще не писала писем? Выбросить их Вероника не могла. Похоже, она собирала все, что приходило ей по почте. Конечно, наличие или отсутствие этих писем не имеет никакого отношения к жизни Генри, я в этом уверен. Просто когда при работе над биографией изучаешь материалы, появляется множество странных маленьких вопросов, и возникает желание — если вы похожи на меня — найти на них ответы, даже если они лишь отвлекают от главного.
В конверт Дэвид также вложил свой последний вариант генеалогического древа и две фотографии. На обратной стороне снимков аккуратным почерком государственного служащего написаны пояснения. На одном Патрисия Агню с дочерью Кэролайн, а на другом ее сестра Диана Белл с мужем и двумя маленькими дочерями, Люси и Дженнифер, которые родились в шестидесятых. Возможно, это просто неудачная фотография, но у Патрисии грубое лицо с тяжелым подбородком, а дочь у нее обыкновенная, больше похожая на мальчика, чем на девочку. В семье Белл все красивые, хотя и не похожие на Нантеров, а у маленьких девочек очень светлые волосы. Эти люди приходятся мне двоюродными родственниками, однако они далеки не только от меня, но и от Генри, и поэтому не представляют интереса; тут нет загадки, требующей разрешения. Ни один из внуков Генри не родился при его жизни — следствие его позднего брака. О людях на фотографиях можно сказать лишь одно: они выглядят здоровыми и, по всей видимости, благополучными. В письмах нет ничего неожиданного, хотя одно из них, от Патрисии Агню, кажется немного странным. Нужно будет спросить Дэвида.
Дорогая Вероника!
Я не писала тебе, когда родился твой малыш. Честно говоря, просто боялась, что все обернется плохо и я могу попасть впросак. Теперь Диана говорит, что с Дэвидом Роджером все в порядке, и я очень за тебя рада. Я знаю, теперь многое изменилось и таким людям можно помочь вести нормальную жизнь, однако это все равно будет лишь отсрочкой смерти.
Мы с Тони так рады за тебя, что все обернулось хорошо. Прости, если я слишком откровенна, но для личного письма, наверное, это не важно. Ты его сожжешь, я не сомневаюсь.
Очень надеюсь когда-нибудь увидеть юного Дэвида. Жаль, что мы живем так далеко друг от друга. Прими мои наилучшие пожелания Роджеру и искреннюю любовь к тебе.
Пэт
Я сверяюсь с генеалогической таблицей и вижу, что Вероника родила Дэвида в возрасте сорока трех лет, в 1960-м. Вероятно, Патрисия Агню боялась синдрома Дауна, зная, что у сорокалетних женщин больные дети рождаются чаще, чем у молодых. Знали ли об этом в 1960 году? Тогда уже делали пункцию амниотической жидкости, окружающей плод? Патрисия Агню кажется мне пессимисткой или в лучшем случае очень мнительной женщиной, поскольку без веских на то причин была уверена, что ее племянник родится с синдромом Дауна. Хотя нет, причина была — по крайней мере, по мнению Патрисии. Это Билли, младший брат Генри, маленький мальчик, который харкал кровью на подушку. Он страдал от какой-то болезни, причем не обязательно синдрома Дауна, которую, по мнению Патриции (вероятно, ей рассказала мать), мог унаследовать Дэвид. В любом случае вряд ли это так важно.
Интересно, у Джуд будут брать пункцию амниотической жидкости? Ей тридцать семь, и я думаю, врачи порекомендуют этот анализ. Беда в том, что для женщин с предрасположенностью к выкидышам процедура небезопасна. Письмо той женщины напомнило мне о выкидышах Джуд, первом на восьмой неделе и втором на третьем месяце. Я бы предпочел не думать об этом и вообще стереть все из моей памяти, но картины приходят сами, непрошеными: поспешная поездка в больницу во второй раз, а также первый, еще хуже, когда Джуд вернулась в спальню, завернутая в окровавленное полотенце, держа в раскрытых ладонях крошечный плод, размером с птичье яйцо, покрытый белой, похожей на паутину пленкой. Нет. Стоп. Нужно гнать от себя эту картину.
За ужином в Парламенте я сижу за длинным столом рядом с лордом Гамильтоном из Лалоха. Раньше мы не были знакомы, по крайней мере, не разговаривали. Как и я, он потеряет свое место в Палате лордов, хотя его семья получила титул на несколько веков раньше. Теперь, протянув мне руку над супом и ужасным хлебом, который здесь подают, он говорит мрачным, расстроенным голосом:
— Гамильтон. Здравствуйте. Я знаю, кто вы.
Какое-то время мы обсуждаем законопроект. Лорд Гамильтон говорит, что если поправка Уитерилла останется и в переходный период мы сохраним девяносто двух наследственных пэров, то он выставит свою кандидатуру и даже подумывает о том, чтобы написать личный манифест. Все эти позитивные планы он излагает тем же низким, мрачным голосом. Наверное, это стало для него привычным, даже в минуты радости. Я сообщаю, что не собираюсь баллотироваться, и в ответ Гамильтон кивает и говорит, что это вполне понятно. Он лет на двадцать старше меня, невысокий и коренастый, несколько похожий на моржа — длинные висячие усы, пухлые щеки, густые седые волосы над ушами и на шее, лысая макушка. К моему удивлению, он говорит, что знает о моей работе над биографией прадеда, и спрашивает, включу ли я в нее сведения о Ричарде Гамильтоне.
Разумеется, отвечаю я. Ведь он сыграл такую важную роль в жизни Генри.
— Гомосексуалист, — говорит лорд Гамильтон. — Но вы, конечно, об этом знаете.
Для меня это новость. Откуда мне знать? Я уверен, что у Генри не было гомосексуальных наклонностей.
— У всех есть, — продолжает Гамильтон своим замогильным голосом.
Он просит называть его Лахланом. Вероятно, все старшие сыновья Гамильтонов из Лалоха носят имя Лахлан.
— У всех нас они есть, если быть честным. Но большинство просто не признаются, можете мне поверить. Кузен моего деда, Ричард, ваш парень — он был помолвлен, но так и не женился, просто не смог. Ничего удивительного. Может, даже хорошо, что он погиб в том поезде. Быть гомосексуалистом в восемьсот семидесятых — это не шутка. Сколько лет этому хлебу? — Последняя фраза предназначается официантке, которая клянется, что утром хлеб был свежим. — Значит, его подвергли искусственному старению, — говорит Лахлан и издает смешок, такой же сухой, как этот хлеб.
Я спрашиваю, есть ли у него доказательства предполагаемой гомосексуальности Ричарда Гамильтона, и он отвечает, что нет, но это общеизвестный факт. У него нет ни дневника, ни писем, и с точки зрения биографа он бесполезен, но лорд мне нравится. Мне нравятся его сухие, несколько скептические манеры, редкие вспышки смеха. Мы заканчиваем обед, и Лахлан рассказывает мне, что его дед был здесь, когда либералы угрожали лордам заполнить Парламент пятьюстами новыми пэрами, если те отвергнут законопроект о реформе своих полномочий. Герберт Асквит называл Палату лордов «древней и колоритной структурой», утверждая, что ей суждено быть разрушенной собственными членами.
— Тем не менее мы все еще здесь, — говорит Лахлан в своей мрачной манере, и мы возвращаемся в зал, он — на задние скамьи тори, а я на — поперечные скамьи, на свое место позади членов Тайного совета от лейбористов. Я выхожу один раз, чтобы позвонить Джуд, но снова возвращаюсь, а окончательно покидаю палату в четверть первого, после закрытия заседания.
Моя прабабка Эдит Нантер была загадочной женщиной. Она не вела дневник, не писала писем, но сумела — вряд ли намеренно — оставить о себе память в письмах, дневниках и воспоминаниях других людей. Записи ей заменили фотографии, причем самые обыденные. По ним и по ее молчанию мы можем сделать вывод, что Эдит была полностью поглощена делами семьи и мужа, хотя возможны и другие объяснения. Например, я понятия не имею, хотела ли она замуж за Генри, или родители уговорили ее согласиться на этот «хороший» брак. Насколько я могу судить, Генри не назовешь милым человеком, однако он был красив и, по всей вероятности, сексуален. По какой-то причине мы отказываем людям викторианской эпохи в сексуальности, но я считаю это ошибкой. Может, Эдит вышла за Генри, потому что хотела оказаться с ним в постели, а может, из-за денег, положения в обществе и перспективы называться леди Нантер. Или думала, что в случае отказа жизнь в родительском доме станет невыносимой. Что касается детей, то в 1880-х они появлялись в семье естественным образом, а не потому, что женщины их хотели.
Первый из детей появился на свет в августе 1885 года, и, как и все тогдашние дети, родился дома. Вне всякого сомнения, Эдит родила ребенка в главной спальне, красивое окно которой находилось прямо над фронтоном крытой галереи; травленое стекло защищало от непогоды прибывающих в экипажах гостей. Одна из первых должна была приехать мать Эдит, Луиза Хендерсон — если не в кэбе, то на недавно построенном метро, от «Бейкер-стрит», а затем пешком от станции «Лордс» или «Мальборо-роуд». Впрочем, вполне возможно, что она присутствовала в Эйнсуорт-Хаусе во время родов.
Эдит родила девочку. Если Генри придерживался общепринятых взглядов, то предпочел бы иметь первенцем сына. Это событие отражено в его дневнике: «Э. родила дочь». И все. Никаких комментариев. Ни слова о самочувствии жены, о своей радости, если таковая была, или разочаровании. В октябре ребенка крестили, назвав Элизабет Луизой, но в дневнике Генри не упоминает ни крещение, ни имя. В письме, написанном Барнабасу Коучу в декабре и содержащем обычные рождественские поздравления и пожелания, больше места отведено королевской семье, чем его собственной, причем пишет он обо всем в чрезвычайно сдержанных выражениях. Прошлым летом принцесса Беатрис вышла замуж за Генриха Баттенбергского. Генри сообщает, что Виктория довольна браком дочери с человеком, которого многие считали неподходящей партией, поскольку он хоть и был аристократом, но не королевского рода, потомком морганатического брака. Королева считала полезным приток свежей крови в семью, о чем Генри, не пропускавший ничего, что связано с кровью, счел своим долгом упомянуть. Что касается своей жизни, то он, следуя тогдашней традиции, называет Элизабет ребенком жены — словно признание присутствия ребенка в доме считалось недостойным мужчины, превращало его в «тряпку», делало похожим на женщину. «С моей женой и ее дочерью все хорошо».
Принцесса с мужем жили при дворе. Похоже, таково было условие Виктории, когда она давала согласие на этот брак. Королева не могла обойтись без своей «Малышки» или «Бенджамины», как она называла принцессу, а обязанности Генри, штатного лейб-медика Виктории, предполагали наблюдение за здоровьем и Беатрис. Хотя Генри об этом никогда не говорит, его, вероятно, обеспокоило известие о рождении у Баттенбергов сына в ноябре 1886 года, поскольку он знал о гене, хоть и не называл его так, носителем которого были сама Виктория и ее дочь Алиса, в отличие от других дочерей королевы, кронпринцессы Фредерики Прусской и принцессы Хелены. Дефектный ген мог передаться и младшей дочери, Беатрис. По мнению Генри и других авторитетов в данной области, гемофилия крайне редко проявляется у младенцев мужского пола в виде аномального кровотечения из пуповины. Поэтому пришлось подождать какое-то время, прежде чем сделать вывод, болен мальчик или нет. Но «Дрино», как называли маленького Александра — впоследствии он стал маркизом Карисбруком и заседал в Палате лордов, — оказался здоровым, а поскольку следующим ребенком принцессы, родившимся год спустя, была девочка, Генри по-прежнему ничего не знал.
Его собственный второй ребенок родился в том же месяце, через две недели после Дрино. «Еще одна дочь», как он описывает это событие в дневнике. Мэри Эдит родилась в ноябре 1887 года и удостоилась краткого упоминания в рождественском письме Генри к Коучу.
Пока я размышляю обо всем этом, входит Джуд; она говорит, что собирается к врачу, чтобы подтвердить беременность, а потом — на работу. Прочитав строчку из дневника Генри, спрашивает, кого я хочу, мальчика или девочку.
Никого, мысленно отвечаю я, отчаянно надеясь, что ближе к родам это изменится.
— Мальчик у меня уже есть, — говорю я. — Так что лучше девочка.
— Разве в викторианскую эпоху люди не хотели детей ради их самих? Почему всегда речь заходила о наследнике?
Я отвечаю, что, по моему мнению, тогда тоже были люди, предпочитавшие девочек мальчикам. Просто Генри не входил в их число. А что думала на этот счет Эдит, мы не знаем.
— Но ведь он еще не был лордом. У него не было ни земель, ни большого дома в деревне — ничего такого.
— У него был Годби-Холл, если уж на то пошло. Мужчины обычно хотят сына. И теперь многие люди предпочли бы родить сначала сына, а потом — дочь.
Джуд начинает рассуждать на эту тему, и я уже жалею о своих словах. Раз уж она смогла забеременеть, может, у нее есть время для двоих детей? Я не отвечаю, мне нечего сказать — в данный момент я не в состоянии обсуждать это, даже если бы попытался. Поэтому я лишь прошу жену позвонить после визита к врачу. Или мне поехать с ней?
— Нет, дорогой, — отвечает Джуд, целует меня в макушку и обещает позвонить.
Когда она уходит, я беру опубликованную десять лет назад монографию о королеве Виктории и гемофилии и начинаю ее просматривать. Наверное, Генри сам хотел бы написать такую книгу, но это было невозможно. Даже если какое-то издательство и согласилось бы ее опубликовать, то этот труд, несомненно, повлек бы за собой потерю работы. Я даже думаю, что Генри не рискнул даже предупредить принцессу Беатрис об опасности, которая подстерегает ее детей, хотя совет ей и принцу Генриху ограничиться сыном и дочерью был бы оправдан — оба следующих ребенка Баттенбергов были мальчиками и оба болели гемофилией.
Джуд звонит в полдень и сообщает, что беременность подтвердили. Ребенок родится, скорее всего, к Рождеству. В любом случае это ожидаемая дата родов. Врач порекомендовал ей внутриутробный скрининг. Она может сделать пробу ворсинчатого хориона — что бы это ни значило, — а также амниоцентез или какой-то анализ на альфа-фетопротеин. Назначен также тест Барта, но я забыл, для чего он. Риск пробы хориона выше, чем амниоцентеза, и поэтому Джуд выбрала последний. Да, и ультразвук тоже. Я не знаю, как на все это реагировать, и говорю, что поведу ее в какое-нибудь милое местечко поужинать. Потом позвоню — в Парламент я сегодня не собираюсь.
В викторианскую эпоху всего этого у женщин не было. Они скрывали свою беременность почти от всех, вплоть до того, что в последние месяцы вообще не выходили из дома. Я начинаю размышлять о принцессе Беатрис, задаваясь вопросом, вспоминала ли она во время третьей беременности о болезни своего брата Леопольда и о его смерти. Или о своем племяннике Фритти, принце Фредерике Гессенском? Схема передачи гемофилии была уже известна. Несмотря на многочисленные заблуждения и досужие домыслы, например, что больной гемофилией мальчик мог унаследовать болезнь от отца, что цинга и гемофилия — это одно и то же, хотя уже существовали достоверные медицинские знания, не опровергнутые и сегодня. А широко распространенное мнение, что женщины могут болеть гемофилией, отвергаемое на протяжении многих десятилетий, оказалось верным. Должно быть, научные труды Генри оказались слишком сложны для Беатрис или мать запрещала ей читать книги такого рода. А дети продолжали появляться на свет, потому что вплоть до XX века надежных противозачаточных средств просто не существовало.
Семья Генри тоже пополнялась детьми. По-прежнему девочками. Две из них, которых мой отец называл «незамужними тетушками», родились в 1888-м и 1891 годах, сначала Хелена Доротея, затем Клара. Вполне возможно, первый ребенок был назван в честь третьей дочери Виктории, принцессы Хелены, которая, похоже, очень нравилась Генри, а также в честь двоюродной бабушки, Доротеи Винсент. Второе имя Клары было Мэй. Я подозреваю, что имя выбрал Генри, поскольку будущую королеву Марию называли принцессой Мэй. После этих, четвертых, родов следует четырехлетний перерыв. Из-за того, что после рождения четверых детей Генри и Эдит больше не спали вместе, что в те времена было самым надежным способом контрацепции? Или зачатие происходило, но у Эдит были выкидыши? А может, детей просто не было — в такой загадочной области ничего нельзя исключить.
Королева Виктория, долго скорбевшая по принцу-консорту, в этот период своего царствования жила в основном в замке Осборн на острове Уайт. Генри часто приезжал туда, хотя и не в качестве главного врача. В 1889 году Джеймс Рейд сменил на этом посту сэра Уильяма Дженнера. Королева благоволила к Генри. В письмах к принцессе Фредерике, теперь императрице Фредерике, она называла его «мой дорогой сэр Генри» и «самый любимый из моих врачей». Не будет ли слишком смелым предположить, что она — несмотря на то, что никогда не признавала наличие гемофилии в семье, не говоря уже о том, что сама была носителем заболевания, — ценила знания Генри именно в этой области? То есть, несмотря на смерть принца Леопольда, королева верила в способность своего лейб-медика излечить болезнь, если та проявится снова? Как мы знаем, Генри при желании умел очаровывать женщин, а в отношении монарха — курицы, несущей золотые яйца, — такое желание не могло не возникнуть.
Я снова возвращаюсь к «альтернативному Генри», к заметкам в блокноте, сделанным микроскопическими буквами. Та, которую я цитирую, третья по счету, и тоже без даты. Она посвящена несбывшимся планам и — чего я меньше всего ожидал от автора — сексу.
Вчера я слышал, как один человек говорил о другом, что тот «разменял шестой десяток», и поэтому могу сказать о себе, что еще не разменял седьмой. Говорят, я многого достиг; действительно, подобно несчастному Макбету, я «всюду собрал так много золотых похвал» [33] , но я спрашиваю себя, каковы мои истинные достижения. Успех, восхождение на вершину моей профессии, что, несомненно, является признаком благородства, многочисленные труды, высоко ценимое благорасположение Ее Величества, прочная семья и четверо детей. Несмотря на все это, я, по сути, не сделал никакого нового открытия, а просто описал, тщательно и научным образом, открытия, сделанные другими. Используя метафору, вероятно, связанную с крестьянином и плугом, можно сказать, что я не распахал целину. Я сумел угадать некоторые аномалии и проявления болезни, но не смог научно подтвердить их. Провидение не дало мне возможности, на которую я так надеялся. Тут нет ничьей вины, но я неизменно воспринимаю это как жестокий удар.
Еще в молодости меня неудержимо притягивала кровь. Для меня в ней содержались загадочные коннотации с актом зарождения жизни. Невежество юности и отсутствие какого-либо опыта de sexu заставляло меня верить, что порождающая жидкость, которая передается от мужчины к женщине при этом акте, не что иное, как сама кровь, что именно эта алая субстанция истекает из мужского органа in uterum и что если зачатия не происходит, то мужская кровь изливается во время менструации. Не правда ли, более логичный процесс, чем тот, который имеет место в действительности?
Это убеждение оставалось со мной до начала занятий медициной. Теперь, с высоты своих лет, я смотрю на него с усталым удивлением. С тех пор прошло много времени. Другие люди совершали открытия: эволюция, источник яйцеклеток, типы партеногенеза, революционные достижения Листера в хирургии. Иногда мне кажется, что отстал лишь я один, хотя немногие смогли сделать больше меня, чтобы подготовить важный прорыв. Возраст не убил во мне амбиций, но я чувствую, как угасают жизненные силы.
Слова «восхождение» и «благородство» наводят на мысль, что Генри нацелился на титул пэра. Возможно, королева обронила какие-то намеки, хоть это и маловероятно. При первом прочтении его странные рассуждения о крови как семени вызвали у меня неловкость, а Джуд, которая пришла в ужас, представив, как кровь изливается из пениса во время эякуляции, говорит, что эта картина способна отбить у нее охоту к сексу и лучше бы я ей ничего не рассказывал. Генри, похоже, перенял у своей тещи привычку апеллировать к провидению, но как понимать слова, что его лишили возможности, на которую он надеялся? И что это за жестокий удар? Последняя строчка тоже меня озадачивает. Напиши такое наш современник, мы подумали бы только об одном: он устал и уже чувствует свой возраст. Но когда викторианцы говорили об «угасании жизненных сил», они имели в виду совсем другое. Похоже, Генри боялся, что становится импотентом.
На следующий день, вернувшись домой из Парламента, я застаю у нас Пола. Он приехал на уик-энд к своему приятелю, живущему на Лэдброук-Гроув, и позвонил, попросив кого-нибудь из нас отправить ему стопку компакт-дисков, забытых тут во время рождественских каникул. Джуд, которая не в силах молчать о своей беременности, сказала, что должна ему кое-что сообщить, и если он хочет это услышать, то пусть приходит в Сент-Джонс-Вуд. Подобно большинству сверстников, Пол не мыслит своей жизни без телефона; он говорит по мобильному, когда идет по улице и когда ведет машину, что, слава богу, случается редко, поскольку машины у него нет, а свою я ему не даю. Он поинтересовался, почему нельзя сказать прямо здесь и сейчас, но Джуд отказалась, чем возбудила его любопытство.
Теперь Пол сидит в гостиной напротив моей жены и вместо минеральной воды, на которой он буквально живет, пьет виски. При моем появлении сын встает, что тоже для него необычно, и говорит, что, по его мнению, мы сошли с ума. Джуд ему рассказала, и он в ужасе. Нет, если быть точным, Пол говорит, что считает это «ужасным».
— Мне почти девятнадцать, — говорит он. — Или ты не заметил?
Его слова несправедливы, потому что я никогда не забывал о его дне рождения, и он это прекрасно знает. Я наливаю себе виски, хотя обычно не пью этот напиток.
— Джуд хочет детей. — Я едва не морщусь, употребляя множественное число. — Почему бы и нет. Она достаточно молода. Думаю, когда она выходила за меня, то не считала, что твое существование помешает мне иметь других.
— Я их хочу, — голос Джуд напряжен, и она обращается ко мне. — Судя по твоим словам, ты не хочешь детей.
Пол не обращает на нее внимания. Он пристально смотрит на меня.
— А что будет, когда ваш брак развалится? — Он игнорирует возмущенный возглас Джуд. — Как насчет страданий ребенка? Ты об этом подумал?
Я могу многое сказать в ответ — например, что не я бросил Салли, а она — меня, что в его страданиях нет моей вины, — но слишком разозлен и не могу рассуждать логично. Я кричу, чтобы Пол убирался из моего дома, если он намерен и дальше разговаривать в таком тоне. Мне он не нужен, я его сюда не приглашал, и о чем только думала Джуд, когда делилась своей новостью с таким маленьким дерьмом, как он.
Я забыл, я всегда забываю, какое наслаждение Пол получает от оскорблений. На его лице расплывается довольная улыбка.
— Я налью себе еще немного, — говорит он. — Если ты не возражаешь. — Берет свой стакан для виски, идет к буфету и возвращается с порцией, которую можно было бы назвать умеренной, будь это апельсиновый сок. — Мне только что в голову пришла любопытная мысль: необходим закон, запрещающий плохим родителям иметь еще детей.
Джуд, слава богу, встречает это заявление спокойно и приводит логические доводы в мою защиту, объясняя, что меня невозможно назвать плохим отцом, поскольку мать Пола увезла его и делала все возможное, чтобы не пускать меня к сыну. Моя злость внезапно проходит, поскольку я кое-что понимаю. Слова Пола были грубыми, оскорбительными и в высшей степени несправедливыми, однако он не сказал того, что все может обернуться плохо и ребенок никогда не родится. Меня переполняет нежность к сыну, и я предлагаю ему остаться на ужин. Естественно, он не соглашается. Сделав несколько срочных звонков по телефону и, к моему удивлению, сердечно поцеловав Джуд, Пол отправляется в паб, где подают тайские блюда и где он договорился встретиться с кем-то из тех, с кем говорил по мобильному.
Мы с Джуд сидим на диване, держась за руки. Она еще больше похожа на Оливию Бато. Беременность сделала ее на несколько лет моложе: кожа сияет, как жемчуг, глаза чистые и яркие. Она спрашивает, заметил ли я, что по утрам ее не тошнит, и указывает — впервые заговорив о прошлых неудачах, — что «в последний раз» ей было плохо каждое утро. Она считает это благоприятным признаком, указанием, что теперь все будет хорошо.
Я ругаю себя за бестактность, допущенную полчаса назад, говорю, что, конечно, хочу ребенка, что рад не меньше Джуд. Да, это преувеличение, но у меня есть ощущение, что со вторым ребенком — если считать Пола первым — все может сложиться иначе, и у меня появится шанс быть лучшим отцом.
12
Вчера вечером на пороге нашего дома появился Дэвид Крофт-Джонс, без Джорджи, но с последним вариантом генеалогической таблицы. Как и большинство людей, мы с Джуд не очень любим неожиданных визитеров, но постарались не показывать виду. Генеалогическое древо теперь достигло в ширину нескольких футов и растет с каждой неделей. Я спрашиваю Дэвида насчет письма, отправленного Патрисии Агню его матери, когда ему было три месяца, и он еще раз его перечитывает. Дэвид озадачен не меньше меня и немного обижен.
— У меня явно нет синдрома Дауна, — довольно сухо замечает он.
— Нет, но чего боялась Патрисия?
— Не имею ни малейшего понятия — правда.
Я говорю, что можно, наверное, спросить у нее. Нет, нельзя, отвечает Дэвид — она умерла. Двадцать лет назад. В его тоне сквозит раздражение — намек на то, что я должен был это знать, если бы внимательно изучил генеалогию. Я высказываю предположение, что можно спросить у дочери Патрисии, ее единственного ребенка, но Дэвид презрительно морщится и говорит, что тогда мне придется нанимать частного детектива, поскольку никто не знает, где живет Кэролайн и что вообще с ней стало. Он не объясняет, что значит «никто», хотя позже, уговорив меня выслушать рассказ обо всех родственниках, включенных в таблицу, замечает, что время от времени общается с Люси, дочерью Дианы.
Дэвид засиделся допоздна, и когда он ушел, пора было уже ложиться спать. Я заснул мгновенно, а посреди ночи мне приснился яркий сон. Я ехал в поезде — где же еще? — с Джуд. Мы направлялись в какую-то больницу в Шотландии, где Джуд предстояло пройти обследование, но я не знаю, какое именно, потому что мы, похоже, перенеслись в XIX век. Во всяком случае, на мне обычная одежда, а на Джуд — кринолин и шляпка. Ее зовут Оливией, но похожа она больше на Джимми Эшворт, чем на себя. И действительно, она превращается в Джимми. Вечер. Начинает темнеть. Поднимается буря — сильный ветер и дождь. Я вдруг понимаю, в каком мы поезде и куда направляемся. Мы приближаемся к мосту через реку Тей, причем в ту самую ночь, когда он должен рухнуть — вместе с нами.
Я ничего не скажу Оливии, не хочу, чтобы она знала, но должен остановить поезд. Входит кондуктор, и я делюсь с ним своими опасениями, но не могу объяснить, откуда у меня такие сведения. Я сам не знаю. Естественно, он мне не верит, думает, что я сошел с ума. Мост новый, говорит кондуктор, и выдержит ураган. Я спрашиваю, разве он не знает, что я лорд Нантер? Но это вызывает еще большее недоверие.
— Нет больше никакого лорда Нантера, — возражает кондуктор. — Он лишился титула.
Кондуктор уходит, и я прихожу к выводу, что нужно сорвать стоп-кран, только это не стоп-кран, а цепочка, сигнальный шнур. Джуд-Оливия-Джимми исчезла, испарилась, и никто не помешает мне поднять тревогу. Я дергаю за шнур и просыпаюсь; моя рука сжимает провод ночника.
В конце концов у Генри и Эдит родились двое сыновей, так что страхи по поводу импотенции оказались необоснованными. Все дети Генри были похожи на него, а оба мальчика — если верить семейной фотографии, которую сделала Эдит, — вообще выглядели клонами отца. Черты их матери растворились в хитросплетениях генетического наследования. Только ее большие близорукие глаза появлялись у некоторых потомков. Обе тети отца, незамужние тетушки, имели красивые глаза и с ранней юности носили очки. Я не знаю, как выглядела Мэри Доусон, но и она передала своим детям черты, унаследованные от Генри Нантера.
Первый сын Генри, Александр, родился в 1895 году; его матери было тридцать четыре года, а отцу — пятьдесят девять. Запись в дневнике от 27 февраля, на следующий день после родов, отличается необыкновенной краткостью: «У меня сын». В блокноте рождение сына отмечено тоже немногословно. Ребенку, которому при крещении дали имя Александр Генри, было три месяца, когда в блокноте появилась следующая запись:
Мой сын, подобно большинству младенцев, беспокойный, шумный, жадный и, очевидно, капризный; всегда либо плачет, либо спит. Няне приказали позаботиться о том, чтобы ребенка не было слышно. При прочих равных условиях, и если бы я мог строить нашу жизнь разумно и мудро, если бы у меня не было этих настоятельных потребностей и честолюбивых замыслов, я мог бы удовлетвориться status quo. Но я также благодарен Провидению за то, что ошибался, когда считал, что мои жизненные силы угасают. Просто я устал и слишком много работы. Ее Величество очень требовательна ко мне. Меня вызывают в Осборн и в Балморал, и на такие приглашения нельзя ответить отказом.
И снова Провидение. Но что это за status quo? Очевидно, семейное положение. Время от времени характерная сдержанность Генри проявляется и в «альтернативном Генри», а также в дневнике. По всей вероятности, это означает одно: он считал, что семья больше не должна увеличиваться, а Эдит хотела еще детей. Или нечто иное, о чем я не знаю? Наследство, обещанное кем-то второму сыну? Оно как раз удовлетворило бы «настоятельные потребности и честолюбивые замыслы». Единственным богатым родственником семьи была Доротея Винсент, но у нее самой имелись дочери. Предположение Джуд о том, что Эдит могла унаследовать деньги тетушки, ничем не подкреплено. Но возможно, существовало соглашение, согласно которому деньги наследовал второй ребенок мужского пола? Я должен это выяснить.
Еще один любопытный момент, не замеченный мною — на него указала Джуд, — заключается в том, что в своих заметках Генри не упоминает ни одну женщину, за исключением королевы и ее дочерей. Даже Эдит. Ни Оливию, ни Элинор, ни Джимми. Можно предположить, что «плохие» женщины не заслуживали его внимания, а «хорошие» не могли его заинтересовать и поэтому не удостаивались такой чести. А к какой категории теперь относилась Оливия Бато? В 1896 году она убежала от мужа с любовником, бросив трех маленьких детей. Генри не мог не знать — вскоре это стало общеизвестным фактом. В свете того, что я уже знаю о характере Генри, нет нужды говорить, что он не упомянул о скандале ни в дневнике, ни в блокноте.
Не приходится сомневаться, что королева Виктория очень нуждалась в нем, однако непонятно, почему в середине девяностых его присутствие требовалось так часто. Теперь Генри стал известным специалистом по гемофилии, однако в тот период в королевской семье Англии не было больных гемофилией — лишь несколько человек за границей. Носителями заболевания были сама принцесса Беатрис и ее дочь Эна, а также внучки королевы, принцесса Ирена Гессенская и ее сестра Аликс, мать несчастного царевича, и дочь Леопольда принцесса Алиса. Генри утверждал, что определил наследственность принцессы Беатрис по ее внешности, но современная медицина назвала бы это невозможным, и поэтому любые предположения, что он был способен распознать «носителя» в Ирене или Аликс, когда они приезжали к бабушке, или в маленькой Эне, это все ерунда. И он не рассказал о своем убеждении королеве. Эту тему Виктория отказывалась обсуждать. В любом случае, кроме крайне неэффективного зажимания ран, прикладывания льда и наводящей ужас катетеризации, никаких средств облегчить состояние больного в то время не было, не говоря уже о лечении.
Причина могла заключаться в том, что Виктория любила общество Генри. Ее всегда привлекали высокие, красивые, мужественные мужчины. Она обожала обсуждать недуги (но не гемофилию) и, наверное, провела много приятных часов в своем приморском убежище, жалуясь на ревматизм и ухудшающееся зрение. В 1893 году оно стало совсем плохим. Виктория с трудом могла читать и просила всех своих корреспондентов писать «как можно более черными чернилами». Эти проблемы со здоровьем не были специальностью Генри, однако он был доктором медицины и мог понять их. Виктория доверяла своему главному врачу сэру Джеймсу Рейду, который всегда говорил ей правду, а не только приятное, но, возможно, также получала удовольствие от галантного оптимизма Генри. У него был еще один талант, который могла ценить королева: как и сэр Джеймс, он говорил по-немецки. Многие родственники королевской семьи, от мелких князей до великих герцогов, приезжавшие в Осборн и другие резиденции монарха, плохо знали английский. Генри мог разговаривать с ними на их родном языке, если во время визита им требовалась медицинская помощь.
Во всяком случае, в 1896 году Виктория совершила беспрецедентный поступок, сделав его пэром.
Сегодня нам это кажется странным, но в XIX веке многие яростно выступали против жалования дворянских титулов достойным простолюдинам. В 1856 году королева попыталась сделать судью, сэра Джеймса Парка, лордом Уэнслидейлом, но комитет по привилегиям посчитал, что предлагаемое пожизненное пэрство противоречит сложившейся практике. (Пожизненными пэрами становились и раньше, несмотря на распространенное убеждение, что впервые это произошло в 1958 году.) Комитет решил, что патентная грамота лорда Уэнслидейла не дает ему право на место в Палате лордов, и с этим ничего нельзя было сделать.
Но постепенно ситуация менялась. По мере того как Англия из аграрной страны превращалась в промышленную, фабриканты завоевывали все большее уважение в обществе. При Дизраэли пэрство было пожаловано сэру Артуру Гиннесу, пивовару, в 1892 году в Верхней палате Парламента получил место лорд Кельвин, а три года спустя его примеру последовал лорд Гленеск, первый из многочисленных владельцев газет. Первым из деятелей литературы дворянского звания удостоился поэт Теннисон. Тем не менее для того времени возвышение Генри было необычным. Год спустя вторым врачом, которому пожаловали пэрство, стал сэр Джозеф Листер.
20 мая 1896 года Генри пригласили на присуждение почетных титулов и награждение орденами и медалями по случаю официального дня рождения монарха, чтобы пожаловать титул баронета. Вне всякого сомнения, он с радостью согласился и, посетив герольдмейстера ордена Подвязки в Геральдической палате, выбрал себе титул и девиз на гербе. В дневнике об этом событии свидетельствует следующая запись: «Ее Величество милостиво пожаловала мне, ее скромному слуге, титул баронета». Генри так и не поместил свой герб в рамку, чтобы повесить на стену. Герб до сих пор лежит свернутым в длинном футляре из красной кожи. Интересно, почему? Судя по фотографиям, которые я видел, рамки со всеми другими сертификатами и дипломами висели на стенах его кабинета. Несомненно, ни один из этих документов по ценности не может сравниться с гербом ручной работы, с искусно выполненными рисунками и надписями, с великолепными красками. По тем временам он обошелся в кругленькую сумму, но Генри, тем не менее, держал его в футляре, словно прятал от всех.
Вскоре он получил королевский рескрипт члену Палаты лордов о явке на заседание Парламента. Существующий с четырнадцатого века и написанный архаичным языком, рескрипт сохранился и сегодня, хотя и в значительно сокращенном и упрощенном виде. Текст, присланный Генри, выглядел так:
Виктория, Божьей милостью королева Великобритании и Ирландии, Защитница веры, моему доверенному и возлюбленному Генри Александру Нантеру из Годби, Нашего графства Йоркшир, кавалеру, привет. Принимая во внимание настоятельные и неотложные дела, касаемые Нас, состояния государства и защиты упомянутых выше Королевства и Церкви, по просьбе и с согласия нашего Совета Мы повелеваем созвать нынешний состав Парламента в Нашем Вестминстере в одиннадцатый день августа шестнадцатого года Нашего царствования, который Парламент будет собираться с той поры, с несколькими перерывами и пророгациями, вплоть до двадцать четвертого дня марта, следующего за указанным месяцем, в вышеуказанном месте. Своею властью Мы повелеваем вам, во имя веры и преданности, коими вы связаны с Нами, невзирая на трудность упомянутых выше дел и угрожающие опасности (отвергнув все препятствия), лично присутствовать в Нашем вышеупомянутом Парламенте вместе с Нами, а также Нашими прелатами, дворянством, пэрами Нашего упомянутого выше Королевства, дабы судить и выносить совет. В знак уважения и верности Нам и во имя безопасности и защиты упомянутых Королевства и Церкви, да не уклонитесь вы от исполнения означенных обязанностей.
Генри принес рескрипт на церемонию представления и надел собственную мантию. В те дни мантия отделывалась настоящим горностаем, а не кроликом, и я по-прежнему надеваю ее на официальное открытие парламентской сессии, хотя больше она мне уже не понадобится. Он вошел в Палату лордов «между», как до сих пор говорят, младшим и старшим поручителем, двумя будущими коллегами из числа пэров. Как он их выбрал? Или они сами предложили свои услуги? Знал ли Генри их раньше? Может, они были его пациентами?
Процессия, которая появляется в зале после окончания молитвы, состоит из герольдмейстера Палаты лордов, в черном фраке и бриджах, герольдмейстера ордена Подвязки, одетого как валет червей; за ними должны следовать граф-маршал и лорд-обергофмейстер, но их в большинстве случаев не бывает, потом младший поручитель, новый пэр с королевским рескриптом и старший поручитель — последние трое в мантиях и треуголках. У барьера каждый участник процессии отвешивает короткий поклон — просто кивок — в направлении балдахина над троном. Генри и все его сопровождающие должны были проследовать в «светскую» часть Палаты, а затем — к председательскому месту лорд-канцлера, кланяясь снова и снова; на самом деле это действительно немного скучно, а может быть, и смешно, если кто-то сделает ошибку, споткнется, или у кого-то дрогнет голос. Во времена Генри — эта традиция прервалась всего пару лет назад — новые пэры должны были преклонять колено перед лорд-канцлером и вручать ему королевский рескрипт. Но многие были слишком стары для этого, и суставы у них не гнулись. Опуститься на колено они еще могли, а встать — уже нет.
Генри преклонил колено. Стройный Генри. Подтянутый Генри. Он принес клятву верности. Не знаю, оценивали ли наблюдавшие за церемонией пэры новичков по тому, как они держались, но я уверен, что голос моего предка звенел, когда он произносил эти слова: «Я Генри Александр, барон Нантер, клянусь Всемогущим Господом, что буду хранить преданность и истинную верность Ее Величеству королеве Виктории, ее наследникам и преемникам, в соответствии с законом. Да поможет мне Бог».
Затем все снова поклонились, сняли шляпы — все это заняло минут пятнадцать, — и Генри, ставший лордом Нантером, принял поздравления пэров. В следующем году в его дневнике в конце июня и в начале июля появляются записи об участии в праздновании шестидесятилетнего юбилея королевы Виктории. Нет нужды говорить, что эти записи гораздо подробнее тех, где речь идет о жене и детях.
23 июня он присоединился к процессии, которая вышла из Палаты лордов через дверь для пэров во двор старого дворца, где лорд-канцлер садится в парадную карету, а пэры — в свои личные экипажи. Генри упоминает золотые кружева, треуголки и парадную одежду членов тайного совета, и я отмечаю в его рассуждениях некую тоску, словно он хотел когда-нибудь тоже удостоиться чести надеть ее. Все отправились в Букингемский дворец, что для Генри было делом привычным. Он ничего не пишет о погоде, но Ее Величество записала в своем дневнике, что «стояла ужасная жара».
Наверное, уже почти никто, кроме Парламента, не называет Троицей воскресенье и понедельник через семь недель после Пасхи. Церковь именует их Пятидесятницей, а все остальные весенним днем отдыха — но мы по-прежнему называем это Троицей. У Парламента недельные каникулы, а когда мы возвращаемся, то чай подают уже на террасе. Ни в коем случае не до Троицы, какая бы теплая ни стояла погода, а только после. Посетители обычно спрашивают, могут ли они «выпить чай на террасе», и эта просьба всегда меня удивляет, потому что открытая площадка над Темзой уставлена унылыми функциональными столами и жесткими стульями. Чтобы попасть туда, нужно пройти по холодной винтовой лестнице и миновать кухню, и с этого места открывается один из самых непривлекательных видов на реку. Прямо напротив находится больница Св. Фомы, старое здание и новое, напоминая членам парламента и пэрам, что именно туда они попадут, случись с ними на лестнице сердечный приступ. Мне гораздо больше нравится гостевая столовая пэров, с алым и золотым ковром в неоготическом стиле и высоким потолком. Но где бы вы ни сидели, подаваемые к чаю блюда очень вкусны — сэндвичи с копченой семгой и клубника, щедро политая золотистыми сливками. Порции огромные.
Выйдя из зала в прихожую Палаты лордов, я встречаю Лахлана Гамильтона, и он предлагает выпить чай на террасе. Мы спускаемся по лестнице, которая, наверное, имеет название, но я его не знаю. Нас встречает жара и ослепительно яркий свет, идущий от реки. Лахлан что-то напевает себе под нос. Я не узнаю мелодию — в отличие от сидящего за столиком у двери виконта. «Чертовски уместно, Лахлан», — говорит он и издает какой-то звук, похожий на смешок. Женщина рядом с ним, вероятно виконтесса, озадачена не меньше меня. Она отрывается от клубники и окидывает нас любопытным и одновременно ледяным взглядом, который можно встретить только у некоторых пэресс.
— Götterdämmerung[34], — говорит Лахлан, когда мы садимся.
Мы боги? Я уверен, что у них в Валгалле нет таких чудесных летних дней, только вечные сумерки. Я заказываю клубнику с сахаром и сливками и, по словам Лахлана, становлюсь похож на юную леди, которая гордится только что сделанным ровным швом.
— Похоже, он был чертовски хорошим врачом, ваш прадед, — замечает лорд Гамильтон, — раз получил пэрство из рук Виктории.
— Он был царедворцем.
— Естественно. А он хоть кого-нибудь вылечил?
Я отвечаю, что, по моему убеждению, королева считала Генри способным вылечить гемофилию у ее внуков. Разумеется, он не мог этого сделать. Никто не мог. Не исключено, что сегодня лечение возможно при помощи трансплантации гена, но Генри жил больше ста лет назад.
— А кто эти внуки? Один из них царевич, да?
— Он правнук. Его мать, царица, была дочерью принцессы Алисы. Ее сестра Ирена тоже была носителем болезни: один из ее сыновей умер от кровотечения в возрасте четырех лет, а второй болел гемофилией. И еще два внука из Баттенбергов. Сыновья принцессы Беатрис. Оба прожили больше двадцати лет. Леопольд умер после автомобильной катастрофы, а Морис погиб на войне, во время отступления из Монса. Дочь Беатрис Эна вышла за короля Испании, Альфонсо XIII. Двое ее сыновей болели гемофилией.
Вид у Лахлана задумчивый и даже более мрачный, чем обычно.
— А теперь болезнь просто сошла на нет? Я имею в виду королевскую семью.
Я отвечаю, что у королевы Виктории было пять дочерей, и у всех, кроме одной, в свою очередь, были дочери или дочь, и поэтому просто удивительно, что так мало мужчин в семье страдали гемофилией, а сама болезнь так быстро исчезла сама собой.
— Одна или несколько русских великих княжон были носителями дефектного гена, однако все они погибли в подвале в Екатеринбурге. Сыновья принцессы Хелены были здоровы. Одна из ее дочерей развелась с мужем, потому что он оказался гомосексуалистом, а другие так и не вышли замуж. Они могли быть носителями болезни. К концу сороковых годов двадцатого века все больные гемофилией умерли, а все носители либо оказались бездетными, либо не имели дочерей, либо уже вышли из детородного возраста. Виктория принесла в семью этот недуг — а возможно, мутация в ее генах или в генах ее матери, — а через сорок пять лет после ее смерти болезнь исчезла.
— Ваш прадедушка, — спрашивает Лахлан, — он хоть как-то помог этим мальчикам Баттенбергам прожить достаточно долго, чтобы стать пушечным мясом и научиться водить машину?
— Я не знаю, что можно было сделать в то время, кроме как посоветовать родителям беречь их детей от падений и порезов.
— А что случится с больным гемофилией, если ему нужно удалить аппендикс?
— Он умрет.
Лахлан издает характерный, сухой смешок, в котором нет ни намека на веселье. Это признак того, что нужно сменить тему. Его лицо, напоминающее морду моржа, вытягивается.
— Вы понимаете, не правда ли, что если в следующем году мы с вами захотим сюда прийти, то сможем сделать это только в качестве гостей какого-нибудь пэра?
Раньше я как-то не задумывался, но теперь эта мысль вызывает у меня легкую дрожь. Конечно, нет, возражаю я с большим оптимизмом, чем чувствую на самом деле. Мы по-прежнему сможем приходить сюда, есть и пить — разве нет? Ни в коем случае, возражает Лахлан.
— Нас заставят очистить письменные столы, вернуть компьютеры и снять таблички с именами с вешалок, потому что это конец, мой мальчик. Сумерки богов. Не знаю, что сказал бы на это ваш прадедушка.
— Или ваш древний предок, землевладелец.
— Они оба перевернулись бы в своих гробах, — говорит Лахлан.
Что я буду делать с мантией, когда придется уйти из Палаты лордов? У каждого титула своя мантия. У баронов два ряда «горностая», у виконтов — два с половиной, у графов — три, у маркизов — три с половиной, у герцогов — четыре. Если барон или баронесса появляются в чужой мантии с тремя рядами побитого молью белого меха, поднимается шум. Эти вещи очень важны для некоторых наследственных пэров, которые толпятся на официальном открытии сессии парламента и слушают потомков знатных родов, рассуждая о том, кто во что одет и почему.
Сомневаюсь, что мне еще придется надевать мантию Генри. Ко времени следующего прихода королевы в Вестминстерский дворец меня тут уже не будет.
13
Генри стал пэром в шестьдесят лет. Посторонний человек, окидывающий взглядом его жизнь, пришел бы к выводу, что у него было все, о чем может только мечтать человек: успех в обществе, блестящая профессиональная карьера, достаточный для комфортной жизни доход, хорошее здоровье, жена, четыре дочери и наследник. И сын теперь унаследует не только имя и состояние — после смерти отца он станет пэром. Но Генри хотел еще одного сына.
Он появился на свет в 1897 году. Запись о его рождении в дневнике Генри еще короче, чем в прошлый раз: «Родился сын». Родители не стали ждать трех месяцев, как это было с Александром, а крестили ребенка через шесть недель. Свидетельства о крещении обоих мальчиков хранились в одном из сундуков Генри. Я не нашел документов на девочек, хотя всех детей, вне всякого сомнения, крестили. Новорожденного назвали Джордж Томас.
Вид этих красивых сертификатов, оформленных в красных, синих и зеленых тонах и украшенных скромным золотым листочком, вроде личного герба, наводит меня на размышления об имени для нашего ребенка. Пусть выбирает Джуд. В прошлый раз решающее слово осталось за мной. То есть я имею в виду, что отверг предложение Салли, которая хотела назвать Пола Торквилом. Теперь я постепенно привыкаю к мысли, что снова стану отцом. Мне так приятно видеть радость Джуд, осознавать, что утром она проснется такой же счастливой, как накануне вечером, и я почти забываю о бессонных ночах, грязных пеленках и хроническом беспокойстве, этих неизбежных спутниках детей. Думаю, все дело в моей чрезмерной привязанности к жене (вернее, к этой жене), которая заставляет меня долго терпеть все, что угодно, лишь бы она была довольна.
С ней все хорошо. В отличие от двух предыдущих беременностей. Тогда ее тошнило по утрам, и она все время уставала. Я рассматриваю хорошее самочувствие Джуд как знак того, что на сей раз все будет в порядке. Она будет в порядке, и это единственное, что меня волнует.
Джорджи Крофт-Джонс родила огромного мальчика весом в девять с половиной фунтов — или, как она настаивает, чуть больше четырех килограммов.
— В следующем году все придется покупать в килограммах, — она оживленно болтает. — Так что можете привыкать прямо сейчас.
— Но ведь он не продается, правда? — спрашиваю я. — Может, купим его, Джуд, — будет приятелем нашему?
Моей жене теперь нравятся подобные шутки. Ей нравится держать на руках Галахада Крофт-Джонса и слушать рассказы Джорджи о родах — как это было легко, как Галахад едва не родился в их «БМВ», каким заботливым был персонал больницы, как они сказали, что такого красивого ребенка они не видели уже много лет, и так далее. Когда счастливые родители ушли, мы решили, что между собой будем называть ребенка Крофт-Джонсов Святым Граалем.
На следующей неделе Джуд назначен ультразвук. Это нечто вроде фотографии происходящего внутри матки, и по изображению врачи, по всей вероятности, могут определить, что с плодом все нормально (размеры, положение) или имеются какие-то отклонения, вроде шейной складки. Если все хорошо — а я почему-то в этом уверен, — то в процедуре амниоцентеза нет необходимости.
Генри был избавлен от подобного беспокойства во время всех беременностей жены. В 90-х годах XIX века ребенка принимали таким, каким он появлялся на свет. Полагаю, тогда не было никаких тестов, разве что подвешивали маятник над животом женщины в попытке определить пол ребенка. Генри также не присутствовал при рождении своих детей. Возможно, ходил взад-вперед рядом со спальней, как и все выставленные за дверь отцы, но почему-то мне это кажется маловероятным. Он испытал облегчение, узнав, что родился мальчик. Генри хотел сына, но не потому, что ребенок унаследует деньги какого-то родственника. Я сделал запросы относительно семьи Винсент и выяснил, что денег у них было немного, а все недвижимое имущество в Манатоне унаследовал племянник умершего сквайра Винсента. Вероятно, Генри хотел сына потому, что у него уже было четверо дочерей. Для более сбалансированной семьи требовался еще один ребенок мужского пола.
Старший сын Александр (мой непрерывно курящий дед, волокита и любитель наслаждений) был здоровым и крепким мальчиком, крупным для своего возраста — если судить по фотографиям, сделанным его матерью. Она не писала писем, но запечатлела, как растет старший сын, ее любимец, на снимках, которых больше всего в ее альбоме 1896–1900 годов. Мальчик присутствует почти на каждой странице, а под каждой фотографией подпись ее наклонным, типичным для викторианской эпохи почерком: «Александр в возрасте девяти месяцев», «Сегодня Александру год!» и «Алекс — теперь его называют этим уменьшительным именем — пошел в тринадцать месяцев, раньше всех остальных детей».
А вот Джордж не отличался таким же крепким здоровьем. Может, он уже родился больным, и именно этим объясняется его поспешное крещение? Мать редко фотографировала младшего сына. Может, любила его не так сильно, как Александра, а может, из-за того, что на тех немногих снимках, которые она сделала, мальчик выглядит худым и хилым. По большей части он снят в компании других детей — любезная викторианскому сердцу композиция семейных фотографий, — на коленях у кого-то из сестер, а другая сестра обычно клала руку на подлокотник кресла, слегка склоняла голову набок и томно смотрела на мать с фотоаппаратом. А вот у Джорджа вид вовсе не томный. На его лице неопределенное выражение страдания и стойкости, которое хронически больные дети не в силах скрывать, ни теперь, ни тогда. С мальчиком явно что-то не так. Он никогда не был здоров и никогда не будет. В те времена свирепствовал туберкулез. Генри упоминает о болезни в своем блокноте. Называет ее «истощением».
Я очень боюсь, что мой младший сын стал жертвой истощения. К счастью, воздух Северного Лондона, который расположен гораздо выше остального города, благоприятен для этого состояния. Тем не менее я вынужден рассматривать Швейцарию и ее горы как одну из возможностей для него…
Неизвестно, реализовалось ли его намерение. С тех пор как мать Генри отказалась ехать в Альпы и увезла больного Билли в Озерный край, отношение к поездкам в Европу изменилось, однако ни в дневниках, ни в блокноте нет упоминаний о пребывании в Швейцарии. Вероятно, Генри — с Джорджем или без него — не повторил своего путешествия в эту страну, совершенного в начале 80-х. Туберкулез в те времена был неизлечим, хотя считалось, что жизнь больного могут продлить горный воздух, отдых и отсутствие волнений.
Джордж родился приблизительно в то время, когда Генри получил от геральдической палаты свой герб. Возможно, я просто даю волю своему воображению, но не исключено, что Нантер не испытывал желания вставить в рамку и повесить на стену этот красивый документ потому, что тревога за сына сделала его безразличным ко всему. Может, он начал понимать, хоть и слишком поздно, что семья важнее предметов, даже редких и ценных?
В моей семье прослеживается странная особенность — единственный или младший сын часто умирал в детстве. Вряд ли это наследственность. Скорее, совпадение. Первым был Билли, умерший от туберкулеза в шесть лет, а затем, примерно в то же время, — маленький брат Луизы Хендерсон; причина смерти неизвестна, скорее всего, это была скарлатина. Сыну Генри Джорджу было суждено умереть в одиннадцатилетнем возрасте, а сын его дочери Элизабет, брат Ванессы и Вероники, скончался от дифтерии в девять. Внезапно мне приходит в голову, что именно этим может объясняться беспокойство Патрисии Агню за сына Вероники — суеверный страх, что мальчикам в семье суждено умереть совсем юными. Возразить можно одно — совершенно очевидно, что это не так. Как тогда быть с самим Генри, Лайонелом Хендерсоном, Александром и моим отцом?
В 1898 году Лайонел был уже десять лет женат и имел трех сыновей, причем все они выросли здоровыми, женились и имели детей. Они присутствуют в генеалогическом древе Дэвида. Его второй сын, родившийся в 1890 году, дожил до 90-х годов XX века и оставил многочисленное здоровое потомство.
Сэмюэл Хендерсон умер в 1892 году, через несколько дней после того, как дочь сфотографировала его вместе с женой, Элизабет, Мэри и Хеленой. В свидетельстве о смерти в качестве причины назван удар. Ему было всего шестьдесят, на четыре года больше, чем его зятю Генри. Провидение, о котором так часто говорила вдова, хранило ее еще семь лет; она умерла от рака яичников в последний месяц прошлого столетия.
Королева Виктория пережила ее на один год. Генри по-прежнему являлся к ней по первому вызову. Здоровье королевы ухудшалось, зрение слабело. 12 января 1901 года она последний раз сделала запись в дневнике. Сообщить о болезни Виктории ее личному секретарю был обязан не Генри, а сэр Джеймс Рейд. Она умерла через десять дней, собрав у своего смертного ложа всех детей.
Мужа принцессы Беатрис Генриха Баттенберга тоже не было в живых. Он пал жертвой лихорадки в Западной Африке в том же году, когда Генри получил титул пэра. После смерти королевы Генри покинул должность штатного врача овдовевшей принцессы и ее детей, лишь один из которых — старший, Дрино, маркиз Карисбрук — не страдал гемофилией. Два других мальчика, двенадцатилетний Леопольд и десятилетний Морис, были больны. В дочери принцессы, Эне, болезнь, естественно, была скрыта. Никто не мог сказать, является ли она носителем гемофилии или нет. Когда ей исполнилось восемнадцать, в Британию в поисках невесты приехал король Испании Альфонсо XIII, хотя сначала он обратил внимание на принцессу Патрисию, дочь Артура, герцога Коннаута, сына королевы Виктории. Несмотря на то что ее шансы унаследовать трон были крайне невелики — перед ней в очереди стояли несколько дюжин претендентов, — принцессу Патрисию посчитали слишком близкой к короне. Не обескураженный отказом, Альфонсо предпринял вторую попытку. На этот раз его выбор пал на Эну.
Осенью 1905 года Генри отмечал в своем дневнике: «Аудиенция у Ее Величества, король Испании Альфонсо». Больше никаких подробностей, ни намека о цели встречи с королем, ни упоминания о том, что он больше не врач Эны. Однако в своих заметках «альтернативный Генри» писал:
Я считал своей обязанностью предупредить Его Величество о рисках, если он продолжит сватовство к ее Королевскому Высочеству принцессе Эне, и сделал это. С самого начала я почувствовал, что передо мной молодой человек, который не примет совета и не прислушается к рекомендации, даже исходящих от того, кто является признанным авторитетом и по возрасту годится ему в деды. Ему были предоставлены факты. Я напомнил ему о смерти Его Королевского Высочества принца Леопольда, дяди принцессы Эны, и о том, как он страдал всю свою жизнь; я сообщил о слабом здоровье двух ее братьев, рассказав, что они унаследовали гемофилию от матери, которая была носителем болезни, и, наконец, что, по моему мнению, шансы на то, что принцесса, на которой он хочет жениться, тоже является носителем, довольно велики, хотя с уверенностью утверждать этого нельзя. Из всех детей, которые у них появятся, половина мальчиков, скорее всего, будут больны гемофилией, а половина девочек станут носителями заболевания.
Он выслушал меня, но никак не показал, что слышит, и тем более что мои слова как-то на него повлияли. Меня даже не поблагодарили. Он просто кивнул шталмейстеру и дал понять, что мне следует удалиться.
Боже правый, неужели человек способен сознательно и добровольно принести себе такое горе? Дать жизнь бедному ребенку, чей ежедневный жребий — боль и неполноценность, чьи невинные игры могут стать причиной мучений и инвалидности, когда от обычных падений опухают и искривляются конечности, а весьма распространенные в детстве порезы и синяки приводят к обильному и неостановимому кровотечению, словно из ран, полученных на поле боя… Я все это видел и знаю. Мысль о том, что этот глупец, это Величество, безрассудно бросится прямо в ад, причем не для себя, а для тех, кто будет после него, просто ради каприза, ради внезапной страсти к девушке, с которой он едва знаком, вызывает у меня разочарование в человечестве и этом мире, а также жажду — да, жажду — покинуть его.
Очень эмоционально для Генри, правда? Страстные слова, наполненные настоящим чувством. Кровь уже не божественная жидкость, некогда очаровавшая его, вплоть до нездоровой одержимости. Всю свою жизнь Генри наблюдал за гемофилией и ее проявлениями — и продолжает наблюдать как специалист, в королевской семье и не только. Он устал и готов умереть. Но ему суждено прожить еще четыре года, прежде чем сердечный приступ сведет его в могилу.
Что касается короля Альфонсо, то он женился на Эне, несмотря на предупреждение Генри. Их первый сын болел гемофилией, второй родился глухонемым, третий, умерший во время родов, по всей видимости, тоже был гемофиликом, пятый также страдал от этой болезни. И только четвертый, отец нынешнего короля Испании, оказался здоровым. К несчастью для Эны, испанцы придавали огромное значение «голубой крови» и чистоте потомства, и королеву Эну винили в том, что она принесла в испанский королевский дом то, что теперь называют дефектным геном. В те времена рассказывали ужасную и почти наверняка выдуманную историю о том, что ради того, чтобы влить здоровую кровь в страдающих гемофилией сыновей короля, ежедневно приносился в жертву испанских солдат.
Генри, знавший о дурной наследственности старшего принца — по крайней мере, — мог бы сказать, что королю Альфонсо некого винить, кроме самого себя.
14
Сегодня снова речь о законопроекте реформы Палаты лордов, первый день стадии доклада, и мы обсуждаем… что? Трудно сказать, поскольку оппозиция использует любой предлог, чтобы задержать прохождение законопроекта. Как только что заметил лидер Палаты, сегодня мы повторяем предыдущие ремарки. Хотя это обычное дело для любых дебатов. Многие пэры без всяких угрызений совести во время третьего чтения говорят то же самое, что во время второго, при обсуждении в комитетах и на стадии доклада.
Лорд Кэмпбелл Эллоуэй желает, чтобы закон не вступал в силу, пока народ не одобрит его на референдуме. Я начинаю размышлять, не выльется ли все это в дискуссию, что уже не раз случалось прежде, о том, как правильно образовать множественное число от набирающего популярность слова «референдум», «referendums» или «referenda». Мне вспоминается группа престарелых благородных лордов, презрительно шипевшая при употреблении первого варианта, хотя словарь Фаулера недвусмысленно рекомендует именно его.
Мы голосуем за предложение лорда Кэмпбелла, и несогласные — нас таких большинство — побеждают. Таким образом, поправка отклоняется. Для чая уже слишком поздно, и поэтому мы с Лахланом Гамильтоном идем в гостевую комнату пэров, чтобы пропустить по стаканчику. Я рассказываю ему о том, что еще узнал о Генри, в том числе о неожиданном всплеске эмоций по поводу отказа Альфонсо XIII прислушаться к его совету. Лахлан отвечает, что нисколько не удивлен, имея в виду отказ, а не эмоции.
— Королевские особы никогда не слушают советов, — его голос звучит мрачнее обычного. — Они усваивают это с пеленок. Единственная вещь, чему их учат матери.
Я соглашаюсь, хотя не знаю, так это или нет, и спрашиваю его мнение: почему так разволновался обычно бесчувственный Генри.
— Он видел много страданий, — отвечает Лахлан. — Такова доля врача. Кажется, вы говорили, что у него был маленький брат, который умер в детстве? — У Гамильтона превосходная память. — А его собственный сын отличался слабым здоровьем, так?
— Да, но у него был туберкулез.
— Осмелюсь предположить, он считал это постыдным. Я имею в виду вынужденный брак Альфонсо. Наверное, Генри любил детей. Некоторые мужчины любят детей. — Он преподносит это как новость. — Например, я сам. Не люблю смотреть на их страдания. Вне всякого сомнения, ваш прадедушка считал, что бедняга Альфонсо совершает преднамеренное убийство, если вы понимаете, о чем я. — Лахлан пристально смотрит на меня. — Видите ли, в то время ему еще не было и двадцати.
— Кому?
— Альфонсо. Он родился в 1886 году, после смерти своего отца, родился сразу испанским королем. Его мать была регентом, пока ему не исполнилось шестнадцать. Попытки покушения сделали беднягу упрямым. Говорят, он был храбр. Эти фамильные недостатки стоили ему трона.
— Откуда вы все это знаете? — спрашиваю я.
— Просто знаю, — вид у Лахлана непреклонный. — Ему еще повезло. Лишился только трона, а не головы.
Затем мы возвращаемся в зал, где возобновилось обсуждение законопроекта, и слышим, как новый пэр, сторонник лейбористов, предлагает поддержать предложение лорда Рэнделла, что все наследственные пэры должны остаться в Палате лордов до своей смерти, но их наследники уже будут исключены из нее. Я шепчу лорду Куирку, что у него будут проблемы со своим организатором фракции, и получаю в ответ заговорщическую улыбку. Мы обсуждаем это еще около часа. Затем, после невкусного ужина, я звоню Джуд и еду домой.
Она похожа на бледную, белую и изнуренную версию Оливии Бато, и в голову мне приходит — лучше бы не приходила — ужасная мысль, что именно так могла выглядеть Оливия, брошенная, одинокая и больная.
— Я просто устала, — говорит Джуд. — Ты не возражаешь, если я оставлю работу раньше, чем собиралась?
Конечно, не возражаю, буду даже рад. Я сажусь на диван рядом с ней, обнимаю за плечи, и Джуд спрашивает, понимаю ли я, что она беременна в третий раз, но еще ни разу не чувствовала, как шевелится ребенок. Я забыл, какой у нее срок, и она говорит, что три месяца и неделя, и тогда я отвечаю, что, насколько мне известно, для этого еще рано, но скоро уже начнется, через три или четыре недели. Ей хочется знать, как это бывает. Она спрашивает меня, мужчину? Я говорю, что если не ошибаюсь, то начинается все с едва заметного трепета, а толчки и удары будут потом.
— Я не возражаю, чтобы она меня толкала и пинала, — говорит Джуд.
Значит, это будет девочка, да?
Мне опять снится сон. На этот раз не Оливия, не Джимми Эшворт и не Генри. И я не в поезде, пересекающем мост через реку Тей. Я в доме, по всей видимости, в Грассингем-Холле в Норфолке, загородном особняке семьи Бато. Кто-то сказал мне, что это Грассингем-Холл, но я не знаю, кто именно, и теперь я в доме один, иду по галерее на верхнем этаже, а стена справа от меня увешана средневековым оружием — саблями, палашами и чем-то еще, как мне кажется, аркебузами и ружьями, заряжающимися с дула. Внизу, за перилами галереи все окутано туманом, но сквозь холодное марево проступают механизмы и инструменты, часть большого колеса, верхушка какого-то сооружения, похожего на гильотину, фрагмент металлической конструкции, покрытой шипами. Похоже на гравюру Пиранези с изображением тюрьмы, мрачную и зловещую.
Я что-то ищу, причем мое подсознание знает, что именно, однако я каким-то странным образом понимаю, что оно не сообщило об этом сознанию. Как бы то ни было, мне ясно: я узнаю, когда найду. Галерея переходит в коридор с чередой дверей по обе стороны. Я открываю одну дверь, другую, заглядываю внутрь. Становится темно — наступили сумерки, — но свет нигде не горит. Я ищу электрические включатели, газовые рожки, масляные лампы, канделябры для свеч, но ничего не вижу. Если здесь вам нужен свет, придется приносить его с собой.
Комнаты, в которые я заглядываю, все оказываются спальнями — темная мебель, белые занавески и стеганые покрывала. За окнами ясное сине-серое небо, похожее на внутреннюю поверхность раковины мидии. Я открываю третью дверь. Поначалу мне кажется, что кто-то залил эту комнату водой или через дыру в потолке сюда лил дождь, потому что все тут промокло — кровать, ночная рубашка на кровати, подушка и одеяло, коврик на полу и сам пол. Я вхожу в комнату, делаю несколько шагов, трогаю пальцем мокрую ночную рубашку, окунаю его в жидкость, собравшуюся в складке, и подношу палец к глазам. Жидкость черная. Я чувствую запах железа, потом пробую на вкус, и это вкус крови. Комната, кровать, ночная рубашка, ковер — все пропитано кровью, как будто кому-то здесь перерезали горло или у кого-то, на ком была ночная рубашка…
Я просыпаюсь без звука, но внезапно, как от толчка. Джуд рядом нет, но ночник на ее стороне включен. Кровать не пропитана кровью, но простыни испачканы красным, а на том месте, где лежала Джуд, большое влажное пятно. Я сажусь и около минуты просто сижу, в полной прострации. В голове ни одной мысли. Мое сознание пусто, как черно-красный экран. Потом я встаю и иду в ванную. Джуд лежит на полу, голая, истекающая кровью и всхлипывающая; ее ночная рубашка, похожая на ту, что я видел во сне, брошена в ванну.
Я глупо бормочу:
— Мне так жаль, мне так жаль…
Потом возвращаюсь в комнату и набираю 999, чтобы вызвать «Скорую».
Ее держат в больнице остаток ночи, следующий день и еще одну ночь. Врачи не знают, почему она потеряла ребенка или почему у нее все время случаются выкидыши. Ей говорят, что причина, по всей видимости, в каком-то дефекте плода, словно это утешит Джуд. Ее акушер утешает, что это ни в коем случае не означает, что она снова не сможет зачать и выносить ребенка весь срок.
Мне она с горечью говорит:
— Забавно, правда, что я действительно использую эти слова, «мой акушер», как все остальные женщины. Будто у меня был ребенок. Я посмотрела это слово[35] в толковом словаре и выяснила, что оно происходит от латинского obstetrix, повивальная бабка. Это было дома, когда я думала, что теперь у меня действительно будет ребенок. У меня никогда не было акушерки, и, думаю, я даже ни разу с ней не разговаривала. Я была счастлива, когда искала это слово. Начинала чувствовать себя счастливой.
Я не знаю, что ей ответить, но молчать не могу. Говорю, что я ее люблю, что она для меня все и мне больно видеть ее страдания. Тогда Джуд начинает извиняться передо мной за то, что не подарила мне ребенка. Меня так и подмывает сказать: мне нет никакого дела до этого проклятого ребенка, и я бы предпочел, чтобы его вообще не было, но это не поможет. Собравшись с духом, я спрашиваю, не хочет ли она кого-нибудь усыновить, не попытаться ли нам взять ребенка из Вьетнама, Перу или еще откуда-нибудь.
Когда Джуд возвращается домой, ее навещают подруги, приезжают мать и сестра. Потом объявляются Крофт-Джонсы. Святой Грааль они оставили с матерью Дэвида. Его отсутствие заметно — тактичность родителей видно за версту, но это хуже, чем если бы они взяли ребенка с собой. Лучше бы Крофт-Джонсы не приходили. Если раньше Джорджи казалась мне олицетворением беременной женщины, то теперь она воплощает кормящую мать — огромные выпуклости грудей на худом теле. Через некоторое время это округлое вымя начинает сочиться молоком, и на лифе открытого зеленого платья появляются влажные пятна. Смущение Джорджи притворно. Она чрезвычайно гордится собой, и хотя они с Дэвидом до прихода к нам явно договорились не упоминать о детях и обо всем, что с ними связано, в присутствии «бедняжки Джудит», она не в силах удержаться и с напускным стыдом говорит, что молока у нее хватит для двоих.
Мне хочется ее убить, хочется вышвырнуть вон их обоих. Мне так не терпится поскорее избавиться от них, что я забываю сказать Дэвиду, что хотел бы встретиться с его матерью, пока она не вернулась домой, и поговорить о ее матери, старшей дочери Нантера, а также выяснить, не знает ли она что-нибудь о Генри, Эдит и остальных их детях. Но я забываю об этом, ослепленный желанием попрощаться и сказать, чтобы они больше не возвращались. Разумеется, я этого не произношу вслух. Я благодарю их за визит и говорю, что в ближайшее время мы должны увидеться снова, а когда закрываю за ними дверь и вспоминаю о желании поговорить с Вероникой Крофт-Джонс, то уже поздно.
Выкидыш Джуд заставляет меня на какое-то время прервать работу над биографией Генри. В Парламент я тоже не хожу. Я пропустил дальнейшее рассмотрение Палатой лордов законопроекта о реформе на стадии доклада, но прочел о дебатах в официальных протоколах. Пришло письмо от Стенли Фарроу — он не видел меня в Парламенте, и до него дошли слухи, что у меня болеет жена. Я должен ответить, но не отвечаю, поскольку не знаю, что сказать. Джуд не хочет, чтобы о выкидыше знали люди «за пределами ближнего круга» — только те, кто знал о ее беременности. Полу она тоже не сказала. Он пришел без предупреждения и сразу все понял, говорит Джуд, по ее лицу и худобе. Она открыла неожиданную нежность в моем сыне, который — теперь, когда перспектива иметь сводного брата или сестру исчезла, — заявляет, что с нетерпением ждал, когда можно будет «гулять с коляской».
Я сижу с Джуд, держу ее за руку. Мы спим, обнявшись, как будто боимся, что ночью кто-то придет и разлучит нас. И никакого секса. Даже мысль о нем кажется грубой. Кроме того, я не знаю, нужно ли использовать презерватив, или Джуд должна принять таблетку или еще что-то, а спросить боюсь. Я вожу Джуд в ее любимые рестораны, покупаю по ценам черного рынка билеты на спектакли, которые мы не видели. Я оформил подписку на канал блокбастеров, и мы каждый вечер смотрим старые фильмы. Бездетные друзья усердно приглашают нас пропустить по стаканчику или на ужин. Имеющие детей тактично молчат. Через месяц такой жизни Джуд не делает того, чего мне хотелось бы, чего я начинаю желать. То есть не делает сексуальных намеков, когда мы сидим на диване и смотрим «Касабланку», но когда мы выключаем свет и поднимаемся по лестнице, она — голосом, которым обычно предлагает заранее забронировать места в гостинице на рождественские каникулы — сообщает, что пора снова попытаться сделать ребенка.
Я должен быть импотентом, потенциальным потребителем «Виагры», но почему-то этого не происходит — несмотря на мою уверенность. Я ожидал полного фиаско, но вышло наоборот. Наверное, я просто считаю свою жену самой привлекательной и желанной женщиной из всех, что я знал, — и точка. Вот и хорошо. Я словно слышу со всех сторон громкие одобрительные возгласы.
Сон не идет, и я лежу рядом со спящей Джуд и думаю о Генри и обо всех мужчинах викторианской эпохи. Принято считать, что импотенция вызывается скорее психологическими, чем физиологическими причинами. Так что если у женщин в XIX веке действительно отсутствовала сексуальность, то они не предъявляли к мужчинам требований, которые те были не в состоянии удовлетворить, и, следовательно, об импотенции не могло быть и речи. Но мне кажется, это неправда — просто мужчины XIX века предпочитали в это верить. В прошлом веке предполагалось, что мужчины «опытны». Я размышляю, был ли Генри «опытным» и вообще, размышлял ли он об этом. Может, его обучила Джимми Эшворт? Обучить можно лишь способного и восприимчивого, но мне почему-то не кажется, что Генри согласился быть учеником. Эдит, вероятно, приняла то, что ей предлагали, и если и ждала чего-то необычайного, то, по всей видимости, была разочарована. Как выразился кто-то из современников Генри, брак — это цена, которую мужчины платят за секс, а секс — цена, которую женщины платят за брак. Звучит мрачновато.
Теперь середина июля, и я снова стал приходить на заседания Парламента. Поскольку я никому не говорил, что собираюсь в декабре стать отцом, то сочувствие выражать некому. Стенли Фарроу подходит ко мне за чаем и спрашивает о Джуд — он думает, что у нее была сильная простуда, — и я говорю ему, что ей лучше. Я сижу в зале заседаний часа два, слушаю дебаты по законопроекту об администрации Большого Лондона — вполуха, одновременно размышляя о своих коллегах, наследственных пэрах, и прикидывая, кто из них будет избран и останется, а кто уйдет. И пытаюсь представить, что будут делать швейцары, если исключенный парламентарий вернется, подойдет к входу для пэров, войдет внутрь и повесит пальто на некогда принадлежавшую ему вешалку. Почтительно остановят его? Или попытаются преградить дорогу? А если он откажется подчиниться, будет сопротивляться и пойдет дальше, свернет налево и поднимется по устланной красным ковром лестнице, станут ли они — немыслимое дело — задерживать его силой? Или вызовут полицию? Мне интересно, подумали ли об этом сторонники законопроекта.
Генри редко приходил в Палату лордов. В те времена считалось, что новые пэры должны произнести свою первую речь как можно скорее, как только позволят обстоятельства — найти законопроект, внесенный на второе чтение, или выбрать вечерние дебаты в среду и внести свое имя в список ораторов, поставив вслед за ним в скобках букву «М». Тема дебатов должна быть знакома новому пэру, хотя бы отчасти, а первое выступление обязано быть конструктивным и ограничивается десятью минутами. Генри произнес свою речь в июле, ровно сто два года назад. Тема вполне подходящая, здравоохранение: улучшение здоровья населения в результате эффективной системы стоков. К тому времени сэра Джозефа Базалгетта уже не было в живых. Он умер в 1891 году. Однако строитель дренажной системы и набережных был соседом Генри на Гамильтон-террас, и они, скорее всего, обсуждали этот предмет. Читая первую речь Генри сегодня, в ней можно найти свидетельства того, что технические знания почерпнуты из бесед с сэром Джозефом.
Второй раз Генри поднялся с места год спустя, и его речь была посвящена первым шагам биохимических исследований свертываемости крови. Следующее выступление состоялось еще через три года, по поводу законов наследственности Менделя, которые игнорировались на протяжении пятидесяти пяти лет, а в 1900 году были открыты повторно. Именно в этой, чрезвычайно длинной речи Генри обронил известную фразу, ставшую предметом насмешек: «Вопрос в том, каков ответ». После этого он редко выступал в парламенте.
Похоже, Генри больше не написал ни одной книги, хотя есть подтверждения, что он начал еще одну, причем считал ее очень важной. Запись в дневнике от 2 марта 1900 г. свидетельствует: «Сегодня утром приступил к работе над своим главным трудом». Три месяца спустя «альтернативный Генри» пишет в своем блокноте:
Я агностик, неверующий, и признаю религию только на словах, однако некоторые изречения Иисуса Христа считаю великой мудростью. Первое, что приходит на ум, это одна из последних приписываемых ему фраз: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» [36] . Я не ведал, что творил, когда делал то, что делал, хотя был убежден, что все прекрасно осознаю.
Теперь я уже не буду первооткрывателем, великим исследователем. Мои честолюбивые планы рухнули. Я не могу писать. Я не могу ставить опыты. Детский плач мне все время мешает. Он разносится по этому дому, проникает сквозь толстые стены. Куда бы я ни шел, избавиться от него невозможно. Иногда мне кажется, что я сойду с ума. О, как я наказан!
Почему? Как? Что он такого сделал? Я не знаю, а остальные тексты «альтернативного Генри», всего два, не дают ключа к разгадке. Эти последние строчки выглядят как свидетельство персонажа из «историй с привидениями» М. Р. Джеймса, несчастного, преследуемого человека, который снова видел демона, на сей раз ближе. Или Генри просто говорит — как может говорить глубоко эгоистичный человек, хотя и не свойственным для него тоном, на грани истерики, — что трехлетний сын не дает ему покоя и мешает работать? Возможно. Однако выражения, к которым он прибегает, ему не свойственны. По меркам того времени Генри считался уже стариком. Возможно, он стоял на пороге какого-то нового открытия и присутствие в доме двух маленьких мальчиков мешало процессу. Для шестидесятичетырехлетнего мужчины быть отцом двух детей, пяти и трех лет — дело нешуточное, даже при наличии штата слуг. Это заставляет меня задуматься о собственном положении и о том, что Джуд поставила себе цель родить ребенка, чего бы это ни стоило. Я понимаю, что преувеличиваю, но ничего не могу с собой поделать и начинаю считать: если она добьется своего в сорок семь лет, мне тогда будет пятьдесят пять, а когда ребенку исполнится пять, то мне будет немногим меньше, чем Генри.
От Дженет Форсайт приходит посылка со смазанными фотокопиями, фотографией и сопроводительным письмом. Я уже забыл, кто она такая, а адрес на конверте мне ничего не говорит. Но в первом же предложении отправительница сообщает, какое удовольствие она и ее мать получили от чаепития в Палате лордов, и извиняется, что не поблагодарила меня раньше. Разумеется, я помню, что она дочь Лауры Кимбелл, а Джимми Эшворт была ее прабабкой. Она приходится мне кем-то вроде кузины, но сама об этом не знает — по крайней мере, мне так кажется. Однако, читая письмо, я понимаю, что ошибался. По словам Дженет, она всегда подозревала, что Генри приходится ей прадедом, но не хотела говорить об этом матери, у которой «возвышенные представления» о Джимми. Что касается ее самой, то она гордится родством с «знаменитым медиком». Фотокопии, сообщает Дженет, сделаны со страниц «Таймс» от разных дат 1883 года. Затем она пускается в пространные объяснения по поводу того, что, заинтересовавшись каким-то другим аспектом истории семьи — вероятно, она принадлежит к когорте любителям генеалогии, — она изучала газетные статьи и наткнулась на кое-какую информацию; по ее словам, «она может оказаться любопытной». К этим вырезкам Дженет прикладывает набросок генеалогического древа семьи, которое она составляет, — у нее нет сомнений, что я заинтересуюсь.
Прежде чем взяться за фотокопии, я рассматриваю фотографию. На ней молодая Дженет — а может, ее мать? Поначалу я теряюсь, но, судя по одежде, это явно 30-е годы. Но мое внимание привлекает брошь на темном платье женщины, матери или дочери. Брошь представляет собой пятиконечную звезду с бриллиантами — почти наверняка с бриллиантами, а не алмазами, — а надпись Дженет на обороте снимка сообщает: «Это брошь Джимми, подаренная сэром Генри, и эта драгоценность перешла к моей матери, когда умерла ее мать». Теперь мне понятно, откуда взялась идея помечать дни визитов к Джимми звездочкой — от подаренной броши. Или сначала были пентаграммы, а потом Генри выбрал брошь, которая бы им соответствовала? Возможно, это была их шутка, понятная только двоим. Я невольно задумываюсь о нежности и любви в отношениях Генри и Джимми. Шутки, красивый подарок, звездочки в дневнике в назначенный день, возможно, тайный знак, понятный только им, подношение и слова Генри: «Я купил эту брошь, потому что она напоминает о нашем особом знаке, и теперь, надевая ее, ты можешь представлять, как я ставлю знак любви в своем дневнике…» Разумеется, все это продукт моего воображения, романтизация, достойная самой Лауры[37].
Я изучаю фотокопии, для чего приходится взять лупу. Многие абзацы имеют отношение к Генри: прочитанные им лекции, объявления о выходе его новых книг, сообщение «Придворного циркуляра» о пожаловании ему рыцарского звания. Во всем этом для меня нет ничего нового. Последняя вырезка рассказывает о появлении в мировом суде человека по имени Герберт Эдвард Хейфорд Брюэр, двадцати семи лет, проживающего в Палмерстоун-Билдингс, район Юстон, которого обвиняли в нападении на мистера Сэмюэла Хендерсона на Гоуэр-стрит. Брюэр был признан виновным и отправлен в тюрьму, но ненадолго. Вне всякого сомнения, он провел бы за решеткой много лет, если бы кого-то ограбил — англичане всегда ценили собственность выше жизни и здоровья человека.
Это очень полезная для меня информация, и рано или поздно я сам бы ее нашел, и поэтому я тут же пишу ответное письмо Дженет Форсайт, благодарю за вырезки, соглашаюсь насчет того, кто был отцом ее бабушки, но умалчиваю о пятиконечной броши или о своих восторгах по поводу генеалогического древа. Присланную фотографию я кладу в одну из папок с материалами о Генри. Их теперь пять, обозначенных «Работа», «Королевская семья», «Личное», «Дети и потомки» и «Брак и разное». Материал, присланный Дженет, отправляется в «Личное», хотя я колеблюсь, не место ли ему в последней папке, потому что героическое спасение бедняги Сэмюэла в конечном итоге привело к женитьбе Генри.
Я несу письмо на почту, и Джуд идет со мной. Дорога в сотню ярдов превращается в прогулку. Джуд снова хорошо выглядит, хотя все еще очень худа; талия у нее такая же тонкая, как у Оливии Бато на портрете, только с той разницей, что Оливия носила корсет. Разумеется, на улицах полно женщин с детьми, чернокожих, белых и азиатской внешности, везущих своих чад в прогулочных колясках или несущих в сумках-кенгуру на груди. А одна даже со старомодной коляской, из которой выглядывает круглое розовое личико младенца, окруженное пеной кружев и оборок. Я не прочь рассказать Джуд, что Генри считал своих детей помехой, полагал, что они стоят на пути великих начинаний (кажется, это слова Бэкона). У меня такое же ощущение — до известной степени.
Мы заходим в магазин диетических продуктов, и Джуд покупает фолиевую кислоту, мультивитамины, гингко билобу, эхинацею и зверобой. Она привыкла вести здоровый образ жизни, готовясь к родам, а теперь точно так же готовится к зачатию. Дважды в неделю жена выполняет комплекс упражнений по системе Александера и посещает травника. Мы возвращаемся на Гамильтон-террас через Аберкорн-плейс, рассуждая о растительных препаратах, якобы способных предупредить выкидыши — вернее, рассуждает Джуд, а я слушаю. Я говорю, что вреда от них не будет, но лучше, наверное, посоветоваться с врачом, а потом мы сворачиваем и останавливаемся рядом с Эйнсуорт-Хаусом, переименованным (глупо) в Хорайзон-Вью, и смотрим на окна миллионера и на крытый проход, где витражное стекло заменили на более прозрачное и яркое.
Палисадник изобилует цветами, похожими на те, что высаживают в кадках уже цветущими. Их цвет гармонирует с крышей прохода — видимо, это сделали намеренно. Все окна закрыты, хотя день жаркий; вне всякого сомнения, миллионер поставил систему кондиционирования воздуха. Занавески внутри украшены шелковыми, бархатными и кружевными фестонами. Внутри почти ничего не разглядеть. Когда я в последний раз смотрел на дом, то видел печальную женщину азиатской внешности в окне комнаты, которая раньше была кабинетом Генри, но сегодня там никого нет.
Мне отчаянно хочется, чтобы Джуд что-нибудь сказала, как-то прокомментировала дом Генри и произошедшие с ним перемены. Чтобы спросила, что было в этой комнате или кто спал в той — что угодно, кроме разговоров о детях и ее перспективах иметь ребенка. Но она молчит, только берет меня под руку и тянет к себе. Я склоняюсь и целую ее, прямо на улице перед домом своего прадеда.
15
Сегодня в Палате лордов продолжается дискуссия по поправкам, внесенным на стадии доклада. Лорд Мэйхью, бывший генеральный прокурор, предлагает, чтобы вопросы о правах наследственных пэров были переданы в Комиссию по привилегиям.
Я выступаю с краткой репликой, более или менее повторяющей слова лорда Гудхарта, что это будет просто потерей времени. Всем известна цель законопроекта, и каков будет конечный результат — избавиться от нас, как от анахронизма и «белых слонов»[38]. В ответ я слышу одобрительные возгласы, особенно после фразы о белых слонах.
Но лорд Мэйхью настаивает на голосовании и добивается принятия поправки. После этого мы продолжаем обсуждение, на этот раз Союзный договор и фундаментальный (вероятно) его принцип, гарантирующий Шотландии определенное представительство. Предлагается, чтобы этим тоже занялась Комиссия по привилегиям — уловка, испытывающая терпение баронессы Джей, лидера палаты. Очередное голосование неминуемо, и сторонники Комиссии по привилегиям снова побеждают. На этом обсуждение законопроекта прерывается до окончания длинных летних каникул. Мы вернемся к нему где-то в октябре, а пока все наследственные пэры останутся на своих местах.
Сегодня 27 июля, и в четверг парламент закрывается. Члены лейбористской партии, вынужденные подчиняться строгой дисциплине, ждут не дождутся каникул — и я тоже. Мы с Джуд отправляемся в Тироль по пешеходному маршруту, а потом — на неделю на один из греческих островов. Наш отдых запланирован задолго до выкидыша, и теперь Джуд притворяется, что хочет поехать, но на самом деле желания у нее нет. Я знаю.
Мы улетаем сегодня. Рейс отправляется ранним вечером, и мы уже собрались. Но незадолго до приезда такси почтальон приносит два письма: одно от Вероники Крофт-Джонс, а другое — с вложенным генеалогическим древом, хотя я и не просил его присылать — от Дженет Форсайт. Вероника, с которой я, конечно, так и не встретился, пишет, что из объяснений сына поняла, что я хочу поговорить с ней о семье. В сентябре она приедет навестить Дэвида, Джорджи и Галахада и будет рада договориться о встрече. В любом случае мы такие близкие родственники и должны познакомиться поближе. Подписывается она так: «Ваша любящая кузина Вероника».
Письмо я оставляю, а генеалогическое древо по какой-то причине сую в карман. Приезжает такси, и мы отправляемся в Хитроу. Когда наш самолет пролетает над какими-то горами, я достаю генеалогическое древо. Это довольно занятное изображение, не таблица, а настоящее дерево с ветвями и тонкими побегами, коричневое с зеленым, только перевернутое, потому что ствол должен располагаться вверху. Каждый мужчина обведен рамкой в форме листочка, а каждая женщина — в форме яблока. Джуд заглядывает мне чрез плечо и бесстрастным голосом выражает свое презрение. Поначалу я не вижу знакомых имен. Затем замечаю Джемайму Энн Эшворт и Леонарда Доусона. Их дочь Мэри (или дочь Генри) тоже здесь, вместе с другими детьми, отцом которых точно был Лен Доусон, а на маленькой изогнутой веточке, отходящей от Лауры Мэри Кимбелл и Роберта Артура Кимбелла, — сама Дженет Форсайт с мужем и сыном Деймоном. У Джимми Эшворт, похоже, не было братьев и сестер, зато у Лена Доусона их не меньше одиннадцати, не считая двух сводных братьев и двух сводных сестер, родившихся после того, как умер его отец, а мать — вероятно, не мыслившая своей жизни без тяжелой работы — снова вышла замуж. Ничего интересного для себя я не нахожу и поэтому прячу листок, аккуратно его сложив, в дорожную сумку, которую взял с собой в самолет.
Джуд беспокоится по поводу ходьбы — точно так же, как и по поводу всего остального, что предполагает телодвижения. Особое недоверие у нее вызывают четырехколесные средства передвижения, подпрыгивающие на ухабистых горных дорогах. Я напоминаю ей, что она не может быть беременна, поскольку после выкидыша у нее еще не было месячных. Так это или нет — в том, что касается беременности, — я не знаю. Джуд — тоже, и у нее портится настроение. Я обнаруживаю, что смотрю на север, в сторону Швейцарии, где, как мне кажется, должен находиться Граубюнден. Кажется, там проходили маршруты пеших прогулок Генри? Джуд сидит на камне и дуется на меня.
— Почему ты такая сварливая?
К моему удивлению, жена громко смеется, совсем как в прежние времена, когда я в нее влюбился.
— Я тебя люблю, — говорит она. — Ты всегда употребляешь эти смешные старомодные выражения. Сварливая! Подумать только. Никто, никто, кроме тебя, теперь не говорит «сварливая».
Обнявшись, мы возвращаемся в гостиницу и занимаемся любовью, совсем как до всех этих дел с ребенком. Мы занимаемся любовью каждый день, а иногда и по ночам, и каждый раз все так, как и должно быть, и я начинаю думать, что теперь и дальше так будет, и этот отпуск — начало нашего нового счастья. Мы отправляем открытки всем друзьям, и даже одну Полу, хотя он их презирает, и подписываем «с огромной любовью». Это сентиментально, но нас переполняет любовь — и даже выплескивается через край.
Месячные у Джуд начинаются уже на Скиросе, но она не расстраивается и даже рада. Джуд не говорит о детях. Теперь «ребенок» — это запретное слово. Оно не должно слетать с наших губ. Как будто мы дети, и мать запретила нам произносить неприличное слово. Мы плаваем, валяемся на солнце, намазанные кремом от загара с солнцезащитным фактором пятнадцать, пьем то, что дома нам кажется отвратительным на вкус — узо[39] и рецину[40], — и Джуд не говорит, что алкоголь отравляет ее гормоны и всякое такое.
В последний наш день на острове, когда мы сидим у бассейна, к нам подходит новый постоялец гостиницы и представляется как Джулиан Брюэр.
— Скоро буду лордом Брюэром, — прибавляет он с широкой улыбкой.
Вероятно, ему только что пожаловали звание пэра, и он займет свое место в Палате лордов в сентябре. Я встаю, пожимаю ему руку и говорю, что покину Парламент как раз после его прихода туда. Мы заказываем напитки официанту, который обходит столики, и я отвечаю, как могу, на вопросы о Палате лордов, хотя слушаю вполуха, даже в четверть, потому что на меня снисходит озарение — знаете, случаются такие внезапные догадки. Мне хочется, чтобы он ушел или чтобы солнце скрылось за тучами и поднялся ветер, и тогда я смогу вернуться в гостиницу, подняться в свой номер и найти в дорожной сумке генеалогическое древо, нарисованное Дженет Форсайт.
В конце концов он уходит, но только после того, как я клятвенно обещаю выпить с ним после его представления в Палате, познакомиться с его женой и детьми и ввести в курс дела — то есть показать, где находятся туалеты и как записаться на устный вопрос. Все, что угодно, лишь бы избавиться от него. Я ловлю на себе удивленный взгляд Джуд — такая сговорчивость мне не свойственна. В лифте я ей все объясняю. Брюэр, говорю я ей, Брюэр. Его фамилия Брюэр, и я кое-что вспомнил. Мне нужно проверить. Если я прав, то открывается новая сторона жизни Генри.
Вот он, в генеалогическом древе Дженет Форсайт: Джозеф Эдвард Хейфорд Брюэр, второй сын Джозефа Уильяма Брюэра и его жены Мэри Энн Доусон, урожденной Хейфорд. У этой пары было четверо детей, и у каждого вторым или третьим именем было Хейфорд. Но еще важнее и удивительнее тот факт, что Мэри Энн Доусон была замужем за Кларенсом Джорджем Доусоном и родила ему двенадцать детей, в том числе Леонарда Доусона, мужа Джимми Эшворт. Таким образом, человек, напавший на Гоуэр-стрит на моего прапрадеда Сэмюэла Хендерсона и остановленный моим прадедом Генри Нантером, приходился сводным братом Лену Доусону.
У меня нет с собой вырезки из «Таймс» о суде над Брюэром, но я хорошо помню это имя. Не знаю почему, но у меня в памяти застряло «Хейфорд». И его возраст — двадцать шесть. Судя по составленной Дженет генеалогии, Джозеф Эдвард Хейфорд Брюэр родился в 1857 году, что соответствует возрасту подсудимого. Мне нужно будет проверить, где и когда он родился, но я уже не сомневаюсь, что речь идет об одном и том же человеке. Таких совпадений просто не бывает.
Понимает ли это Дженет? Должна. То есть она должна была заметить, что человек, напавший на Сэмюэла Хендерсона, приходился сводным братом Лену Доусону. Но сложила ли она два и два и увидела ли, что сводный брат Лена Доусона был признан виновным и отправлен в тюрьму за нападение на моего прапрадеда и будущего тестя Генри? Я почему-то сомневаюсь. Я говорю об этом Джуд и рассказываю, что в отчете о судебном заседании ничего не говорится о Генри, его имя даже не упоминается. Джуд со мной согласна. Скорее всего, Дженет не увидела связи.
— Но почему она привлекла твое внимание к этому случаю, прислав вырезку?
Я уже думал об этом и теперь делюсь своим предположением: во время нашей встречи ее мать словно цензурировала все, что касалось Джимми Эшворт, рисуя женщину чистой и невинной, тогда как Дженет показала себя более опытной.
— Она хочет показать мне, что в их семье тоже имелась паршивая овца. Большинство людей считают подобные факты семейной истории довольно забавными. Джимми была содержанкой, а этот Джозеф — викторианским бандитом. Только Лауру Кимбелл это не забавляет. Дженет хочет продемонстрировать широту своих взглядов — в сравнении с матерью. Кроме того, Джозеф ей почти не родственник.
— Он вообще ей не родственник, если ты прав, и отцом ее бабушки был Генри.
Я прошу ее рассказать, что, по ее мнению, за всем этим кроется, и Джуд несколько секунд молчит. Потом говорит вещи, не очень лестные для Генри.
— А разве есть другое объяснение, кроме того, что Нантер впутал Джозефа в это дело? Нанял его? Может, Джозеф был кем-то вроде грабителя по найму, и Генри заплатил ему, чтобы он напал на старину Сэмюэла на улице и ударил, но не слишком сильно. Затем появился благородный рыцарь Генри и спас жертву Джозефа.
— Думаю, так все и было.
— Однако, — говорит Джуд, разыгрывая адвоката дьявола, — можно взглянуть на это с другой стороны и сказать, что Генри невинен. Он встретился с Джозефом Эдвардом Хейфордом Брюэром потому, что тот напал на Сэмюэла. Может, Генри был одним из тех викторианских филантропов, которые посещали тюрьмы; он разыскал Брюэра именно там, познакомился с ним и его семьей, встретил Лена Доусона…
— Только у нас нет никаких свидетельств того, что Генри посещал тюрьмы, — возражаю я. — И множество свидетельств обратного. В одном из писем Коучу Генри разразился длинной обличительной речью относительно обращения с заключенными. По его мнению, это обращение слишком мягкое. А посетителей тюрем он считает заблуждающимися. На его взгляд, преступники любого рода должны подвергаться еще большему остракизму.
— Я рада. Мне хотелось, чтобы Генри оказался злодеем. Разве я не говорила, что он затеял что-то недоброе? Теперь мы знаем, что именно.
Она отправляется в душ, а я сижу на кровати и размышляю над всем этим. Где и когда Генри познакомился с Джозефом Брюэром? Или он сначала встретил Лена Доусона? Вряд ли я когда-либо это узнаю. Внезапно я вспоминаю, что Джозеф Брюэр жил где-то в Юстоне, хотя это ничего не дает. Может, он был одним из «примеров», которых врачи демонстрируют студентам и предлагают обратить внимание на определенные аномалии или анатомические отклонения. У меня нет причин предполагать наличие у Джозефа подобных отклонений — или вообще каких-то особенностей. Скорее всего, он был абсолютно нормальным молодым человеком.
Сколько заплатил ему Генри «за работу»? Для такого человека сто фунтов были целым состоянием. Впоследствии он вознаградил сводного брата Джозефа женитьбой на Джимми Эшворт, домом и, вне всякого сомнения, приличной суммой денег. Но почему выбор пал на Лена? Почему не сам Джозеф? Возможно, тот уже был женат. Я снова обращаюсь к генеалогическому древу и вижу, что из всех детей Доусонов и Брюэров девять мальчиков и семь девочек. В 1883 году старшему ребенку мужского пола было сорок один, а младшему — девятнадцать. Пятеро старших к тому времени уже состояли в браке, а один остался вдовцом с пятью детьми. Лен был не женат, и кроме того, я обратил внимание на одно обстоятельство, которого не заметил раньше. Его самый младший брат умер в возрасте четырнадцати лет, а еще один, на год младше Лена, — в возрасте одного года. Девятнадцатилетний Альберт был холост. Генри не стал бы навязывать Джимми вдовца с пятью детьми, даже у него не хватило бы на это духу, а девятнадцатилетний парень был для нее слишком молод. Таким образом, оставался один Лен.
Генри познакомился с Леном не потому, что тот был носильщиком при больнице. Вероятно, мужчина служил носильщиком на вокзале Юстон, и познакомил их Джозеф. Но почему Лен не женился раньше? Возможно, в нем было нечто такое, что отталкивало женщин — например, родимое пятно, бородавка на лице или что-то еще. Нужно выяснить, сохранилась ли у Лауры Кимбелл его фотография.
У Генри мог быть только один мотив для организации нападения и своего героического вмешательства: познакомиться с семьей Хендерсон. Он мог сделать это и другими способами, однако они, по всей видимости, не были такими эффективными. Можно было записаться на консультацию к Сэмюэлу по поводу какого-нибудь юридического аспекта медицинских исследований. Но как добиться того, чтобы консультация вылилась в дружбу и в приглашение домой к Хендерсонам? Это заняло бы много времени, а результат не гарантирован. На самом деле трудно представить более логичный и верный план действий, чем тот, который придумал Генри. Ничто другое не помогло бы ему заслужить благодарность всей семьи. Прийти в дом Хендерсонов и осведомиться о здоровье жертвы — совершенно естественный поступок.
Но это не объясняет, почему Генри так страстно желал познакомиться с Хендерсонами, что законопослушный человек, известная фигура, профессор, лейб-медик опустился до преступного заговора, чтобы получить доступ в их дом. Что его так привлекало в этой семье? Обычные люди. В те времена адвокатов уважали гораздо меньше, чем сегодня, и к тому же Сэмюэл не мог похвастаться особыми успехами. Хендерсоны не были богаты, принадлежали к среднему классу, жили в тесном и убогом доме в непрестижном районе Лондона. Никто из них не был принят в обществе, к которому принадлежало семейство Бато. Девушки, конечно, хорошенькие, но таких в Лондоне тысячи, причем многие были гораздо более выгодной партией.
Я замечаю еще одну странность. Генри должен был знать о Хендерсонах до того, как устроил происшествие на Гоуэр-стрит, но для этого требовалась информация. Неужели он нанимал детективное агентство? Кого-то вроде Шерлока Холмса? Я представляю эту картину: довольно зловещая фигура, типично викторианская, похожая на одного из персонажей Уилки Коллинза, ходит тенью за Сэмюэлом, следит за его домом, возможно, знакомится со старым мистером Квендоном, когда тот совершает свой «моцион», разглядывает девушек, стоя в дверях лавки. Но почему? Зачем?
Я говорю себе, что утро вечера мудренее, по опыту зная, что завтра все предстанет в другом свете. Утром мои построения могут рухнуть, все перевернется у меня в голове — «котелке», как выражаются журналисты. Я сплю, потом встаю рано утром, чтобы успеть на самолет, но ничего не меняется. Генри по-прежнему участник преступного сговора и злодей, а я по-прежнему не понимаю, зачем он хотел познакомиться с Хендерсонами.
Нечестный Генри. Преступник Генри.
16
Дома среди почты мы не находим ни личных писем, ни щекочущих нервы откровений — только счета, груду претензий на мое время и деньги, присланных из Палаты лордов, и две книги для рецензии от моего литературного редактора. Я рад книгам; это история парламентской системы в Великобритании и биография Бонара Лоу[41]. Эти две рецензии принесут мне тысячу фунтов или чуть меньше. По пути домой, в самолете, я думал не о Генри, а о деньгах.
Джуд не бросила работу. Как ни печально, ей не пришлось этого делать. Когда-то я сам работал в издательском бизнесе, пока не ушел в свободное плавание на волне случайного успеха первой биографии, вышедшей из-под моего пера. Последняя моя книга еще не вышла из печати, а подготовительная работа отнимает столько времени, что я приступлю к биографии Генри только в конце следующего года — в лучшем случае. В самолете мне в голову пришла мысль, которая почему-то не посещала меня раньше. Будучи изгнан из Палаты лордов, я лишусь денежной компенсации. Пэр, посещающий Палату четыре раза в неделю — а если заседания проводятся по пятницам, то пять, — вправе рассчитывать на возмещение расходов в сумме тысячи фунтов в год или даже больше, причем эта выплата не облагается налогом. Возможно, мне придется найти работу — если получится. Я не могу позволить, чтобы меня содержала жена. А если ребенок? Ребенок, которого еще нет, но который может появиться…
Чарльз Лэм написал очерк под названием «Мои дети. Греза», о семье, которой у него никогда не было. Сентиментальный, но не лишенный прелести. Выдуманные дети собираются вокруг автора, чтобы послушать рассказы о людях, которые могли бы быть их предками, если бы малыши появились на свет. Дети хотели послушать про свою «дорогую покойную маму», но затем их лица стали тускнеть, растворяться вдали, и они печально сказали: «Мы — ничто, меньше чем ничто, чем сновидения. Мы лишь то, что могло бы быть, и принуждены ждать на унылых берегах Леты миллионы веков, прежде чем обретем существованье и имя»[42].
Я не знаю, читала ли Джуд этот очерк. Конечно, лучше бы не читала. Тут у меня нет выбора: я должен хотеть ребенка, должен прервать его ожидание на унылых берегах Леты, должен научиться хотеть его так же, как хочет Джуд, поскольку для нас это единственный способ остаться вместе. Я должен перестать испытывать облегчение от того, что прошел еще один день и она не произнесла этого запретного слова. Более того, я сам должен его произносить, демонстрировать воодушевление по поводу того, что меня пугает, изображать страстное желание, которого я не чувствую. И даже это должно измениться. Смятение должно уйти, а отношение ко всей нашей жизни — измениться. Я обязан стать похожим на Генри, думать о том, как он жаждал второго сына, хотя у него уже были пять дочерей и сын. И желательно, чтобы я перестал убеждать себя, что Генри приходилось легче, поскольку дома у него была жена и няньки, а вспомнил о его привязанности к младшему, Джорджу, больному мальчику, чей плач его так расстраивал.
Но хочу ли я эти заботы? Хочу ли я, чтобы кто-то вошел в мою жизнь и принес мне страдания? Мне вдруг вспоминается, как годовалый Пол заболел крупом, как мы везли его в больницу, а хирург делал ему экстренную трахеотомию. Мне снова придется пережить такие же муки или нечто подобное, если Джуд получит то, что хочет, — и то, что я должен научиться хотеть. Потому что я полюблю этого ребенка. Я буду обожать его, и все это очень печально. Но если Джуд не получит желаемого, будет еще хуже.
Сентябрь, воскресное утро, и к нам пришли Дэвид с Джорджи. Они взяли с собой Святой Грааль, вероятно, придя к выводу, что проявляли тактичность уже достаточно долго. Он самый большой десятинедельный младенец из всех, кого мне приходилось видеть, хотя опыт тут у меня невелик. Наверное, именно таких детей художники эпохи Возрождения использовали в качестве моделей для своих putti[43], предположительно потому, что это был идеал, а в XV веке немногие из флорентийских младенцев имели столько жира на своем теле. Я восхищаюсь им так бурно, что Джуд, которую должны впечатлить мои излияния, с подозрением смотрит на меня. Пока они с Джорджи обсуждают детей, режимы кормления и неизменную тему избытка молока у Джорджи, Дэвид сообщает, что двадцатого приедет его мать и пробудет у них неделю. Может, мы придем к ним на ужин во время ее визита? Я не могу отвергнуть приглашение, хотя мне очень хочется, но ставлю условие, что у меня будет возможность поговорить с Вероникой наедине, как она предлагала в своем письме. Я бы не прочь записать на диктофон нашу беседу — у меня такое ощущение, что она окажется очень полезной. Я советуюсь с Джуд, прерывая мини-лекцию Джорджи об эффективных методах сцеживания, молокоотсосах и тому подобном, и мы договариваемся, что придем на ужин в субботу, 25 сентября. Крофт-Джонсы теперь стали нашими друзьями.
— Родственники, с которыми мы дружим, — осторожно формулирует Дэвид.
Меня так и подмывает рассказать ему о своих трудностях в понимании мотивов Генри, желавшего познакомиться с семьей Хендерсон. В конце концов, Дэвид такой же его правнук, как и я. Но что-то меня останавливает, а когда я понимаю, что именно, то едва сдерживаю смех. Тот же комплекс испытывает Лаура Кимбелл в отношении Джимми Эшворт. Я не хочу, чтобы все узнали, что мой знаменитый и уважаемый дед был участником преступного заговора, платил негодяю за нападение на невинного и безобидного человека. Конечно, речь идет о событиях, случившихся сто шестнадцать лет назад, но Генри — мой предок, а это постыдный поступок. После ухода Крофт-Джонсов Джуд интересуется, над чем я так «скалился». Я рассказываю, и она тоже смеется.
— Это называется эмпатией, — говорит она.
Но как мои чувства отразятся на биографии Генри, над которой я работаю? Если мне не хочется откровенничать с двоюродным или троюродным братом, или кем он там мне приходится, то со всем миром — тем более. Или с теми его обитателями, читающими мои книги. Об этом я никогда не думал. Наверное, просто предполагал, что жизнь Генри окажется безупречной. Конечно, в определенном смысле выбор у меня есть: скучная (и далекая от истинной) биография, которую мало кто захочет прочесть, или увлекательная и правдивая история, которая будет хорошо продаваться. Хотя на самом деле в данный момент ничего выбирать не нужно — позже, если вообще придется.
Я нарисовал для себя таблицу, похожую на список улик, очень похожую на ту, что составляют следователи в старомодных детективах. На одной половине перечислил все, что знаю о Хендерсонах, какими они были в 1883 году, а на другой — все известные факты связи Генри с семьей Доусон-Брюэр. Я смотрю на таблицу каждый день, с тех пор как мы вернулись из Греции, но так и не могу понять, почему Генри хотел познакомиться с Хендерсонами и что у них было такого, что он не мог найти в другом месте. Я сосредоточил свое внимание на сыне Лайонеле и даже задавался вопросом, не был ли Генри гомосексуалистом — возможно, в этом была причина его дружбы с Гамильтоном — и не влюбился ли он в Лайонела. Однако с учетом многочисленных детей, появившихся затем у обоих, отсутствия каких-либо свидетельств гомосексуальности, не говоря уже о существовании Джимми Эшворт, от этой мысли пришлось отказаться. Я даже спрашивал себя: может, все дело в доме на Кеппел-стрит, где было спрятано что-то нужное Генри, о чем не подозревали хозяева, но знал он? Тоже как в старых (очень старых) детективных романах. Или старик Уильям Квендон обладал какой-то необходимой Генри информацией? Но и это предположение попадает в ту же категорию, что и предыдущее.
Сегодня я опять смотрю на две свои «детективные» колонки. Мы идем на ленч, надеясь найти уютное местечко, где можно перекусить, и пока Джуд собирается, я сижу за столом и разглядываю таблицу. И вдруг вижу. Это так просто и очевидно, что теперь, когда я знаю, мне становится стыдно, что я не сообразил раньше. Генри уже где-то видел Элеонор, влюбился и решил, что должен на ней жениться.
— В его-то возрасте? — замечает Джуд, когда мы идем к Бленхейм-террас.
— Но я же влюбился в тебя с первого взгляда.
Это чистая правда. Я увидел ее в противоположном конце комнаты на вечеринке в издательстве.
— Тебе было не сорок семь, — возражает она.
— Нет, на десять лет меньше. Но достаточно много, чтобы не делать глупостей, хотя с моей стороны это была не большая глупость, чем со стороны Генри.
На эти путаные мысли и неуклюжие фразы Джуд отвечает молчанием. Но когда я беру ее за руку, она с силой сжимает мои пальцы.
— Не могу представить, что ты, желая со мной познакомиться, нанимаешь человека, который ударит моего отца по голове.
Я отвечаю, что в наше время в подобных вещах уже нет необходимости. Я подошел к Джуд на той вечеринке, причем даже не нашел никого, кто нас представил бы друг другу, а просто спросил, не принести ли ей еще выпить, и мы проговорили до восьми, а потом я пригласил ее на ужин.
— В 1883 году это было бы невозможно, — говорю я Джуд. — Девушки не ходили на вечеринки одни, только с сопровождающим, и в любом случае они с Генри бывали на разных вечеринках. Нантер не мог подойти к ней на улице, не мог постучать в парадную дверь и поговорить с ней. Я так понимаю, он думал, что это единственный способ.
Джуд кивает, но как-то рассеянно. Я знаю, что не смог ее убедить. Но почти убедил себя. Генри устал от Джимми Эшворт, а Оливия ему наскучила. Почему бы и нет? Однажды, по дороге в больницу на Гоуэр-стрит, он видит хорошенькую девушку с копной роскошных белокурых волос, с изящной фигуркой и манерами леди. Она не выходит у него из головы, и он нанимает частного детектива — возможно даже Брюэра, — чтобы выяснить, кто эта девушка и где живет.
— Если все, что ты говоришь, правда, — возражает Джуд, когда мы поднимаемся по ступенькам ресторана, — то почему после смерти Элинор он перенес свою любовь на Эдит?
— По причинам, которые мы уже обсуждали. Они оба любили умершую, разговаривали друг с другом, часто оставались наедине. Кроме того, Генри настроился на брак. Ему было сорок семь, почти сорок восемь, попусту терять время он не мог, и, мне кажется, среди его знакомых было немного молодых женщин.
— И он не мог снова устраивать уличные нападения на стариков, чтобы познакомиться с их дочерями.
Нас проводят за столик, снаружи, как мы попросили, и официантка приносит нам по бокалу хорошо охлажденного — приятная неожиданность — белого вина. Мне приятно смотреть, как Джуд пьет вино, отклонившись от своего тоскливого здорового рациона, которого придерживалась до выхода из дома.
— Почему бы не вернуться к Оливии? — спрашивает она. — То есть, если ему нужна была жена. По словам ее сестры, Оливия хотела его заполучить. Почему же ему был нужен Хендерсон?
Я говорю, что Джуд выбрала довольно странную формулировку.
— Неужели? По-моему, разумно. Я читала мемуары — то есть в рукописи, на работе — о компании аристократов, бывших друзьями Эдуарда VII. Его старшего сына звали Альберт Виктор — ходили слухи, что он и есть Джек Потрошитель, но это другая история. В общем, он был помолвлен с принцессой Марией Текской, которую все называли Мэй. Он умер, а нежные чувства принцессы Мэй перешли на его брата. Они поженились и стали королем Георгом и королевой Марией.
— Да, но это был династический брак, — возражаю я. — Вероятно, принцессе сказали, что ей суждено выйти замуж не просто за определенного мужчину, а за будущего короля. Это ее обязанность.
— У Генри такой обязанности явно не было, — говорит Джуд и с рвением набрасывается на «Маргариту».
Стройная фигура моей жены никак не вяжется с ее страстью к пицце. Я более сдержан в еде и поэтому приступаю к салату «Цезарь».
— Он сам сделал выбор. Генри был нужен Хендерсон, как принцессе Мэй — будущий король. Готова поспорить, ее тоже никто не принуждал. Поставь себя на место дочери герцога из мелкого немецкого герцогства, ее прадед был королем: у нее от пневмонии умирает жених, будущий английский монарх. Представь себе ее разочарование — даже если она его не любила. И принцесса хватается за возможность выйти за следующего в очереди на трон.
Я говорю Джуд, что сравнения в ее словах становятся все более натянутыми, и с каждой минутой эта история все больше отличается от истории Генри. Георг V был завидной партией для кого угодно. В отличие от Эдит. Похоже, единственное ее достоинство состояло в том, что она была чуть красивее сестры. Джуд отвечает мне, что не может понять Генри, но готова поспорить — мотивы у него не добрые. Мы сидим на солнце, пьем довольно много вина, и возникает ощущение, что мы на Средиземном море. Джуд замечает, что если это глобальное потепление, то она всей душой «за», хоть это и неразумно.
Дома, чувствуя себя не совсем трезвым, я еще раз просматриваю дневник Генри за 1883 год, все записи, сделанные c конца лета, когда он обручился с Элинор, а также осенью, после ее смерти. Никакой загадки в них нет. Все записи свидетельствуют о его черствости и безжалостности, а также твердом намерении ничего не сообщать в дневнике, который могут найти и прочесть другие люди. В четверг 14 июня Генри порывает с Бато. «Чувствую себя неважно, отменил вечерний визит». В записи два дня спустя он сообщил: «Навестил мистера Хендерсона, справился о его здоровье», а 20 июня: «Ужинал с мистером и миссис Хендерсон». Затем следуют еще визиты на Кеппел-стрит, но любопытство вызывает лишь запись от 27 июля: «Консультация с миссис Хендерсон». По поводу чего она консультировалась? Все члены семьи, по всей видимости, были здоровы. Я предполагаю, что речь шла о Сэмюэле Хендерсоне, который после нападения Джозефа Брюэра мог страдать от головных болей и головокружения, и Луиза Хендерсон, любящая жена, волновалась за него. Похоже, я ответил на все вопросы и должен быть удовлетворен, но сомнения почему-то остались.
Позже Джуд задает вопрос, который я боялся услышать от Крофт-Джонса, когда мы вместе ужинали в Парламенте.
— Теперь, когда ты выяснил, что Генри был способен на преступный сговор и организовал нападение на старину Сэмюэла, не кажется ли тебе, что смерть Элинор тоже дело его рук?
— Хочешь сказать, он заплатил Байтфорду за убийство, а потом позволил, чтобы его повесили?
— Ну, да. Батфорду все равно не удалось бы избежать виселицы, ведь преступление совершил он, но мне кажется, что вместе с ним могли бы вздернуть и Генри.
Я говорю, что если наша теория — Генри встретил Элинор на улице и влюбился в нее — верна, то логичнее планировать женитьбу, а не убийство. Кроме того, между Байтфордом и Генри не прослеживается никакой связи.
— Между Генри и Брюэром тоже не прослеживалось никакой связи, пока ты ее не обнаружил.
Байтфорд сказал бы полиции, возражаю я. Ему было нечего терять. В полиции Эксетера он бы все рассказал — если бы было что рассказывать. Я не могу в это поверить, это выглядит неправдоподобным. Генри не был женат на Элинор, не был связан с ней нерасторжимыми узами. При желании он мог избавиться от нее, просто бросить. В конце концов, нечто подобное он уже проделывал, с Оливией.
— Это просто гипотеза, — говорит Джуд.
Пока она смотрит свой любимый воскресный телесериал, я обдумываю ее теорию. Предположим, загадочная «консультация» была связана вовсе не с Сэмюэлом и его головными болями. Предположим, Луиза Хендерсон призналась Генри, что у ее дочери Элинор имеется какая-то болезнь или дефект. Например, в детстве она получила травму и не может иметь детей. Но это не имеет смысла, потому что 27 июля, когда имела место консультация, Генри еще не был помолвлен с Элинор — он сделал предложение только в конце августа. Если Луиза Хендерсон сообщила, что Элинор не может иметь детей, или у нее есть какие-то другие аномалии — например, отсутствие влагалища, что тоже случается, хоть и крайне редко, — то Генри просто бросил бы девушку, что было для него не внове. Он уже бросил двух женщин — что помешало бы ему так же поступить с третьей? В любом случае, зачем Луизе рассказывать подобные вещи известному врачу, с которым она знакома всего шесть недель? В то время у нее еще не было оснований полагать, что Генри намерен жениться.
Или были? Может, уже тогда Генри спросил позволения обоих родителей ухаживать (или как там выражались викторианцы) за их дочерью? И только потом миссис Хендерсон попросила о личном разговоре и открыла ему неприятную правду. Но даже в этом случае выход у Генри был. Наверное, именно для этого Лиза и затеяла разговор. Я не знаю и, наверное, никогда не узнаю.
Вероника Крофт-Джонс относится к той категории женщин, о которых говорят, что они красивы для своего возраста. Высокая, стройная, с аккуратно подстриженными и равномерно окрашенными светлыми волосами, окружающими ее голову, словно шляпка «колокол» из золотистого бархата. Кожа у нее похожа на мятую папиросную бумагу, а губы накрашены темно-красной помадой, которая «кровоточит» в морщинки около губ. Вероника явно гордится своими ногами, и они все еще очень хороши, и сидит так, чтобы демонстрировать их, скрестив ноги и вызывающе покачивая туфелькой с нелепо высоким каблуком. Речь у нее очень правильная, аристократичная, но в то же время высокомерная.
Похоже, она осталась глуха к рекомендациям относительно поведения свекрови, особенно насчет назойливости и критики. Вероника Крофт-Джонс выражает надежду, что Джорджи кормит Дэвида тем, что он любит, и не забывает о нем теперь, после появления Галахада. Затем интересуется, почему в этом доме овощи варят, а не готовят на пару. Куда делась китайская пароварка, которую она подарила Джорджи на прошлое Рождество? Похоже, имя внука, Галахад, ей никогда не нравилось, что неудивительно, и когда она произносит его, в воздухе словно повисают кавычки. Ребенок слишком толстый, чего Вероника понять не может, потому что дети, находящиеся на грудном вскармливании, обычно не набирают лишний вес. Должно быть, Джорджи чем-то его прикармливает.
К моему удивлению Джорджи стойко переносит все это, отвечая на претензии: «Полагаю, вы правы» или «Я должна что-то с этим сделать». Дэвид единственный ребенок в семье, причем поздний, появившийся на свет после четырнадцати лет брака родителей, и совершенно очевидно — как подчеркивает Вероника, словно я сам этого не вижу, — что они «обожают» друг друга. Время от времени мать и сын обмениваются заговорщическими улыбками. Дэвид явно не становится на сторону матери, но и Джорджи не защищает. Мы с Джуд жадно смотрим на них, понимая, какое удовольствие получим потом, обсуждая все это.
Вероника несколько омрачает мое настроение, выразив надежду, что от нашего разговора тет-а-тет я не буду ожидать каких-либо семейных тайн, поскольку таковых не существует. Однако одну тайну я все же знаю и, когда придет время, намерен предъявить ей письмо Патрисии Агню. Мы садимся за стол. Джорджи великолепно готовит, и еда очень вкусная. Ужин портит лишь Вероника, вопрошающая, не забыла ли невестка, что у нее аллергия на спаржу и она не употребляет сливочного масла. Пьет она много. Не только для женщины ее возраста, а вообще много. Приличное количество джина с тоником до ужина, вино во время еды, ликер после, а в довершение — виски с водой.
Когда Вероника усаживается со своим стаканом, я жду, что она закурит, и гадаю, какой будет реакция Джорджи, но этого не происходит. Вероника громогласно объявляет — для тех, кому интересно, — что бросила курить три года назад, но не из-за легких или сердца, а потому, что от сигаретного дыма кожа становится морщинистой. Потом обращается ко мне:
— Видите ли, я не знала своего деда. Он умер задолго до моего рождения.
За восемь лет, говорю я ей. Мне это известно.
— Говорят, он был ужасно скучным. Не понимаю, почему вы хотите написать о его жизни.
— Не думаю, что он был скучным, — возражаю я. — Он был особенным, выдающимся человеком.
— Да, конечно, chacun а son gout[44], — говорит Вероника.
Затем Джорджи приносит Святой Грааль. Я настроен к Джорджи благожелательнее, чем обычно — вероятно, это сочувствие к угнетаемым, — и говорю, что у нее чудесный ребенок и она должна им гордиться.
— Надеюсь, ты не собираешься делать это на людях, — говорит Вероника, вероятно, имея в виду приближающееся кормление. Но Джорджи кротко отвечает, что уже покормила сына, что именно этим она и занималась, когда отлучалась на полчаса.
— Видишь ли, люди не всегда замечают твое отсутствие. Нельзя же все время быть центром внимания, — грубость Вероники меня удивляет.
Мы договариваемся о встрече через несколько дней. По дороге домой — вечер чудесный, и мы идем пешком — Джуд замечает, что не завидует тому, кто намерен провести время наедине с Вероникой Крофт-Джонс, но я успокаиваю ее тем, что потом никто из нас ее больше никогда не увидит.
17
Я перечитываю письма, которые Мэри Крэддок писала своей сестре Элизабет Киркфорд. Мэри жила в доме приходского священника в Фулеме, а Мэри — в Йоркшире.
Первое письмо датировано 1923 годом, через несколько месяцев после того, как Мэри вышла замуж за своего викария. Она пишет о жизни в Фулхэме, где еще сохранилось довольно много сельских пейзажей, о своей работе в приходе, о том, как она помогает в школе. Присутствуют также упоминания о визитах к матери и «девочкам», как она всегда называет своих сестер, Хелену и Клару. Тут чувствуется некоторое презрение, с которым в начале XX века замужние женщины относились к старым девам. Совершенно очевидно, в ее глазах они были «лишними женщинами», не нужными в этом мире, и Мэри удивляется, чем сестры заняты целыми днями.
Следующее письмо Мэри пишет уже беременной, или, как она выражается, «ждущей ребенка». Чувствует она себя прекрасно, в отличие от самой Элизабет, которую, по всей видимости, несколько месяцев тошнило по утрам. Выражается Мэри резко, в своей характерной манере. Женщины слишком много суетятся по поводу этого «совершенно естественного события». Однако она жалеет, что мать и девочки так далеко. Вероятно, другой конец Лондона кажется ей краем света.
В апреле 1924 года появляется ребенок. Та самая Патрисия Агню, написавшая загадочное письмо Веронике тридцать шесть лет спустя. Взглянуть на ребенка собралась вся семья. Элизабет, мать Мэри, присутствовала при родах и была «надежной опорой». Во всяком случае, Мэри радостно сообщает: роды прошли быстро и легко. Клара пока остается у нее в качестве «помощи». Мэри думает, что Клара с Хеленой никогда не выйдут замуж. «У них голова забита всякой чушью, в том числе тем, что они никогда не отдадут мужчине свою душу и тело». В любом случае, довольно грубо продолжает Мэри, такое решение вполне логично, поскольку все достойные молодые люди были убиты на войне. Клара читает книги отца. Должно быть, это «демонстрация», поскольку Мэри уверена, что сестра их не понимает. «Можешь себе представить, теперь она заявляет о своем желании стать врачом — естественно, никто не воспринимает ее слова всерьез».
Следующее письмо почти полностью посвящено их матери Эдит, леди Нантер, которая в 1925 году уже разменяла седьмой десяток. Мать, пишет Мэри, держится превосходно, всегда такая бодрая и практичная. Она, Мэри, по-прежнему считает, что Александр поступил постыдно, продав Эйнсуорт-Хаус «абсолютно через голову матери, без всяких угрызений совести». В ее возрасте переезд — дело нешуточное, но Эдит приняла это очень достойно. Разумеется, в глазах матери Александр не может сделать ничего дурного. Что думает Элизабет по поводу его женитьбы на «этой американке»? Мэри убеждена, что они жили вместе, что очень неправильно и возмутительно, но у нее хотя бы есть деньги, много денег, которые очень нужны Александру. Мама рада, что сын наконец кого-то нашел, хотя «я не понимаю, что она имеет в виду под словом “наконец”. Ведь ему еще нет тридцати».
Отец, умерший шестнадцать лет назад, в этой переписке упоминается всего один раз, причем в контексте похвалы матери. «Конечно, все знают, что только она могла выносить отца. Он никогда никого не слушал, кроме нее. Иногда я думаю, в какого тирана превратился бы отец, не будь он таким преданным мужем, не будь рядом с ним мамы, чтобы учить его мудрости и терпению, — пишет Мэри. — Мама снова взялась за кисть, начала рисовать и сделала милый портрет маленькой Патрисии».
Из всего этого проступает образ Эдит, добавляя новые черты к характеру Генри. По словам дочери — а она, несомненно, знала, что говорит, — он был предан жене, женщине, которую выбрал вместо ее погибшей сестры. И в этом нет ничего удивительного. У меня такое чувство, что я начинаю узнавать свою прабабку: разумная женщина, энергичная и практичная, с достаточно сильным характером, чтобы обуздать Генри. Она не испытывала перед ним благоговейного страха, не находилась всецело в его подчинении. Хорошая и любящая мать, не подверженная сильным страстям, не очень эмоциональная, но с явным стремлением к художественному выражению. Эдит начала фотографировать, как только фотоаппараты стали доступными. Она сделала сотни снимков, в основном своих детей, а также племянников и племянниц, детей ее брата Лайонела. Удивительным в этих фотографиях является полное отсутствие сентиментальности. За редкими исключениями объекты съемки выглядят не «слащавыми», а естественными и живыми. Каким-то образом ей удалось передать утонченность похожей на мать Элизабет, силу характера и язвительность Мэри, папиной дочки, а также скрытое бунтарство Хелены и Клары, так и не нашедшее позитивного выхода. Александр на фотографиях — уверенный в себе и спокойный мальчик, любимец матери, хотя я уверен, что она искренне пыталась скрыть это от остальных. В том числе, конечно, от маленького Джорджа, полуинвалида. На его фотографиях, сделанных матерью, хорошо просматриваются стоицизм и страдание мальчика.
Мне казалось, что из всех рисунков Эдит сохранился лишь портрет сестры, сделанный еще в юности. Но теперь я думаю, что две симпатичные акварели, висевшие в нашей столовой, когда я унаследовал дом, — тоже ее работа. Раньше мне это не приходило в голову — я на них почти не смотрел. Теперь я иду в столовую и разглядываю пейзаж, скорее всего йоркширские долины в окрестностях Годби, а потом — второй, явно Хэмпстед-Хит. Похоже, они не подписаны — по крайней мере, так кажется на первый взгляд, — но когда я присматриваюсь повнимательнее, то обнаруживаю крошечные буквы «Э. Н.» в правом нижнем углу каждой акварели. Что думала Эдит о муже, который с первого взгляда влюбится в ее сестру, а после ее смерти обратил свои чувства к ней? И в свадебное путешествие повез ее туда, куда собирался повезти сестру? Возможно, ей было все равно. Она хотела замуж, хотела детей, а тут ей предлагали богатого, успешного и известного мужа. Я уверен, в конце концов она его полюбила. Генри тоже ее полюбил — глубоко, как мы любим человека, обеспечивающего нам комфорт, душевное равновесие и безопасное убежище. Эдит подарила ему двух сыновей, которых он хотел. И мы можем быть уверены, что Эдит так и не узнала историю о наемном бандите и хитром плане, позволившем Генри впервые появиться на Кеппел-стрит.
Когда я спрашиваю Веронику Крофт-Джонс, не возражает ли она против записи нашего разговора, она бросает на меня странный, подозрительный взгляд, словно я предложил прослушивать ее телефон.
— Это выглядит так по-деловому, — говорит Вероника. — Так официально. Вы должны мне показать, что именно попадет в книгу. Я имею в виду мои слова.
Я обещаю. Сегодня на ней белый костюм из какой-то грубой ткани, с очень короткой юбкой. Она закинула ногу на ногу, и ее привычка покачивать свисающей ногой вызывает у меня раздражение. Я включаю диктофон, проверяю его и спрашиваю Веронику о ее родителях. Кем был Джеймс Бартлетт Киркфорд и как Элизабет Нантер с ним познакомилась? Она знает их историю и не собирается ее скрывать. Я когда-нибудь слышал о ее бедной тетке, Доротее Винсент? Мне вспоминаются поезда и смерть бедняжки Элинор. Да, киваю я, она жила в Манатоне, это сестра Сэмюэла Хендерсона. Так вот, говорит Вероника, Киркфорд был другом мужа ее дочери Летиции, хотя и намного младше его. Они познакомились в доме Летиции в Уимблдоне. «Папочка», как до сих пор его называет Вероника, служил в таможенном и акцизном ведомстве, но «имел и личное состояние».
Я спрашиваю о ее брате Кеннете. Нога снова начинает раскачиваться. Вероника отвечает, что совсем не помнит Кеннета, она была слишком маленькой, когда он умер.
— Дифтерия, — говорит она. — В те времена от нее умирало много детей. Видите ли, бедный папочка не мог пойти на войну, на Первую мировую, хотя прямо-таки рвался на фронт. У него была больная нога, но люди этого не знали, и кто-то прислал ему белое перо[45]. Просто отвратительно.
Вероника вышла замуж в 1946 году в возрасте двадцати девяти лет, но ее сын Дэвид родился только четырнадцать лет спустя. Я замечаю — дерзость с моей стороны, — что, по странному совпадению, именно столько лет прошло от свадьбы родителей Генри до его рождения. Нога медленно раскачивается, словно хвост разозленной кошки.
— Одно с другим никак не связано, — говорит Вероника. — Мы с мужем были друг для друга всем. Нам было абсолютно безразлично, появятся ли у нас дети.
Я говорю, что хочу показать ей письмо, и вытаскиваю то самое, написанное Патрисией после рождения Дэвида. Нога перестает раскачиваться и буквально шлепается на пол. Колени тесно прижимаются друг к другу.
— Где вы это взяли?
— У Дэвида. Оно было среди других семейных писем.
— Полагаю, вы хотите сказать, что получили его от Джорджины. Я нисколько не удивлюсь. В современном мире уже не осталось ничего личного. Я дала эти письма сыну исключительно для составления генеалогии.
Я спрашиваю, не откажется ли она ответить на один вопрос по поводу письма. Вид у Вероники явно возмущенный, а белое пергаментное лицо багровеет.
— Продолжайте, — говорит она. — Если мне не понравится вопрос, я не буду отвечать.
Она читает письмо так, словно видит его впервые.
— Чего боялась ваша кузина? Что могло быть не так с Дэвидом? Синдром Дауна?
— То есть, что он окажется монголоидом?[46] Сегодня всему дают такие нелепые названия… Да, именно это и подозревала Патрисия. По крайней мере, мне так кажется. Должна вам признаться, хоть она и моя кузина, это была очень глупая, истеричная женщина. — Вероника напрочь забыла, что разговор записывается. — Разве вы не видите, что это абсурд? Дэвид, самый умный человек в Лондоне…
Я снова перевожу разговор на ее бабушку и дедушку, и Вероника напоминает мне, что Генри умер задолго до ее рождения. А бабушку Эдит она очень любила, в основном потому, что та разрешала играть на пианино в гостиной дома на Альма-сквер, тогда как бабушка Киркфорд считала, что детей не должно быть видно и слышно. И еще она помнит, как Эдит рисовала.
— Понимаете, не с мольбертом, палитрой и всяким таким. У нее была коробка с набором красок. Она, Вероника, отказалась позировать перед бабушкой и закатила скандал. Эдит рассмеялась и попросила, чтобы ребенка оставили в покое, но мать Вероники рассердилась. Иногда Эдит рассказывала о Генри, причем всегда называла его «твой дорогой дедушка». Ее мать, Элизабет, не вспоминала о нем как о тиране, и Вероника не представляет, что имела в виду Мэри, предположив, от этого его удержало лишь вмешательство Эдит. Элизабет рассказывала, что отец проводил с дочерями больше времени, чем было принято для главы семейства в викторианскую эпоху, и часто развлекал их разными историями. Одна из них повествовала о путешествии капельки крови по человеческому телу и о препятствиях, которые ей приходится преодолевать по пути от сердца и обратно.
От этой истории меня начинает подташнивать. Тем не менее я пытаюсь выяснить подробности. Естественно, Вероника не помнит. Мать пыталась пересказывать эту историю, но не могла сделать ее такой же увлекательной, как у Генри: не могла оживить капельку крови и снабдить ее индивидуальностью, не знала анатомии. Все это мне очень интересно, поскольку заставляет взглянуть на Генри несколько под другим углом. Я не подозревал, что у него могла возникнуть потребность в общении с детьми.
По дороге домой мне в голову вдруг приходит одна мысль. Вероника ни разу не упомянула о своей старшей сестре Ванессе. Может, они не ладили? Я снова смотрю на составленную Дэвидом родословную и вижу запись о том, что Ванесса вышла замуж в 1945-м, на год раньше Вероники, но ни имени мужа, ни сведений о детях там нет. У нас Дэвидом три троюродных сестры со стороны Нантеров, все примерно моего возраста: дочь Патрисии, Кэролайн, а также Люси и Дженнифер, дочери Дианы, сестры Патрисии. А если у Ванессы были дети, то старше. Интересно, до какого колена следует включать потомков в биографию человека? Думаю, что всех, и поэтому мне нужно выяснить, чем занимались эти люди и с кем состояли в браке, если состояли. Последнее, вне всякого сомнения, будет следующим этапом в генеалогии Дэвида.
По случайному совпадению — это можно объяснить только совпадением — я узнаю об одном из этих родственников на третий день после возобновления работы Парламента. Сессия открывается в понедельник, 11 октября, а во вторник я встречаю Лахлана Гамильтона, который сидит в гостевой комнате пэров; рядом с ним на стуле кипа книг и документов, а его столик единственный, за которым есть свободное место. Он приветствует меня печальным кивком и освобождает стул, перекладывая стопку бумаг на пол. В комнате не протолкнуться, как всегда в эти дни — все ошиваются в баре. «Последние дни английского владычества», как выразился Лахлан.
— Не понимаю, зачем они приходят, — говорит он. — Это чистый мазохизм.
— Надеются, что в последнюю минуту случится чудо, — предполагаю я. — Кстати, а вы зачем приходите?
— Я мазохист.
— А я — нет. Мне просто интересно.
Лахлан молчит и криво улыбается, что с ним случается редко. Я спрашиваю, почему он не пьет, и в ответ на пожатие плечами заказываю ему виски, а себе — пиво. Напитки долго не приносят, а когда, наконец, появляется Эвелина, вид у нее усталый, но вежливость ей не изменяет. Лахлан приподнимает стакан на пару дюймов, кивает — это у него заменяет тост — и говорит, что вчера встретил моего кузена. В Вермонте. Мне почему-то казалось, что Лахлан не покидает пределы Соединенного Королевства, и поэтому для меня еще более странно прозвучали его слова, что они с женой ездили полюбоваться красками осени.
— И кто этот кузен?
— Парень по фамилии Корри. Доктор Корри. Доктор философии и врач.
— Никогда о нем не слышал.
— А он слышал о вас. Или, скорее, знает, что у него есть родственник из числа лордов. Мне он сказал только потому, что я тоже лорд. Нас познакомил мой друг. На вечеринке в кампусе, как они его называют, — осмелюсь предположить, вы знаете, что это такое. Мой друг нас представил: «Это доктор Корри. Джон, это лорд Гамильтон», а тот парень, Корри, сказал: «У меня есть кузен лорд. Может, вы знакомы. Его фамилия Нантер».
Я спрашиваю, американец ли он, этот кузен, и Лахлан отвечает, что наверное, — он там родился, его мать вышла за американского солдата. Похоже, Корри еще не исполнилось пятидесяти. Степень нашего родства он не знает, то ли троюродные, то ли четвероюродные братья. Мне это ничего не говорит — насколько я знаю, со стороны Нантеров у меня нет таких родственников, и я предполагаю, что Корри состоит в родстве с моей матерью.
— Он ученый, — говорит Лахлан. — Что-то связанное с генной терапией, точно не знаю.
Мы еще немного обсуждаем сумерки богов и строим предположения, что будут делать все эти завсегдатаи бара, когда лишатся мест в Парламенте и будут вынуждены вернуться домой и жить в своих поместьях. Если, конечно, у них они есть. Меня немного беспокоит, что кое-кому придется столкнуться с финансовыми трудностями, в том числе и мне. Мысли о сокращении дохода побуждают меня дойти до станции «Чаринг-Кросс» и поехать домой на метро, а не на такси. Джуд на кухне, пьет вино и готовит ризотто по рецепту из «Ивнинг стандард». Немногие женщины осознают (и пришли бы в ярость, если бы осознали), какими сексуальными выглядят в глазах мужчин, когда надевают фартук и встают у кухонной плиты. Понимание, что подобные чувства неуместны, что это антифеминизм, противоречащий моим принципам, неприемлемое отождествление «настоящей» женщины с домашними обязанностями — все это не имеет значения. Я подхожу к Джуд сзади, обнимаю и целую в шею, так что она едва не опрокидывает сковороду с ризотто. Естественно, в результате Джон Корри напрочь вылетает у меня из головы, и я вспоминаю о нем только через несколько часов, после доставивших нам обоим огромное удовольствие занятий любовью, когда Джуд спит рядом со мной сном праведника. Стараясь не шуметь, я спускаюсь к себе в кабинет и среди разбросанных на обеденном столе бумаг нахожу генеалогию Дэвида.
Я знаю, что Корри в ней нет, и спустился только для того, чтобы посмотреть, где он может быть — если может. Я почти убежден, что он родственник со стороны матери, из Роулендов — их у меня несколько десятков, и я с ними не знаком. Но, развернув лист, я вижу, что Джон Корри может быть сыном Ванессы. В том случае, если Ванесса вышла замуж за человека по фамилии Корри и родила сына. Последняя глава биографии должна быть посвящена потомкам Генри, и если этот ученый, этот Джон Корри, пошел по стопам прадеда, то получится любопытное примечание. Как бы то ни было, от генной терапии всего несколько логических шагов до того, чем занимался Генри, исследуя наследственность и факторы, которые, по его убеждению, переносились кровью.
Должен ли я встретиться с Джоном Корри? Наверное, нет. И уж точно нет, если придется поехать в Соединенные Штаты. Я не могу себе этого позволить.
Генри прожил девять лет в новом столетии и, по всей видимости, в эти годы практически отошел от дел. Всю жизнь он был здоровым и сильным человеком. По крайней мере, в его дневниках, письмах, а также в полученной им корреспонденции не упоминается ни одна болезнь серьезнее простуды. Единственная простуда, о которой пишет Генри, похоже, пришлась на тот день, когда он «спас» Сэмюэла Хендерсона, и могла служить предлогом раннего ухода — точно так же, как «нездоровье» помешало ему прийти на ужин к Бато.
Эдит сфотографировала его с Александром и Элизабет в саду Эйнсуорт-Хауса, и хотя даты на снимке нет, ее можно приблизительно определить по возрасту сына и дочери. Элизабет здесь высокая и красивая, темноволосая, с резкими отцовскими чертами лица, уже взрослая женщина восемнадцати или девятнадцати лет; Александру лет восемь — он крупный мальчик, по виду здоровый, в матросском костюмчике. Элизабет родилась в 1885-м, а ее брат — на десять лет позже, и это значит, что снимок сделан в 1903 году. Генри уже старик. Ему еще не исполнилось семидесяти, однако он словно стал ниже ростом, волосы поредели, лицо сморщилось. Он все еще профессорствует на кафедре патологической анатомии в Университетском госпитале, но, скорее всего, редко читал лекции. После выхода в свет его третьей книги прошло семь лет, но, судя по всему, Генри собирался опубликовать еще одну.
Эта книга упоминается в двух письмах от Барнабаса Коуча. В одном из них, датированном маем 1901 года, он спрашивает, как продвигается дело. «Зная вашу продуктивность, — пишет Коуч, — я не сомневаюсь, что если вы еще не приближаетесь к завершению своего труда, что кажется невероятным в свете грандиозности поставленной задачи, то — надеюсь, вы извините меня за такую дерзость — уже сломили его сопротивление». Вероятно, Коуч получил отповедь, причем в довольно резких выражениях, поскольку в следующем году он пишет: «Вы можете снова меня бранить, дружище, но я не могу удержаться от вопроса о том, как продвигается ваш Главный Труд. Восхищенные читатели — а это значит, все ваши читатели — с нетерпением ждут публикации и откровений, содержащихся на ее высокоученых страницах». Коуч явно умел подольститься, но мы никогда не узнаем, любил ли Генри лесть, или она его утомляла.
Ожидания почитателей не сбылись — magnum opus[47] так и не был опубликован. Начал ли его писать Генри, а затем бросил, или даже не начинал? Помешало пошатнувшееся здоровье или была другая причина? В сундуках не оказалось никаких рукописей, законченных или не законченных, и всего одно письмо от Коуча. На следующий год у отправителя письма случился удар, и он оставался нетрудоспособным до самой смерти. В жизни Генри наступил период, который переживают все люди, прожившие достаточно долго, когда друзья и знакомые болеют и умирают. Сначала Эрнст Виккерсли, иногда приходивший на ужин на Уимпол-стрит и Гамильтон-террас. Льюис Феттер и сэр Джозеф Базалгетт умерли в 1891 году, а Хаксли — в 1893-м. Теща Генри и тетка его жены Доротея Винсент были еще живы. Они обе принадлежали к его поколению, но Луиза Хендерсон была младше. Его шурин Лайонел процветал вместе с семьей, но Кэролайн Гамильтон Ситон — вероятно, первая любовь Генри — умерла в возрасте шестидесяти двух лет от рака матки. Письмо от ее мужа сообщает Генри о ее болезни и смерти, и в нем упоминается «долгая дружба». По-видимому, семьи поддерживали связь или, по крайней мере, переписывались. Однако больше никаких писем от Кэмерона Ситона не сохранилось.
С 1903 года записи в дневнике Генри становятся короче и реже. Их может разделять несколько недель. Все отраженные в дневнике события — это светские мероприятия, дни рождения членов королевского семейства, свадьбы и похороны. В записях Генри ни разу не упоминаются дни рождения детей и, если уж на то пошло, жены. Больше времени он, похоже, посвящал заметкам в блокноте. Я решил, что мне следует их прочесть, несмотря на необходимость пользоваться лупой. Именно этим я теперь и занимаюсь.
Меня постигло разочарование. Это довольно скучные, типичные для викторианской эпохи (если быть точным, то теперь уже эдвардианской) рассуждения о тщетности человеческих желаний, о путях славы, ведущих к могиле, и об ослаблении веры в Бога. В тексте часто появляются абстрактные добродетели, часто с прописной буквы — Храбрость, Честность, Решимость, Скромность. Я вспомнил о фресках Дайса в комнате для облачения королевских особ, где изображены подобные аллегории, и подумал, не они ли вдохновили Генри. В этих рассуждениях нет ничего примечательного. По крайней мере, я так думал, когда в раздражении собирался закрыть блокнот. Нудный Генри. И тут кое-что мне вдруг показалось странным. Вряд ли вы купите блокнот для заметок и размышлений, заполните его до конца последней страницы, а затем бросите свое занятие. Но именно так, похоже, и поступил Генри. Последняя строчка в блокноте располагается в самом низу последней страницы. Вот она: «Скромное сердце быстрее приведет к мирскому успеху, чем высокомерие». На этой фразе Генри остановился.
Вполне возможно, что это последняя строчка очерка Генри о Скромности, и вполне возможно, что Генри, с его необычайно дисциплинированным умом, дошел до конца блокнота, закончил очерк и больше ничего не писал. Фраза о «скромном сердце» могла быть завершающей, вроде реплики на уход. Но не обязательно. Трудно сказать. А может, вероятнее другое: он продолжил во втором блокноте? Продолжил рассуждения о скромности или начал новый очерк? Неужели кто-то способен прервать поток мыслей просто потому, что закончился блокнот? Но в таком случае, где следующий?
Решив написать биографию Генри, я опустошил все сундуки, оставшиеся от него и привезенные в этот дом Эдит. На чердаке были не только они, а еще всякие коробки, ящики и другие сундуки, с вещами, явно не принадлежавшими Генри — женской одеждой, украшениями, старыми картинами, пачками фотографий. Все это я тоже перебрал, но не очень внимательно — тогда мне казалось, что в этом нет смысла. Но я давно собирался снова все пересмотреть, разобрать и отдать более или менее ценные вещи в благотворительный магазин.
И вот время пришло. И не ради наведения порядка или потому, что стало не хватать места, а в попытке найти второй (а может, и третий?) блокнот.
18
Чердак меня разочаровал. В этот раз, перебирая вещи, я вытаскивал всё из ящиков и коробок — стопки платьев Эдит, пропахших камфарой, меховые накидки и короткие жакеты (кажется, они называются спенсерами), а также шляпы, набитые коричневой оберточной бумагой. Неужели шарики от моли могут пролежать сто лет, лишь чуть-чуть сморщившись? Эти пролежали. Теперь мне все время чудится их запах.
От дела меня отвлекали фотографии — так бывает всегда, даже если на них незнакомые люди, о которых ты никогда не слышал. Некоторые Эдит снабдила наклейками или написала имена на обороте: Квендоны, кузен Дорнфорд, школьные подруги дочерей, Киркфорды и Крэддоки. Здесь школьные учебники детей — по крайней мере, часть, — а также альбомы для рисования, но не Эдит, а людей, явно лишенных таланта. Должен ли я все это хранить?
Разумеется, я не нашел пропавший блокнот. Если он существовал. Если Генри закончил тот очерк. Если просто не бросил, добравшись до конца последней страницы, — уставший, постаревший и лишившийся иллюзий, решивший, что хорошего понемножку. Так думает Джуд. Она убеждена, что если второй блокнот и существовал, то хранился бы вместе с первым. Ее больше интересует одежда. Нельзя сказать, что она любит наряжаться, как Джорджи Крофт-Джонс, просто считает — взглянув на платья, — что одежда Эдит, хорошо сохранившаяся и не побитая молью, вероятно, имеет большую ценность. Возможно, ею заинтересуется какой-нибудь музей. Или их можно продать, предлагаю я; в последнее время мои мысли заняты тем, как добыть где-нибудь денег.
От Дженет Форсайт приходит еще одно письмо, а в него вложена фотография. На снимке Лен Доусон и Джимми Эшворт Доусон, в зрелом возрасте. Она сидит, он стоит позади нее чуть справа. На ней черное шелковое платье, жесткое, блестящее и, похоже, неудобное, но Джимми все еще красива, а ее густые волосы не тронуты сединой. На лице Лена родинка или родимое пятно. Это приземистый полноватый мужчина с головой, слишком большой для его тела. Не урод, но и завидной партией его не назовешь. Заменитель, своего рода компенсация. А главное, отец для ребенка. Должно быть, иногда она вспоминала годы, проведенные с Генри, и сравнивала с мужем бывшего любовника, который был как Гиперион против Сатира.
Сегодня вопросы начинаются чуть позже, потому что Палате представляют двух новых пэров, в том числе Джулиана Брюэра, с которым я познакомился в Греции. Я сижу в зале заседаний на своем обычном месте, вполуха слушаю, как лорд Макнелли со скамей либерал-демократов задает вопрос о футбольных хулиганах, и одновременно перечитываю полученное вчера письмо. Оно от Барри Дреднота, миллионера, и я уже на него ответил. Более того, я договорился с ним о встрече, сегодня в половине шестого, полагая, что к тому времени мы уже закончим обсуждать законопроект о реформе в Палате лордов.
Дреднот утверждает, что ответил на письмо, которое я написал ему больше года тому назад, но конверт с ответом упал за картотеку в его кабинете. За эту оплошность, довольно напыщенно прибавляет он, его помощник получил «выговор». Что я должен о нем подумать, если он не ответил на вполне разумную просьбу посетить дом, некогда принадлежавший моему прадеду? То, что я о нем думаю, звучит неприлично, но мы тут можем себе это позволить. Дреднот был рад моему сегодняшнему звонку и сегодня после обеда с удовольствием проведет меня по особняку. К счастью, он сегодня дома, поскольку «в данный момент дела не требуют настоятельно моего присутствия». Я кладу письмо в карман и слушаю лорда Бассама, заместителя министра внутренних дел, который замечает, что начинает чувствовать себя спортивным судьей. Потом он говорит, что его десятилетний сын каждый день напоминает ему о глупости хулиганов из числа болельщиков, и это заявление вызывает приглушенный одобрительный шепот со всех сторон.
Теперь мы приступаем к законопроекту о Палате лордов и двум предложениям, за которые предстоит голосовать. Герцог Монтроз встает и говорит, что, несмотря на так называемую простоту, которой «так гордится правительство», законопроект совсем не прост. Монтроз выглядит настоящим герцогом, высокий красивый мужчина с превосходной фигурой (по мнению Джуд), и когда я вижу его, то всякий раз вспоминаю о его предке, преданном Карлу I, называвшим его «великим, добрым и справедливым» и в награду за верность принявшим ужасную смерть. Нынешний герцог вкрадчивым голосом высказывает предположение, что это гибридный билль и, следовательно, его следует направить на экспертизу. Сидящие за столом клерки в париках достают свой «Эрскин Мей» (большой авторитет в области парламентской процедуры) и начинают его листать. Герцог официально вносит свое предложение, и слово берет лорд Клиффорд Чедли. Предок лорда Клиффорда был одним из пяти министров Карла II — Клиффорд, Эшли, Бэкингем, Арлингтон и Лодердейл — из начальных букв фамилий которых сложили слово CABAL[48]. Лорд Маколей писал, что они «вскоре покрыли этот термин дурной славой, и после них он употреблялся только как бранное слово». Лорд Клиффорд совсем не похож на своего предка, говорит, что с радостью присоединяется к благородному герцогу Монтрозу. Мы тут исключительно вежливы, что вызывает смех в Палате общин. То есть среди тех, кто признает наше существование.
Лорд Клиффорд дает определение гибридного билля — к огромному облегчению большинства, которое все еще не знает, что это такое. Он объясняет, что гибридность связана с тем, что в общественном билле проводится различие: как билль отразится на частных интересах одного или нескольких членов той или иной группы людей и как он отразится на частных интересах остальных членов данной группы. Другими словами, законопроект подразумевает разное отношение к разным пэрам. Сидящая рядом со мной женщина, баронесса, почти решившая поддержать правительство, шепчет, что невооруженным глазом видно: эти предложения не что иное, как пустая трата времени, и предназначены они для того, чтобы задержать реформу Палаты лордов.
Меня клонит в сон, и я выхожу из зала, чтобы взбодриться. Если мне не удается побороть сонливость в сорок четыре года, что станет со мной в шестьдесят четыре? Буду ли я тебе еще нужен, как пели «Битлз»? Конечно, я не буду нужен, меня упразднят двадцатью годами раньше. По-видимому, через три недели. Вернувшись, я успеваю к выступлению всегда остроумного графа Феррерса, который сегодня еще остроумнее. Подобно персонажу Беннета, он находится здесь «ради великой цели подбодрить вас всех», и я надеюсь, что он будет среди тех, кто останется в палате — по крайней мере, во время переходного периода — после моего ухода. Теперь Феррерс предложил более занимательное объяснение гибридности законопроекта, чем лорд Клиффорд, пространно объясняя, что если его вместе с генеральным прокурором пригласили отдохнуть в Уэльсе и они оба едут на вокзал Паддингтон и покупают билеты в первый класс до Кардиффа, затем генерального прокурора, направляющегося в Кардифф, снимут с поезда в Суиндоне, это будет неправильно, но в точности то же самое происходит с наследственными пэрами. Все пэры имеют королевский рескрипт, своего рода эквивалент билета первого класса, и поэтому никто из нас не может быть высажен на полпути. После того как лорд Онслоу, еще один остроумец, которого стоит послушать, говорит, что намерен выполнить свой долг перед народом и его нельзя закрыть, как мелкий магазинчик в Сканторпе (это место он часто упоминает с каким-то злорадством), а лорд Пирсон указывает, что само слово «пэр» означает «ровня», мы приступаем к голосованию и подавляющим большинством отклоняем предложение.
Уже почти пять часов, и я выскальзываю из зала и еду на метро до станции «Сент-Джонс-Вуд», естественно, замечая, что Юбилейная линия все еще не дошла до Вестминстера и мне по-прежнему приходится делать пересадку. Когда линия заработает, пользоваться ею я уже не буду. Как бы то ни было, с платанов на Гамильтон-террас еще не облетели листья; темно-зеленые и потрепанные, они с шелестящим звуком трущейся кожи трепещут на ветру. В палисаднике Эйнсуорт-Хауса, или Хорайзон-Вью, две пальмы прикрыты большими прозрачными пластиковыми мешками — для защиты от морозов, которые предсказывались, но так и не наступили. Внешние ворота в ограде уже отперты для меня. Я поднимаюсь по ступенькам под красно-синим стеклянным навесом, подхожу к несуразной двери, больше похожей на окованный железом вход в средневековый замок, сразу за подъемным мостом, останавливаюсь и звоню.
К счастью, Эдит много раз фотографировала дом не только изнутри, но и снаружи. Тогда дверь была обшита крашеными деревянными панелями, с травленым стеклом в центре верхней половины. И я не сомневаюсь, что звонок приводился в действие железным рычагом и звучал приятнее, чем этот, чирикающий, как птенцы в гнезде. Дверь открывает сам Барри Дреднот, почти сразу. Это довольно толстый мужчина, но мускулистый и крепкий, а его лицо прекрасно подошло бы и женщине: маленький нос и пухлый рот с короткой верхней губой придают ему немного зловещий вид. Волосы, уже отступившие от массивного лба, довольно длинные, темно-каштановые и вьющиеся. На нем джинсы, поддерживаемые ремнем ниже живота, и ярко-красная рубашка поло с логотипом известного дизайнера на нагрудном кармане. Я понимаю, что в своей униформе, принятой в Палате лордов — темно-серый костюм, белая рубашка и галстук приглушенных тонов, — выгляжу чертовски официально. Может, после принятия закона об упразднении Палаты лордов я тоже буду так одеваться. Может, мне даже захочется.
Он снова извиняется за потерю письма, только теперь это не картотека, а щель за ящиком письменного стола его помощника. Похоже, самого помощника в доме нет — как и жены, ребенка или вообще кого-либо. Мы с Барри Дреднотом одни, и не будь я на шесть дюймов выше и лет на пять моложе, то мне бы это не понравилось. Его фамилия немного вводит в заблуждение[49]. Осмелюсь предположить, что сам он ничего не боится, однако вселяет страх в того, кто находится рядом. Я не могу утверждать, что ничего не боюсь в его присутствии. Будь я женщиной, то сказал бы, что не хотелось бы встретиться с ним ночью в глухом переулке.
И дом — теперь, когда я вошел внутрь, — не оправдывает моих ожиданий. Как выразилась бы Джуд, он не производит впечатления дружелюбного, хотя здесь тепло, даже слишком тепло на мой вкус. Дом был относительно новым, когда его купил Генри, вероятно, ему было не больше двадцати лет, а 60-е годы XIX века не назовешь периодом расцвета архитектуры. Комнаты большие, но все же недостаточно для таких высоких потолков. Дреднот, или нанятые им дизайнеры интерьера, стремились воссоздать викторианскую атмосферу, пропущенную через призму ХХI века, а не такой, какой она была на самом деле или какой видится мне. Хуже того, получилась почти пародия на интерьер 1860-х — так и видишь, как эти дизайнеры смеются в кулак. Все слишком вычурно, слишком ярко и грубо — даже потолочные карнизы выкрашены в розовый, зеленый или золотистый цвет. Ковер в гостиной клетчатый, в стиле Стюартов, словно должен вызывать ассоциации с Балморалом[50]. Восковые фрукты и чучела тропических птиц под стеклянными колпаками, вышитые салфетки на дверцах буфета, ламбрекены (не знаю, как их еще назвать) на каминных досках, бюсты римских императоров и томных девушек, изобилие венецианского стекла и такое количество столиков, что у обычного человека не хватит чайных чашек.
— Вполне в духе времени, — говорит Дреднот. — Согласны?
Я отделываюсь неопределенным кивком. Если бы он смог прочесть мои мысли, то вышвырнул бы меня вон. Потом Дреднот называет меня «милорд», что окончательно лишает меня дара речи.
— Сюда, милорд, — говорит он и проводит меня на кухню, которая меня не очень интересует, поскольку так же отличается от кухни времен Эдит, как ламинированный пластик от кованого чугуна. Только это не ламинированный пластик. Все поверхности сделаны из полированного розового гранита. С потолка свисают сверкающие медные сковородки и пара штуковин, похожих на окорока. А вот это пластик, объясняет Дреднот, сначала предложив мне угадать, настоящие они или нет. Я не угадал. Сказал, что с такого расстояния трудно судить, но хозяин с ухмылкой возразил, что такой ответ равнозначен признанию их настоящими.
— Еще никто не угадал, — торжествует Дреднот. — Единственный способ определить — попытаться отрезать кусочек ножом. — Он хитро улыбается. — Хотел бы застать кого-нибудь за этим занятием.
Я снова испытываю благодарность к таланту Эдит как фотохудожника. Она сфотографировала каждую комнату в этом доме. Я почти жалею, что не захватил эти снимки с собой, хотя показывать их хозяину дома было бы жестоко — настолько не похожи они на то, чего он добился.
— Не возражаете, милорд, если я пойду вперед? — спрашивает Дреднот, и мы поднимаемся по лестнице.
Все-таки в доме кто-то есть. Это смуглая женщина, которую я видел в окне кабинета Генри. Она убирает одну из спален — по крайней мере, вытирает пыль, поскольку пылесоса нигде не видно. При появлении Дреднота она замирает, опустив голову. Хозяин знает, чего ждет женщина, и оправдывает ее ожидания.
— А теперь беги, живо, — говорит он. — Топ, топ.
И женщина действительно бежит. Дреднот с каким-то странным удовлетворением смотрит ей вслед. Мы входим в комнату, ее хозяин особняка называет главной спальней. На самом деле она занимает всю фронтальную часть дома и получилась путем объединения старой хозяйской спальни и еще одной. Здесь появились на свет все дети Генри. Не сохранилось никаких сведений о том, были ли роды Эдит тяжелыми или легкими, всех ли она доносила до срока и не рождались ли у нее мертвые дети. Несомненно одно — никто из детей не появился на свет на этой громадной кровати на четырех столбиках, с фестонами из полосатого атласа и бледно-розовыми кружевами. Внутрь балдахина Дреднот поместил эротическую картину с сатирами и нимфами — хорошо еще обошелся без зеркал на потолке. Он явно ждет от меня восхищения, но я с трудом выдавливаю из себя:
— Очень мило.
Кто здесь спал, мне неизвестно. В доме, по всей видимости, было десять спален, считая комнаты слуг на третьем этаже, однако одна стала кабинетом Генри, а при Дредноте (или раньше) еще четыре спальни превратили в ванные комнаты. В одной из них жалюзи на окне разрисованы павлинами, а над умывальником подвешена связка зеленых пластмассовых бананов. Окна кабинета — именно его я хотел увидеть — выходят в сад, где в глубине виднеются фигурно постриженные растения в виде тропических животных, и на улицу перед домом, поскольку кабинет занимает весь правый угол второго этажа. Это по-прежнему кабинет — теперь Барри Дреднота. Хозяин заполнил комнату компьютерами, принтерами, мониторами, копировальными аппаратами и другими чудесами техники, и ее невозможно представить такой, как на фотографиях Эдит. Где теперь все это — красное дерево и коричневый бархат, позолоченная бронза и шинуазри[51], кожа и инкрустация золотом, перьевые ручки и чернильницы, турецкий ковер, медвежья шкура на полу, книги и хрустальный череп? Унесено ветром. Исчезло в домах других людей, в антикварных магазинах на Черч-стрит и лавках старьевщиков в районе Кенсал Грин, размолото жерновами фабрик по переработке отходов.
Барри Дреднот описывает мне — по крайней мере, я так думаю — огромное количество принадлежащего ему программного обеспечения и компакт-дисков, позволяющих делать почти все «онлайн». Все это мне внове, но я киваю и говорю, что звучит очень интересно, — мама научила меня так отвечать, когда мне показывают произведение искусства, которым я не могу искренне восхищаться. Хочу ли я подняться на верхний этаж? Я качаю головой и отвечаю — надеюсь, вежливо, — что уже увидел все, что хотел.
— Приходите в любое время, милорд, — говорит Дреднот. — Достаточно позвонить. Не желаете сами пройтись по дому и сделать снимки?
Он поражен, узнав, что я не взял с собой фотоаппарат, и смотрит на меня так, как вы посмотрели бы на Рипа ван Винкля[52], если бы встретили его на улице.
— Вам, конечно, виднее. Но я настаиваю, чтобы в самом ближайшем будущем вы привели своего партнера на ужин. У вас есть партнер?
— У меня есть жена, — отвечаю я, тут же представив реакцию Джуд на идею убить здесь целый вечер.
Дреднот повторяет свое предложение и говорит, что его партнер свяжется с моим партнером и согласует дату.
— Беру с вас слово.
Этот дом меня полностью вымотал, и ощущение, что я выгляжу жалким ничтожеством, еще больше усиливается, когда я настаиваю, чтобы Дреднот перестал называть меня милордом.
— Меня зовут Мартин.
Он так радуется, что во время церемонии прощания не меньше пяти раз называет меня по имени. Я иду домой по Эбби-роуд, и когда открываю дверь, то обнаруживаю, что Джуд не одна. Здесь Дэвид и Джорджи со Святым Граалем, и все, кроме него, пьют шампанское. Вероятно — если судить по словам Джорджи, чьи комментарии по поводу свекрови Дэвид не обсуждает, — они празднуют отъезд Вероники. Наконец, она отбыла домой, в Челтенхем. У Джуд загадочный вид. В последнее время она напускала на себя таинственность, словно скрывала какой-то секрет, хоть и приятный, но я понятия не имею, что это может быть, поскольку она явно не беременна. Джуд сочла необходимым проинформировать меня, когда у нее начались месячные. Как бы то ни было, она снова начала принимать противозачаточные таблетки, после шестимесячного перерыва. Так что я с удовольствием смотрю, как Джуд пьет шампанское и веселится, забыв на время о воздержании от алкоголя и диете.
До сей поры она старалась не обращать особого внимания на Святой Грааль, и я знаю, что иногда ей больно даже смотреть на него. Но теперь малыш хныкает и плачет в своей корзинке, похожей на ту, в которой нашли Моисея, и Джорджи вытаскивает его оттуда, а Джуд сажает его к себе на колено, обнимает, говорит с ним. Галахад перестает плакать и улыбается, глядя ей в лицо. Должен признаться, он и вправду очень красивый ребенок, с густыми волосами, темными и блестящими, и ярко-синими глазами. Из них двоих получилась прелестная картинка, прямо мадонна с младенцем — на Джуд свободное платье из синего шелка, а волосы — того же цвета, что и у ребенка, словно его мать она, а не Джорджи, — подняты вверх и собраны на затылке. Я восхищен и не в силах отвести от нее глаз; я почти убедил себя, что ребенок нам нужен, а я все выдержу и в конечном итоге увижу такую же сцену у своего камина.
И все же мне приходится взять себя в руки и отчитаться о своем визите к Дредноту. Джуд говорит, что не собирается на ужин в Эйнсуорт-Хаус, или Хорайзон-Вью, и выражает надежду, что я не давал никаких обещаний. Я рассказываю Дэвиду о Джоне Корри, нашем родственнике, специалисте в области генной терапии, с которым познакомился Лахлан, и, к моему удивлению, Дэвид начинает вилять. В отличие от Джорджи. Она возбуждена и разражается громким смехом.
— Я знаю, кто это, — говорит она. — Сын сестры моей уважаемой свекрови, той, которая отбила у нее жениха.
— О, Джорджи, — беспомощно бормочет самый умный мужчина в Лондоне.
— Что «Джорджи»? Ты сам рассказал мне эту историю. И не предупреждал, что я обязана молчать.
— На свете существует такая вещь, как сдержанность, — бормочет Дэвид.
Но сдержанности не позволяют взять верх, и история всплывает наружу — усилиями обоих Крофт-Джонсов. Теперь я знаю, почему Вероника не рассказывала о Ванессе и почему по ее настоянию имя сестры никогда не упоминалось в доме. Семейная ссора, длящаяся уже пятьдесят четыре года.
Вероника обручилась с американским военнослужащим по имени Стивен Уэнтуорт Корри в 1944 году, когда ей было двадцать семь лет. Ее сестра Ванесса, пятью годами старше и тоже записавшаяся в WAAF, женскую вспомогательную службу ВВС, служила далеко от дома Киркфордов в Йорке. Она приехала домой в отпуск в то же время, когда Вероника встречалась с Корри, и они полюбили друг друга. Вместо того чтобы признаться Веронике, Ванесса и Стивен тайно поженились в Лондоне, и правда раскрылась только после того, как Корри в конце войны вернулся в Соединенные Штаты.
— С моей матерью очень жестоко обошлись, — говорит Дэвид.
С ним соглашается даже Джорджи, но прибавляет, что это пошло Веронике на пользу.
— Удивительно не то, что ему повезло и он избавился от Вероники — это как раз можно понять, — а то, что он предпочел женщину, которая была на пять лет старше ее. Даже старше его.
— Какое отношение имеет возраст к любви? — спрашивает Джуд, но из всех присутствующих только я знаю, что она цитирует Нэнси Митфорд.
Никто ей не отвечает. Джорджи обычно игнорирует замечание или вопрос, которые она не понимает. Тем не менее моя неприязнь к ней постепенно проходит. Наверное, потому, что Джорджи показала себя такой человечной и ранимой. Должно быть, за тот месяц, что у них гостила Вероника, ей пришлось перенести много унижений.
— Как бы то ни было, пора тебе простить бедную Ванессу, — говорит она мужу. — Это не твоя война.
— Вероятно, она уже умерла, — отвечает Дэвид. — Ей должно быть уже восемьдесят семь.
Джорджи беспечно говорит, что в наше время это пустяки и называет ресторан на Бленхейм-террас, предлагая всем там поужинать. Хозяин ресторана «хорошо относится к детям», и поэтому нам можно идти вместе с Галахадом. Она придерживается той точки зрения — как в свое время мы с Салли в отношении Пола, — что маленького ребенка не возбраняется брать с собой в ресторан, поскольку он вынужден оставаться в своей переносной колыбельке, а когда малыш начнет ходить, то следующие пятнадцать лет вам будет не до этого.
Меня не очень привлекает эта идея, но я вижу, что Джуд хочется. По дороге мы — к неудовольствию Дэвида — обсуждаем семейные ссоры, замужество Вероники, которая с горя вышла за его отца, и строим предположения, сколько детей могло быть у Ванессы. Я прихожу к выводу, что нужно обратиться в Вермонтский университет в Берлингтоне, и там мне помогут найти Джона Корри.
У нас дома авария с водопроводом: труба неожиданно протекла и часть штукатурки на потолке верхнего этажа обвалилась. Набирая номер водопроводчика, к которому обычно обращаюсь, я вспоминаю, как во время обсуждения реформы Палаты лордов баронесса Кеннеди сказала, что никогда не пригласит к себе наследственного водопроводчика, причем она подозревает, что многие жители страны разделяют ее мнение. Аналогия понятна. Нужно ли давать человеку работу только потому, что это место занимал его отец — другими словами, был наследственным пэром? Когда очередь доходит до меня, я возражаю, что всегда поступал именно так и буду поступать впредь. Мой отец — насчет деда я не знаю, привычки Александра мне неизвестны — приглашал отца моего водопроводчика, и именно поэтому я приглашаю его. Тот же принцип можно применить к наследственному пэрству. В ответ слышатся негромкие одобрительные возгласы, и кто-то говорит, что именно поэтому старшие сыновья сидят на ступенях трона: войти в курс дела, прежде чем отец отправится в лучший мир.
Приходит водопроводчик. Он больше похож на ученого, чем его отец: делает невероятное заявление, что протечка вызвана «спонтанной мутацией» трубы. Пока он работает, я сижу за своим столом и еще раз перебираю фотографии комнат Эйнсуорт-Хауса, сделанные Эдит — настоящий викторианский интерьер. Водопроводчик окликает меня своим обычным: «Вы тут?», и мне приходится идти наверх и столкнуться с множеством вопросов, ответа на которые я не знаю — о замене свинцовых труб на медные и о месте прокладки электрических кабелей.
Сегодня тихий день — так говорят в прогнозах погоды, не обещая сырость или ветер, — и почти все утро я просто убиваю время, изучаю фотографии, вписываю в генеалогию имена Стивена Корри и Джона Корри, ставя рядом с последним знак вопроса, а после обеда отправляюсь в Парламент. По-видимому, сегодня день Св. Криспина, и Лахлан изумляет меня, цитируя речь Генриха V накануне битвы при Азенкуре. Разумеется, не в зале заседаний, а в баре, где все умолкают и слушают его голос, который становится хриплым от заполняющего комнату дыма.
— Я всегда так делаю, — говорит Лахлан, когда аплодисменты смолкают, и мы приносим свои напитки к столику в углу. — Вроде как чувствую себя обязанным им. То есть королю Гарри, Бекфорду и Эксетеру, Солсбери и Глостеру. Все они были здесь. Были. Они всегда «под звон стаканов будут поминаться»[53].
У него на глазах слезы. Я вспоминаю, что Лахлан надеется попасть в число тех, кого сочтут достойными остаться в Палате на переходный период, и спрашиваю, при себе ли у него манифест. Он приободряется и вытаскивает лист бумаги, больше похожий не на манифест, а на резюме. Для выборов наследственных пэров были разработаны правила, и они гласят, что «каждый кандидат может представить секретарю Палаты лордов до семидесяти пяти слов в поддержку своей кандидатуры». Лахлан сообщает, что его зовут Лахлан Джон Эндрю Гамильтон, что ему шестьдесят один год и он восемнадцатый лорд Гамильтон из Лалоха. У него всего одна жена — редкость в наши испорченные времена, — Кэтлин Роуз Гамильтон, и у них шестеро детей и пятнадцать внуков. Я не подозревал в Лахлане подобного чадолюбия. Я читаю, а он с мрачным видом потягивает виски. Далее манифест сообщает, что у Гамильтона два инженерных образования, четыре почетные степени, он покровитель, президент или председатель одиннадцати организаций, занимал какую-то должность в ООН, любит Роберта Бернса, кельтские языки и гольф. Семьдесят четыре слова. Будь я тори, я бы голосовал за него — о чем ему и сообщаю.
Не отвечая, Лахлан забирает у меня манифест, а затем говорит, что не забыл о моем интересе «к тому парню, доктору Корри». Он спросил свою жену, у которой память лучше, чем у него. Кэтлин Гамильтон прекрасно помнит американского доктора, а также то, что он сотрудник Пенсильванского университета, имеет степень по медицине и философии. Я решаю, что напишу ему, как только вернусь домой.
Но я еще не иду домой. Подобно Адаму и Еве после грехопадения и до изгнания из рая, я собираюсь совершить небольшую прогулку по своей земле, из которой скоро буду изгнан. Приняв решение не участвовать в выборах — несмотря на свои чувства, я все же понимаю, что никто не имеет права управлять страной только потому, что этим занимались его отец и дед, — я также дал себе слово не приходить сюда после того, как лишусь на это законного права. Сидеть на галерее или на ступенях трона и, тоскуя, ждать, пока кто-нибудь из пожизненных пэров или оставшихся девяносто двух наследственных пэров предложит мне выпить, — это не по мне. Если я и вернусь сюда, то только в качестве гостя на ленч или ужин, но даже такие предложения буду принимать редко.
Коридор, где располагаются комитеты, не представляет исторической ценности, и я не даю себе труда подняться по лестнице. Вместо этого вешаю пропуск себе на шею — необходимая мера, когда входишь «на чужую территорию», — и шагаю по мраморному полу между статуями к центральному вестибюлю. Палата общин заседает, и я подумываю, не войти ли внутрь, на Галерею пэров, где нам всегда рады. Но теперь семь часов, а в это время Палата всегда голосует, и пока я размышляю, звучит сигнал, извещающий о начале голосования, и на экранах появляется зеленый колокольчик. Так что я возвращаюсь в прихожую Палаты лордов, где в этот час все неспешно и тихо. Приходят приглашенные на ужин гости, и на обитых красной кожей сиденьях в углах зала собираются всевозможные компании. В комнате Моисея никого нет, и ее двери не заперты. Я вхожу внутрь, останавливаюсь и смотрю на огромные картины Герберта. Моисей, спускающийся с горы со скрижалями Завета, и «Испытание Даниила». Я всегда любил эти два полотна, особенно изображенных на них зверей, газель и рысь на поводке в расшитой накидке, как у маленькой собачки. Герберт был одним из тех художников, на картинах которых все время присутствует одна и та же женщина — думаю, натурщица или жена, — и у него она очень похожа на Джуд, стройная, с красивым классическим лицом и темными волосами. Рядом с ней всегда ребенок или дети — полагаю, как и со всякой молодой женщиной на горе Синай или в древнем Вавилоне.
Я прохожу мимо комнаты граф-маршала — теперь она превращена в комнату отдыха для дам из числа пэров, — мимо лестницы, по которой публика поднимается на галерею, иду по холлу для голосующих «против» и выхожу на синий ковер комнаты принцев. Синий ковер священен — вернее, сама комната, поскольку это прихожая самой Палаты. Здесь никому не позволено курить, проходящие через нее гости не должны задерживаться, а говорить им можно только шепотом, хотя сами пэры разговаривают так громко, как им вздумается. Камины с двух сторон раньше, вне всякого сомнения, топились углем. Теперь они газовые. Каждый огражден каминной решеткой с мягким кожаным верхом, а на стуле рядом с камином на «светской» стороне (интересно, почему не на правительственной? не знаю) обычно сидит парламентский организатор от лейбористской партии, когда пэрам выдано предписание присутствовать на парламентском заседании особой важности и нужно по возможности помешать им уйти домой. На всех стенах, под самым потолком, висят портреты Якова IV Шотландского, его королевы из Тюдоров, их сына Якова V и Марии Стюарт.
Пьюджин и Бэрри спроектировали здание так, что если все двери открыты, то лорд-канцлер, восседающий на мешке с шерстью, может посмотреть прямо перед собой и увидеть спикера Палаты общин, сидящего в своем кресле. Не думаю, что кто-нибудь это проверял. Одно несомненно: когда вы выходите из комнаты для облачения монарших особ и идете по Королевской галерее, то оказываетесь лицом к лицу со статуей королевы Виктории, выставляющей ее в необыкновенно выгодном свете; по обе стороны королевы две фигуры, олицетворяющие Справедливость и Милосердие, и вся скульптурная композиция доминирует в комнате принцев. Женщина, у которой служил врачом Генри, была совсем не похожа на эту белую мраморную нимфу.
Я вхожу в библиотеку, тихую, наполненную дымом и торжественную — с позолотой, кожей и темными, словно светящимися изнутри стенами. Пэры спят в креслах, прикрыв газетами лица, или сидят за столами, склонившись над бумагами. За окнами серые и мокрые сумерки; река черная и блестящая, а больница Св. Фомы тонет в тумане. Колесо тысячелетия, которое мы должны называть «Лондонским глазом», все еще лежит на боку над водой и ждет, когда его поднимут на невероятную высоту. Боюсь, если я сяду здесь, между рекой и книгами, то последую примеру Лахлана, и мои глаза наполнятся слезами. До сих пор, до этой секунды, я не осознавал, до какой степени мне не все равно.
Как оказалось, прогулка была неудачной идеей. Я бреду по коридору в комнату Солсбери — без определенной цели. Никто не пользуется телефонами на овальном столе, и я сажусь, снимаю трубку и прошу соединить с международной справочной. Скорее, чтобы отвлечься, прервать свое сентиментальное путешествие, чем по необходимости, я спрашиваю номер Пенсильванского университета. На восточном побережье Соединенных Штатов теперь четверть третьего дня, вполне подходящее время для звонка. Мне отвечает женский голос, и я прошу сообщить номер факса. Женщина спрашивает, какой факультет, но я, естественно, не знаю. Генетики? Биохимии?
— Джон Корри, — говорю я. — Доктор Корри.
— Профессор Корри, — поправляют меня, и я записываю номер факса, решительно отвергнув адрес электронной почты, с которым не знаю, что делать.
Забыв о сентиментальности, я сижу в одном из ужасно неудобных кресел комнаты Солсбери, блестящем, как зеркало, и скользком, словно его намазали маслом, и пишу на фирменном бланке Палаты лордов:
Уважаемый профессор Корри!
Я убежден, что вы мой троюродный брат, сын двоюродной сестры моего отца, Ванессы Киркфорд Корри. О вас я узнал от моего друга лорда Гамильтона, с которым вы недавно познакомились в Вермонте.
В настоящее время я изучаю биографию нашего общего прадеда, Генри Александра, 1-го лорда Нантера. Как я понимаю, вы работаете над проектом, связанным с генной терапией, и вам должно быть интересно больше узнать об одном обстоятельстве. По всей видимости, вы единственный из потомков Генри Нантера, кто в определенной степени пошел по его стопам. Возможно, вы знаете, что он был известным в свое время специалистом по болезням крови и лейб-медиком, специализировавшимся на уходе за больными гемофилией в королевской семье.
Я буду благодарен, если вы подтвердите, что действительно приходитесь мне троюродным братом, а также сообщите некоторые подробности о себе, своей семье и своей работе.
С наилучшими пожеланиями,
Мартин Нантер
Внизу страницы я пишу номер факса издательства Джуд. Мне немного стыдно признаться, что я не знаю, где здесь находятся факсимильные аппараты. Один из швейцаров просвещает меня, и факс отправляется — без задержек и повторных попыток. С учетом того, что эта информация нужна мне для последней главы биографии, которую я еще не начал писать, и что ее наличие или отсутствие не окажет существенного влияния на конечный результат, моя спешка выглядит неуместно. Может, я ожидаю чего-то неожиданного, удивительного? На это нет никаких причин. А может, я рад найти нового родственника… Странно, если так. Нельзя сказать, что последний из обнаруженных, Дэвид Крофт-Джонс, озарил мою жизнь. Тогда в чем же дело?
Я спускаюсь по лестнице и беру пальто, размышляя, что табличке с моим именем осталось висеть не вешалке всего десять рабочих дней. Что еще в этой Палате связано со мной и сохранит память о Нантерах? Несколько речей в сборнике официальных протоколов, которые никто не прочтет. На улице уже совсем темно; тротуары мокрые и блестящие. Швейцар за конторкой говорит: «Доброй ночи, милорд». Я собираюсь взять такси — спуститься в метро у меня нет сил. Полицейский у края тротуара щелкает переключателем, и на воротах начинает мигать оранжевая лампа — сигнал таксистам, что тут их ждет заработок. Ричард Львиное Сердце сидит на своей каменной лошади и смотрит на Башню Виктории — или на Святой город Иерусалим. Гостям, которые впервые приходят в парламент, я всегда советую искать вход рядом с конной статуей Ричарда I. Больше не буду. Все кончено.
Но в такси, которое везет меня по улице Мэлл, а затем мимо Букингемского дворца, я вновь отбрасываю весь этот сентиментальный вздор и спрашиваю себя, что же я надеюсь получить от Джона Корри. Наверное, нечто неожиданное. Я не могу привести ни одной причины, это лишь подсознательное чувство, интуиция, которой — как однажды сказала Джуд во время ссоры — у меня нет. Мне хочется получить нечто сенсационное, нечто такое, что станет настоящим открытием.
19
Граф Берфорд — сын и наследник 14-го герцога Сент-Олбанса, прямого потомка Карла II от Нелл Гвин. Это молодой человек со светлыми волосами и бородой. Легенда гласит, что новорожденного ребенка Нелл принесла на мост через реку и, подняв над перилами, угрожала бросить в воду, если Карл не пообещает сделать его герцогом.
Во время ответов на вопросы Берфорд сидит на ступеньках трона, на что имеет право, а когда мы собираемся приступить к обсуждению законопроекта, вскакивает, забирается на мешок с шерстью и кричит:
— Этот законопроект, разработанный в Брюсселе, — предательство! Мы стали свидетелями уничтожения Британии. Впереди пустыня. Ни королевы! Ни культуры! Ни суверенитета! Ни свободы! Защитите свою королеву, свою страну — и отклоните этот закон!
Лорд Онслоу, всегда готовый поспешить на помощь и частенько пресекающий некорректное поведение, старается изо всех сил, пытаясь столкнуть с кресла бородатого фанатика, но ему уже за шестьдесят, а лорду Берфорду тридцать четыре. Я невольно вспоминаю, что в самом начале обсуждения законопроекта Онслоу сказал, что готов вести себя, как футбольный хулиган, лишь бы «то, что будет после меня, было гораздо лучше». Теперь он об этом забыл. Требуются два служителя, чтобы унять Берфорда, но теперь, совершив то, за чем пришел, он держится с достоинством и позволяет герольдмейстеру вывести себя из зала. Разумеется, вся Палата лордов, которая в последний день обсуждения законопроекта набита до отказа, сотрясается от смеха. В официальную стенограмму все это не попадет — вне всякого сомнения, инцидент там отразится как «помеха». Позже я слышу, что лорда Берфорда встречали представители средств массовой информации; его ждет пара дней славы, невиданной ранее.
Это последняя официальная возможность для обсуждения законопроекта. Затем он лишь вернется к нам с поправками Палаты общин, но никто не предполагает серьезных попыток отклонить билль. Леди Джей явно ведет себя как при расставании, заявив наследственным лордам, что пришла пора «поблагодарить вас и попрощаться».
Барри Дреднот не терял времени. Женщина, с которой он живет, сегодня вечером позвонила Джуд и предложила на выбор столько дат для ужина, что моя жена не смогла выпутаться и назвала следующую субботу.
— Смирись, — советует она мне по телефону, когда я звоню ей из Парламента.
— Мне казалось, ты против, — замечаю я.
Я никогда не причислял Джуд к той категории людей, жизнь которых напоминает качели, со взлетами и падениями, но теперь она явно на подъеме, смеется без причины, радостно вскрикивает и поет в душе. Сообщив, что она передумала и хочет пойти, и что это будет весело, Джуд хихикает и прибавляет, что на самом деле ей все равно, ей и так хорошо, и она согласна на любой вариант.
— Значит, я звоню Рим и говорю, что мы не сможем прийти?
— Рим?
— Так ее зовут. Я знаю, похоже на столицу Италии, название духов и все такое… Так что же?
Я не уверен в своей способности противостоять такому энтузиазму, и отвечаю, что раз она согласна, то мы идем, и вешаю трубку, чувствуя себя злобным старым ворчуном. Естественно, я забыл спросить, получила ли она на работе факс от Джона Корри, хотя, наверное, еще рановато. Я возвращаюсь в зал заседаний, где сегодня рассматриваются поправки о составе Палаты лордов в промежуточный период. Уже половина шестого.
Это пустая трата времени, намеренная попытка задержать прохождение законопроекта. Пожизненный пэр из числа лейбористов, лорд Пестон, вызывает ярость оппозиции, сравнив то, что у нас происходит, с дискуссионным клубом, «который любят шестиклассники». Он убежден, что парламент должен быть избираемым, и говорит, что не будет выдвигать свою кандидатуру и вместо того, чтобы «цепляться за мебель», с готовностью уйдет, если возникнет такая необходимость. Большинство наследственных пэров совсем не хотят уходить, в том числе лорд Феррерс, теперь очень похожий на командующего армией генерала, которым он никогда не был. Если Веллингтон выглядел так же внушительно, то не стоит удивляться, что он выиграл битву при Ватерлоо. Поправка лорда Феррерса состоит в том, чтобы пожизненные пэры избирались своими коллегами, пожизненными пэрами, и этот демократический процесс обеспечит всем легитимность. Он ставит поправку на голосование.
— Я просто хочу посмотреть, как все достопочтенные лорды со скамей напротив потащатся через холл для голосования, чтобы не быть избранными.
И мы тащимся — чудесное старинное слово, которое обычно употреблял мой дед Александр, — через холл для голосующих «против», пожизненные и наследственные пэры, и отклоняем поправку, потратив впустую еще три часа. Я не возвращаюсь в зал, а покидаю парламент, дав себе слово вернуться позже и проголосовать за законопроект. Метро — теперь я отказываю себе в такой роскоши, как такси, — уносит меня от Палаты лордов и мыслей о ней, и я переключаюсь на Джона Корри. Если ответ от него окажется таким интересным, как я ожидаю, почему бы не слетать в Филадельфию и не поговорить с ним лично? Все равно я собирался разобраться в теориях Генри, связанных с болезнями крови. Невозможно составить его жизнеописание, не рассказав об открытиях, например, в области гемофилии. Понимаю ли я на данном этапе, как наследуется гемофилия? Другими словами, как работает набор генов? Джон Корри должен знать. Даже если эти заболевания не являются его специальностью, а скорее всего так и есть, он все-таки врач и получил научную степень за исследования, связанные с генами. Совершенно очевидно, что Корри сможет объяснить все это мне гораздо лучше, чем любая книга. Вероятно, мне удастся найти дешевые билеты, туристический пакет, включающий две ночи в нью-йоркском отеле. А там я могу — как однажды уже делал, будучи студентом, — сесть на поезд «Метролайнер», который доставит меня в Город братской любви.
Я добираюсь до дома за рекордно короткое время. Джуд говорит, что если я намерен вернуться в Парламент, то она поедет со мной, сядет на свое место под барьером и будет смотреть, как я себя упраздняю. Она все еще очень возбуждена и, как это всегда бывает в таких случаях, теряет аппетит. Щеки ее разрумянились, глаза сияют. Пока я ужинаю, Джуд сообщает мне, что перезвонила Рим и сказала, что мы с удовольствием придем к ним в субботу вечером. За ужином больше никого не будет, только мы вчетвером. Я не знаю, радоваться ли этому, предполагая, что друзья у Дреднота должны быть ужасными, или печалиться, поскольку некому будет оживить разговоры (можно не сомневаться, что о деньгах, Интернете и шопинге) за столом. Джуд не хочет менять тему; теперь ее желание попасть в Эйнсуорт-Хаус не менее сильное, чем испуг сразу после того, как я передал приглашение Дреднота. Она полагает, что это будет «настоящее откровение», но я, дождавшись паузы, вставляю свой вопрос, не пришел ли мне факс из Америки. Не пришел. Еще рано, говорит Джуд, не следует ждать ответа раньше конца недели.
Я спрашиваю, не возражает ли она, если я один слетаю в Нью-Йорк, и, зная благородное сердце своей жены, ожидаю безусловного: «Конечно, ты должен поехать, дорогой». Но слышу в ответ нечто уклончивое, если не сказать загадочное.
— Ты имеешь в виду встретиться с этим Корри? Если, конечно, он ответит. Но к тому времени ты сам можешь не захотеть.
— Ты о чем?
— Просто думаю, что ты можешь не захотеть, — говорит Джуд и идет к телефону, чтобы вызвать такси. Ехать в метро «в такое время» она решительно отказывается.
Джуд самая красивая из жен пэров в Парламенте. Полагаю, это мое личное мнение, однако другие подтверждают его, а престарелый наследственный пэр из числа тори высказал предположение, что на конкурсе красоты среди пэресс она, вне всякого сомнения, одержала бы победу. Я не осмелился передать этот разговор Джуд. Она бы пришла в ярость от попрания ее феминистских принципов. Мы расстаемся в прихожей Палаты лордов, и когда я занимаю свое место на скамье, то вижу ее всего в нескольких футах от себя. Многие старики поворачивают головы и вытягивают свои морщинистые шеи, чтобы посмотреть на нее, в синем платье и жемчугах.
Зал набит до отказа. Все, кто был в барах и столовых, переместились сюда. Новый лорд Брюэр — вид у него растерянный — сидит на скамьях оппозиции, надеясь, что кто-нибудь подскажет ему, что нужно делать. Последние несколько поправок отвергаются, и затем приходит время для комплиментов и покаянных речей. Лорд Лонгфорд — ему почти девяносто четыре, он заседал в Палате пятьдесят четыре года — говорит, что в культуре этого места есть некий дух — интеллектуальный, моральный и религиозный, — на который откликаются люди. Сам он будет голосовать за принятие законопроекта, поскольку разделяет мнение о необходимости реформы, и не будет пытаться затормозить ее. У лорда Лонгфорда благородное лицо и аристократическая речь, однако он здесь не самый старый пэр. Среди мер по реформированию, которые предлагаются готовящимся докладом Вейкхема, вероятно, будет ограничение возраста для членов Палаты, причем, скорее всего, это будет семьдесят пять, а не девяносто пять. По мере того как предлагаются и отвергаются новые поправки в законопроект, я чувствую, что дело движется к развязке. Это не просто последние дни, а последние часы. После шести сотен лет те, кто до 1958 года составлял Верхнюю палату парламента, будут изгнаны людьми, пришедшими сюда сорок лет назад. Через час или около того законопроект будет передан в Палату общин и вернется к нам только для утверждения принятых ею поправок, вероятно, неприемлемых для твердолобых консерваторов. Но фактически дело сделано.
Теперь выступающие обмениваются любезностями и выражают благодарность лорду Уитериллу, внесшему поправку о сохранении 92 мест для наследственных пэров. Лорд Феррерс встает.
— В конечном итоге, — говорит он, — мы должны получить работоспособную Палату, а также, даст Бог, счастливую и довольную. Счастливую Палату, где люди улыбаются друг другу. До сих пор здесь слишком часто проявлялась тенденция к поощрению злобы.
Разумеется, большая часть этой злобы исходила от него. Он «ни в коем случае» не рекомендует голосовать против законопроекта, но тем не менее, когда дело доходит до голосования, сам не принимает в нем участия. Леди Джей встает и выносит законопроект на голосование. Я поворачиваю налево и иду к трону, направляясь в холл для голосующих «за», что для меня непривычно, поскольку я, как правило, голосую «против», и по пути не прохожу мимо Джуд, сидящей ниже барьера, как это обычно бывает. Я не верю в приметы, но почему же мне так неприятно поворачиваться спиной к ней, уходить от нее, чтобы проголосовать за собственное упразднение?
Законопроект проходит — 221 голос «за» и 81 «против». Все кончено. На передней скамье оппозиции леди Миллер Хендон вся в слезах, а лицо лорда Кингсленда искажено мукой. Пожизненные пэры из числа лейбористов не издают радостных возгласов, а лишь торжествующе размахивают листками с повесткой дня. Я удивлен почти полным отсутствием беспорядков и хулиганских выходок в процессе прохождения законопроекта. Ничего по-настоящему серьезного не произошло, и закон приняли быстрее, чем я думал. Нас вышвырнули, но не со скандалом, а с нытьем, слезами и отчаянием.
По дороге домой я не делюсь своими чувствами. В любом случае мне было бы стыдно признаваться в этих иррациональных страхах. Ночью я сплю плохо и на рассвете сажусь в постели и беру книгу. Джуд ничем не разбудишь, но я все равно приглушаю свет ночника, так чтобы только разобрать текст. Но проходит совсем немного времени, и я кладу книгу на пол и смотрю на жену. Закрытые глаза могут быть не менее красивы, чем открытые — нежные, словно крылья бабочки, веки, темная и изящная бахрома ресниц на жемчужной коже. Губы сомкнуты, но не сжаты. Я подношу к ним палец на расстояние дюйма и чувствую теплое дыхание на своей коже. В темноте я не вижу Джуд, только очертания головы и темную массу волос. Прилив нежности к жене вовсе не возбуждает меня, а вызывает желание покрепче обнять, только я знаю, что все равно получится недостаточно крепко. Я отворачиваюсь, пытаюсь заснуть, и в конце концов это мне удается.
Во сне я вижу ее такой, какой она была, когда держала на руках Галахада. Ребенок у нее другой, гораздо старше, лет двух или трех, и это наш ребенок. Все молчат. Атмосфера не очень приятная — мы ссорились, наговорили друг другу непростительных вещей, хотя я не знаю, что именно. Маленький мальчик осуждающе смотрит на меня. Потом Джуд встает, берет его за руку, выходит через парадную дверь, спускается по ступенькам на улицу. На дворе лето: тепло, листья на деревьях, цветы. Я стою, придерживая открытую дверь, и смотрю, как они идут по улице, сворачивают за угол и исчезают. Я знаю, что должен бежать за ними, но на мне нет туфель, я не могу найти ключ или деньги, а когда босиком сбегаю по ступенькам крыльца, то не могу пройти через запертые ворота. За моей спиной хлопает дверь, и я просыпаюсь.
На часах семь утра, и Джуд нет рядом. Я еще не стряхнул остатки сна, и меня охватывает нелепый страх. Я зову ее, и она сразу же выходит из ванной, закутанная в белый махровый халат.
— Теперь я могу тебе сказать, — произносит она.
Речь может идти только об одном. Голос внутри меня шепчет: «О Боже, Боже, Боже…»
— Я беременна. Два месяца.
Я бормочу всякие глупости, прекрасно понимая, что это не может быть правдой. У тебя в сентябре были месячные. Ты принимаешь противозачаточные таблетки.
— Нет. Я тебя обманула. Достаточно того, что мне пришлось ждать подтверждения, — я не могла заставлять тебя мучиться вместе со мной.
Я действительно чувствую себя обманутым, одураченным, и мне это не нравится. Мы с Салли все время обманывали друг друга — или пытались. Нет, я не тратил деньги, я не ездил туда-то и туда-то с тем-то и тем-то, я там не был, я не слышал телефон, я звонил, но ты не отвечала, я никогда тебе не лгу, ты же знаешь. У нас с Джуд все по-другому. По крайней мере, мне казалось, Я думал, мы всегда откровенны и честны друг с другом.
— Ты тест делала? — глухо спрашиваю я.
— Три недели назад.
Опять обман или я суечусь по пустякам? Она мне не изменяла, не проиграла тысячу фунтов в азартные игры, не делала липосакцию. Похоже, я сам себя накручиваю.
— Ты была у врача? — Я по какой-то причине не могу вспомнить, как зовут ее гинеколога.
— После теста. Спросила, должна ли я лежать всю беременность и сказала, что буду лежать, если это поможет, но он ответил, что нет. — Она смотрит на меня почти со страхом. — Ты злишься, да?
Я обязан сказать, что не злюсь, что люблю ее. И рад, что у нас будет сын или дочь. Но не могу. Я вспоминаю свой сон, вспоминаю, какой загадочной она была последнее время, какой возбужденной, словно пьяной.
— Нужно было сказать мне месяц назад. — У меня интонации обиженного ребенка.
— Ты не понимаешь, что я не хотела опять тебя разочаровывать?
Может ли быть более неподходящее слово? В данный момент меня больше волнует обман, чем беременность, но я знаю, что это пройдет и я снова буду наблюдать за ней, волноваться, считать дни и недели. Сколько дней ей удавалось носить ребенка? Девяносто, сто? А когда — и если — пройдут эти сто дней, что я буду испытывать, счастье или ужас?
В субботу вечером мы сидим в Эйнсуорт-Хаусе и пьем аперитив. Время аперитива тянется с половины восьмого, когда мы пришли, а теперь уже почти половина десятого. Рим лишь десять минут назад удалилась на кухню, «сообразить что-нибудь насчет еды». Дредноты относятся к той категории людей, для которых еда составляет наименее важную часть званого ужина. Любой из алкогольных напитков, о которых мне когда-либо приходилось слышать, имеется в баре гостиной — в прошлый свой визит я принял это сооружение за буфет или горку из красного дерева в ранневикторианском стиле. Нас еще раз проводят по всему дому, с бокалами в руках. Мне кажется, в этом частном доме есть нечто странное. Играет тихая музыка, которая перемещается вслед за нами по комнатам. Эти мелодии обычно включают в холлах отелей, всегда одни и те же — «Жизнь в розовом цвете», «Только не в воскресенье», «Мужчина и женщина». Разговор крутится вокруг тем, которых я так опасался, однако я и представить себе не мог, сколько времени люди могут ходить по магазинам и какими суммами разбрасываться. Рекорд принадлежит Барри — 30 тысяч фунтов за один вечер в «Хэрродс», но Рим вплотную приблизилась к нему, потратив с карточки всего на 2 тысячи меньше во время послеобеденной прогулки по Бонд-стрит. Подобно Мелинде Маркос, она неравнодушна к туфлям и покупает их у Джимми Чу и Маноло Бланика.
Когда мы шли сюда, я предупредил Джуд, чтобы она не говорила Барри и Рим о ребенке.
— А я бы сказала? — спрашивает она.
Я мог бы ответить, например: «Как в прошлый раз», или «В прошлый раз ты сказала Джорджи», — но молчу, поскольку «прошлый раз» упоминать нельзя. Джуд даже сказала, что мы должны вести себя так, словно прошлого раза не было — а также позапрошлого и позапозапрошлого. Мы должны забыть «старые неприятности» и делать вид, что она зачала ребенка в первый раз.
Я искренне извинился за свое недостойное поведение, что поднял шум из-за того, что меня держали в неведении. И был прощен. И этим двоим Джуд не сказала ни слова. Вне всякого сомнения, она чувствовала, что имеет дело с людьми, совсем не похожими на Дэвида и Джорджи. У Барри и Рим не было детей, ни своих, ни общих. Для них дети — это то, что есть у других, хотя и непонятно, зачем. Рим — болезненно худая блондинка с напряженным, словно натянутым лицом и длинными тощими ногами в туфлях от знаменитого дизайнера на узких, костлявых ступнях. Ее драгоценности поражают воображение — огромные бриллианты, кольца с инкрустацией, серьги, колье и браслет. Они сверкают в свете такой же шикарной люстры, отбрасывая на стены пляшущие зайчики.
Джуд цедит минеральную воду. Она переживает из-за шампанского, которое мы пили вчера с Крофт-Джонсами, и вина, выпитого позже в ресторане. Не повредит ли это ребенку? Почему она так преступно беспечна и пьет, зная, что беременна? Я напоминаю ей (в который раз), сколько виски выпила и сколько сигарет выкурила моя мать, когда была беременна мной, а также о пристрастии Салли к пиву и марихуане, но не в силах ее убедить. Джуд считает, что моя мать и первая жена тоже проявили преступное легкомыслие, но их оправдывает незнание. Как бы то ни было, теперь она пьет минеральную воду, и возможно, именно этим объясняется мрачное выражение ее лица, хотя затронутая Дреднотом тема о покупке автомобиля через Интернет должна была вызвать у нее интерес.
Наконец, без пятнадцати десять возвращается Рим и с фальшивым французским акцентом объявляет:
— Madame est servie[54].
Еда довольно приличная, хотя, по всей видимости, вся купленная в кулинарном отделе универмага «Хэрродс» — интересно, не на это ли потрачена часть 30 тысяч фунтов? — и разогретая в микроволновке. Мне почему-то кажется, что лучше так, чем если бы Рим готовила сама. Я пью слишком много, но не потому, что склонен к алкоголизму или вино у Барри особенно вкусное, — просто мне скучно. Спиртное не разгоняет скуку, но дает тебе новые поводы для размышлений — например, как не упасть со стула или сделать так, чтобы не заплетался язык. По дороге домой — мы смогли вырваться только в половину первого — Джуд говорит мне, очень мягко и осторожно, что я пьян.
— Вот и хорошо, — отвечаю я. — Может, они нас больше не пригласят.
— Ты не думаешь, что теперь мне вредно засиживаться так поздно?
Я говорю, что не понимаю, какой может быть тут вред, если это случается нечасто. Снова извиняюсь за то, что напился, за то, что злился в среду, за отсутствие должного энтузиазма по поводу ребенка. Джуд говорит, что я просто «такой» — это заявление мне непонятно, но я слишком пьян и не в состоянии его проанализировать. На крыльце Джуд раскрывает сумочку, чтобы достать ключ, и вытаскивает листок бумаги, который собиралась отдать мне вечером, но забыла. Это факс от Джона Корри.
У меня нет сил его читать, и я падаю в постель в полусонном — или, по крайней мере, наполовину бессознательном состоянии. В четыре я просыпаюсь; голова раскалывается, сердце готово выпрыгнуть из груди, во рту пересохло. Выпив несколько пинт воды прямо из водопроводного крана на кухне, я глотаю таблетку «Алка-Зельтцера» и четыре таблетки аспирина. До факса я добираюсь только поздним утром в воскресенье.
Письмо начинается «Привет, кузен!», что с самого начала приводит меня в замешательство. Это потому, говорит Джуд, что я старый чванливый пэр и к тому же сноб. Я не отрицаю, а про себя думаю: имей Корри научную степень по искусствоведению, он обратился бы ко мне «Привет, братишка», что еще хуже.
Привет, кузен!
Мы определенно родственники, только не знаю, двоюродные, троюродные или четвероюродные — вам виднее. Моя мать Ванесса Киркфорд, но я почти ничего не знал о ее предках, семье и т. п., пока не получил ваш факс. Единственное, что мне было известно, — среди моих кузенов есть английский лорд.
Мама никогда не рассказывала о семье, разве что упоминала, что в ее родословной есть аристократическая ветвь. Я знал, что мой прадед Генри был доктором медицины и имел какое-то отношение к королевским особам, но не знал, что он занимался болезнями крови. Насчет того, что я пошел по его стопам, это чистое совпадение. Я занимаюсь исследованиями в той же области. Я преподаю в Пенсильванском университете, и моя работа связана с переносом фактора VIII в эпидермис при генной терапии. Думаю, для обычного человека это бессмыслица, но для нас — чрезвычайно увлекательная инновационная работа.
Мне пятьдесят один год, и мы с женой Мэри (она психолог) состоим в браке больше двадцати лет. Общих детей у нас нет, но есть сын и дочь Мэри, Крейг и Лисбет, от первого брака. Мы живем в городе Медия, в Пенсильвании. Вы не собираетесь в Штаты? Был бы рад с вами встретиться.
Искренне ваш,
Джон
Я испытываю глубокое разочарование. Джон Корри — он старше, чем думал Лахлан, — должно быть, хочет сказать, что тоже изучает болезни крови, но не потому, что этим занимался Генри. В такое совпадение трудно, почти невозможно поверить. Я наливаю себе очередной стакан воды, пятый за утро, и тут в комнату входит Джуд. Пытаясь меня подбодрить, она целует меня в щеку и похлопывает по спине. Я чувствую себя последним подлецом и испытываю жуткие угрызения совести. Мне хочется поехать в Штаты, хочется поговорить с новым кузеном, остановиться в его доме в Медии, где бы это ни находилось, и получить нужные ответы. Но я не могу, потому что у Джуд будет ребенок. Я не могу оставить ее даже на две ночи. Хотя на самом деле ребенка у нее не будет, у нее будет выкидыш. Как всегда.
Неприлично даже думать об этом. Я обязан хотеть быть рядом с беременной женой. Любой другой мужчина хотел бы. Я просто ненормальный, настоящее чудовище. Я обнимаю Джуд, целую и повторяю привычную ложь о том, как я рад за нее и что на этот раз все будет хорошо. Похоже, она мне верит — по крайней мере, думаю, хочет верить. Я спускаюсь в кабинет и смотрю в медицинском словаре, что такое фактор VIII. Это отнимает у меня довольно много времени, поскольку я не знаю, откуда начинать, но в конце концов выясняю, что речь идет о факторе свертываемости крови, одном из нескольких близких по своим свойствам веществ, пронумерованных от I до XII, которые отсутствуют в крови больных гемофилией.
Значит, Джон Корри не просто исследует болезнь крови, а ту же самую болезнь, что и его прадед Генри. И он думает, что я поверю в совпадение?
20
Первые выборы наследственных пэров проводятся сегодня и завтра. Они для тех, кто готов стать заместителем спикера или занять другие должности, и все члены Палаты лордов, которые принесли клятву, пожизненные и наследственные пэры, имеют право голоса. У нас соорудили настоящий избирательный участок, озадачивший некоторых старых наследственных пэров. Кое-кто из них никогда в жизни не голосовал. После смерти отца они унаследовали титул еще до того, как им исполнилось двадцать один, в то время возраст совершеннолетия, и не участвовали в выборах членов Палаты общин. Поэтому участок для голосования им так же непривычен, как Палата лордов будет непривычна для их потомков, и они понятия не имеют, что делать с бюллетенем для голосования. Я размышляю над тем, что растерянным новичкам придется не только поставить крестик в нужной графе, но выбрать из всех кандидатов пятнадцать самых достойных, пронумеровав их в порядке предпочтения, и пытаюсь представить не количество испорченных бюллетеней, а количество тех, кто сумеет со всем этим разобраться.
Нам объяснили, что избирательный бюллетень считается недействительным, если какой-либо номер в нем встречается более одного раза или вообще отсутствует, а также если он неразборчивый или неоднозначный. Мысль о неоднозначности меня занимает, и, направляясь в комнату для голосования вместе с Лахланом, я строю предположения, сколько бюллетеней попадут в эту категорию, а в скольких окажутся пронумерованными все тридцать три кандидата.
Результаты голосования можно будет посмотреть в пятницу, в канцелярии Палаты и в библиотеке, но ради них я приходить не буду. Меня устроит и понедельник. Или даже следующая среда, когда наследственные пэры начнут голосовать за наследственных пэров, за тех семьдесят коллег, которые останутся. Внезапно я вспоминаю о мантии Генри.
— Как вы думаете, я смогу продать свою мантию? — спрашиваю я Лахлана.
— Понятия не имею, — отвечает он. — У меня уже есть одна. Ей двести лет, и она расползается по швам. Никто ее не купит.
Владеть древней мантией имеет смысл только в том случае, если она все время принадлежала вашей семье. Носить старое, потрепанное одеяние — это очень почетно. Когда королева приходила открывать сессию парламента, я видел юных пэров, гордо входивших в зал в побитых молью древних облачениях, на которых белый мех выглядел так, словно его жевала свора собак.
— Будущее у них одно, — печально произносит Лахлан. Он имеет в виду количество рядов горностаевого меха, в зависимости от ранга. — Все эти старые мантии отправятся на свалку, потому что ни у кого не будет права их носить. Останется компания из пожизненных баронов с двумя рядами кролика.
— Вас изберут, — говорю я ему, хотя сам совсем в этом не уверен. — Вы еще много лет будете приходить на официальное открытие сессии.
Он качает головой. Я уже несколько недель не видел его улыбки.
— Следующей будет одежда. Ставлю десять фунтов, что в две тысячи втором году никто больше не будет носить мантии.
Я принимаю пари, хотя думаю, что он прав. Пэры, не имеющие собственных мантий, берут их в аренду или напрокат в фирме «Ид и Ревенскрофф» на Ченсери-лейн. Стоимость проката превышает 100 фунтов, и я не мог бы себе этого позволить, не будь у меня мантии Генри. Продав свою, я на вырученные деньги смогу оплатить полет в Соединенные Штаты. Потом я вспоминаю, что не могу никуда лететь, поскольку нельзя оставлять Джуд. Вот что она имела в виду, когда говорила, что я не захочу уезжать. Тут она ошибалась — я хочу. Но не поеду. Останусь тут, потрачу вырученные за мантию деньги на что-нибудь красивое для Джуд и буду приучать себя к мысли, что я хочу этого ребенка, этот плод, еще пребывающий в утробе.
Моя добродетель вознаграждена. Я горд тем, что вел себя достойно и ни разу не запротестовал вслух. Компенсацией мне служит еще один факс от Джона Корри. В отличие от прошлого раза, когда Джуд носила его с собой, пока не вспомнила, что нужно отдать его мне, теперь она звонит с работы. Факс пришел несколько минут назад, и в нем сообщается, что Корри приезжает на конференцию по генной терапии. Кто-то из исследователей отказался, и он едет вместо него. Конференция в Лондоне. Может, мы увидимся?
Обычно я пригласил бы гостя сюда, на ленч или ужин. Но теперь не уверен, что могу это сделать. И уж точно не смогу после окончания этой, продленной сессии Парламента, что произойдет в следующий четверг. К официальному открытию следующей сессии, 17 ноября, меня уже изгонят отсюда. И вдруг я чувствую — хоть и понимаю, как это нелепо, — что стесняюсь признаться в этом Корри. Он не поймет. Я сам с трудом понимаю. Я пытался объяснить реформу таксистам; многие из них убеждены, что избавятся от всех пэров и заменят их ассамблеей, которая избирается всеобщим голосованием. Просто невероятно, но значительная доля населения никогда не слышала о пожизненных пэрах, и люди уверены, что в Верхней палате парламента заседают только мужчины, старые богатые землевладельцы с древней родословной, передающие титул и поместье старшему сыну. Джон Корри, естественно, мог слышать о лордах, но уж точно не о Палате лордов. Если я собираюсь пригласить его на обед, это должно быть, скорее всего, где-то поблизости от места проведения конференции.
Сегодня после обеда секретарь Палаты лордов объявляет результаты голосования, имена тех семидесяти пяти счастливчиков, которые сохранят свои места, вместе с пятнадцатью заместителями спикера, избранными на прошлой неделе. Граф Феррерс попал в их число, набрав 190 голосов, больше всех остальных; прошли также граф Ослоу, граф Рассел и леди Дарси де Кнайт. Манифест Лахлана Гамильтона, должно быть, произвел впечатление, или пэры оценили его упорный труд и постоянное присутствие на заседаниях, поскольку он тоже сохранил место, набрав 110 голосов, вполне достойный результат. Я поздравляю его, а Лахлан говорит, что жалеет, что я не выдвигал свою кандидатуру, поскольку набрал бы больше голосов, чем он.
Я договорился с Джулианом Брюэром о продаже своей мантии. Ему удалось выторговать 50 фунтов, указав — словно покупатель в магазине для бедных — на проеденную молью дырку в плече и на один из рядов горностая, выглядевший так, будто его грызли мыши. Брюэр заплатил мне наличными, и я иду домой через Бонд-стрит, где покупаю Джуд другую мантию, темно-синий шелковый халат; эта покупка полностью разрушает мой план, поскольку я плачу в пять раз больше, чем получил от Брюэра.
Когда я прихожу домой, Лорейн еще там, пылесосит гостиную. Она навела порядок в кабинете, несмотря на просьбу не прикасаться к бумагам на обеденном столе. Я снова разбрасываю бумаги по столу, а когда гул пылесоса стихает, набираю номер телефона, оставленный мне Джоном Корри. На часах половина третьего — в Филадельфии половина десятого утра. После трех гудков включается автоответчик. Я оставляю сообщение с просьбой перезвонить, что Корри и делает, в десять вечера. Я вручил Джуд новый халат и получил удовольствие, три часа созерцая ее, свернувшуюся калачиком на диване.
Опять фраза «Привет, кузен», которую мне трудно переварить. У него акцент выпускника Лиги плюща, американский эквивалент акцента нашей привилегированной частной школы и университетов Оксфорда и Кембриджа. Мысленно я вижу его: высокий, худощавый, мальчишеское лицо, очень короткая стрижка, бровей нет, очки, воротник с застегивающимися на пуговицы концами, куртка от Армани и синие джинсы. Но, скорее всего, он совсем не такой. Конференция начинается в понедельник, 15 ноября, а приедет он на день раньше, в воскресенье. Я спрашиваю, где это, и Корри отвечает, что в Лондоне, в Челмсфорде.
Я говорю, что приеду в Челмсфорд, в конференц-центр, который находится за чертой города, в местечке под названием Риттл. И тут же вспоминаю, что когда я буду ехать в поезде, начнется церемония официального открытия сессии Парламента, впервые за пятнадцать лет без меня (обычно я присутствовал на ней и при жизни отца).
У Джуд было кровотечение. Совсем чуть-чуть, и теперь уже все прошло. Однако ее все равно отвезли в больницу и продержали там всю ночь. Но я — с чем себя поздравляю — ни на секунду не обрадовался, ни разу не понадеялся, что эта беременность закончится так же, как предыдущая, а до нее — еще две. Главная причина, заставившая меня принять сторону Джуд, — ее страх, паника и горе, когда она хваталась за меня и кричала, словно ребенок в зоне военных действий. Потом, ожидая вызванную мной «Скорую помощь», Джуд стала абсолютно спокойной, заставляла себя — как она рассказывала потом — сохранить ребенка, убеждая себя, что если сильно хотеть, то это поможет и все будет хорошо.
Результаты ультразвука были удовлетворительными, и Джуд дали какой-то препарат, который якобы поможет предотвратить выкидыши, посоветовали отдыхать и принимать таблетки. Только она их не принимает, потому что боится эффекта талидомида. Когда Джуд была подростком, ее соседка, принимавшая талидомид, родила девочку без обеих рук. Рассказывая мне об этом, впервые за все время, Джуд вся дрожит, и у нее стучат зубы. И тут появляется Пол.
— Вы все время приглашали меня, — говорит он. — Ну вот, я принял ваше предложение и приехал на выходные.
Я знаю, что мое предложение не содержало условия предварительного уведомления, ни за день, ни даже за час. Это значит, что жаловаться я не могу. Джуд лежит на диване, очень красивая в своем синем шелковом халате, а Пол расположился рядом и — что довольно странно — держит ее за руку. Он не спрашивает, что случилось, но, по всей видимости, предполагает простуду. Я готовлю ленч для всех нас и роюсь в вечной мерзлоте морозильника, пытаясь добыть что-нибудь на ужин. Джуд пока не может выходить из дома, а Пол, похоже, остается у нас. Ему хочется поговорить о конце наследственного пэрства и о том, что я чувствовал в свой последний день в Парламенте. Я даю ему экземпляр официальной стенограммы заседания и признаюсь, что был не там, а здесь, дома, ухаживал за Джуд.
Пол, похоже, переметнувшийся в лагерь сторонников наследственного пэрства, не понимает, как я мог не пойти на последнее заседание по такой причине.
— Просто потому, что у твоей жены простуда?
Наверное, Джуд думает, что защищает меня, и она действительно так думает, но я предпочел бы, чтобы она молчала.
— У меня не простуда, а угроза выкидыша.
Пол молчит, но густо краснеет.
— Пол, — говорит Джуд. — Мы хотим ребенка. Это серьезно. Я буду считать свою жизнь неудавшейся, если не смогу родить. Ты можешь хотя бы попытаться понять?
Пол снова держал Джуд за руку, но теперь отпускает, и что-то в его лице подсказывает мне, что он больше никогда не захочет взять ее за руку, больше никогда не захочет ее поцеловать. Он поворачивается ко мне.
— На самом деле я пришел для того, чтобы взять у тебя одну вещь. Мантию моего прапрадеда. Думаю, теперь, когда тебя исключили, я могу это сделать. Тебе она больше не понадобится.
Джуд ловит мой взгляд, но выражение ее лица не меняется.
— Зачем тебе мантия?
— Просто так. — Пол похож на ребенка, который требует какую-то новую, непривычную еду, но не объясняет причины.
— Я ее продал, — сообщаю я. — Пожизненному пэру. Она была довольно жалкой.
Пол в ярости. Его лицо становится еще краснее.
— Жалок твой поступок. Она не твоя, чтобы ее продавать, она принадлежит семье. Когда-нибудь она перешла бы к моему сыну, а потом — к его сыну.
Это первое упоминание о его гипотетических детях. Бесполезно защищать себя или продажу мантии, особенно если учесть, что уже жалею о своем поступке — нужно было сначала посоветоваться с ним. Джуд, которая никогда не вмешивается в наши перепалки, теперь отступает от этого правила и говорит, что всегда считала его марксистом, презирающим то, что она называет «внешними атрибутами аристократии».
Ссоры обычно поднимают настроение Пола, даже веселят его, но не в этот раз. Вид у него такой же, как в пятилетнем возрасте, когда ему не разрешали взять еще один кусочек шоколадного торта. Он объявляет, что пойдет навестить приятелей на Лэдброук-Гроув и не знает, вернется к нам вечером или нет. Я спрашиваю, обращаясь к Джуд, наступят ли когда-нибудь времена, когда мы с сыном сможем вести себя как цивилизованные люди, поговорить друг с другом, возможно, улыбнуться в ответ на шутку и не убегать в приступе ярости, прерывая дискуссию.
— Когда ему исполнится тридцать, — говорит она. — К тому времени у тебя будет еще один сын. Или дочь. Будем надеяться, в следующий раз тебе повезет больше. Во всяком случае, твой брак не должен закончиться так же печально, как предыдущий.
Естественно, я беру руку Джуд, целую, потом опускаюсь на колени рядом с диваном и обнимаю ее, но мне не нравятся ее мысли об окончании брака, хоть она и говорит, что этого не будет. Наверное, я суеверен, хотя всегда это отрицал. Я стою на коленях, и меня обуревают всевозможные страхи, а также угрызения совести. Неужели Джуд обвиняет меня в том, что Салли бросила меня и Пола? Неужели она действительно думает, что другой ребенок — в моем возрасте, против моей воли, ребенок, которого я не могу себе позволить и которого не хочу — помирит нас с Полом? Или я должен списать Пола со счетов, как свой провал? И ребенок, вынашиваемый ею, станет единственным, которого я по-настоящему хотел. Неужели она настолько тупа?
21
Я сижу в поезде, который направляется в Челмсфорд. Конечно, это не первый класс, но вагон новый (хотя и не очень, если судить по состоянию обивки), один из тех, где кресла располагаются друг за другом, как в самолете. Очень неудобно для толстяков. К тому же спинка сиденья впереди находится в неприятной близости к лицу и при внезапной остановке поезда может расквасить нос. Вид из окна чрезвычайно унылый — пригороды Эссекса, серые поля и шоссе.
Если бы я сел в экспресс до Хитроу, то мог бы смотреть телевизионную трансляцию с открытия парламентской сессии. Теперь же приходится представлять все по памяти. Эта картина проплывает перед моим мысленным взором. Королева, в короне и со всеми регалиями, входит в Королевскую галерею ровно в 11.27. Говорят, если она опоздает, то Биг-Бен остановят, а потом запустят снова, чтобы королева появилась вовремя; только она никогда не опаздывает. На ней неизменный белый шелк, жемчуга и белая меховая накидка. С ней герцог Эдинбургский и другие члены королевской семьи, лидер Палаты лордов в мантии, капитан лейб-гвардии в парадном мундире, а также свита из знатных особ. Королева не имеет права входить в Палату общин, и поэтому она занимает свое место на троне и говорит: «Милорды, прошу садиться», — после чего лорд-обергофмейстер поднимает белый жезл, и по этому сигналу герольдмейстер отправляется к двери в Палату общин, которая захлопывается перед его носом, стучит и призывает депутатов «незамедлительно посетить Ее Величество в Палате пэров». Члены Палаты общин идут вслед за премьер-министром и членами кабинета — некоторые громко разговаривают и смеются, проходя через прихожую Палаты лордов, — и занимают места в зале ниже барьера. На пэрах парадные красно-белые мантии, а на пэрессах длинные платья и тиары; все смотрят на королеву, которая начинает свою речь.
Я этого уже никогда не увижу, разве что в воспоминаниях или по телевизору. Генри приходил на церемонию на протяжении восьми лет, с 1897 по 1904 год, однако свою новую мантию надевал только четыре раза. Были годы, когда Виктория вообще не открывала парламентскую сессию, или когда королева отсутствовала и ее замещала комиссия из лордов — в этом случае мантии не надевали. Однако сменивший ее на троне Эдуард VII до самой своей смерти, девять лет спустя, открывал каждую сессию парламента. Новый король любил эту пышную церемонию, и его первое открытие сессии парламента превратилось в красочное зрелище — пэрам было рекомендовано прибыть в парадных мантиях и в своих лучших экипажах. Король, со своей стороны, торжественно прошествовал через восточный вход, в мантии из алого бархата и белом горностаевом плаще, с белым, украшенным перьями шлемом в руке. Он произнес речь, сидя на троне — традиция, которую сорок лет назад заложила его мать.
Интересно, присутствовала ли на церемониях Эдит? Если да, то осталась ли среди ее драгоценностей тиара? Я должен проверить. Все они теперь принадлежат моей сестре Саре и кому-то еще из женщин семьи Нантер. Может, Веронике? Уж точно не Ванессе, изменнице и беглянке. Но скорее всего, за двадцать три года своего вдовства Эдит успела продать тиару. Это напоминает мне о мантии, послужившей причиной таких разногласий между мной и Полом, что он не вернулся с Лэдброук-Гроув и теперь, наверное, уже уехал в свой университет в Бристоле. Если у Джуд будет дочь, не потребует ли она однажды тиару? Поезд подходит к Челмсфорду. На улице довольно холодно и моросит дождь. Я нахожу такси, водитель которого согласен отвезти меня в конференц-центр Мэнор-Хаус.
Это громадный дворец в стиле викторианской готики, из какого-то ядовито-красного кирпича, с территорией, густо усаженной хвойными деревьями. Черные, зазубренные силуэты веллингтоний и обычных сосен резко выделяются на фоне бледно-серого, без каких-либо оттенков, неба. Внутри тепло — такое отопление не может себе позволить ни одно частное лицо, кроме Барри Дреднота и ему подобных. Завеса тепла встречает меня и окутывает со всех сторон, словно одеяло; мне указывают на мягкий диван, и я жду на нем Джона Корри. Я принес с собой два подарка: экземпляр книги Генри «Болезни крови» и рамку для двух фотографий. Рамка, которую я купил в киоске в свой последний день в Парламенте, обтянута красной кожей и украшена золоченым изображением решетки Палаты лордов. Джуд заявила, что нельзя дарить пустую рамку для фотографий, а когда я высмеял ее, сказала, что Корри не захочет любоваться на нас, и предложила снимок Генри, сделанный Эдит. Их у меня несколько сотен, большинство в одном из сундуков, и я аккуратно вырезаю один снимок по размеру и вставляю в отделение рамки.
Джон Корри совсем не такой, каким я его представлял. Высокий, но в отличие от нарисованного мной портрета темноволосый, с небольшой темной бородкой; выглядит он гораздо моложе своих лет. Очков Корри не носит — возможно, контактные линзы, потому что глаза у него ярко-зеленого цвета, какого я никогда не видел у естественной радужной оболочки. Улыбаясь, он демонстрирует великолепные американские зубы. Я вручаю подарки, которые Корри называет презентами, и он реагирует с заокеанской обходительностью, восхищаясь рамкой и спрашивая, кто «этот старик». Книга Генри вызывает почти такую же бурную благодарность, но когда Корри открывает обложку, заглядывает внутрь, читает одну или две фразы и скользит взглядом по содержанию, я замечаю снисходительную искорку превосходства, с которым ученый двадцать первого века относится к примитивным теориям века девятнадцатого.
Корри ведет меня в бар конференц-центра, похожий на бары в сети гостиниц «Стейкис»; теперь это помещение заполняется биохимиками, или кто они там еще. На телевизионном экране, висящем в углу, транслируется церемония открытия парламентской сессии; камера направлена на лидера Палаты лордов, несущего церемониальную шапку, которая во времена первых Эдуардов символизировала власть над Нормандией и Аквитанией, а теперь — возвращение юрисдикции над Нормандскими островами. Церемония завершается — королева уже произнесла речь, все покидают зал, — и камера движется дальше. Кинозвезда, тоже пэресса, лебедем плывет по алому коридору, в длинном платье и жемчужной тиаре. Все направляются на ленч в зал Чолмондели.
Никто, кроме меня, не смотрит на экран; все пьют и разговаривают о генетике. Я готов поспорить с любым желающим, что Джон закажет минеральную воду или кока-колу, но ошибаюсь: я пью красное вино, а он — джин с тоником. Он почти ничего не знает об истории семьи, общей для нас, и до этого момента, похоже, совсем ей не интересовался. Может, я начерчу ему схему? У меня есть кое-что получше, отвечаю я и достаю копию генеалогической таблицы, составленной Дэвидом Крофт-Джонсом. Корри с довольным видом склоняется над ней, не забывая об орешках и чипсах.
— Полагаю, вы знаете историю о том, — говорю я, — как ваша мать увела жениха у сестры и сбежала, чтобы тайно с ним обвенчаться.
Это для него новость, и он на секунду теряется, не зная, как воспринимать мои слова, с улыбкой или серьезно. Потом вскидывает брови, предлагая продолжить. Я рассказываю ему все, что мне известно. Он об этом ничего не слышал.
— Мама умерла почти двадцать лет назад, — говорит Корри. — Они с папой умерли в 1980 году, с разницей в несколько месяцев. Они так любили друг друга, что один просто не мог жить без другого.
— Ваш отец сначала был помолвлен с вашей тетей Вероникой. — Вспомнив ее, я мысленно улыбаюсь. — Думаю, он сделал разумный выбор.
Эта фраза вызывает у него смех.
— А на фото тот самый прадед, о котором вы пишите? Я очень рад, что у меня теперь есть его книга. А он много еще написал?
— Прилично. Генри считался одним из лучших специалистов того времени. Разве вы о нем не слышали?
— Помню, мама рассказывала, что ее дедушка был врачом и лечил королевскую семью, — и всё.
— И ничего о болезнях крови?
Корри качает головой. Он нашел себя и меня на генеалогическом древе.
— Можно я добавлю сюда свою жену, а также брата с женой и их детей?
Очень мелким, аккуратным почерком он пишет рядом со своим именем: «ж. 1977, Мелани Строцци», — потом ниже: «Руперт Стивен, р. 1946, ж. 1977, Лорен Мэй Боуэр», а за ними: «Клей, р. 1978 и Уилсон, р. 1984».
Сам он бездетен. Я не часто встречал таких мужчин.
— А что именно вы изучаете?
Его лицо расплывается в улыбке; это улыбка ученого, слегка покровительственная, как у человека, посвященного в некие сложные материи, о которых его аудитория не имеет ни малейшего понятия.
— Что вы знаете о гемофилии?
Мне кажется, что довольно много, но я не осмеливаюсь об этом сказать.
— Думаю, только основы.
— Цель моих исследований — перенос фактора VIII при генной терапии гемофилии А. Вы знаете, что такое эпидермис, верхний слой кожи? Хорошо. Эпидермис — подходящая мишень, поскольку он очень доступен и способен выделять генные продукты в кровь. Мы провели эксперимент на мышах — я немного упрощаю, для вас, — и результаты дают основание полагать, что эпидермис способен синтезировать функциональный фактор VIII, который затем попадает в систему кровообращения.
— Понятно, — киваю я.
— Однако тут есть проблемы. Моделирование на трансгенных мышах имеет свои ограничения. Но мои результаты демонстрируют, что локализованная область кожи сама по себе может служить источником фактора VIII, и подтверждают возможность кожной генной терапии. Теперь я ищу наилучшие пути доставки фактора VIII в эпидермис. Может, пойдем и возьмем себе что-нибудь на ленч?
На экране все еще транслируется церемония открытия парламентской сессии. Начались дневные новости, и это главный сюжет. Я вхожу в столовую, а у меня в глазах все стоят алые мантии и сверкающие бриллианты. Здесь устроен шведский стол. Я беру себе цыпленка, ассорти из холодного мяса и салат. Джон отдает предпочтение карри с рисом, курице и шпинату — все на одной тарелке. Поначалу мне кажется, что он ведет меня за стол, где уже сидят двадцать делегатов конференции, но Корри лишь останавливается, чтобы обменяться любезностями с женщиной в красном брючном костюме и пожилым мужчиной, по-видимому, какой-то важной персоной. Это немного похоже на длинный стол в Палате лордов, где мне уже никогда не сидеть.
Нам с Джоном везет. Большинство, по всей видимости, желает сидеть со своими коллегами, сплетничать или обмениваться идеями, и мы без труда находим место в эркере, у окна с видом на парк. Я не очень голоден и гадаю, как справиться со всем, что лежит у меня на тарелке, но Джон с энтузиазмом приступает к еде. С тех пор как он сказал, что ничего не знал о Генри, за исключением того, что наш прадед был лейб-медиком королевской семьи, у меня на языке вертится один вопрос. Я откладывал его, пока Джон рассказывал о своих исследованиях, а теперь, когда я пытаюсь его сформулировать, Джон начинает описывать, как наследуется гемофилия, о чем я уже знаю.
— Ладно, я сейчас все вам напишу, — говорит он. — А еще лучше, на обратном пути мы возьмем брошюру Американского национального фонда гемофилии. Там объяснения для неспециалистов. — Неожиданно для меня он проявляет такт. — Мне очень жаль. Наверное все эти разговоры о крови, сперме и тому подобном могут отбить у вас аппетит.
— Вовсе нет. — Я заставляю себя откусить курицу и крокет с майонезом. — Значит… Вы занялись исследованием гемофилии вовсе не потому, что Генри был вашим прадедом? Я имею в виду, что в свое время он считался крупным специалистом по гемофилии. Вы изучаете ту же проблему, не подозревая об этом?
Я замечаю в нем кое-что еще. Такого открытого и честного лица я еще не встречал. Он откровенен. Его ответ потрясает меня. Мысли скачут и кружатся, словно мушки перед глазами, когда отворачиваешься от яркого света.
— Я гемофилик, — говорит Корри. — У меня не очень тяжелая форма. Основной риск составляют внутренние кровотечения, которые могут привести к артропатии — повреждению суставов, — но они предотвращаются вливаниями фактора VIII или фактора IX. В детстве для таких вливаний меня клали в больницу, но в шестьдесят пятом году медицина совершила прорыв в этой области. Доктор Юдит Грэхем открыла криопреципитат.
Я удивленно смотрю на него, надеюсь, не с открытым ртом.
— Богатый факторами компонент крови. Это значит, пациенту нужно вводить меньше жидкости, и препарат доступен в лиофилизированной форме, что сделало возможным домашнее лечение. У меня ни разу не было повреждения суставов. Можно сказать, эти открытия были сделаны очень вовремя — для меня. В настоящее время имеется множество препаратов с факторами свертывания крови, а также доступно профилактическое лечение.
— И ваша генная терапия.
— И моя генная терапия, как вы выразились. Я использую препарат для лечения гемофилии А легкой и средней тяжести, который называется десмопрессин ацетат, или DDAVP. Проводится также генетическое тестирование. Но в моем случае оно бесполезно. Все дочери больного гемофилией являются носителями болезни, так что для меня все ясно. Я решил не иметь детей, но, на свое счастье, женился на женщине, у которой уже были двое детей от первого брака.
— Но откуда у вас болезнь? — Жаль, я не владею терминологией, я уверен, что путаюсь в понятиях и начинаю с ошибки, которую мог бы не делать. — От кого вы ее унаследовали? Ваш отец был гемофиликом?
— Будь он болен, на меня это никак бы не повлияло. Вы должны изучить брошюру. Все дочери больного гемофилией являются носителями болезни, потому что у них его Х-хромосома, а сыновья здоровы. От отца они получают Y-хромосому.
— Значит, проводником была ваша мать? — Я невольно употребил термин, которым пользовался Генри и его современники, но тут же поправил себя: — Я имею в виду, носителем?
— Несомненно. Разумеется, это было следствие мутации. Я прочел монографию о гемофилии в королевской семье, ее автор отвергал возможность мутации гена в геноме королевы Виктории.
— Но ведь это очень редкое явление?
Джон улыбается той же улыбкой.
— Гемофилия сама по себе очень редкая болезнь. С другой стороны, мутация — обычное дело. Приблизительно у тридцати процентов гемофиликов болезнь обусловлена мутацией гена матери.
— И так произошло с вашей матерью?
— Несомненно. Ее спрашивали об этом, когда я был ребенком. Она не знала, есть ли в семье больные гемофилией. Это была мутация. Позвольте привести вам пример. В исследовании, охватывавшем пятьсот сорок три пациента с гемофилией А — как у меня, — у двухсот девяносто шести человек были обнаружены уникальные мутации.
Я смотрю на его дополнения к генеалогическому древу.
— А ваш брат?
— Руп не гемофилик. Ему повезло. У мамы, как и у любой другой женщины, две Х-хромосомы. По всей видимости, он получил ту, в которой не было мутировавшего гена.
От генетики у меня уже голова идет кругом. Я ничего не ем, что Джон приписывает моей чувствительности. Сам я не могу определить причину. Мы идем и берем пудинг — «десерт», как я должен его называть. Мне кажется, я осилю крем-карамель. Джон берет то же самое, а также чизкейк, шоколадный и банановый мусс. На этот раз я заставляю себя съесть то, что лежит у меня на тарелке. Тему разговора мы сменили — теперь это история семьи. Я рассказываю о жизни Генри, о его медицинском образовании, о друзьях, о катастрофе на мосту через реку Тей, о лечении принца Леопольда, о женщинах нашего прадеда. Джон, похоже, понятия не имеет о нравах того времени, и с позиций сегодняшнего дня история с Джимми Эшворт шокирует его. Тот факт, что Джимми навязали Лена Доусона, кажется ему чудовищным. Он спрашивает, почему Лаура Кимбелл не сделала тест ДНК, чтобы удостовериться в нашем с ней родстве, и не может понять, когда я объясняю, что она предпочитает ничего не знать, сохранив свою веру в добродетель Джимми.
— Разве не лучше знать правду?
Лучше ли? Я на время забываю о правде; для меня сегодня это слишком широкое понятие.
— Генри был одержим кровью, — говорю я. — Ей он посвятил всю жизнь. Кровь. Разве это не удивительное совпадение, что вы, его правнук, больны гемофилией и также посвятили жизнь изучению крови?
— Генов, а не крови, — поправляет Джон. Мы возвращаемся в вестибюль, чтобы выпить кофе. — Возможно, это действительно совпадение, что он был специалистом — если в то время можно говорить о специалистах — по гемофилии, а я гемофилик. Совпадения случаются. С другой стороны, посмотрите на его семью — в ней нет ни больных гемофилией, ни носителей болезни.
Судя по выражению его лица, он считает, что такие люди, как я, не имеющие отношения к науке — писатели, биографы, с богатым воображением и неупорядоченным мышлением, — всегда ищут сенсацию. И если не находят, то придумывают. Или делают из мухи слона.
Джон улыбается мне и протягивает через стол блюдце с мятным шоколадом. Я вдруг вспоминаю о Джуд, возможно, потому что она ненавидит мятные конфеты, которые обычно предлагают после еды, говорит, что по вкусу они напоминают зубную пасту. И меня посещает одно из тех предчувствий, которые бывают у других, но у меня — крайне редко; я знаю, что эти ощущения ничего не означают, кроме того, что предсказанное событие, скорее всего, не произойдет. Теперь мне чудится, что я нужен Джуд и она пыталась связаться со мной, но не смогла. Время уже почти три.
— С вами все в порядке? — спрашивает Джон. — Вы побледнели. Все эти разговоры…
— Нет, нет. Все хорошо. Но мне пора.
Он говорит, что вызовет для меня такси, и по пути берет одну из тех брошюр о гемофилии. Допивая кофе, я пытаюсь думать о том, что мне сказал Джон, но в голове у меня только Джуд. Она на работе. Я не взял с собой мобильник — вечно его забываю, а может, намеренно не беру, потому что в Вестминстерском дворце его все равно нужно выключить. Туда я больше не пойду. Ура, мне можно носить мобильник!
Я могу воспользоваться таксофоном, с помощью которого Джон вызывает мне такси. Он возвращается и говорит, что машина будет через десять минут. Я пытаюсь дозвониться до жены и соединяюсь с редакцией, но потом включается голосовая почта Джуд, из чего я делаю вывод, что на рабочем месте ее нет. Не в силах скрыть своего разочарования, я сообщаю Джону о своей ненависти к современным технологиям, называю себя луддитом[55] (что на самом деле неправда), говорю, что презираю электронную почту, не имею факса, в Интернете способен найти только страницу газеты, о которой раньше никогда не слышал, и бегу, как от чумы, от парламентской сети передачи данных в Палате лордов. Джону, конечно, все это нравится; он получает до двадцати электронных писем в день, и сегодня утром уже отправил два письма жене с помощью портативного компьютера, который служит ему также телефоном и факсом.
Входит таксист, ищет меня. Я не испытываю неприязни к Джону Корри, это просто невозможно, но у нас с ним нет ничего общего. Сомневаюсь, что мы еще когда-нибудь увидимся. Тем не менее он поздравляет меня, что я нашел его, а я поздравляю его, что он нашел меня, и хотя мы не клянемся в вечной дружбе — хватит и того, что мы родственники, — но обещаем обязательно встретиться, если я когда-либо буду в Филадельфии, а он — в Лондоне. И он с радостью окажет мне любую помощь, какая мне только потребуется, в изучении болезней крови, а также счастлив иметь у себя «опус прадеда».
Поезд опаздывает на десять минут. Когда он приходит, оказывается, что народу в нем не так много, как утром, а вагоны старого типа, с расположенными друг напротив друга парами кресел и столиками между ними. Я кладу брошюру на стол и открываю. Это разноцветный глянцевый буклет размером с воскресное приложение к газете, с фотографиями счастливых людей — молодых, красивых, улыбающихся, — которые предположительно научились жить с гемофилией с помощью чудес современной медицины. Я нахожу уже известную мне информацию об Х-и Y-хромосомах, затем читаю об осложнениях разных типов заболевания. Но мне трудно сосредоточиться, потому что я все время вспоминаю о странном совпадении: правнук Генри, лучшего специалиста по гемофилии (что бы там ни говорил Джон) викторианской эпохи, страдает от той же болезни. Меня беспокоит и другое совпадение, заключающееся в мутации гена у внучки Генри, что стало причиной гемофилии у ее сына. В вероятность этого — с учетом слов самого Корри о редкости заболевания — я поверить не могу. А если Джон верит, то лишь потому, что он не писатель с богатым воображением, ищущий сенсаций, а ученый, не интересующийся странностями внутренней жизни человека.
Когда поезд приближается к Ливерпул-стрит, нагнав в пути десятиминутное опоздание и сообщающий по системе местного оповещения о своей победе, тревога за Джуд возвращается. Уже половина пятого. Я иду к телефонной будке, набираю номер рабочего телефона жены и снова попадаю на голосовую почту. Потом пытаюсь позвонить домой. Сначала включается автоответчик, потом трубку берет Лорейн и говорит, что Джуд заболела и поехала в больницу. Она не знает, что случилось. В отличие от меня. Я знаю.
На этот раз и близко нет девяноста дней. Гинеколог сказал Джуд, что для новой попытки было слишком рано. Следовало подождать полгода. Ее продержали в больнице до утра, но с ней все в порядке; боли — то есть физической боли — не было, только кровь и крошечный плод, слишком маленький, чтобы можно было разглядеть пол, не больше пакетика желе. По описанию Джуд, а не гинеколога. Меня от этого подташнивает. Сойдя с поезда, я выпил много виски и кофе, но ничего не ел. За последние два дня было слишком много разговоров о крови, и я удивляюсь, как врачи могут это выносить, как они справляются, пока не привыкнут. Прошлой ночью, когда я спал один, мне даже снился сон о крови. Я был в центре переливания, лежал на кушетке, а мужчина на соседней — Генри. Я не удивился, увидев его там, потому что мы друзья, а кроме того, он мой предок. К нам подошла медсестра и сказала, что Генри молодо выглядит для моего прадеда, а потом прибавила, как это свойственно некоторым женщинам, что он, наверное, женился еще ребенком.
Из моей руки и из руки Генри стали брать кровь. Моя была обыкновенной, а его — гораздо темнее и гуще. Медсестра поднесла стеклянную бутылку, в которую собиралась его кровь, к свету, а врач посмотрел на нее и сказал, что с первого взгляда видно: в ней есть ген аристократизма. Сын этого человека будет знатным человеком и получит место в Палате лордов — а также его внук, правнук и все потомки до скончания века. Бутылка Генри наполнилась, но кровь не остановилась. Она перелилась через край, выплеснулась на пол; Генри истекал кровью. Он сел, затем встал и закричал, чтобы врачи сделали что-нибудь, остановили кровь. Разве они не знают, что у него гемофилия? Они хотят, чтобы он умер от потери крови? Тут я проснулся, со страхом ожидая, что окажусь в окровавленной постели, как уже бывало раньше, но я лежал один, на чистых белых простынях.
Я забрал жену домой. Постельный режим ей не нужен. Она не больна. Просто, как заявила Джуд, стараясь выглядеть практичной, бодрой и философски настроенной, она абсолютно здоровая женщина, которая четыре раза беременела и четыре раза теряла ребенка, выходившего из нее вместе с кровью. Переживать глупо — то же самое случалось со многими женщинами, но в конечном итоге они рожали здоровых детей. Ей всего тридцать семь, и времени еще навалом. На эту искусственную бодрость смотреть больнее, чем на горе. Это поза, которую она храбро приняла перед первым посещением психотерапевта. Визит назначен на конец недели. Я спрашиваю, что такого может сказать психотерапевт, чего не могу я или что Джуд не знает сама. Или она просто поступает политкорректно?
— Мне хочется знать, что думает посторонний человек, — отвечает Джуд. — Кто-то, кто не знает меня или тебя.
Я высказываю предположение, что вреда не будет. Но из головы не выходит мысль о том, как она обманула меня насчет зачатия этого последнего, потерянного ребенка. Это чувство отошло на задний план, пока она была беременна, счастлива и уверена в себе, но теперь вернулось, и я боюсь, что Джуд может решиться на новую попытку. Я бы попросил ее не пытаться зачать ребенка в течение шести месяцев, как советует гинеколог, но мы никогда не требовали друг у друга обещаний, и теперь неподходящее время начинать. Случилось кое-что еще, и это волнует меня гораздо больше всего остального.
В газетах печаталось множество статей о том, должен ли муж или партнер присутствовать при рождении своего ребенка или нет. Многие годы считалось, что должен. Я был рядом с Салли, когда она рожала Пола. Мы оба считали само собой разумеющимся, что я буду присутствовать, я не помню споров на эту тему; когда начнутся роды, Салли поедет в больницу, а я буду ее сопровождать, или она позвонит мне на работу — тогда я работал в издательстве, — и я тут же приеду. Теперь гинеколог, автор тех статей, считает эту идею плохой, по разным причинам. Во-первых, мужчины расстраиваются, наблюдая за страданиями женщин; во-вторых, мужчины часто заводят неуместные разговоры; и в третьих, что особенно злит феминистское лобби, наблюдение за процессом родов может уменьшить сексуальную привлекательность женщины. Мужчина больше не будет относиться к своей женщине так же, как прежде.
Не могу сказать, что роды подействовали на меня именно так. Но к моменту появления на свет Пола мы с Салли уже охладели друг к другу, оба поняли, что совершили серьезную ошибку. К тому времени в моих глазах она уже практически утратила сексуальную привлекательность. Но теперь меня беспокоят вовсе не чувства присутствующего при родах мужчины. Я чувствую перемены в моем влечении к Джуд, хотя «влечение» — неподходящее слово. Точнее, моя огромная, всепоглощающая, абсолютно не похожая ни на что страсть, почти одержимость. Так было, и упоминание об этом в прошедшем времени причиняет мне физическую боль. Я не видел, как Джуд рожает, но за последние месяцы и годы, к сожалению, видел слишком много крови и страданий, слышал слишком много разговоров о дефектах матки и аномалиях менструального цикла, и это все накопилось, каким-то образом повлияв на загадочный механизм влечения. Я отвратителен, да? Грубый и бесчувственный — что может быть хуже для мужчины. Знаю, но это ничего не меняет. Я никому не могу об этом рассказать, у меня нет близкого друга. И я не могу рассказать Джуд, своей любимой, единственная вина которой состоит в том, что она хочет быть матерью, подобно любой другой, как она думает, женщине в мире.
Я не могу никому рассказать, что мне теперь открылось: кажется, я знаю, почему мужчины желают девственниц, нетронутых и невинных. Чтобы лишить их чистоты, запятнать, замазать кровью? Возможно. Я знаю, почему ортодоксальные евреи подвергают своих женщин обряду очищения после родов. Но я не желаю знать об этих неприятных вещах. Я хочу снова испытывать к жене страсть, а не эту нежную, пронизанную жалостью братскую любовь.
22
В совпадения я не верю, но не могу найти того, что расставило бы все по местам. Я обдумываю последнюю главу — до ее написания еще очень далеко — и произношу примерно следующее:
Только один из потомков Генри Нантера пошел по его стопам и стал врачом. Джон Уэнтуорт Корри, сын его внучки Ванессы Киркфорд и американца Стивена Уэнтуорта Корри. Он в настоящее время является сотрудником Пенсильванского университета и занимается генетическими исследованиями. Волею случая он сам болен гемофилией, что явилось результатом мутации гена у его матери, и работает над методами генной терапии гемофилии А.
Мне это не очень нравится. И напоминает о том, что я не знаю, правда ли, что Джон Корри единственный потомок Генри, выбравший профессию врача. Нужно проверить. Например, чем занимается его брат Руперт. Я должен был спросить, но не догадался, потрясенный неожиданным совпадением. Есть еще Кэролайн, Люси и Дженнифер, внучки Мэри, второй дочери Генри, и мои троюродные сестры, такие же, как Джон и Дэвид, но я ничего о них не знаю. Только видел их имена в генеалогической таблице Дэвида. У всех могли быть мужья или партнеры, они могли родить детей, и кто-то из этих детей мог стать врачом, медсестрой, рентгенологом, руководителем органа здравоохранения или санитаром. Джуд хочет пригласить Крофт-Джонсов на ужин (не официальный, на кухне) и не возражает, если они возьмут с собой Святой Грааль. На этот раз она более скрытна и не рассказывает о своей беременности Джорджи, чтобы не столкнуться с сочувствием, вынести которое будет непросто.
У меня появляется новая идея, похоже, она не приходила в голову Джону. Или приходила, а он не стал о ней упоминать. Почему предполагается, что мутация произошла в гене Ванессы? Почему не у ее матери Элизабет Киркфорд, урожденной Нантер? Джон сказал бы, что я очень мало знаю о гемофилии, но судя по тому, что написано в брошюре, болезнь мужчины может быть обусловлена изменением в геноме не только матери, но и бабушки. В таком случае носителями болезни могут быть и Ванесса, и Вероника. Разумеется, тогда совпадение еще невероятнее — это значит, что у одной из дочерей Генри произошла мутация гена, сделавшая ее носителем той болезни, изучению которой он посвятил жизнь.
Галахад превратился в занятного ребенка. Он все время улыбается. Как будто обнаружил, что улыбаться — очаровательная привычка, вызывающая одобрение, а у родителей настоящий экстаз, и поэтому улыбаться нужно как можно чаще. И еще он смеется, издает довольно мелодичный, переливчатый звук, когда видит что-нибудь яркое или блестящее. Ему еще нет шести месяцев, но он уже сидит и, по словам Джорджи, скоро начнет ползать. Похоже, Галахад не унаследовал ни довольно мрачный темперамент отца, ни непоседливость матери — это веселый, счастливый и безмятежный ребенок. Вероника — уже месяц отсутствующая, но не забытая — сказала Джорджи, что спокойствие и «хорошее» поведение ребенка не свидетельствуют о его уме. Умные люди в детстве бывают ужасными озорниками — как Дэвид.
— Вы можете вообразить что-то более жестокое? — вопрошает Джорджи.
Мы не можем. Мы качаем головами, хотя ничуть не удивлены. Даже Дэвид, который, по словам Джуд, наконец внял библейскому совету — оставил мать свою и прилепился к жене своей[56], — говорит, что Вероника бывает очень жестокой. И он абсолютно уверен, что не был проказником в детстве, это ее очередная фантазия.
— Я так хочу, чтобы вы забеременели, — говорит Джорджи, обращаясь к Джуд, словно та сама не хочет. — Знаете, когда это произойдет, я могу так обрадоваться, что рожу еще одного ребенка, чтобы составить вам компанию.
Лицо Дэвида вытягивается.
— А со мной не посоветуются?
— Конечно, посоветуются, дорогой. И не только, — она смеется, и Галахад тоже. — Ты будешь участвовать, как и в прошлый раз. Ты разве не помнишь?
Галахад смеется так громко, что Джорджи — наподобие людей, утверждающих, что их домашние питомцы понимают каждое слово, — убеждена, что ее сын даже в таком раннем возрасте знает о продолжении рода. Мы меняем тему разговора, хотя и не совсем. Дэвид захватил с собой последний вариант генеалогии, но, как мне показалось, с прошлого раза таблица почти не изменилась. Я добавляю к ней семью Корри и спрашиваю о женщинах, известных мне только по именам, но Дэвид знает лишь, что Люси замужем — его приглашали на свадьбу, — а Дженнифер, кажется, нет. О Кэролайн он ничего не знает, но говорит, что выяснит в архиве записей актов гражданского состояния, и я соглашаюсь, чтобы он оказал мне эту услугу.
— Моя мать не знает. Я ее спрашивал. Такое впечатление, что она поссорилась с Патрисией и с Дианой тоже.
Еще более вздорная женщина, чем мне представлялось. Я говорю ему, что должен еще раз встретиться с Вероникой. Дэвид настораживается.
— Не думаю, что мы можем пригласить ее, Мартин. Уж точно не теперь. Как-нибудь позже. — Он понижает голос, хотя Джуд с Джорджи на кухне и их видно только через окошко для подачи еды. Его свистящий шепот смешит Галахада. — Вы, должно быть, заметили, что они с Джорджи не ладят. Моя мать иногда крайне неудачно выражается. А жена бывает очень эмоциональной.
— Я подумывал, не съездить ли к ней в Челтенхем.
Его лицо проясняется.
— Конечно, почему бы и нет? Хорошая мысль. Знаете, она очень гостеприимна. Приезжайте к ней на чай, и она начнет печь за несколько дней до вашего приезда. — Дэвид желает знать, о чем я собираюсь спрашивать Веронику. Хотя совершенно очевидно, что его интересует лишь одно — избежать присутствия матери в своем доме. Возможно, Дэвид собирается сам приезжать в Челтенхем или поселить ее в гостинице, когда она в следующий раз явится в Лондон. — Я дам вам номер телефона. И ее адрес. Может, вы предпочтете сначала написать? Думаю, ей это понравится, предварительное письмо. Кстати, вы ведь не будете — я уверен — упоминать Ванессу, да?
Я не разубеждаю его, хотя, разумеется должен поговорить о Ванессе, поскольку это одна из главных причин моего визита. Адрес я уже знаю, получал от нее письмо. Возможно, Вероника откажется, но шанс упускать нельзя. Она может даже не знать, что ее сестра умерла. Или ей все равно. У меня возникают самые невероятные предположения относительно этих сестер, их родственников и моей двоюродной бабки Элизабет Киркфорд, но я гоню эти мысли прочь. Не хочу тратить время на фантазии, которые могут оказаться бесплодными, когда Вероника со мной поговорит. Если поговорит.
Что касается подготовительной работы, то я приближаюсь к последнему периоду в жизни Генри. Естественно, остались пробелы, причем довольно большие и требующие заполнения, но течение — или поток — его жизни прервется через шесть лет. Он снова выступил в Палате лордов — один раз в дебатах по поводу автомобилей, которые он назвал «кумиром на час», а второй раз предупредил о недальновидности предложения предоставить женщинам право голоса. В его речи, произнесенной в 1904 году, нет ничего нового. Почти пятнадцать минут Генри пространно рассуждал о хрупкости женского здоровья по сравнению с мужским, о регулярных «недомоганиях» женщин, что, по его мнению, приводит к перманентному состоянию легкой инвалидности, об их особой склонности к устройству семейного гнездышка и к домоводству, об их интуиции как противоположности рациональному мышлению мужчин. Все это не имело отношения к предоставлению женщинам права голоса и было направлено скорее на то, чтобы не допускать их в университеты и к определенным профессиям, но никто не усомнился в обоснованности его слов. Взгляды графа Феррерса о возможности женщин быть законодателями, изложенные пятьдесят три года спустя, недалеко ушли от взглядов Генри. Несколько человек, выступавших после него, похвалили высокочтимого лорда Нантера за мудрые слова, которые, как выразился один из них, основаны на экспертных знаниях «врача с потрясающей репутацией». Женоненавистник Генри. Вне всякого сомнения, он был доволен приемом, оказанным ему коллегами, но больше не выступал. Я пролистал официальные стенограммы заседаний за все оставшиеся годы его жизни, но не нашел свидетельств, что Генри хотя бы раз появлялся в Парламенте.
Он сдавал, отступал перед возрастом. В феврале 1906 года ему исполнилось семьдесят. В дневнике есть запись о дне рождения. «Дней лет наших — семьдесят лет[57]. Сегодня я достиг отмеренного срока». Для человека, объявлявшего себя агностиком, Генри слишком часто цитирует Библию, но это, вне всякого сомнения, следствие его уэслианской юности. Он больше не был лечащим врачом королевской семьи; похоже, его служба закончилась в 1901-м, с восшествием на престол Эдуарда VII. Следить за здоровьем принцев из семьи Баттенбергов, Мориса и Леопольда, назначили кого-то другого. Весной 1906 года умер Барнабас Коуч. Генри пишет в своем дневнике: «Поездом в Эдинбург. Присутствовал на похоронах бедняги Коуча». Думал ли он, стоя на церковном дворе и наблюдая, как гроб с телом старого друга опускают в землю, что больше некому спросить, как продвигается его magnum opus? Теперь Генри мог бросить свой главный труд, не испытывая стыда и не придумывая предлога. А что касается женщин, которые могли спросить об успехах «папы», их мнение в расчет не принималось. Они были инвалидами, в своих поступках опирающимися на интуицию.
Известно, что Генри начал писать эту книгу. На первом этапе, в конце XIX и в начале XX века, он отмечал в дневнике: «Работал над “Историей”, существенно продвинулся» и «Закончил шесть глав “Истории”». Но к 1903 году подобного рода записи больше не появлялись. Неизвестно даже, каким должно было стать полное название книги. «История болезней крови»? «История гемофилии»? Время от времени он принимал пациентов, изредка читал лекции. Его имя указывалось среди авторов раздела о гемофилии многотомного труда «Сокровища человеческой наследственности», который в медицинских кругах носит название «Баллок и Филдс», по имени его главных вдохновителей, хотя этот труд был опубликован через три года после смерти Генри. Но его работа была закончена, и, по всей видимости, он считал, что жизнь тоже.
В тот год, когда умер Коуч, а Генри исполнилось семьдесят, его старшая дочь, 21-летняя Элизабет, обвенчалась с Джеймсом Бартлеттом Киркфордом в церкви Св. Марка на Гамильтон-террас. Генри присутствовал при венчании. Краткая запись в его дневнике в субботу, в июне месяце: «Выдал Э. замуж». Муж увез Элизабет в Йоркшир. Мэри, Хелена и Клара по-прежнему жили дома; Клара училась в школе в Сент-Джонс-Вуд. Старший сын и наследник Александр тоже ходил в школу, в подготовительную школу в Эркли, после которой его отдадут в Харроу, но Джордж был больным мальчиком, и его здоровье не позволяло посещать школу. Каждый день к нему приезжал наставник по имени мистер Бэквит, преподавал ему латынь и математику, а мадемуазель Парент учила французскому. Генри, который старался как можно меньше бывать дома, когда дочери были маленькими, теперь почти не выходил. Похоже, что Джордж все свободное от занятий время проводил с отцом.
Обильным источником информации о жизни семьи служили письма, которыми обменивались Элизабет Киркфорд и ее сестра Мэри Нантер. На протяжении многих лет они писали друг другу раз в месяц, хотя в переписке случались и перерывы: в частности, летом 1910-го, а затем в 1917 и в 1919 годах. Однако в августе 1910 года Мэри упоминает о «твоем июньском письме», а в декабре 1917-го — о жалобах Элизабет на «коклюш Ванессы» несколькими месяцами раньше, хотя этих писем не сохранилось. Отсутствует также корреспонденция с мая по август 1910 года и с сентября по ноябрь 1917-го. Еще один перерыв был в 1919-м — за тот год сохранилось только по одному письму от каждой женщины. Разумеется, письма могли потеряться. Нет никаких причин предполагать, что их уничтожили намеренно. Сохранившаяся корреспонденция, отправленная до смерти Генри, показывает подробную картину жизни в Эйнсуорт-Хаусе, а также некоторые детали замужества Элизабет. Джеймс Киркфорд хромал. По всей видимости, у него одна нога была немного короче другой. Поэтому его не призвали в армию во время Первой мировой. «Я никогда не думала, что буду рада инвалидности бедного Джеймса, но теперь испытываю благодарность судьбе, — пишет Элизабет. — Конечно, он переживает, особенно после того, как какая-то скотина прислала ему белое перо». Четырьмя годами раньше она родила сына.
Я мучилась два дня и ужасно боялась, но, наконец, он родился, и мои страдания не настолько велики, что лишили меня желания подарить ему брата или сестру. Джеймс хочет, чтобы ребенку дали его имя, и я согласна, но первым именем должно быть Кеннет. Это модно, но стыдиться своего имени ему никогда не придется.
К тому времени Генри уже год как не было в живых. В 1907-м и в начале 1908 года Мэри пишет о плохом здоровье отца. Она называет это «недомоганием».
Думаю, даже сам папа не знает, что с ним. Это недомогание, которое невозможно определить. Иногда он страдает от несильных болей в груди и левой руке, что указывает на непорядки с сердцем; по крайней мере, он так говорит.
На Рождество 1907 года она пишет сестре:
Мы будем скучать по тебе, но все понимают, что ты должна провести праздники с родными Джеймса. У нас нет гостей, и мы никуда не ходим. Похоже, бедного папу ничего не интересует — если не считать Джорджа. Все свои часы бодрствования он проводит с мальчиком, по большей части читает вслух, что Джорджу очень нравится, хотя с четырехлетнего возраста он прекрасно может читать сам. Мой брат очень страдает, а по ночам иногда так кричит, что кровь стынет в жилах, будит весь дом. Папа заказал доставку сюда льда и часами прикладывает свежие пакеты. Похоже, готов на все…
А вот февральское письмо:
Они играют в необычные игры. Их последняя выдумка — считать, сколько раз то или иное слово встречается в пьесах Шекспира. Например, «зеленый» или «молоко» в «Макбете»! Джордж обожает эту игру и утверждает, что обнаружит в одной из пьес тайный код. Он такой умный ребенок, какими не были ни мы, ни уж точно Александр.
Джордж умер в июле 1908 года. Для его отца это был удар невиданной силы. Мэри пишет:
Это ужасно для всех нас, но хуже всего для бедного папы. Мама всегда такая флегматичная, или скажем, чтобы не обижать ее, «философски настроенная». Похоже, ничто не может надолго опечалить ее. Я невольно задаю себе вопрос: как отреагировал бы папа на смерть кого-то из нас. Думаю, совсем иначе. Кто станет отрицать, что Джордж был единственным из его детей, которого он хоть немного любил? В начале девяностых ты тяжело заболела скарлатиной. Мне было всего пять, но я очень хорошо помню, что папа к тебе почти не подходил, утверждая, что боится заразиться, хотя сам переболел этой болезнью. Когда мы с мамой пришли сказать ему, что ты вне опасности, он едва поднял голову от книги.
Довольно жестоко сообщать такое сестре, если она раньше не знала о черствости отца. Генри умер в 1909 году, через полгода после Джорджа. «От разбитого сердца», — предполагает Элизабет в письме к сестре. Мэри категорически не согласна.
Если причиной смерти отца (она больше не называет его папой) и было разбитое сердце, то разбило его не горе, а сердечная болезнь. Что бы ни говорила мама, я убеждена, что у него был сердечный приступ вскоре после смерти Джорджа. Во всяком случае, она нашла его лежащим на диване в кабинете; он прижимал ладони к левому боку, а его лицо было странного, пурпурного цвета.
Еще один удар, в январе следующего года, убил Генри. «Таймс» напечатала пространный и льстивый некролог, а принцесса Беатрис прислала свои соболезнования. Большую часть имущества Генри завещал сыну Александру, ставшему лордом Нантером. Исключения составляли небольшие деньги, обеспечивавшие постоянный доход его незамужним дочерям, а также пожизненное право его вдовы на Эйнсуорт-Хаус и приличная сумма страховки. Эдит поставила на его могиле надгробие, где предусмотрела место для своего имени. Надпись обычная: «Генри Александр, барон Нантер, кавалер ордена Бани, возлюбленный муж Эдит, родился 9 февраля 1936, умер 20 января 1909 года. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут»[58]. Думаю, я теперь достаточно хорошо знаю свою прабабку и понимаю, какая ирония заключена в этих словах. Ее муж был врачом, так что обращение к этой заповеди блаженства вполне уместно.
Напротив главных ворот кладбища остались две или три террасы с коттеджами. Они и еще пара больших домов — вот и все, что сохранилось с той поры и может дать представление, как выглядел район Кенсал Грин, когда здесь похоронили Генри. Но даже тогда тесные улицы предместья были полны магазинов, многие из которых теперь закрыты, а их витрины заколочены досками. Можно пройти всю Харроу-роуд, от Паддингтона до Харлсдена, и не увидеть — за исключением мясной лавки с очередью у двери — ни одного магазина, куда бы захотелось зайти, уже не говоря о том, чтобы что-то купить. Район стал заброшенным, почти опасным: на тротуарах мусор и жевательная резинка, здания уродливые или облезлые, все стены на соседней станции метро расписаны граффити красного, желтого и синего цвета. Живущие здесь люди предпочли бы поселиться почти в любом другом месте, и на их мрачных лицах читается недовольство. Летом кладбище — это тихая зеленая гавань, но теперь за высокой стеной дрожат голые ветки, и кажется, что за ней откроется тюремный двор.
В воздухе висит мелкая морось, чуть более влажная, чем туман. Я примерно представляю, где расположена могила Генри, но чтобы ее найти, приходится взглянуть на план кладбища, который мне дали. Территория кладбища огромна, а некоторые надгробия размерами и формой не уступают домикам за оградой. Меня окружают обелиски и ангелы, плачущие вдовы из покрытого оспинами известняка, разбитые колонны; повсюду плющ и падуб, вечнозеленые, мрачные, уродливые и, вероятно, бессмертные, в отличие от тех, кто лежит в земле у меня под ногами. Я представляю разлагающиеся кости и гниющее дерево, кишащее личинками, и задаю себе вопрос, чего они хотели добиться, те викторианцы. Стремились победить смерть? Если так, то явно потерпели неудачу, поскольку это место — обитель смерти, где живой человек чувствует себя чужаком и должен поторапливаться, если хочет выйти отсюда живым.
Надгробие не особенно впечатляет. Оно стоит между обелиском, похожим на «Иглу Клеопатры» и увековечивающим память египтолога, и плачущей музой какого-то поэта. Между могилами стелется ковер из плюща и ежевики. Генри похоронен вместе со своей женой Эдит и сыном Джорджем. Эпитафия младшему сыну более эмоциональна, чем надпись, которую Эдит сочинила для его отца. Вероятно, ее придумал сам Генри, поскольку о матери мальчика в ней нет ни слова. «Джордж Томас, возлюбленный сын лорда Нантера, одиннадцать лет. Доносится ли до вас, о братья, плач детей?» Кажется, это цитата из Элизабет Браунинг; если мне не изменяет память, из стихотворения о страданиях фабричных детей. Потом проверю. Эпитафия Эдит, по всей видимости, заказана Александром во время одного из коротких периодов его жизни в Лондоне. «Луиза Эдит, леди Нантер, вдова лорда Нантера, 1861–1932, нежно любимая мать». Вне всякого сомнения, замужние дочери Генри похоронены рядом со своими мужьями. А Хелена? А Клара? Они лежат где-то еще, забытые, никому не нужные женщины, презираемые семьей и потомками по боковой линии.
Меня удивляет ваза с цветами. Могила выглядит так, словно за ней не ухаживали многие годы, но уж никак не две трети столетия. У основания покрытой мхом плиты стоит маленькая каменная ваза, наполовину заполненная зеленовато-бурой водой, из нее торчит букет увядших роз. Цветы засохли, но сохранили цвет, а их листья даже не сморщились. Кто мог их сюда принести? Явно не моя двоюродная бабка Клара, прожившая дольше всех в своем поколении. Она умерла в 1990 году, в возрасте почти ста лет, а эти цветы стоят здесь не больше нескольких недель. Еще одна небольшая загадка, которую мне хотелось бы разгадать.
Подчинившись странному, не свойственному мне импульсу, я возвращаюсь к воротам кладбища, к маленькому киоску с цветами, и покупаю букет хризантем. Устраивая их в дождевой воде в каменной вазе, понимаю, что принес их не Генри и не Джорджу, а Эдит. Я привык считать ее счастливой женщиной, вышедшей замуж удачнее, чем можно было ожидать, живущей в красивом доме и ни в чем не нуждающейся. Муж был ей предан, дети любили, и, по свидетельству дочери, у нее был ровный, спокойный характер. Она хорошо фотографировала, а также рисовала — по крайней мере, для собственного удовольствия. Но теперь мне начинает казаться, что с Эдит дурно обращались, обманывали, что ею пользовались — но я еще не знаю, почему.
23
Как и предсказывал Дэвид, Вероника пригласила меня на чай. Я не против, чтобы Джуд поехала со мной. Мы могли бы провести уик-энд в Котсуолдсе, и я бы оставил ее ненадолго в отеле в Стоу, а сам съездил бы Челтенхем. Но Джуд отказывается. Она приводит несколько предлогов, и я понимаю, что на самом деле ей просто не хочется. Это слишком дорого, сообщает она, мы не можем себе позволить путешествия по выходным. Кроме того, на пятницу ей назначен генетический анализ, чтобы выяснить, нет ли у нее рецессивного гена, вызывающего все эти выкидыши. Намекнув, что мне тоже неплохо было бы пройти такой тест, Джуд говорит, что лучше останется дома — она достаточно часто бывала в тех местах на Челтенхемском литературном фестивале.
И ей нужна машина, так что я отправляюсь поездом. От вокзала до дома Вероники двадцать минут пешком, и во время неспешной прогулки (еще рано) я размышляю о генах, пытаюсь представить, что это за генетический тест, убеждая себя — так мы обычно разговариваем сами с собой, — что у меня должно быть все в порядке, поскольку я уже являюсь отцом здорового ребенка. Может, нужно позвонить Джону Корри и попросить, чтобы он объяснил? Но сначала тест нужен мне — ради Джуд.
Вероника живет не в красивом георгианском особнячке с террасой, которых тут немало, а в «городском доме» постройки 70-х годов XX века, с венецианскими окнами и встроенным гаражом. Она явно ждала меня, высматривала или прислушивалась, поскольку открывает дверь очень быстро, как будто заранее к ней подошла. Вид у нее чрезвычайно ухоженный. Волосы недавно покрашены, на ногтях свежий лак, а одета она, как мне кажется, по последней моде для женщин лет на сорок моложе ее — в объемную юбку и джемпер с бахромой. Я опишу ее наряд Джуд, чтобы та подтвердила мою догадку. Насчет роскошного чаепития Дэвид оказался абсолютно прав. Вероника приготовила сэндвичи с копченым лососем, ячменные лепешки с джемом и кремом, оладьи, морковный пирог и песочное печенье. Ужинать теперь не придется — я рассчитывал поесть в поезде на обратном пути.
Пока мы едим, она рассказывает историю семьи — вероятно, смягченный, разбавленный и очищенный ее вариант, поскольку все люди, независимо от возраста, просто не могут быть такими добродетельными, консервативными и скучными, какими Вероника рисует Нантеров и Киркфордов. Генри она не знала, о чем уже говорила раньше. Бабушка Эдит, насколько она помнит, была снисходительна к шалостям детей, но не играла с ними и вообще не уделяла им много времени. У Эдит были другие занятия — что Вероника очень хорошо понимает — фотография, живопись, и она уверена, что бабушка «была исключительно счастлива». Что касается внешности, то, как выразилась Вероника, «в те времена женщины выглядели на свой возраст». Бабушка никогда не выходила из дома без шляпки. Ее густые белокурые волосы поседели и поредели, и она собирала их в пучок на затылке. Эдит регулярно посещала церковь, и Вероника помнит, как в особняк на Альма-сквер на чай приходил викарий.
Я перебиваю ее и спрашиваю об обручальном кольце, ожидая, что она не помнит, — дети никогда не замечают подобных вещей. Но Вероника помнит. Нет, бабушка не носила никаких колец, кроме простого обручального. Естественно, это может означать лишь то, что Эдит не любила кольца. Многим женщинам они мешают. С другой стороны, она могла возмущаться тем, что Генри подарил ей кольцо, которое купил сестре, и после смерти мужа Эдит сразу же избавилась от украшения.
Мать Вероники и ее тетя Мэри были очень красивыми и, вне всякого сомнения, именно поэтому смогли найти себе мужей в эпоху недостатка мужчин. Похоже, она забыла — намеренно? — что ее мать вышла замуж за восемь лет до начала Первой мировой войны. Детство Вероники было сплошной идиллией, а ее отец Джеймс Киркфорд — святой; он никогда не жаловался, хотя очень страдал из-за артрита и укороченной ноги. Она рассказывает так, словно была единственным ребенком в семье. Приходится ждать, пока она закончит, а когда мы допиваем чай и я уже собираюсь упомянуть о Джоне Корри, Вероника предлагает «осмотреть» дом и сад. У меня нет никакого желания, но я любезно соглашаюсь.
Порядок в доме просто угнетает, хотя тут больше буфетов и сундуков, чем обычно, и я предполагаю, что в них хранятся все письма и фотографии, а также, по всей видимости, школьные сочинения Дэвида. Мы поднимаемся по двум лестничным пролетам и заглядываем в спальню и ванную, а затем — в еще одну спальню, уже приготовленную для Галахада, довольно уродливую, с парусниками на стенах и рыбками на занавесках. Неужели Вероника мечтает, чтобы он стал моряком? Самодовольным тоном она выражает уверенность, что внук будет часто приезжает к бабушке — разумеется, один. Возможно, это естественно, а может, что-то вроде суеверия — она рассуждает так, словно ей шестьдесят, а не восемьдесят с лишним. Сад тоже аккуратный до отвращения: все подстрижено и скошено, а у кустов, уже совсем больших, сохранились таблички с названиями. Как я думаю, тут хватит места для качелей или для — как они там называются — конструкций для лазанья? Вероника начинает мне казаться жалкой, чего я раньше не замечал.
Мы возвращаемся в дом, и у меня сразу же возникает ощущение, что хозяйка ждет моего ухода. По крайней мере, в ближайшие десять минут. А что еще ему остается? Он выпил свой чай, поел, осмотрел дом, услышал историю семьи. Улыбка Вероники становится натянутой. Хочу ли я взглянуть на письма, которые Дэвид присылал ей из пансиона? А на его первые «сочинения»? На фотографии Дэвида вместе с ней и мужем? В другой раз, отвечаю я. Нетерпение Вероники становится заметным — наверное, через полчаса начинается ее любимый сериал. Я выпрямляюсь, смотрю прямо ей в лицо, но не испытующе, и спрашиваю, знает ли она, кто такой Джон Корри.
Вероника относится к тем людям, которые краснеют, когда их застают врасплох, и я вижу румянец на ее щеках.
— Полагаю, мой племянник. А что?
— Мне нужно поговорить об этом, Вероника. Простите, если для вас это болезненная тема… — Румянец бледнеет, и она не скрывает недовольства, но я настроен решительно. — Вы знаете о смерти сестры?
— Слышала, — говорит она, но не уточняет, от кого. От Стивена Корри, неверного жениха? — Я не собираюсь упоминать его имя.
— Ее сын Джон — ученый. Занимается генной терапией… — Вот, теперь. — Гемофилией.
Вероника снова краснеет. Она сидит очень прямо, сомкнув колени. Ее душевную боль выдает только дыхание, то убыстряющееся, то замедляющееся.
— Он сам гемофилик.
— Нет!
Звук ее голоса быстрый и резкий, словно выстрел.
— Боюсь, это правда.
Странные происходят вещи. Я пытаюсь угадать, о чем она думает, какие перебирает варианты. Если Вероника действительно не понимает, если это для нее новость, то она спросит, что такое гемофилия. Скажет, что это какая-то болезнь крови, но ей не приходилось встречать никого… Но Вероника молчит, и я теряюсь в догадках.
— Откуда у него болезнь? — наконец, спрашивает она.
Я не хочу рассказывать ей о теории Джона. В этом случае обсуждение закончится. Поэтому я не упоминаю о мутации, а говорю, что Джон точно не знает, но, по всей видимости, от матери. Судя по ее лицу, Вероника знает больше, чем рассказала мне. Вот она, семейная тайна, скрываемая по бог весть какой причине, но известная многим, хотя и не всем женщинам семьи. Хозяйка может вышвырнуть меня вон или по меньшей мере попросить уйти, но я все же рискую задать этот вопрос.
— От чего умер ваш брат Кеннет, Вероника?
Она молчит. Смотрит уже не на меня, а опустила взгляд на свои колени. Потом удивляет меня вопросом:
— Не хотите выпить? Херес, джин или еще что-нибудь? Я бы не отказалась. В конце концов, солнце уже опустилось за нок-рею, как говаривал мой муж.
На часах только половина шестого. Похоже, в Челтенхеме солнце довольно рано опускается за нок-рею. Я соглашаюсь на херес, надеясь, что вино не такое, как у Вайолет Фарроу, и вскоре получаю большой бокал сладкого напитка — вне всякого сомнения, чтобы Вероника тоже могла налить себе порцию побольше.
— Это войдет в вашу книгу?
— Не знаю. Возможно. А это имеет значение?
— Что вы хотите сказать?
— Имеет ли это значение сейчас, когда многие родственники уже умерли?
— Полагаю, — неохотно произносит она, — для меня станет облегчением все рассказать. Боюсь, вы не представляете, но я ни с кем, совсем ни с кем не могла об этом поговорить. Дэвиду было бы неинтересно. — Она прибегает к еще одной морской метафоре: — Но трап уже поднят, и я с этим смирилась. Полагаю, его можно понять. Он знал бы, что Галахаду ничего не угрожает. Господи, я чувствую себя такой дурой, когда вынуждена произносить это нелепое имя…
Вероника тянет время, хотя понимает, что смысла в этом уже нет. Теперь она говорит тонким голосом, как тот счастливый ребенок, каким она когда-то была.
— Что вы хотите знать?
Я неуверенно пытаюсь подстроиться под ее тон.
— Я спрашивал… ну, о вашем брате.
— Ему было всего два года, когда он умер. Я его не помню. Знаю только, что у меня был брат. — У нее почему-то виноватый вид. — Кеннет умер от дифтерии, но болел всю жизнь. Однажды он упал, и из разбитых коленок у него два дня текла кровь. Потом кровь остановилась, но суставы внутри были повреждены. Врачи говорили, у него артропатия.
— Откуда вы знаете, если даже не помните его?
— Мне рассказала мать. Но только после того, как я собралась замуж.
Вероника поднимает голову и смотрит на меня. За десять минут она постарела, превратившись в настоящую старуху.
— Мы были помолвлены с отцом этого Джона. Вы знали? — Я киваю. — Полагаю, Джорджина не постеснялась об этом рассказать. Он бросил меня ради моей сестры. Когда я в первый раз обручилась, мать рассказала мне о гемофилии в нашем роду. Мужчины болеют, женщины переносят — так она выразилась. Если я выйду замуж, у меня может родиться больной гемофилией сын, как Кеннет, и, по словам матери, она собиралась сказать Стивену. Знай я, какие страдания ей пришлось вынести с Кеннетом, то никогда бы не захотела замуж… Это был сокрушительный удар. Представьте молодую девушку, счастливую и беззаботную. Я служила в женской вспомогательной службе ВВС, и мне это очень нравилось. Я была влюблена в Стивена.
Теперь Веронику не остановить. Ей хочется все рассказать, освободиться от своей тайны.
— Представьте, что вам говорят такое. Я возненавидела мать. Заставила ее пообещать, что та ничего не скажет Стивену, и она согласилась, но при условии, что я расскажу ему сама. Я этого не сделала. Не представилось случая. Сестра увела его у меня. Не знаю, как это у нее вышло, но подозреваю колдовство. Нет, не смотрите на меня так — у нее были странные взгляды, она считала, что нашей жизнью управляют звезды, верила в гороскопы и всякое такое. Забавно, правда? Мне только что пришло в голову, что самое подходящее слово тут — ирония. Может, если бы он женился на мне, все его дети были бы здоровы. Во всяком случае, Дэвид абсолютно здоров. Но Стивен женился на моей сестре, и Господь наказал его. Наказал их обоих. Ванесса не знала — мать не сказала ей, не успела. Сколько лет этому Джону?
— Думаю, за пятьдесят.
— Почему он еще жив?
Вопрос звучит довольно грубо.
— В настоящее время научились помогать гемофиликам, — я не даю себя сбить. — Значит, именно это имело в виду ваша кузина Патрисия, когда поздравляла вас с тем, что Дэвид в порядке? Речь шла вовсе не о синдроме Дауна, а о гемофилии?
Она кивает и довольно резко говорит:
— Я не носитель.
Тот факт, что один ее сын не имеет дефектного гена, еще ничего не доказывает. Но я не говорю этого вслух.
— Но вы не исключали такую возможность. Поэтому вы так долго ждали, прежде чем завести ребенка? — Я понимаю, что переборщил. — Прошу прощения, я не хотел показаться дерзким.
— Немного поздновато, правда? — Вероника фыркает. — Мать напугала меня. Она умерла через год после моей свадьбы. Я не опечалилась. Подумала только, что теперь она никому не расскажет.
— О чем? Что в семье были больные гемофилией?
Вероника пожимает плечами. Да или нет?
— Я хотела ребенка. Собственно, почему бы и нет? Это мое право. Когда я выходила замуж за отца Дэвида, то есть Роджера, то сказала матери, что сообщила жениху. Я сама все рассказала, и поднимать эту тему больше нет нужды. И мы договорились не иметь детей, хотя на самом деле ни о чем мы не договаривались. Я ничего ему не сказала, не осмелилась. Потом мать умерла, и я почувствовала себя свободной. Но я хотела ребенка. — Вероника наклоняется ко мне. — Моя бабушка родила четырех девочек, прежде чем появился мальчик, у матери было две дочери и сын, а у тети Мэри — две дочери. А если пол ребенка определяет мужчина, то и тут все в порядке, потому что у Роджера были четыре сестры. Я думала, у меня будет девочка.
— Но девочка может стать носителем болезни, — вставляю я.
— Но это была бы ее проблема, не так ли? Не моя.
От ее бессердечия пробирает дрожь. Я представляю себя на месте Джорджи, и мне становится неуютно.
— Это потребовало много времени. Я имею в виду, зачать ребенка. Я уже почти отчаялась, когда обнаружила, что беременна. — Во взгляде Вероники вызов и торжество. — Я не волновалась. Чувствовала, что я не носитель. Родился Дэвид, чудесный, красивый и абсолютно здоровый мальчик. Патрисия написала мне то глупое письмо. Я даже не представляю, откуда она узнала, что у меня сын, не говоря уже о том, что ребенок здоров. Наверное, от своей сестры Дианы. Тогда мы с Дианой дружили — то есть, пока она меня не предала. Еще одна из длинной череды вероломных женщин.
Я не знаю, что такого сделала Диана, и не хочу знать.
— Откуда взялась эта гемофилия?
— Не спрашивайте меня. Я не врач. — Мой ответ уклончив.
— Я много читала о королеве Виктории, о царевиче и других членах королевской семьи, у которых была гемофилия. Откуда появилась эта болезнь? Предки королевы Виктории были здоровы, и началось все с нее. А у нас — с моей матери.
Полагая — ошибочно, — что новости о достижениях современной медицины обрадуют Веронику, я рассказываю о том, что понял об исследованиях доктора Корри, о том, что теперь носителей заболевания можно выявлять, о тестировании эмбрионов в утробе матери на наличие гена гемофилии. Это значит, что в течение двух поколений гемофилия может быть уничтожена.
— Но мне-то уже все равно, правда?
— А детям и внукам ваших кузин — нет.
В ней вспыхивает интерес.
— Диана уже умерла, но у нее двое детей. Обе дочери. Вижу, вы уже знаете. — Вероника разочарована и хочет оставить за собой последнее слово. — Не помню, как их зовут, что-то типичное для того времени, когда они родились. Теперь им уже за тридцать.
— Они могут быть носителями болезни.
— Это невозможно, потому что они не потомки моей матери.
Я предпочитаю промолчать. Ее слова основаны на предположении, а не на фактах. Потом я благодарю Веронику, оставляю недопитым половину хереса — уверен, хозяйка его допьет, когда я уйду, — и беру пальто. Увидев, что я ухожу, она говорит, что не возражает, если я обо всем напишу. Теперь, выудив эти сведения, я могу поступать с ними по своему разумению. В конце концов, она же не носитель болезни, заявляет Вероника — на мой взгляд, логика довольно странная.
Уже начало восьмого. Дождь перестал, и становится холодно. До поезда еще полчаса. Я сначала сижу, потом прогуливаюсь по платформе, размышляя о гемофилии. Потом на обороте найденного в кармане счета по памяти рисую часть составленного Дэвидом генеалогического древа, начиная с Генри и Эдит. Записываю имена их первых четверых детей, девочек Элизабет, Мэри, Хелены и Клары. Если мутация гена началась с Элизабет, то больными будут только ее потомки, как сын Кеннет и внук Джон Корри. Но если среди детей, внуков и, возможно, правнуков Мэри тоже были или есть больные, тогда мутация не могла произойти у Элизабет — дефектный ген есть и у потомков ее сестры. Значит, это могло произойти раньше.
Приходит поезд. Я сую импровизированную генеалогию в карман и начинаю размышлять о генной терапии и о том, что значил бы этот метод для таких людей, как принц Леопольд, брат Вероники Кеннет и царевич Алексей, которые страдали от боли и страха, а первые двое умерли от тяжелой болезни. Мои мысли плавно перетекают к Джуд и тестам, которые она проходит. Я не отношусь к людям, всегда предполагающим худшее развитие событий, но мне приходит в голову, что причиной всех этих выкидышей может быть какой-то генетический дефект. Может, именно его пытаются найти?
Странная все-таки у Вероники позиция — гордиться, что не являешься носителем гена болезни, и стыдиться, если он у тебя есть. Посмотрите на меня, говорит она, я чиста, здорова и безупречна, у меня идеальные дети. Хотя эти никак не зависит от ее воли или желания. И носитель болезни, и здоровый человек пребывают в одинаковом состоянии абсолютной невинности и, более того, неведения. Я где-то читал, что в ДНК любого человека содержится в среднем двенадцать дефектных генов, которые мы можем передать потомкам, но ничего о них не знаем. Они дремлют, как на протяжении тысячелетий дремали в телах других людей и животных. И не проявятся, пока мы не заведем потомство с тем, у кого этот крошечный фрагмент ДНК совпадает с нашим; именно по этой причине инцест является табу и все религии запрещают браки между близкими родственниками.
Мысленно я осуждаю Веронику, предполагающую, что она не является носителем гемофилии на том основании, что у ее единственного сына здоровая кровь. Однако я поступаю точно так же, убеждая себя, что выкидыши Джуд не имеют ко мне никакого отношения, что мои гены в порядке, и доказательством тому служит Пол. Я уподобляюсь Веронике, когда без всяких на то оснований радуюсь своей безупречности. У меня тоже один сын, единственный ребенок — как и у Ванессы, пока она не родила второго. Мы с Вероникой ведем себя так, словно сами создали себя по образу и подобию Бога, а не являемся результатом многих тысяч лет скрещивания и селекции, отбраковки и борьбы за выживание.
24
Рождество уже позади. Пол решил провести его с нами, и все прошло довольно хорошо — вероятно, благодаря тому, что он привел с собой свою новую подружку. Я обнаружил, что никогда не говорил с ним о своей работе, за исключением того, чем занимался в Палате лордов, и еще понял, что эти разговоры могли бы спасти наши отношения. Я рассказал ему о Нантерах и гемофилии; он заинтересовался и, как ни странно, обошелся без обычной язвительности. Оказалось, что его подружка Сэм — очень кстати — учится на медицинском факультете, увлекается генной терапией и видит в ней огромный потенциал. У них есть знакомый парень, который болен гемофилией, а теперь он еще и ВИЧ-положительный, потому что ему перелили зараженную кровь.
К моему удивлению, Джуд рассказывает о своих тестах, причем абсолютно откровенно, ничего не скрывая. Результаты будут готовы на следующей неделе. На Рождество и на Новый год все закрывается — особенно в этом году, накануне нового тысячелетия, — и поэтому ждать придется долго. Мои результаты будут готовы приблизительно в то же время. По крайней мере, я знаю, что Джуд приняла близко к сердцу настоятельную рекомендацию повременить с попыткой беременности. Меня снова влечет к ней, так же неудержимо, как прежде. Я пережил несколько ужасных дней — или ночей, — когда меня охватывала паника, что наедине с Джуд, в постели — возможно, в темноте — мне придется фантазировать, прокручивать в голове видео с собственным участием, как я это делал в конце своих отношений с Салли. Но темноты не было — горел свет, как почти всегда у нас с Джуд, и магия ее красоты и ее неповторимости сделала свое дело, и, мне кажется, все было так, как всегда. Мне кажется.
Дэвид Крофт-Джонс разозлился на меня за то, что в разговоре с его матерью я упомянул имя Джона Корри. Я же «взял на себя обязательство» этого не делать. Пришлось напомнить, что в ответ на его просьбу я промолчал, и кроме того, его мать — в чем бы она ни убеждала его раньше — была рада поговорить об этом, когда преодолела первоначальное смущение. В телефонной трубке слышится далекий голос Джорджи — вне всякого сомнения, она напоминает о известной взбалмошности Вероники, — и Дэвид успокаивается. Ему не терпится узнать мою версию событий, и он просит разрешения приехать. Я не могу ему отказать. Естественно, выясняется, что Вероника проговаривалась о присутствии гемофилии у них в роду, но скрытничала и изъяснялась загадками, а теперь Дэвид желает узнать правду. Он серьезно обеспокоен. Он впервые об этом услышал и теперь «обескуражен», а Джорджи хочет знать, не грозит ли их будущим детям страшная болезнь.
— Абсолютно исключено, — говорю я. — Неизвестно даже, является ли ваша мать носителем дефектного гена, а если и так, то она не передала его вам. В вашей ветви рода болезнь умерла.
— Это вы так думаете, — довольно грубо отвечает Дэвид. — Я должен проверить. Спрошу у своего семейного врача. Все это настоящий шок. — Он говорит о наследственной болезни в нашей семье, словно речь идет о каком-то маленьком животном вроде хомячка, который сбежал и где-то прячется. — Где она теперь, эта гемофилия? Скрывается в чьей-то крови? Что с ней случилось?
Меня так и подмывает ответить, чтобы ему лучше спросить у своего врача. Мне же он не верит. Но я сдерживаюсь. Довольно миролюбивым тоном объясняю, что мутация могла появиться в генах его бабушки, хотя не исключено, что носителем болезни была и наша с ним двоюродная бабка, Мэри Крэддок. А значит, кто-то из ее дочерей, Патрисия и Диана, а также внучек, Кэролайн, Люси и Дженнифер. Неизменно точный и щепетильный в подобных вещах, Дэвид несколько раздраженным тоном замечает, что «эти девушки» — его троюродные сестры, так же как и мои. В 1997 году его вместе с матерью пригласили на свадьбу Люси. Им написала Диана, настаивая, чтобы они пришли, — на том основании, что хотя они не знают невесту, но являются родственниками, а родственники должны «держаться вместе».
— Значит, у вас есть ее адрес.
— Нет. Должно быть, я потерял письмо, — отвечает Дэвид, и, к моему удивлению, прибавляет: — Я могу ее найти. Если вам нужно.
Неужели? Возможно, Дэвид более важная шишка в Министерстве внутренних дел, чем я думал, — или для них это просто? Естественно, я с радостью согласился.
— Мне тоже пригодится, — говорит он. — У нее может быть ребенок, которого я занесу в генеалогическую таблицу.
— Вы были на свадьбе?
— На какой свадьбе?
— Люси.
— Боже правый, конечно, нет. Их единственной целью было получить подарок. Я никогда не верил в этот вздор насчет родственных чувств. — Истинный сын своей матери.
— А Диана уже умерла?
— В прошлом году. Мне сказала мама.
Я спрашиваю, откуда это известно матери, поскольку она не поддерживает связь ни с Люси и Дженнифер, ни с их кузиной Кэролайн. Дэвид отвечает, что она видела извещение в «Дейли телеграф», которую всегда читает.
Я не спрашиваю, ходил ли он к врачу, а сам Дэвид ничего не говорит, однако Люси Скиптон он нашел гораздо быстрее, чем я ожидал. Я позвонил ей, и Люси согласилась со мной встретиться. Жаль, что я уже не могу пригласить ее на ленч в Палату лордов. Она адвокат, и ее фирма находится неподалеку от Дома правосудия, поэтому я предлагаю ресторан рядом с театром «Олдуич». Потом спрашиваю, знает ли она, что выбрала ту же самую профессию, что и ее прапрадед и, кстати, мой отец. Как удивился и возмутился бы Сэмюэл Хендерсон, узнай он, что женщина, его потомок, пошла по его стопам. Мне снова вспоминается речь графа Феррерса с его резким неприятием судей, которые будут избираться «из сомкнутых дамских рядов», и утверждением, что женщины, словно кислота в металле, прогрызают себе дорогу к мужским профессиям.
До нашей встречи еще две недели. Я сказал ей немного, лишь сообщил, что пишу биографию Генри, но большего ей не требовалось. Она довольно много знает о первом лорде Нантере, поскольку давно читает биографии выдающихся деятелей викторианской эпохи, и во многих из них упоминается Генри. Люси тридцать шесть, на год меньше, чем Джуд. Я жду встречи с ней, как не ждал возможности поговорить с Джоном Корри или возобновить знакомство с Вероникой. Мое нетерпение объясняется тем, что по телефону Люси сказала мне то, что меньше всего ожидал.
— Я носитель.
— Вы носитель гемофилии?
— Совершенно верно. Это не секрет. Мама предупредила меня и сестру, что такое возможно, и я прошла тестирование перед тем, как выходить замуж.
Джуд не сообщили результаты генетического анализа, хотя, похоже, в лаборатории их получили. Просили подождать, пока будут готовы мои. Ей это кажется зловещим и пугающим, хотя я считаю такое поведение характерным для врачей, по всей видимости, они не способны на сочувствие и не понимают, что их манеры неизбежно становятся причиной тревоги. Возможно даже, они хотят встретить нас обоих широкой улыбкой и объявить, что у каждого из нас все в полном порядке. Всем нравится сообщать хорошие новости.
— Это может занять несколько недель, — говорит Джуд.
— Смотри на это так. Будь с тобой что-то не в порядке, проверять меня не было бы нужды. У меня взяли анализ, чтобы выяснить, не во мне ли причина.
Если бы меня не посетили мысли по поводу гордости своим ДНК, я обязательно прибавил бы, что со мною, наверное, все в порядке, поскольку у меня уже есть здоровый сын. Теперь я понял, что говорить этого не следует.
Мы решили распить бутылку шампанского, просто так, безо всякого повода. В результате я просыпаюсь на рассвете от головной боли и сухости во рту. Усвоив еще в детстве, что любая жидкость, кроме той, что идет из водопроводного крана, — это отрава, я спускаюсь на кухню за настоящей водой, усаживаюсь за стол, выпиваю два стакана и размышляю о том, что сказала мне Люси.
Получается, что Диана Белл была носителем гена гемофилии, а значит и ее мать Мэри Крэддок, — поскольку известно, что носителем была также ее сестра Элизабет Киркфорд, а муж Мэри, Мэтью Крэддок, не мог быть гемофиликом. Откуда же появилась болезнь? Во-первых, можно ли полностью исключить, что гемофилией болел сам Генри? Этот вариант объяснил бы почти все. Причину того, что он посвятил свою жизнь поискам лекарства от этой болезни. Тогда все его дочери были бы носителями гена гемофилии — что похоже на правду. У Хелены и Клары не было детей, однако известно, что Клара решила не выходить замуж, и причиной могло стать подозрение, что у нее дефектный ген — или «кровь», как бы выразилась она сама.
Слабое звено этой теории — сам Генри. В середине XIX века, за сто лет до открытия препаратов с фактором VIII, больной гемофилией вряд ли смог бы прожить такую жизнь, как Генри, — преодолевать двадцать миль от Версама до высокогорной деревни в Альпах, бросаться на помощь подвергшемуся нападению человеку, заниматься научными исследованиями, а отпуск проводить в путешествиях пешком. К тридцати годам артропатия, вызванная кровоизлияниями в суставы, превратила бы его в инвалида. Третий аргумент против того, что Генри болел гемофилией, — это Джимми Эшворт. Все его дочери, законные и незаконные, должны были получить дефектный ген. Если Мэри Доусон была носителем болезни, то хотя бы один из ее потомков мужского пола был бы болен гемофилией. Но Лаура Кимбелл настаивала, что все они «выросли здоровыми».
Итак, из числа возможных источников болезни Генри можно исключить. В таком случае остается его жена, Эдит Хендерсон. Чем большее я рассматриваю ее кандидатуру, тем вероятнее мне это кажется. Если у нее был дефектный ген, то она могла передать его всем дочерям, а может, только двум или трем из четырех. Каждый из ее сыновей мог родиться больным, с вероятностью пятьдесят процентов. Александр был здоров. А Джордж? Почти наверняка носителем была Эдит.
Я иду в кабинет и роюсь в дневниках, в записках «альтернативного Генри» и письмах Мэри. Если знать, что Джордж мог быть гемофиликом, можно найти множество тому свидетельств. На семейной фотографии, сделанной Эдит, у него характерный вид больного гемофилией, исполненный терпения и стоицизма. Генри пишет, что мальчик кричит от боли, а Мэри — о том, что он прикован к постели после падения, а отец прикладывает пакеты со льдом, вероятно, к суставам — известное, но неэффективное средство. Скрытность и умолчание становятся очевидными, если знаешь, что искать. Все упоминания о болезни косвенные и туманные. Может, Генри просто не хотел, чтобы всем стало известно, что у него, знаменитого специалиста по гемофилии, сын болен этой болезнью, и он, несмотря на все свои знания, не в силах помочь ребенку? Очень на него похоже. Вот почему всем говорили, что Джордж страдает от туберкулеза.
Если носителем болезни была Эдит, от кого она унаследовала дефектный ген? Будь ее отец, Сэмюэл Хендерсон, гемофиликом, она получила бы этот ген от него. Но в таком случае он вряд ли смог бы работать адвокатом в таком возрасте, далеко за пятьдесят. А когда на него напали на улице и ударили по голове, это привело бы к кровотечению, которое, скорее всего, оказалось бы смертельным. И Генри в своем очерке о смелости и альтруизме вряд ли стал бы рассуждать, что случилось бы при гемофилии, будь мистер Хендерсон на самом деле болен. Скорее всего, носителем гена была его жена, Луиза Хендерсон, урожденная Квендон. Ее сын Лайонел явно был здоров, но это не значит, что Луиза не являлась носителем, поскольку шансы передать дефектный ген сыну составляют пятьдесят процентов. Я беру самую большую папку с письмами и нахожу письмо, которое Элинор прислала сестре из Манатона.
Она упала во время прогулки. «Синяки на левом боку и ноге просто ужасные, — пишет Элинор, — но, к счастью, их никто не видит, кроме меня!» Генри в своем дневнике отмечает, что миссис Хендерсон консультировалась с ним по поводу дочери. Не будет ли слишком смелым предположение, что ее беспокоили обильные месячные у Элинор? Не исключено. Но мне нужны еще доказательства. Теперь известно — возможно, в то время тоже, — что у многих женщин, носительниц гемофилии, легко образуются синяки на теле и они страдают от сильной кровопотери во время менструаций. Возможно, ген болезни был и у Элинор, и у Эдит.
Значит, все дело в мутации клеток Луизы Хендерсон? У меня уже голова идет кругом. На часах половина пятого утра, и думать об этом больше нет сил. Я наливаю еще один стакан воды, возвращаюсь в спальню, целую Джуд в повернутую вверх щеку и мгновенно засыпаю.
25
От новостей из больницы наша жизнь разлетается вдребезги. Остальное не имеет значения. Такое ощущение, что все куда-то испарилось: наша домашняя жизнь, работа Джуд, Генри, мои сожаления по поводу потерянного места в Палате лордов, мой сын, наши друзья и даже — надеюсь, временно — наша любовь.
Когда случается нечто подобное, от тебя остается одно тело, ты перестаешь быть мыслящим существом, и это тело больное и неполноценное. Оно содержит невидимый, но ужасающий дефект. Нам сообщили, воспользовавшись старой, проверенной формулой: сначала хорошую новость, или плохую? Ответ показывает, пессимист вы или оптимист. Вроде того, что бутылка наполовину полная или наполовину пустая. Мы оба выбрали сначала плохую новость.
Нам рассказали. У нас обоих ген заболевания, о котором мы никогда не слышали. Оно называется спинальная мышечная атрофия, сокращенно СМА. У любого нашего ребенка с вероятностью двадцать пять процентов будет эта болезнь. СМА не похожа на операбельный порок сердца, астму или, если уж на то пошло, гемофилию. Она убивает. Если ребенок родится живым, то он будет инвалидом и умрет, не дожив до года. В лучшем случае. По большей части плод погибает в утробе матери — именно в этом причина выкидышей Джуд.
— Но ведь это только двадцать пять процентов, — бормочет бедная Джуд. — Остается семьдесят пять процентов, что у ребенка не будет этой штуки.
Консультант смотрит на нее. На его лице такое же выражение, как у диктора на телевидении, знающего, что следующей новостью будет смерть какой-то знаменитости.
— До сих пор вы не попадали в эти семьдесят пять процентов, правда? Хотите рискнуть? Чтобы двадцать четыре часа в сутки ухаживать за ребенком, который умрет шести месяцев от роду?
— Почему у меня были эти выкидыши?
Ему явно не хочется отвечать, но выхода у него нет.
— Так ваш организм избавлялся от нежизнеспособного плода, миссис Нантер.
Меня охватывает нелепая, беспричинная ярость. Почему меня волнует, что консультант ошибся и не назвал ее леди Нантер? Или, если уж на то пошло, мисс Кливленд? Почему все мое существо восстает против слова «избавлялся»? Избавиться от наследственных пэров, избавиться от плода, избавиться от людей. Разве нет другого, более щадящего способа это сформулировать?
— Но у меня здоровый сын, — возражаю я.
— Да, я видел в вашей карточке. Вам повезло. Вы женились на женщине, у которой нет этого гена.
Будь я внуком одной из дочерей Генри, а не его сына, то мог бы болеть гемофилией. Там мне повезло, однако я получил нечто похуже. Хоть это и не приносит мне удовлетворения, но я оказался прав, когда строил гипотезы насчет источника проблем. Откуда взялся этот ген? Я не спрашиваю. Догадываюсь, что в ответ мне расскажут о мутациях.
— А хорошая новость?
— Полагаю, вы слышали о предимплантационной генетической диагностике? Ее называют «дети на заказ».
На вечеринке вы замечаете в дальнем углу комнаты красивую женщину. Возможно, прямо в эту секунду — именно так произошло со мной — вы думаете, что хотели бы провести рядом с ней всю оставшуюся жизнь. Потому что, взглянув на это лицо, вы понимаете, что никакое другое — даже если оно постареет, а рядом будут другие, гораздо моложе — никогда не запечатлеется в вашем сердце так, как это. Оно — ваш идеал, сравнения с которым не выдерживают все остальные. Вы замечаете его подобия, как я видел Джуд на картинах Герберта в комнате Моисея, и радость наполняет ваше сердце.
Но вы не видите, что именно эту женщину, возможно, не следует выбирать в качестве спутника жизни и что ей, возможно, не следует выбирать вас — если вы, или она, или вы оба хотите ребенка. Ради ее блага вы должны сломя голову бежать из комнаты, исчезнуть, надеясь найти себе другую девушку. Нельзя сказать, что вы — отравленная чаша с каким-то реагентом; эта субстанция безвредна сама по себе, но становится ядовитой при соединении с таким же относительно безвредным веществом.
Я спрашиваю себя, не это ли случилось с Генри. Может, он впервые увидел Элинор, когда пришел на Кеппел-стрит проведать ее отца, и влюбился с первого взгляда. Но дальше сходство заканчивается, поскольку была еще Эдит, второй выбор, заменитель, в ее теле скрывался невидимый изъян. Словно я, по какой-то причине не имея возможности добиться Джуд, сошелся с ее сестрой. Но я бы так никогда не поступил. Для меня не существует другой женщины. Уныло размышляя над все этим, я спрашиваю себя — понимая, что это глупо, — не эти ли дефекты в наших клетках, благодаря какой-то загадочной алхимии, неудержимо толкают нас друг к другу. Или природа таким образом избавляется от двух испорченных линий, гарантируя, что у них не будет потомства?
Теперь к хорошей новости, если не считать того, что для меня она худшая новость в мире. И я не могу никому в этом признаться. И меня еще сильнее, чем прежде, бросает на стену, о которую разбиваются браки: неспособность признаться друг другу в своих истинных чувствах. Более того, это невозможность и дальше любить свою жену, жить с ней, если я скажу, что самое заветное ее желание наполняет меня… да, именно ужасом. Но не только ужасом, а просто отвращением от одной мысли, что в следующем году или через год я стану отцом тройни. Такая формулировка может показаться смешной, правда? Сюжет для карикатур. Бедняга, с видом висельника стоящий на пороге родильной палаты, и хорошенькая медсестра в мини-юбке и черных чулках, вручающая ему трех орущих младенцев.
Лицо консультанта заставляет меня вспомнить строчку из Гамлета о том, что «можно с улыбкой вечною злодеем быть». Конечно, для Джуд он не злодей, а спаситель.
— Лечение начинается с экстракорпорального оплодотворения, — объясняет врач. — Нужно забрать и оплодотворить несколько яйцеклеток. Затем мы берем по одной клетке у каждого зародыша и проверяем на наличие заболевания. Три здоровых эмбриона помещаются в вашу матку.
— Три? — переспрашиваю я.
— Обычно прикрепляются только один или два, — все с той же улыбкой злодея поясняет консультант. — Если все пройдет хорошо, родится здоровый ребенок — или близнецы, если вам повезет.
— В мае мне будет тридцать восемь, — напоминает Джуд.
— Конечно, двадцать восемь было бы лучше, но у вас, похоже, нет проблем с зачатием, и это очень хороший признак.
Наверное, мне повезло — я так переживаю за Джуд, что меня переполняет всепоглощающая жалость и любовь, в которых тонет мой ужас перед тем, что она задумала, — надеюсь, временно. А потом я наблюдаю, как к ней на помощь приходит еще одна улыбающаяся злодейка — надежда. Джуд и раньше надеялась, и, как оказалось, тщетно, но это не отпугивает непрошеную гостью, в руках у которой нож; она несокрушима, она знает, что ее считают одной из главных добродетелей, и наслаждается своей незаслуженной репутацией. Неважно, что она наполняет сердце тоской. Неважно, что каждый раз, когда она распахивает двери, ты оказываешься лицом к лицу с ее противоположностью, отчаянием. Надежда возвращается, летит на своем коне, а вместе с ней в седле сидит Джуд, к спине которой приставлен нож. Но Джуд не знает об этом — или отказывается верить. Злодейка обещала исполнить заветное желание, и на этот раз все должно получиться.
Самое отвратительное и подлое в моих ощущениях — я не хочу, чтобы все получилось. Я хочу, чтобы дверь окончательно захлопнулась или чтобы вонзился нож. Но я не могу признаться в этом ни единой живой душе. Я морщусь даже в разговоре с самим собой. Во время предыдущих беременностей и выкидышей мне более или менее удавалось изображать энтузиазм или горе, а иногда я действительно радовался или расстраивался. Но мне кажется, эти новости — причем скорее «хорошая», чем «плохая» — разрушат наши жизни, не только мою, но и Джуд. Если имплантированные эмбрионы не захотят приживаться, это будет еще хуже, чем выкидыши. Это плохо повлияет на ее… как бы это назвать? Душевное равновесие? Спокойствие духа? Психическое здоровье? Джуд будет раздавлена.
Только самый корыстный из ублюдков может думать о деньгах, и я, наверное, такой и есть, потому что думаю о них. Тут нет гарантии возврата денег. Вы платите, а если ничего не выходит, пробуете снова и снова. «Один цикл лечения», как они выражаются, стоит 2500 фунтов. Какова вероятность получить финансирование от местных органов здравоохранения? По всей видимости, нулевая. С другой стороны, возможно, дешевле потратить 10 тысяч фунтов на четыре цикла, чем растить двоих или троих детей. Не придется ли мне продавать этот дом? Ночью я долго лежу без сна, размышляя о том, о чем мне лучше бы никогда не думать. Например, как определить, кто из двух людей с противоположными стремлениями является эгоистом? Вот она, главная причина ссор супружеских пар, но в нашем случае я этого не допущу. Однако можно ли считать эгоистом меня, если я хочу, чтобы любимая жена принадлежала только мне, и мне достаточно жить в относительном комфорте в фамильном доме на тихой лондонской площади? Или эгоистично ее желание иметь ребенка любой ценой, пожертвовав комфортом, спокойствием, милым домом и, возможно, своим браком?
Большинство людей встали бы на ее сторону. И я тоже притворяюсь, потому что не знаю, что еще делать. Я ничего не делаю, просто утратил способность сосредоточиться, и звонок Люси Скиптон, которая просит отложить наш ленч еще не пару недель, приносит мне облегчение. Ей очень жаль, но у нее клиент в Уилтшире, и именно в этот день она должна навестить его. Если бы Люси не позвонила, я, наверное, забыл бы и о ней, и о назначенной встрече.
Должно быть, я постепенно восстанавливаю душевное равновесие, потому что вспомнил об ужине с Лахланом Гамильтоном. Газеты пишут, что теперь, когда из наследственных пэров осталось всего девяносто два человека, Палата лордов практически пуста. Я этого не заметил, но, возможно, потому, что в день моего прихода они обсуждали одну неоднозначную статью законопроекта, и по такому поводу оппозиция собрала все свои войска. Закон о местном самоуправлении вряд ли окажет серьезное влияние на жизнь общества — за исключением одного аспекта. Это поправка с требованием исключить из раздела 28-й пункт, запрещающий местным властям «намеренно пропагандировать гомосексуальные отношения» среди молодых людей. Правительство выступает за исключение, оппозиция — за сохранение этого пункта. Пэры сцепились друг с другом, и в зале звучат такие слова, как «некрофилия», «скотство» и «содомия».
Я здесь не за тем, чтобы все это слушать. Причина моего появления совсем другая. Я впервые пришел в Парламент с тех пор, как в ноябре месяце был из него изгнан. Тогда я поклялся, что не вернусь сюда ни при каких обстоятельствах, но все равно пришел. Мне требовалась причина, чтобы вырваться из дома — я имею в виду дом на Альма-сквер, — сбежать от удушающей атмосферы разговоров о яйцеклетках, имплантации и близнецах. Я стыжусь своих мыслей — разумеется, стыжусь, — но устал от стыда, устал от угрызений совести, которыми терзаю себя дома. Приход сюда — смена обстановки. Однако есть еще одна причина. Я хочу вернуться к биографии Генри, но больше не могу говорить с Джуд о нем и о тайнах в его жизни. Ей не интересно, она ничего не хочет об этом знать. Джуд притворяется, делает вид, что слушает, словно говорит себе: «Ладно, даю ему пять минут» — я вижу, как она смотрит на часы, — а затем мы возвращаемся к действительно важным вещам, к реальности. Теперь ее жизнь подчинена кульминации, высшему достижению, к которому она неуклонно приближается, рождению ребенка. И какая разница, что в этом событии утонет все остальное: карьера, дом, я, секс, любовь, друзья, разговоры, развлечения? Предназначение женщины — давать начало новой жизни, продлевать род. И теперь Джуд это сможет. Благодаря чудесам медицины она сможет родить не только одного здорового ребенка, а двоих или даже троих. Неудивительно, что она больше ни о чем не думает.
Поэтому когда Лахлан приглашает меня на ужин, я решаю, что нужно проверить на нем свою теорию относительно Генри. Гамильтон, по крайней мере, не хочет детей. Их у него шесть. Сначала, конечно, я испытываю неловкость; мне придется бочком протиснуться в дверь для пэров, выдавить из себя ответ на доброжелательное приветствие швейцара: «Добрый вечер, милорд», — потом скромно сидеть на задней скамье, предназначенной для гостей, и ждать. Но я слишком устал от самобичевания и стараюсь не напоминать себе, что сам за это голосовал, сам это одобрил. Однако терпеть мне приходится недолго, потому что ровно в половине седьмого появляется Лахлан.
Если судить по лицу, похожему на морду моржа, и аристократическим манерам, то его никак нельзя заподозрить, что он будет голосовать за исключение статьи 28. Но именно так он и собирается поступить. Его внешность обманчива. Я вспоминаю наш разговор о Ричарде Гамильтоне и утверждение Лахлана, что все мужчины немного «голубые». Теперь он заявляет, что гомосексуальность — врожденное свойство. Ты либо такой, либо нет, и никакой рекламой или поощрениями тебя не изменишь. В данный момент у меня нет настроения выслушивать рассуждения о генетике, и я не собираюсь присутствовать в зале, где косные престарелые пэры (часть элиты и избранные девяносто два депутата) путают гомосексуализм и педофилию. Мне позволено устроиться на ступеньках трона, где я в последний раз сидел двенадцатилетним мальчиком. Рядом со мной какой-то незнакомец — молодой пожизненный пэр или старший сын наследственного пэра — шепчет, что он сам гей и что граф Рассел только что произнес лучшую речь в пользу исключения раздела, какую ему только приходилось слышать в парламенте. Я отвечаю, что мне, как всегда, не везет — я ее пропустил.
В любом случае, мне не нравится тут сидеть. Я чувствую неловкость. Вроде тех геев-школьников, которые, по утверждению правительства, будут страдать от травли, санкционируемой разделом 28, я чувствую, что все на меня таращатся, и испытываю облегчение, когда Лахлан встает и направляется к выходу за троном; я могу последовать за ним.
Все как в прежние времена. Оппозиция мобилизовала свои войска, тех пэров, появляющихся здесь только под сильным нажимом, и теперь они торопливо проходят через комнату принцев, вместе с женами, которых привезли на ужин. Только специалист поймет, что в Палате лордов прошла реформа.
Лахлан берет мне бокал сухого вина, а себе — виски. Разумеется, я не могу угостить его в ответ. Я не могу оплатить обед, даже частично. Мне больше не позволено платить здесь за что-либо, и я должен быть доволен. Сэкономлю еще сорок или пятьдесят фунтов на процедуры борьбы с СМА. Мне в голову приходит мысль, не рассказать ли Лахлану обо всем, но я поспешно прогоняю ее. И возвращаюсь к разговору о Генри.
— Что вы об этом думаете? Я имею в виду совпадения?
Его речь всегда медленная и четкая, как в зале заседаний, так и вне его.
— Насколько распространена гемофилия?
Ответа я не знаю.
— У меня есть данные только для Соединенных Штатов — те, что дал мне Корри; приблизительно пятнадцать тысяч человек из… какое там у них население? — двухсот пятидесяти миллионов болеют гемофилией.
— Значит, редкое заболевание.
— Коэффициент заболеваемости гораздо выше в изолированных от остального мира сообществах — например, в альпийских долинах Швейцарии. Похоже, болезнь чаще встречается среди немцев и евреев. Существует теория — возможно, неверная, — что гемофилики и носители болезни плодовитее других людей.
Я рассказываю Лахлану о младшем ребенке Генри, Джордже, о его загадочной болезни, о свидетельствах его слабого здоровья в письмах сестер, о загадочных аллюзиях в заметках «альтернативного Генри», о семейном заговоре молчания. Почему?
— Он служил в Университетском госпитале? А может, леди, на которой он женился, была его пациенткой?
— Женщины не болеют гемофилией, — возражаю я. — У них бывает предрасположенность к сильным кровотечениям, но мне трудно представить, что женщина викторианской эпохи обращается к врачу с такой проблемой, которую тогда не выносили за порог дома. Кроме того, Генри познакомился с Хендерсонами совсем не так. Он пришел на помощь Сэмюэлу Хендерсону, когда на него напали на улице.
Я вдруг вспоминаю, кто напал на Сэмюэла. Деверь Джимми Эшворт, и, вполне возможно, за это ему заплатил Генри — в противном случае мы имеем дело с еще одним совпадением. Однако пора идти на ужин, где оживленно обсуждают раздел 28, а многие подходят к нашему столику, чтобы поздороваться со мной и спросить, как я поживаю, причем некоторые стыдят меня за то, что я не выставил свою кандидатуру, и говорят, что я им нужен. Дебаты длятся уже больше четырех часов, а пэры все еще не могут успокоиться.
Лахлан просматривает мои заметки.
— Он обручается со старшей дочерью Хендерсона, девушкой со склонностью к образованию синяков? Вы тут отметили. Это важно?
— Не знаю. Некоторые носители гена гемофилии — их называют симптоматическими носителями — имеют слабо выраженную склонность к кровотечениям, образованию синяков, носовым кровотечениям и тому подобное. Похоже, в семье знали о синяках Элинор. Если Генри было об этом известно, он мог заподозрить в ней носителя гемофилии. С другой стороны, у нее могло быть более распространенное заболевание — например, болезнь Виллебранда или носовые кровотечения. Тот факт, что он случайно влюбился в девушку, которая была носителем гена гемофилии, должен был поразить Генри, как он поразил нас — слишком уж невероятное совпадение.
— Он на ней не женился, не так ли?
— Собирался. Ее убили.
Больше мы на эту тему не говорим, потому что к нашему столику подходит коллега Лахлана из числа тори и, небрежно спросив разрешение и едва выслушав ответ, усаживается за наш столик. Остальная часть трапезы проходит под аккомпанемент спора Лахлана с коллегой — не сказать чтобы дружеского — о том, рождаются ли люди гомосексуалистами или становятся.
Коллега рассказывает анекдот о «голубом», который пришел к психиатру и сказал, что гомосексуалистом его сделала мать.
Никто не смеется. Я вспоминаю о Ричарде Гамильтоне и Генри и задумываюсь. Может, существует ген гомосексуальности, который передается через одну из Х-хромосом женщины? Если и существует, его пока не нашли. Уже девять часов, и я вижу на мониторе, как встает министр, лорд Уитти.
— Вы не возражаете, если мы вернемся? — спрашивает Лахлан.
Я полагаю, что смогу привыкнуть к ступеням трона. Дискомфорт должен отвлечь меня от унижения — и, наверное, отвлечет. Как только я сажусь, со своего места поднимается леди Янг, которая и внесла поправку, говорит несколько слов и объявляет, что ставит поправку на голосование. Фраза заместителя спикера звучит для меня по-новому. Я никогда не замечал, какие это звучные слова.
— Голосующие «за» проходят справа, у трона, голосующие «против» — слева, рядом с барьером.
Сотни пэров, поддерживающих оппозицию, устремляют в холл для тех, кто голосует «за». Либеральные демократы поддерживают правительство, а пятнадцать лейбористов — нет. Странно и довольно неприятно наблюдать за этим процессом со стороны, не принимая в нем участия. Иностранцы считают нелепостью отсутствие электронной системы для голосования, когда приходится идти по проходу, зачастую разговаривая и смеясь, и называть свое имя клерку, а если он знает вас в лицо, то вычеркивает ваше имя раньше, чем вы пройдете мимо. Имя лорда Нантера вычеркнуто из списка три месяца назад. Лахлан подходит, чтобы поговорить, и присаживается на ступеньку рядом со мной. Правительство — я чуть не сказал «мы» — проиграло с разницей в сорок пять голосов.
— Мы пытались, — мрачно произнес Лахлан.
Я ухожу один — ему нет нужды провожать меня до дверей. Полицейский у ворот спрашивает, не нужно ли милорду такси, но я отрицательно качаю головой. Хочу пройтись пешком, если и не весь путь, то большую его часть, и возможно, спуститься в метро на Бейкер-стрит. Вечер сегодня сырой и темный, но небо чистое. Лишь недавно закончив новую станцию «Вестминстер», строители теперь копают на Парламент-сквер. Похоже, никто не знает, зачем. Пешеходов мало, а протестующие здесь днем по поводу Пиночета — те, кто выступает за экстрадицию престарелого генерала, и те, кто хочет отправить его домой, — разошлись на ночь. Я размышляю о Генри — это и есть причина моей прогулки.
Я прихожу к странному выводу. Не подлежит сомнению, что мой прадед организовал нападение на Сэмюэла Хендерсона, заплатил своему викторианскому наемному убийце, чтобы тот набросился на Сэмюэла, а сам Генри мог поспешить на помощь жертве и тем самым подготовить почву для знакомства с семьей Хендерсон. Ему не нужен был ни сам Сэмюэл, ни его жена, ни сын, а только одна из дочерей. Он заметил Элинор на улице и влюбился в нее, как я влюбился в Джуд, увидев ее на вечеринке, в дальнем конце комнаты. Однако организация нападения на человека кажется мне довольно сложным, если не сказать преступным, способом познакомиться с женщиной. Возможно, Генри не мог придумать ничего лучшего, а возможно, он был знаком с семьей Дуосонов и Брюэров ближе, чем я думаю, и кто-то из них сам предложил свои услуги.
Где же тут появляется гемофилия?
Генри не мог знать, что жена Сэмюэла Хендерсона является носителем болезни. Вернее, я не представляю, откуда он мог это узнать. Не исключено, что Луиза Хендерсон действительно была его пациенткой — это же предположение Лахлан высказал относительно ее дочери — и приходила на консультацию на Уимпол-стрит, потому что принадлежала к симптоматическим носителям и, как и многие из этих женщин, страдала от проблем с суставами и кровотечения из десен. Но в таком случае Генри не было нужды устраивать уличное нападение на Сэмюэла — он и так был знаком с семьей Хендерсон. Значит, Генри ничего не знал. Он не знал, а когда все выяснилось, пришел в ужас.
Но как он узнал? Лайонел Хендерсон, брат Элинор, не был гемофиликом. У самой Элинор имелась склонность к образованию синяков, но тому есть множество причин, и Генри не должен был встревожиться. Нет, ответ определенно кроется в «консультации», как назвал ее в своем дневнике Генри. Во время этого разговора, состоявшегося после того, как он стал появляться на Кеппел-стрит, Луиза Хендерсон призналась, что ее дочь страдает от обильных менструальных кровотечений. Это ее беспокоило — она думала, что у Элинор могут быть проблемы с деторождением.
Следует также принять во внимание, что Луиза сама могла не знать, что является носителем болезни. Ее отец, Уильям Квендон, не был гемофиликом. Но у Луизы был брат, который умер в младенчестве или в раннем детстве. Младше ее, но насколько? Я должен это проверить, выяснить. Если он болел гемофилией и умер от нее, и если на момент его смерти они оба были маленькими, причину смерти Луиза могла и не знать. В целом, с учетом невежества людей в ту эпоху — мне вспоминается, как королева Виктория решительно отрицала наличие болезни «в семье», — я склоняюсь к мысли, что Луиза ничего не знала.
Но Генри, будучи специалистом, должен был догадаться. Как только Луиза рассказала о сильных менструальных кровотечениях дочери, о склонности к образованию синяков и, возможно, о носовых кровотечениях, а потом, скорее всего, прибавила, что сама страдает от подобных аномалий, Генри сразу заподозрил бы в них обеих носителей гемофилии. Несколько наводящих вопросов — возможно, о болезнях в семье — позволили бы получить дополнительную информацию. Он спросил бы о братьях или дядях Луизы и узнал бы о ее брате, умершем в раннем детстве. От чего тот умер? Его кровь не свертывалась, как у других людей, отвечает его будущая теща. У него была какая-то болезнь, но ее названия Луиза не знает. Но Генри знает, она написана в его сердце кроваво-красными буквами, и он видит риск, которому подвергается сам.
Но к тому времени он уже помолвлен с Элинор. Хотя правильнее было бы сказать, что официального обручения не было. О дате помолвки известно из объявления в «Таймс» и записи в дневнике. Генри вполне мог сделать предложение Элинор в июле, до консультации. Сначала заручился согласием родителей — объяснил, что согласен с возможным возражением, что они знают друг друга слишком мало, но заверил в своей решимости и в убежденности в том, что его чувство взаимно. Затем спросил согласия девушки. Консультация состоялась на следующей неделе — Луиза решила предупредить потенциального зятя о том, что у дочери могут возникнуть трудности с деторождением.
Генри в ужасе. Но отступать уже поздно. Извещение идет в «Таймс», и Генри мрачно упоминает в дневнике о своей помолвке. Шесть недель спустя Элинор едет к своей тетке в Девоншир. Известно, что она писала домой, сестре Эдит. Может, Элинор писала и Генри, своему жениху? И если да, то рассказала ли о синяках, результате падения, подтвердив — как будто он нуждался в этом — то, что сообщила ему мать? Через две недели она пытается вернуться домой, но этого не происходит, потому что по пути ее убили, а тело сбросили с поезда.
Генри должен жениться на ней в феврале 1884 года, всего через четыре месяца. Его открытие должно было повлиять на чувства к девушке. Он считал ее нечистой, больной. Он много знает о гемофилии, возможно, больше любого из современных ему врачей. Он знает, к чему приведет женитьба на этой женщине: любой сын может родиться больным, а любая дочь — носителем. Брак с ней был бы катастрофой, немыслимой для него.
Я дохожу до Бейкер-стрит, но сесть в метро не могу. Поезда Юбилейной линии здесь не останавливаются из-за каких-то проблем с эскалаторами. Я сажусь в 189-й автобус. Он подвозит меня ближе к дому, чем метро. Мне совсем не нравится то, что я думаю о своем прадеде — над моими мыслями не властны ни расстояние, ни время, даже прошедшие сто лет.
Если Генри был способен устроить уличное нападение, чтобы познакомиться с девушкой, мог ли он также организовать убийство, чтобы не жениться на ней? Конечно, эти преступления несопоставимы. Сэмюэл Хендерсон практически не пострадал, тогда как Элинор безжалостно задушили. Но зачем прибегать к таким ужасным средствам? Не проще ли расстаться с девушкой? Бросить ее. Разгневанный отец мог поместить объявление в газете, назвав Генри Нантера легкомысленным бездельником, который играет чувствами женщин, человеком, которого следует избегать и от которого нужно защищать дочерей. Говорят, отец Оливии Бато собирался предпринять такой шаг. Знал ли об этом Генри? Здесь нужно вспомнить, что Сэмюэл Хендерсон, будучи адвокатом, должен был разбираться в подобных вещах. Будущий лорд Нантер был лейб-медиком, гордился своей репутацией, ведь от нее полностью зависело его благополучие. В молодости королева Виктория придерживалась таких строгих моральных принципов, что они с принцем-консортом отказались принять женщину, которая сбежала от мужа и сочеталась браком с другим. Она никогда не одобрила бы поведение одного из своих врачей, публично объявившего о помолвке с уважаемой и добродетельной молодой женщиной, с полного согласия ее родителей, а затем бросившего невесту.
Как ни ужасно это звучит, может, Джуд права и Генри убийца?
26
Жаль, что я не выложил все это Лахлану — тогда у меня была бы возможность выслушать его мнение. Он разобрал бы мою теорию со свойственной ему рассудительностью. А может, сказал бы, что все это странно и смешно, потому что, по словам Ибсена, «ведь так не делают».
Конечно, не может быть и речи о том, что Генри убил Элинор сам, то есть собственными руками. Однако личное участие не является необходимым условием преступления. Заплатил ли он Джорджу Байтфорду, чтобы тот убил девушку?
Я почти исследовал то, что связано с Байтфордом. Для биографии Генри мне казалось достаточным прочитать газетные статьи о смерти Элинор, расследовании, суде и казни. Очевидно, теперь этого мало. В одном из томов «Знаменитых судебных процессов Британии» содержится более подробный рассказ о Байтфорде, о его жизни и смерти; вероятно, в сборник это дело включили не из-за интереса к самому преступнику и не потому, что совершенное им убийство было каким-то необычным, а благодаря личности жертвы и ее отношениям с будущим лордом Нантером. Мой следующий шаг — взять эту книгу в Лондонской библиотеке.
Пока я этого не сделал, нет особого смысла строить какие-либо догадки, к примеру, о связи Генри — а также семейства Брюэр и Доусон — с Девонширом или Большой западной железной дорогой. И вообще любые догадки. При всем при том мне хотелось бы поговорить об этом с Джуд. Раньше она радовалась возможности обнаружить еще одно свидетельство неблаговидного поведения Генри и с удовольствием брала на себя роль адвоката дьявола, но теперь я точно знаю, что ей будет не интересно и она усталым голосом спросит, неужели мы опять должны говорить о нем.
Я выхожу из автобуса и сворачиваю за угол на Альма-сквер. Джуд в постели, крепко спит. Свет падает из коридора на ее прикроватную тумбочку, и я вижу среди груды лекарств и пищевых добавок новый пузырек. На этикетке написано «Кава-кава», и я понятия не имею, что это.
Проснувшись утром, я бы нисколько не удивился, покажись мне вся эта теория абсурдной, и спросил себя, как я мог даже на секунду допустить, что мой известный и уважаемый прадед был убийцей. Но этого не произошло. Мои мысли остались точно такими же, как вечером, в 189-м автобусе. Человек, организовавший нападение на незнакомца, чтобы прийти ему на помощь, выдавший замуж свою любовницу и бросивший дочь, ухаживающий за девушкой и пользовавшийся расположением ее отца, а затем бросивший ее ради другой — разве он не способен на худшие преступления?
Раньше при посещении Лондонской библиотеки я обычно брал книги, а потом пересекал площадь и шел мимо Сент-Джеймского парка и Ворот королевы Анны к Палате лордов. Теперь, чтобы попасть внутрь, мне нужен «спонсор», но я дохожу до парка и останавливаюсь на мосту. Сегодня чудесный солнечный день; небо голубое, а гладь озера ярко блестит. Если посмотреть на север, то за водой и деревьями виден Букингемский дворец. На юге, тоже за водой и деревьями, а также лебедями и пеликанами, можно увидеть Уайтхолл, Хорсгардз и Форин оффис. За белыми стенами домов и зелеными и серебристыми крышами в небо поднимается Колесо тысячелетия, или «Лондонский глаз». Я пытаюсь не замечать его, смотреть на пейзаж глазами Генри — должно быть, он часто ходил этой дорогой. Тогда воздух был дымным, дома грязнее, улицы без машин и все в конском навозе, но небо над головой было такое же голубое, а трава такая же зеленая. Задумывался ли когда-нибудь Генри о том, что он сделал, чтобы получить то, что хотел, — или, вернее, избежать того, чего не хотел?
Вернувшись домой, я сразу же приступаю к «Знаменитым судебным процессам Британии», читая книгу под аккомпанемент пылесоса Лорейн, гудящего где-то наверху. Глава о Байтфорде создана человеком по имени Стюарт С. Люк и называется «Убийца из Корнуэльского экспресса». Люк написал ее в 1909-м, в год смерти Генри, и я удивляюсь такому совпадению. Меня охватывает дрожь от возбуждения. Вполне логично подождать смерти человека, прежде чем писать на тему, которая связана с ним, — чтобы не дискредитировать умершего.
По свидетельству Стюарта Люка, Байтфорд родился в 1862 году и был старшим сыном Джейн Байтфорд, урожденной Эдвардс, и ее мужа Эйбла Байтфорда, кучера Гарольда Мервина Клайда из Ливси-Плейс, что неподалеку от Тавистока. Имя Альберт, которое раньше не встречалось в семье, по всей видимости, выбрали в честь принца-консорта, умершего годом раньше. У Байтфордов было много детей, но только трое дожили до совершеннолетия — Альберт и две девочки, Джейн и Мария. Вся семья работала у мистера и миссис Клайв. Миссис Байтфорд помогала с уборкой дома, ее дочь Джейн была помощницей горничной, другая дочь Мария работала на кухне, а Альберта взяли в помощники старшего садовника, Томаса Флиттона.
Байтфорды поженились очень молодыми, — пишет Люк, — и им было всего сорок, когда их сына повесили за убийство мисс Хендерсон. Тремя годами раньше девятнадцатилетний Альберт решился на беспрецедентный — для семьи и для того времени — поступок, объявив, что недоволен работой и решил бросить ее. Он признался в этом отцу, сказав, что ненавидит садоводство. Ему было противно собирать и разбрасывать навоз, а от необходимости наклоняться болела спина, которую он повредил в пятнадцать лет, таская тяжелые мешки по просьбе матери. Альберт также заявил, что Флиттон «имеет на него зуб».
Не будет преувеличением сказать, что это признание скорее испугало, чем разозлило Эйбла Байтфорда. Под угрозой оказалось благополучие всей семьи, а не только Альберта, угрожавшего сбежать в Плимут и искать лучшей доли в другом месте или даже за границей, если его заставят работать под началом Флиттона. Эйбл сначала пошел к садовнику, которого знал много лет и поддерживал с ним дружеские отношения. Старшему садовнику пришлось рассказать расстроенному отцу, что его сын показал себя плохим работником. Угрюмый, невежливый, постоянно жалуется на боль в спине — такое поведение молодого человека Флиттон считал неподобающим. Он посоветовал Эйблу поговорить с самим мистером Клайвом.
Нетрудно представить ужас, который вызвало это предложение у Эйбла Байтфорда. Вероятно, он никогда не разговаривал с хозяином, только выслушивал указания, не обсуждая их, а если хозяин обрушивал на него свое недовольство, то воспринимал это как должное — такова участь слуги. Тем не менее он собрался с духом и на следующий день, отвозя мистера Клайва в Йелвертон на собрание Ассоциации землевладельцев, спросил, нельзя ли им поговорить, когда тому будет удобно.
Люк не пишет, откуда ему все это известно. Возможно, из протоколов судебных заседаний. Нужно взглянуть на них, когда я дойду до суда. Похоже, Гарольд Клайв был во многих отношениях разумным человеком, совсем не похожим на грубых сквайров, которых изображают в романах о викторианской эпохе, поскольку проявил сочувствие к Эйблу, когда тот рассказал ему об Альберте. Наверное, он ответил кучеру, что ценит семью Байтфордов и совсем не хочет отказываться от их услуг. Тут их желания совпадали, и Эйбл, должно быть, вздохнул с облегчением. Клайв спросил, не будет ли Альберту лучше вдали от дома, и, получив утвердительный ответ, пообещал помочь. Первым делом он, по всей вероятности, посоветовался с мисс Уитикомб из Тавистока, предполагая, что ей нужен слуга, и женщина взяла Альберта с недельным испытательным сроком. Он не справился со своими обязанностями, но Люк не пишет, почему. Клайв проявил снисходительность и предпринял еще одну попытку.
Он был директором Большой западной железной дороги. «Или что-то в этом роде», как странно выразился Люк. Клайв «имел значительное влияние на набор персонала». Во всяком случае, он устроил Альберта носильщиком на вокзал Норт-Роуд в Портленде. Вряд ли можно считать разумным и тем более милосердным предложение работать носильщиком человеку с больной спиной. Стюарт Люк не задается этим вопросом. Он явно не сочувствует Альберту. По его мнению, тому вообще повезло, что ему предложили работу. Молодого человека могли просто выкинуть, обречь на голодную смерть. В любом случае выбора у Альберта не было, и он согласился. В первый день ему пришлось пройти десять миль до Плимута пешком, но каждый день ходить туда и обратно он не мог и поэтому поселился у своей тетки, сестры миссис Байтфорд по имени Мария Моллик, чей дом находился в пяти минутах ходьбы от вокзала Норт-Роуд.
Альберту Байтфорду к тому времени исполнилось двадцать. Похоже, жизнь его была одинокой и скучной; днем он работал носильщиком на вокзале, почти не общаясь с другими служащими железной дороги, возвращался в дом тетки, ужинал и рано ложился спать. В то время в Норт-Роуд был клуб для рабочих, но Байтфорд туда не ходил и на собраниях не присутствовал. Несколько коллег приглашали его пропустить по кружечке в местной пивной, но Альберт неизменно отказывался. Никто не слышал, чтобы он кого-то называл по фамилии. Даже начальник станции, перед которым подчиненные благоговели, как перед августейшей особой, и к которому обращались «сэр», не удостаивался такой чести от Байтфорда. Альберт время от времени жаловался на боли в спине и на высокомерный тон пассажиров. Но в основном он молчал.
Теперь, в XXI веке, мы бы посочувствовали Альберту, предположив, что он страдает от хронической депрессии. Наверное, в угнетенном состоянии он пребывал уже много лет, но в разлуке с домом, семьей и друзьями — по всей видимости, они тоже остались в Ливси-Плейс — его состояние ухудшилось. У него не было ни знакомых, за исключением тетки, ни девушки, ни друзей. Сегодня любой человек, очутившийся в подобной ситуации, вызвал бы сочувствие, получил бы предложения о помощи от многих организаций, не ощущал бы себя таким изолированным от общества, мог бы обучаться какой-либо профессии, а после достижения восемнадцати лет жить на пособие, пока не найдет работу. Примерно так. Возможно, это нелегко, но явно легче, чем в викторианской Англии.
Разумеется, судить об этом сложно — времени прошло слишком много, а свидетельств сохранилось слишком мало. Люк тут не помощник. Он ничего не знал о депрессии. А может, Альберт страдал от чего-то более серьезного, чем депрессия. Может, он был шизофреником. В то время ему посоветовали бы взять себя в руки и быть мужчиной, сказали бы, что главное — трудиться, делать карьеру. «Нервы» — это для аристократов или юных леди, а не для рабочего человека. С расстояния ста двадцати лет мы сочувствуем Альберту Байтфорду, одинокому, растерянному и страдающему.
Он был груб с товарищами и неразговорчив с пассажирами. Однажды, в начале октября 1883 года, когда на станцию Норт-Роуд прибыл экспресс из Лондона, сэр Джеймс Трипп, проживающий в Караман Хаус в Плимбридже, выглянул из вагона первого класса и велел Альберту перенести его вещи в экипаж, приехавший встречать поезд. Носильщик молча принялся выполнять указания.
Впоследствии он свалил все на боль в спине. Как бы то ни было, он уронил на платформу один из кожаных чемоданов сэра Джеймса, за что получил справедливое, но по всей видимости, довольно резкое замечание: «Осторожнее, болван, черт бы тебя побрал. Там хрупкие вещи, и если они разобьются, тебе придется выплатить все, до последнего фартинга». Байтфорд поставил на землю багаж, который он нес, и громко огрызнулся: «И вы еще называете себя джентльменом? Если тут и есть болван, то это вы!»
Совершенно очевидно, что он был на грани срыва — и сорвался, разбившись вдребезги. Как и витрина с редкими бабочками, которую сэр Джеймс по никому не известным причинам вез домой. О происшествии тотчас доложили начальнику станции. Он, по всей видимости, был рад предлогу избавиться от Альберта. Хотя о возмещении ущерба за разбитую витрину речь больше не заходила.
Альберт вернулся домой, к миссис Моллик. Что между ними произошло, мы не знаем. Похоже, Байтфорд прожил у тетки еще неделю, покидая дом лишь для того, чтобы в угрюмом молчании слоняться по платформам на станции. Наконец, ему сказали, чтобы он уходил и больше не возвращался. Пока Элинор Хендерсон весело проводила время в доме тетки, обсуждая предстоящую свадьбу, наслаждаясь роскошной обстановкой дома и прогулками (на которых заработала синяки) с двоюродными сестрами, Альберт либо сидел дома со своей теткой, которая, скорее всего, постоянно бранила его и спрашивала, что он собирается делать дальше, или ошивался на вокзале Норт-Роуд. По всей видимости, мисс Моллик была остра на язык и «не терпела глупостей». Как бы то ни было, через девять дней она выставила Байтфорда, сказав, чтобы тот отправлялся домой к родителям. Альберт возражал, что не может идти так далеко, что он нездоров и его постоянно мучает боль. Тетка настаивала, и он покинул ее дом 20 октября около десяти утра.
Что приключилось со спиной Альберта? Похоже на смещение межпозвоночного диска. А может, повреждение было более серьезным. В нацистских концентрационных лагерях маленьких мальчиков заставляли передвигать тяжелые механизмы или таскать тяжести, и они часто повреждали позвоночник, причем те, кто выжил, страдали от последствий до самой старости. Вне всякого сомнения, нечто подобное происходило с юношами викторианской эпохи, которых отправляли на тяжелые физические работы, не думая о том, что они слишком молоды и хрупки. Был ли у Байтфорда багаж? Об этом ничего не сообщается, однако Альберт вряд ли мог более или менее постоянно жить у миссис Моллик без личных вещей. Возможно, переломным моментом стало именно это утро, а вовсе не происшествие, когда он нагрубил сэру Джеймсу Триппу. Альберт оказался на улице со своими вещами, мучимый болью, не имеющий возможности добраться до дома и, в любом случае, опасающийся встречи с отцом. Куда он собирался пойти, что собирался делать? Никто не знает. Вполне вероятно, он и сам не знал.
По всей видимости, Альберт купил билет до лондонского вокзала Паддингтон, намереваясь уехать подальше. Его последнее путешествие по железной дороге было одновременно первым — он ни разу в жизни не садился в поезд. Альберт устроился в вагоне третьего класса, но ненадолго. Неизвестно, что побудило его встать и бродить по всему поезду, жалуясь — всем, кто соглашался слушать, — на то, что его несправедливо уволили с должности носильщика. Необычное поведение для этого угрюмого и неразговорчивого молодого человека. Нервный срыв меняет характер, и, наверное, причина именно в этом. По моему мнению.
Поезд миновал Ньютон Эббот, Тейнмаут и Доулиш, затем — несколько миль красивейшего побережья Южного Девоншира; до Эксетера оставалось не больше дюжины миль. Альберт Байтфорд вошел в купе, где сидела Элинор, одна.
Здесь Стюарт Люк делает отступление, рассказывая о семье девушки. Для него, писавшего в эдвардианскую эпоху, задолго до того, как на женщин перестали смотреть в отраженном свете связанных с ними мужчин, самой важной характеристикой Элинор были ее отношения со знаменитым доктором Нантером. Автор постоянно называет его лордом Нантером, хотя Генри получил титул лишь тринадцать лет спустя. Люк неверно указывает его звания и должности (называет его рыцарем-командором Викторианского ордена, хотя последний был учрежден только в 1896 году), положение при дворе королевы Виктории и даже возраст, сообщая, что в то время, когда произошло убийство, ему было сорок пять лет. Нет никаких сомнений, что он преклоняется перед Генри. Блистательный Генри. Царедворец. Называя Элинор «несчастной юной леди», автор выражает соответствующий своей эпохе ужас перед подобной смертью, однако подробно останавливается на утрате Генри, о его разрушенном счастье и его удивительной верности семье Хендерсон после потери «суженой».
В книге не сделано даже попытки объяснить, почему Байтфорд задушил Элинор. Конечно, для британского правосудия мотив не так уж важен. Возможно, даже в те времена люди понимали, как трудно объяснить действия человека — ведь практически каждый из нас совершает не поддающиеся логике поступки. Кое-что подвластно психологии и психиатрии, но далеко не все. Загадка остается. У Альберта Байтфорда не было подружки — вероятно, никогда в жизни. Может, он почувствовал влечение к Элинор, но его ухаживания были отвергнуты? Альберт сорвал шарф с ее шеи — может, при попытке обнять девушку? Или она оскорбила его, подобно сэру Джеймсу? Не потому, что уронил его вещи, а потому, что попытался рассказать о своих несчастьях. «Он был ослеплен яростью», — пишет Люк, используя старую метафору, которая все равно ничего не объясняет. Почему автор не делает попытки объяснить? Альберт задушил Элинор, открыл дверь или окно и выбросил тело из поезда.
Остальная часть статьи Стюарта Люка посвящена в основном самому судебному процессу. Сначала он рассказывает, как Альберт сошел с поезда в Эксетере и отправился к родителем в Тэвисток. Как он туда попал, похоже, не знает ни Люк, ни кто-либо другой. Чтобы преодолеть этот путь пешком, потребовалось бы дня два, хотя в те времена люди путешествовали на такие расстояния — вспомним Генри в Швейцарии, — причем даже не самые здоровые. Добравшись до Ливси-Плейс, Альберт, наверное, попросил отца спрятать его, возможно, сообщил, что его разыскивает полиция, но не сказал причину. Или сказал, потому что был доведен до отчаяния, хотел как-то объяснить самое гнусное из преступлений. Как бы то ни было, Эйбл отказался и выгнал Альберта, которого затем нашли в пастушьей хижине в Дартмуре. Это жестокая и печальная история не только для моей двоюродной прапрабабки Элинор, но и для самого Альберта Байтфорда.
Но возможен ли другой мотив? А если кто-то нанял Альберта для совершения этого преступления? Он мог убить за деньги. Пятьдесят фунтов были для него целым состоянием, а двадцать фунтов — огромной суммой. На них можно уехать в Америку, практически куда угодно, начать новую жизнь. Но если Альберт был наемным убийцей, которому заплатили за смерть Элинор, зачем признаваться отцу, а потом полиции? Что ему было терять? И ему явно должны были заплатить вперед — по крайней мере, половину. Почему он не использовал эти деньги, чтобы спрятаться, исчезнуть, что в 1883 году было не так трудно? Денег у него не нашли. Но это ни о чем не говорит; Альберт мог спрятать их где-нибудь или закопать в Дартмуре. Но все это не объясняет его молчания после поимки.
Разумеется, я думаю о Генри. У него имелся серьезный мотив для убийства Элинор. На карту было поставлено его будущее счастье. Женись он на Элинор, у него могли бы родиться больные сыновья, а дочери стали бы носителями болезни. Бросив невесту, он рисковал потерять свою должность при дворе и свою репутацию. Но почему выбор пал на Альберта Байтфорда? Знал ли его Генри? Возможно. Другой вопрос — откуда. Генри мог быть знаком с Гарольдом Клайвом, Беатрисой Уитикомб или сэром Джемсом Триппом — все они «благородные» люди и могли быть в числе его знакомых. С другой стороны, Мария Моллик могла состоять в родстве с кем-то из слуг Генри, в прошлом работать у него или быть как-то связана с семьей Доусон-Брюэр. Совершенно очевидно, что тут следует обратиться к общественным архивам — значит, к «Дебретту»?[59] Или к такому источнику, как справочник Келли, где можно найти сведения о дворянах, землевладельцах и чиновниках? Вряд ли я смогу выяснить, что случилось на самом деле, но если какие-то факты из жизни Генри укажут, что с января по октябрь 1883 года он ездил на поезде в Плимут или из Плимута, это мне очень поможет. В дневниках и в записках «альтернативного Генри» о путешествии нет ни слова.
Но как мне это выяснить?
27
Жена обыденным тоном сообщает мне, что секс для нас больше не обязателен. Мне это не приходило в голову? Главное, что у нее теперь взяли яйцеклетки, а у меня — сперму. Конечно, говорит Джуд, секс не станет помехой, просто он не является необходимым условием.
— Большое спасибо, — отвечаю я, потому что теперь все это меня злит. Наш разговор происходит после того, как у Джуд взяли яйцеклетки, а я при унизительных обстоятельствах, как нетрудно догадаться, предоставил оплодотворяющий эликсир. Если ничего не получится, мне придется делать это снова и снова.
— Мне еще хуже, — говорит Джуд.
Вероятно, все так, но только она хочет ребенка, а я — нет. Мое лицо напряжено — от улыбки и притворства. И все же я не вижу выхода, кроме как притворяться. Альтернатива — конец нашего брака. За эти последние недели я понял, что потеря Джуд — даже той изменившейся Джуд, которой она становится, — будет худшим, что со мной может случиться, о чем я не могу думать без паники, без ощущения, что я балансирую на краю бездны. Но смогу ли я все выдержать, лишь бы сохранить брак? Потерю дома, возможно, трех кричащих младенцев, необходимость бросить писательское ремесло и найти какую-нибудь работу? Смогу ли я вынести отсутствие секса с ней?
— Ты же не это имела в виду? — спрашиваю я. — Что секс у нас был необходимостью?
— Дорогой, — говорит она, но не прикасается ко мне, не берет мою руку и не целует ее. — Я имела в виду лишь то, что благодаря чудесам науки для рождения детей мы не нужны друг другу в этом смысле.
Дети. «В этом смысле». Похоже на эвфемизм, который могла бы использовать моя прабабушка Эдит. Мы с Джуд возвращаемся домой; процесс запущен, жребий брошен. Я должен сидеть с ней. Должен открыть бутылку шампанского. Воспользоваться моментом, пока спиртное не запрещено — в противном случае близнецы могут родиться с плодным алкогольным синдромом. Я должен выпить за наше будущее как родителей и спланировать детскую на верхнем этаже квартиры, которую мы, вне всякого сомнения, купим на Мейда-Вейл. Но силы у меня заканчиваются, и я ухожу в кабинет, чтобы поразмышлять над историей Генри.
Какое-то время я просто перекладываю бумаги, открываю папки и смотрю в них, ничего не видя. Но тайна Генри все еще способна отвлечь меня, и я снова погружаюсь в его жизнь. Как я уже говорил, в дневниках и в блокноте нет сведений о путешествии в Девоншир, но я должен просмотреть их еще раз. А еще есть сотни писем, аккуратно рассортированных по году написания и имени отправителя. Единственное утешение — мне не нужно проверять письма, написанные до 1862 года, когда родился Альберт Байтфорд, или после 1883-го, когда было совершено убийство. Я скопировал все имеющиеся у меня письма, но все равно многие можно прочесть только с помощью лупы.
Лучшей (или худшей?) новостью было бы открытие, что Генри знал Гарольда Клайда. Предположим, к примеру, что они с Ричардом Гамильтоном путешествовали пешком по плато Дартмур за несколько лет до смерти Гамильтона в 1879 году. В моей коллекции сотни писем от Ричарда, и еще тридцать от него к сестре Кэролайн. Слава богу, почерк у Гамильтона разборчивый и крупный, и увеличительного стекла для него не требуется. В письмах много упоминаний о пеших прогулках вместе с Генри, однако все они, похоже, имели место в Шотландии и в Йоркшире; исключение представляет единственная экскурсия в Скалистый край. В одном из последних писем к сестре, датированном октябрем 1879 года, Гамильтон рассказывает об отпуске, который он несколько лет назад провел в Корнуолле, но это место находится далеко от Дартмура, и хотя Ричард, скорее всего, проезжал Плимут, Байтфорд в то время работал помощником садовника в Ливси-Плейс и никогда не был не только в поезде, но, скорее всего, даже на железнодорожной станции и платформе.
Я просматриваю письма Генри к матери, а также Элизабет Киркфорд к ее матери, но тщетно, а затем меня, как всегда, начинает мучить совесть. Я откладываю письма, нахожу Джуд и открываю шампанское. Она так счастлива и довольна, что не заметила ни моей прохладной реакции, ни плохо скрытого смятения, и теперь спрашивает, впервые за несколько недель, как у меня продвигаются дела с Генри.
Я рассказываю, и она говорит, что ничуть не удивлена.
— Я же тебя предупреждала: он что-то замышляет.
— Да, но ты имела в виду причины женитьбы на Эдит.
— И что? Может, он убил Элинор, чтобы жениться на Эдит. Это и есть коварный замысел, в полном смысле слова.
Я возражаю: не могу поверить, что сорокасемилетний мужчина с первого взгляда теряет голову от девушки, случайно встреченной на улице, а несколько месяцев спустя охладевает к ней и влюбляется в ее сестру.
— А почему ты считаешь, что здесь замешана любовь?
— Дело не в том, что я романтик. Просто не могу придумать другой причины, почему Генри хотел жениться на любой из них. А ты?
— Наверное, нет. Но ты должен подумать о причине убийства Элинор.
— А разве открытие, что невеста является носителем гемофилии, — недостаточная причина?
Джуд спрашивает, есть ли у меня доказательства, и я отвечаю, что есть. Мое объяснение получается немного неуверенным, поскольку я знаю: Джуд думает о болезни, носителем которой является сама. Однако она помнит, что в наши дни все иначе, и поэтому улыбается и говорит, что я на правильном пути. Мы пьем шампанское, а потом отправляемся куда-нибудь поужинать, как в старые добрые времена. Когда мы спускаемся с холма, я невольно замечаю, что время от времени у нас выдается счастливый вечер, совсем как прежде, однако эти вечера постепенно становятся чуть бледнее, чуть менее пылкими, а взаимная любовь почти незаметно слабеет. Последующие занятия любовью тоже хороши, потому что я заставляю себя не вспоминать, как это обычно у нас бывает.
Утро я провожу за чтением остальных писем, но ничего не нахожу. В 1936 году Мэри Крэддок пишет своей сестре Элизабет Киркфорд об отпуске, который они с мужем провели в Торки, но из всей переписки Девоншир упоминается лишь тут — и в письме Элинор из Манатона. После ленча я отправляюсь за сведениями в общественный архив. Провожу там несколько часов, но улов невелик. То есть невелик в смысле ответа на мои вопросы.
Выясняется, что Эйбл Байтфорд, отец Альберта, умер в начале 1885-го, через год с небольшим после казни сына. Ему было всего сорок три. Обе сестры Альберта вышли замуж, но фамилии их мужей не упоминаются в письмах и дневниках. У Джейн Байтфорд и ее сестры Марии Моллик было четырнадцать братьев и сестер, но никто из них опять-таки не был связан с людьми, присутствующими в документах Генри. Гарольд Клайв родился в Ливси-Плейс, но его жена Анна была из Лондона. До замужества она носила фамилию Диксон и родилась на Уимпол-стрит.
Тут прослеживается некая связь с Генри, но очень слабая, потому что Анна родилась в 1829-м, за сорок три года до того, как Генри открыл там практику. Тем не менее я тяну за эту ниточку.
У Клайвов не было детей. И, естественно, у незамужней дамы Беатрисы Уитикомб, с которой они, похоже, дружили. Она родилась в Тавистоке и там же умерла. Если она и была дальней родственницей Генри, доказательств этому нет. Единственное, что представляет интерес, это фамилия ее матери — Брюэр. Поначалу я разволновался, но затем проследил родословную женщины и выяснил, что она из совсем другой семьи, Брюэров из Юстона (или, если уж на то пошло, из семьи лорда Брюэра, который купил у меня мантию). Сэр Джеймс Трипп родился в Хайгейте и, судя по свидетельствам рождения его детей, жил в Ричмонде и вступил в брак с женщиной по имени Джастиния Гоулд.
Если Генри заплатил Альберту Байтфорду за убийство Элинор, то должен был познакомиться с ним в Плимуте, на вокзале Норт-Роуд, где Байтфорд вытаскивал его чемоданы из поезда на платформу. Но если Генри посещал Плимут, разве эта поездка не должна была отразиться в его дневнике за 1883 год? Он записывал именно такие события. Никаких эмоций, озарений или наблюдений, ни намека на чувства, только скупые сообщения о путешествиях, которые он совершил или собирался совершить. И он обожал поезда. Но стал бы Генри оставлять запись о поездке, во время которой нанял Байтфорда, чтобы тот убил его невесту? Разумеется, нет, однако он обязательно написал бы о своем намерении совершить путешествие, не предполагая, что встретит Байтфорда на вокзале.
Проблема заключается в абсурдности моей теории. Я пытаюсь все это представить, но не могу. Известный и уважаемый джентльмен, удостоенный рыцарского звания, лейб-медик королевы, сорока семи лет, вероятно, во фраке и высоком шелковом цилиндре — и вдруг ему приходит в голову, что юноша, который тащит его багаж, подходит для убийства его юной невесты. Тогда он узнает имя и адрес молодого человека и в тот же вечер покидает гостиницу или частный дом, в котором остановился, идет к миссис Моллик, договаривается об устранении Элинор и платит наемному убийце пятнадцать фунтов аванса. Не годится. Совсем. Не знаю, как все это происходило — если вообще происходило, — но уж точно не так.
Джуд указала мне на другую трудность. Если Генри убил Элинор, чтобы исключить вероятность рождения больных гемофилией детей, какого черта он не сбежал, а женился на ее сестре? Абсолютная бессмыслица — если Элинор была носителем болезни, то ее сестра, скорее всего, тоже. Носителями гемофилии были две дочери королевы Виктории, а также две дочери ее дочери, Алисы Гессенской. Генри знал это лучше любого другого. И теперь нам известно, что Эдит была носителем. Конечно, можно предположить, что причиной убийства Элинор стали не подозрения относительно здоровья девушки, а внезапное чувство к сестре. Но мне это кажется такой же нелепостью, как теория о том, что Генри встретил Байтфорда на железнодорожной платформе.
Причина загадки понятна: в моей версии событий люди ведут себя неестественно, вопреки своей природе. «Ведь так не делают». Тогда я пытаюсь представить, как все могло произойти, если принять во внимание личности участников этой истории. Генри видит Элинор на улице, влюбляется в нее, узнает, кто она такая, и устраивает нападение на ее отца, чтобы с ней познакомиться. Это я еще могу допустить. Он обручается с Элинор, узнает от ее матери, что у девушки склонность к образованию синяков и к кровотечениям и что у Луизы Хендерсон был брат, который в раннем детстве умер от гемофилии. Генри сразу понимает, что его невеста может быть носителем болезни. Однако он не планирует ее убийство. Его образ жизни, происхождение и воспитание, респектабельность и репутация — все это восстает против такого поступка. Тем не менее подобные мысли могли приходить ему в голову. Требовалось как-то разорвать помолвку.
Это непросто, особенно после того, как он уже бросил Оливию, и Генри откладывает объяснения с Элинор и ее отцом. Тем временем Элинор погибает от руки безумца, страдающего от депрессии и шизофрении. Смерть девушки разрубает узел. Освободившись, Генри получает возможность вести себя достойно, проявить сочувствие к убитым горем родителям. И к убитой горем сестре.
И женится на сестре — из огня да в полымя? Нет. Невозможно. Это абсурд. И тем не менее он женился.
Частный кабинет Генри находился на Уимпол-стрит, где родилась Анна Клайв, — неподалеку, всего через семь домов. В возрасте двадцати одного года она вышла замуж за Гарольда Клайва; это произошло в 1850 году, и к тому времени семья, похоже, давно переехала, потому что отец Анны умер в следующем году в Блумсбери. Я не могу игнорировать подобные факты, хотя все больше склоняюсь к мысли, что Генри не имел отношения к убийству. Но Джуд непоколебима в своей уверенности в обратном. Она ненавидит Генри, как можно ненавидеть человека, который умер за пятьдесят лет до твоего рождения. Но мне безразлично, во что она верит — я просто радуюсь, что она способна говорить о чем-то другом, кроме яйцеклеток, спермы и рождении близнецов.
— Разве ты не понимаешь, — спрашивает Джуд, — что можно лишь догадываться, о чем тогда говорила Луиза Хендерсон с Генри? В его дневнике ты прочел только о консультации. Речь не обязательно шла о ее дочери. Может, она думала, что у нее самой рак, у нее могли быть кровотечения, или у нее просто пошла носом кровь. Бог свидетель, у меня достаточно часто бывают кровотечения, но я не носитель гемофилии. Почему Луиза не могла спросить его о чем-то, о чем спросила бы я?
Это правда. Я делаю лишь обоснованные предположения. Доказательств у меня нет.
— Сколько ей было лет? Сорок пять? Сорок шесть? Она могла думать, что беременна. Или что у нее менопауза. Ты все это сочинил потому, что не мог представить, каким еще образом Генри мог заподозрить в Элинор носителя гемофилии.
— У нее были синяки.
— Да, но Элинор пишет о них сестре, а не Генри. Она могла сказать и ему, а могла этого и не делать. Ты подгоняешь факты к своей теории.
— Тогда откуда Генри узнал?
— Он не знал. Это единственное объяснение, соответствующее фактам.
— Тогда мы опять имеем дело с совпадением. Невероятным совпадением: Генри, самый известный специалист по гемофилии, случайно женится на женщине, носителе болезни.
— Совпадения случаются, Мартин.
— И ты по-прежнему думаешь, что он убил Элинор?
— Да. Но не потому, что она могла быть носителем болезни. А потому, что Генри хотел ее устранить и жениться на ее сестре. Может, тебе хочется так думать, но это парадокс — убить одну девушку из-за того, что она может быть носителем болезни, и в результате жениться на другой, которая как раз и оказывается носителем.
Затем Джуд говорит нечто очень важное, идущее вразрез с ее упорным стремлением представить Генри убийцей. Она смотрит на генеалогическое древо, нарисованное Дэвидом Крофт-Джонсом.
— Откуда взялась гемофилия в семье?
— Мутация в клетках матери Луизы Хендерсон, — уверенно говорю я.
— А почему это должна быть мутация?
— Просто так. Джон Корри рассказал мне, что треть всех случаев гемофилии является результатом мутации. Возьми, к примеру, королеву Викторию. У нас нет никаких свидетельств, подтверждающих наличие этой болезни в ее семье, если не считать разного рода слухов, в том числе что ее отцом был какой-то юный гемофилик, а не герцог Кентский.
Королева Виктория не интересует Джуд. Она убежденная республиканка.
— Если треть случаев обусловлена мутацией, то вдвое большее число — нет. Ты пытался проследить историю болезни?
— Это будет трудно. В те времена еще не велись записи. Луиза родилась в 1837 году.
— Думаю, ты все равно должен попытаться. Тебе известны имена ее родителей?
— Уильям Квендон и Луиза Дорнфорд.
— Ты как-то странно произнес ее имя.
— Да, на немецкий манер.
Джуд, знающая немецкий, невысокого мнения о моем произношении. Она спрашивает, имею ли в виду, что Луиза немка, известно ли мне это, и я отвечаю, что это лишь мое предположение. Но, похоже, это не имеет значения.
— Мне кажется, я знаю ответ. Полагаю, дело было так. Генри был влюблен в Элинор и не знал о синяках и склонности к кровотечениям — ни о чем таком. Консультация, на которую его пригласила мать девушки, была связана с чем-то другим, ее менопаузой, простудой и тому подобное. С одобрения семьи они с Элинор обручились, затем невеста поехала к тетке в Девоншир, а на обратном пути ее убили в поезде. Генри скорбел вместе с семьей Хендерсон и — поскольку часто виделся с ними и разделял их горе — осознал свой долг перед ними. Они верили ему, восхищались им, и он счел себя обязанным жениться на их младшей дочери. Викторианцы придавали чувству долга огромное значение. Почему бы не жениться на Эдит? Не забывай, Генри ничего не знал о гемофилии. Никто не знал, в том числе Хендерсоны. Все очевидно, только мы этого не замечали.
— Все это чушь, мой дорогой, — мягко возражает Джуд. — Он ее убил. Заплатил Байтфорду за ее убийство.
28
С Генри я зашел в тупик. Прошел месяц с тех пор, как я вообще что-то предпринимал. Последнее мое действие в попытке раскрыть тайну — звонок Веронике. Я спросил, не знает ли она, кем были предки Эдит по женской линии.
Похоже, ей неприятен этот разговор.
— Я уже рассказала вам все, что знаю, причем гораздо больше, чем хотела.
— Вы не сказали мне, как звали вашу прапрабабушку и прапрапрабабушку.
— Прабабки, — в ее голосе сквозит раздражение. — Все это глупо. Столько лет прошло. Неужели кому-то интересно? Какое это имеет значение?
— Для меня имеет, Вероника. Это может быть важно.
— Да, конечно. На ваш взгляд. Ладно, уговорили. Но я больше ничего не знаю. Фамилия матери леди Нантер — наша общая родственница вдруг перестала быть просто родственницей и превратилась в пэрессу — была Дорнфорд, а ее матери — Мейбек.
По крайней мере, я так услышал. Я попросил Веронику повторить по буквам. Она отказалась, но я настаивал, прибавив, что Дэвиду понадобятся эти имена, что они необходимы для его генеалогического древа, и Вероника смягчилась.
— Ладно. М-а-й-б-а-х. — Прежде чем я успел вставить хоть слово, она объясняет: — Нет, не немка, уверяю вас. Это очень редкая английская фамилия, как и ее имя. Ее звали Барбла.
— Барбара? — Мне показалось, что Вероника шепелявит.
— Нет, Барбла. Б-а-р-б-л-а.
Вероника явно страдает ксенофобией. Она продолжает настаивать, что Майбах не немецкая фамилия. Я не спорю, это просто бессмысленно.
— У меня нет предков-иностранцев, — говорит она.
Ее шокирует одна мысль, что я мог об этом подумать. Я не должен создавать у Дэвида ложного впечатления. Она позвонит ему и скажет, что в его семье все чистокровные англичане, насколько это можно проследить.
Но мысли Дэвида, как я потом понимаю, заняты совсем другим. Джорджи снова беременна. Святому Граалю всего семь месяцев, она все еще кормит его грудью, но тем не менее забеременела. Джорджи изображает растерянность, но на самом деле ее распирает от гордости за собственную плодовитость, хотя все это чистая физиология, над которой она никак не властна. К той же категории относится гордость Вероники по поводу чистоты генов — и моя тоже, пока я не узнал правду.
— Не могу представить, как это случилось!
Джорджи повторяет это десятки раз, широко раскрыв глаза и не в силах сдержать улыбки. Если бы она принадлежала к низшим слоям общества и была склонна к вульгарности, то сказала бы, что Дэвиду достаточно бросить свои штаны на край кровати, чтобы она забеременела. Джуд никак не реагирует. Даже не вспоминает, когда мы остаемся одни. Я убежден: она думает, что все это не имеет к ней отношения, что у нее особый случай. Простая и беспроблемная плодовитость не для нее. Когда придет время, она получит «ребенка на заказ». Словно речь идет совсем о другом, потому что все начинается не так, с легкомысленного и эффективного соития Дэвида и Джорджи, и результат тоже будет другим.
Ей предстоит ПГД, предимплантационная генетическая диагностика. В настоящее время эту процедуру делают только четыре клиники в стране, в том числе та, в которую обратилась Джуд. В последний раз после возвращения оттуда она рассказала мне душещипательную историю о женщине, которую там встретила — в результате использовании этого метода у нее родилась тройня. Дэвид и Джорджи собираются продать квартиру и купить дом, потому что квартира мала для двух детей. Как это ни парадоксально, ее будет достаточно для троих или четверых (по крайней мере, так думает Джуд, я уверен), так что мы можем поменяться с ними жильем, и они купят наш дом. Джуд все равно. Она думает и говорит только о детях. Исполненная надежды и предвкушения, она просто ждет того момента, когда ей скажут, что уже пора — завтра, на следующей неделе или через две недели мы возьмем ваши яйцеклетки и его сперму.
Все это заставляет меня сочувствовать Генри. Бедный Генри. Иногда, конечно, потрясенный Генри. Тем, что именно он, а не другой, женился на женщине, которая оказалась носителем гемофилии. Неужели его жена, мать его детей имела этот скрытый, постыдный дефект и родила больного сына — а возможно, и дочерей, носителей болезни? Он, который убеждал короля Альфонсо не заключать брак с принцессой Эне, сам совершил то, против чего предостерегал монарха. Сказал ли он своим дочерям? Предупредил ли о последствиях замужества? А в случае со старшей дочерью предупредил ли он Джеймса Киркфорда, как предупреждал короля Альфонсо? Мы не знаем. Но кто-то их все же просветил — или они сами узнали.
Может быть, истинная причина решения Хелены и Клары не выходить замуж заключалась именно в дурной наследственности? Сам я больше не занимался поисками родственников, но теперь смотрю на дополненное генеалогическое древо Дэвида, размышляя и задавая себе вопросы. Родословная семьи Квендон-Хендерсон доходит лишь до Барблы Майбах и мужчины, за которого она вышла замуж, Томаса Дорнфорда. Дэвид, временно охладевший к генеалогии, не смог найти их предков — или не пытался. Барбла вышла за Томаса Дорнфорда, и у них родилась дочь Луиза. У них также было три сына. Рядом с одним Дэвид поставил буквы «у. м.», то есть, «умер молодым», а рядом с остальными — только знак вопроса. Имен их он не знал. Луиза вышла замуж за Уильяма Квендона и родила ему двух дочерей и сына — Луизу, Уильяма и Марию. Луиза была матерью моей прабабки Эдит и тещей Генри. Судьба Марии неизвестна. Уильям умер в возрасте семи лет. Пытаясь доказать, что Генри убийца, я предположил, что причиной смерти ребенка была гемофилия, но это всего лишь гипотеза. Луиза вышла за Сэмюэла Хендерсона и стала матерью Лайонела, Элеонор и Эдит.
Где Уильям Квендон познакомился со своей женой-немкой (или англичанкой с немецким именем), здесь или в Европе? Когда он мог ездить в Германию или Австрию и зачем? В 1830 году люди не катались в Европу по десять раз в год, как теперь, если не считать богатых, знатных или одновременно богатых и знатных, совершавших «большое путешествие» по Франции, Италии и Швейцарии для завершения образования. Возможно, Уильям Квендон относился именно к этой категории. Нужно будет проверить. Я сворачиваю лист в трубочку. Теперь он мне больше не нужен.
Я скучаю по Палате лордов. Но не во время парламентских каникул. На Рождество и Новый год, а также в относительно спокойные периоды я почти не замечал своего изгнания, но теперь, в конце февраля, когда в Палате снова наступают горячие деньки и политические разделы газет излагают перебранку между пэрами, bons mots[60] графа Рассела и язвительные замечания лорда Маккея Ардбрекниша, меня преследуют сильные приступы ностальгии, и я чувствую себя так, словно перед моим носом захлопнулись врата рая. Хотя нельзя сказать, что я считал это раем, — сидеть там до поздней ночи, выполняя добровольно взятые на себя обязанности, и поддерживать партию, в которой не состою и дисциплине которой не подчиняюсь. Я отказался от подписки на официальные стенограммы заседаний, но не могу устоять перед искушением и читаю газеты.
Мне всего этого не хватает: войти через двери для пэров, повесить пальто на крючок с табличкой «Нантер», подняться по величественной лестнице, заглянуть в канцелярию, чтобы взять отпечатанную повестку дня и поправки к законопроекту. Но больше всего мне хочется снова войти в зал заседаний, отвесив легкий поклон в сторону таинственного, невидимого балдахина и занять свое место на поперечных скамьях. Нет, наверное, не больше всего. Мне не хватает компенсации расходов — с середины ноября эта сумма составила бы почти пять тысяч фунтов.
ПГД обойдется нам в 2500 фунтов за одну попытку. Скорее всего, попыток будет не меньше двух.
И Лахлан, и Стенли Фарроу пригласили меня в Палату на ужин. Извинившись, я отказался. Один раз я уже приходил и больше этого не желаю — испытывать неловкость, ожидая, пока они найдут меня в той части дворца, которая открыта для посетителей. Я просто не могу войти в столовую, останавливаться и болтать с десятком знакомых, не говоря уже о том, чтобы, напрягшись, сидеть за столом и делать вид, что читаю меню, когда раздается сигнал к голосованию и все устремляются в зал. Значит ли это, что я хочу вернуться? Не совсем. Иногда совсем не хочу. Скорее всего, я просто жалею, что вообще там оказался, поскольку не разделяю теории, что лучше познать любовь и потерять ее, чем никогда не любить.
Для меня Палата лордов была не только законодательной ассамблеей, но и клубом. Я до сих пор имею право один раз в месяц забронировать столик в гостевой столовой Палаты, но гордость, похоже, не позволяет мне воспользоваться этой привилегией и пригласить Дэвида выпить со мной или поужинать, когда он звонит мне и просит о встрече. Джуд в данный момент не хочет приглашать к нам Крофт-Джонсов, и я ее не виню. По ее словам, дело не в том, что ей неприятно видеть Святой Грааль или слушать о будущем ребенке, а в том, что у нее вызывает неловкость поведение Джорджи, ее гордость от зачатия «с первой попытки» и от плодовитости Дэвида. Мы должны встретиться не у нас, а в пабе или где-то еще, и Джуд выбирает «Принц Альфред» на Формоза-стрит.
И вот он, сидит передо мной и пьет красное вино, поскольку не любит пиво, и сразу берет быка за рога: предлагает нам с Джуд продать дом ему. Джуд — вероятно, в пику своей неловкости перед хвастовством Джорджи — рассказывает о ПГД. Это мне не очень нравится, поскольку я не хочу, чтобы у Крофт-Джонсов создалось впечатление, что мы стеснены в средствах. Я отвечаю Дэвиду, что не собираюсь продавать дом. Если у Джуд будет двое детей — я произношу это непринужденным тоном, демонстрируя актерские способности, о которых сам не подозревал, — мне понадобится большой дом. Дэвид явно обескуражен. Похоже, либо его жена, либо моя внушили ему мысль, что я ухвачусь за такую возможность. Воспользовавшись его молчанием, я приношу извинения за то, что ошарашил его новостью о гемофилии, и объясняю, почему у них с Джорджи не могут родиться больные дети. Разумеется, Джорджи сама может быть носителем или в ее клетках может произойти спонтанная мутация, но я об этом не рассказываю — только о том, что дефектный ген не может достаться детям от самого Дэвида.
— Я говорил с нашим семейным врачом, — отвечает Дэвид. — Он сказал то же самое, только как специалист.
Премного благодарен. Я спрашиваю, успокоился ли он, и Дэвид отвечает, что да, особенно теперь, когда должен родиться еще один ребенок. Он еще раз говорил с матерью? По всей видимости, Вероника звонила ему, негодовала и спрашивала, откуда я взял, что ее предки были немцами. Она ни за что не поверит, что Барбла была не англичанкой — точно она не знает, но доверяет своим инстинктам. Она ненавидит немцев еще больше, чем русских и японцев, а если уж на то пошло, то и французов — и всю жизнь ненавидела. По словам Дэвида, она утверждает, что Уильям Квендон познакомился со своей женой здесь, а не за границей. Ее отец, Томас Дорнфорд, был ювелиром с Хаттон-Гарден. Мать Луизы, Барбла, умерла при родах второй дочери, но Дэвид не отметил дату ее смерти в своей таблице, потому что не знает; Вероника тоже не знает. И не может точно сказать, где Томас Дорнфорд познакомился с Барблой Майбах.
Это произошло вчера. Процедура далась мне с трудом, хотя — если не вдаваться в детали — не заняла много времени. Наверное, томясь ожиданием, я просто довел себя до такого состояния, что действительность показалась мне не такой уж плохой. Предоставленные больницей картинки — первая порнография, которую я смотрел с тех пор, как мне исполнилось восемнадцать, причем мне показалось, что журнал тот же самый. У Джуд взяли яйцеклетки, и теперь мы ждем известий о результате. Я решил, что не желаю знать, в скольких эмбрионах, клетки которых отправят на анализ, обнаружится аномалия — ведь причина может быть и в моей сперме, — и Джуд со мной солидарна. Единственное, что мы хотим, то есть она хочет знать — есть ли среди зародышей здоровые, пригодные для трансплантации.
Что сказал бы на это Генри, если бы мог знать? Восхитился, одобрил, обрадовался бы решающему прорыву в попытках избавиться от наследственных болезней? Или сожалел бы, что этого не случилось на сотню лет раньше? Или его радость омрачилась бы знанием о страданиях мужчин и женщин, не имевших возможности планировать семью или предотвратить появление аномалий? Вспомнил бы он о таких детях, как Джордж, появление на свет которых скоро будет предотвращать эта технология?
Странно, но теперь, когда дело сделано — или жребий брошен, — я чувствую себя гораздо лучше. Вероятно, выкидыши Джуд обусловлены не нарушением репродуктивного процесса, а тем, что она носит нежизнеспособный плод, и поэтому здорового ребенка она должна выносить. Или я наивен и невежественен? Не может ли сама имплантация стать причиной изгнания плода? Я не знаю и не хочу знать. Если я достаточно часто буду повторять себе, что хочу этого ребенка, то естественным образом захочу его. Думаю, это похоже на упражнения по системе Александера. Если часто повторять команды своему телу — «расслабить шею», «голова вперед и вверх», — тело будет реагировать автоматически. Несомненно, метод работает и для мозга. Я хочу этого ребенка, я хочу этого ребенка, я даже хочу троих детей…
Как бы то ни было, мне становится легче, и я возвращаюсь к поискам информации, связанной с Генри. Я достал «Баллока и Филдса» и теперь выясняю, может ли гемофилия не проявляться на протяжении нескольких поколений, когда в семье рождаются только девочки. Похоже, так оно и есть, хотя в большинстве случаев ген все-таки проявляется. На свет появляются дети мужского пола, больные гемофилией, и умирают от этой болезни. В моей семье мы находим Уильяма Квендона, скончавшегося от гемофилии (вероятно) в семилетнем возрасте, а затем Кеннета Киркфорда, дожившего лишь до девяти лет. Пока я просматриваю всякого рода таблицы, звонит Дэвид. Я спрашиваю о самочувствии Джорджи. Как всегда, прекрасное — и Святой Грааль тоже. Как бы я отнесся к такому имени для девочки, как Изулт? Неважно, отвечаю я. Никто не сможет его произнести. Я сам не смог бы, если бы не услышал это имя от Дэвида и не повторил.
Затем я возвращаюсь к «Баллоку и Филдсу». Джуд уже легла. Она говорит, что хочет проспать все то время, пока ей не имплантируют эмбрион. Я просматриваю таблицы — собранную исследователями гемофилии статистику из Тенны и соседних деревень. И вижу. Фамилия словно выпрыгивает мне навстречу из длинного списка — Майбах. И не просто Майбах, а Барбла Майбах. Она никак не может быть моей прапрапрапрабабкой, это слишком давно даже для нее, начало восемнадцатого столетия, но все равно это какая-то ее родственница, возможно, сестра или тетка отца. Наверное, я уже видел это имя десятки раз, потому что постоянно просматривал таблицы, но у меня, естественно, не было причин обращать на него внимание. Здесь много других женщин с именем Барбла. Должно быть, это какое-то местное имя или уменьшительное от Барбары.
По крайней мере, на один из моих вопросов ответ получен. Прабабка Эдит Нантер была не из Германии, а из Швейцарии. Причем из той области страны, которая известна концентрацией больных гемофилией и носителей дефектного гена. Каким образом, черт возьми, она попала в Англию и вышла замуж за Томаса Дорнфолда? Люди не уезжали из Зафиенталя. Причина распространения болезни именно в этом. Родственные браки сохранили гемофилию — носители выходили замуж за больных, и в результате все дети рождались с дефектным геном. Вот что пишет «Баллок и Филдс»:
Деревня Тенна, как описывает Хесли, расположена на юго-восточных склонах горы Пиц Риайн в кантоне (sic) Граубюнден и состоит из нескольких отдельных групп домов, разбросанных по покрытым лугами склонам на значительном расстоянии друг от друга. Связь между этими домами и с внешним миром может осуществляться посредством разбитых и во многих местах опасных дорог. Во времена Хесли там не было проезжих дорог, идти приходилось пешком, и путнику требовалось от четырех до шести часов, чтобы добраться до Версама…
Мне советуют взглянуть на прилагающуюся карту, что я и делаю, но карта маленькая, схематичная, и проку от нее мало. Я нахожу толстый атлас мира и открываю на странице со Швейцарией. Хесли, врач из Тузиса, писал об этой местности в 1877 году, вероятно, лет через сто после посещения ее Томасом Дорнфордом или бегства Барблы Майбах, когда условия были еще хуже. Почему этот фрагмент мне о чем-то напоминает? Почему мне знакомо название Версам? Не знаю. Возможно, кто-то из моих друзей катался там на лыжах и прислал открытку. Деревня расположена в кантоне Гризон, а ближайший к ней крупный город — Кур, хотя на карте он не выглядит таким уж большим.
Я должен туда поехать. Это первое, что приходит мне в голову. Посмотреть на записи в архивах. Я должен поехать туда, когда сойдет снег. Скажем, в конце апреля или в мае. Потом я, конечно, понимаю, что ничего не получится, что это невозможно, поскольку Джуд либо будет на первой стадии беременности, с нынешними имплантами, либо будет готовиться к следующей попытке.
Проблему с путешествием в Филадельфию разрешил приезд Джона Корри сюда, ко мне. Но глупо надеяться, что все население швейцарской деревни объявится в Лондоне и привезет с собой архивы. Я не могу приехать, и они тоже не могут, но я должен.
29
Я не узнаю Люси, когда она входит в ресторан. Разумеется, я ее никогда прежде не видел, только детскую фотографию, но почему-то думал, что когда девочка вырастет, у нее появятся характерные для Нантеров черты лица и цвет волос. Ничего подобного. Это полноватая маленькая женщина, белокурая и очень хорошенькая, в бледно-лиловом костюме, короткая юбка открывает великолепные ноги.
— Люси, — говорит она и протягивает руку. — Здравствуйте.
На другой руке обручальное кольцо и перстень с бриллиантом, какие обычно дарят при помолвке. Голос совсем не подходит ее внешности — сильный, низкий и глубокий. Когда мы в первый раз говорили по телефону, я в первую секунду не мог понять, мужчина это или женщина. Я говорю, что с ее стороны было очень любезно согласиться на эту встречу, и предлагаю угостить ее. Люси улыбается, просит белое вино и начинает изучать меню с энтузиазмом человека, любящего поесть.
— Вы знали, что наш прапрадед был адвокатом? Его звали Сэмюэл Хендерсон, и это его дочь вышла за Генри Нантера.
Она кивает.
— Я довольно много знаю о семье.
— От вашей матери?
— Моя мать никогда не говорила о предках. Все, что мне известно, я узнала от двоюродной бабушки Клары.
Не знаю почему, но я чрезвычайно удивлен. Клара меня очень интересует, из-за того странного письма Александру, которое переслала мне Сара; именно в нем Клара называет отца «Генри Нантером» и упоминает о женщине с Примроуз-Хилл, его содержанке. Простая мысль, что она была двоюродной бабушкой многих людей, похоже, никогда не приходила мне в голову.
— Вы ее знали?
— Познакомилась за несколько лет до ее смерти.
Это все объясняет. Обнаружив Люси на генеалогическом древе Дэвида, я вспомнил бы ее, если бы о ней упоминала Клара. Но я ни разу не видел Клару после смерти Хелены — она стала слишком слаба, чтобы одной жить в том большом доме. Она переехала — по собственной воле, мой отец никогда не пытался принудить или уговорить ее — в многоквартирный дом для пожилых людей, в маленькую квартиру со звонком вызова дежурного, с ежедневной помощью и с приспособлениями, помогающими передвигаться по комнатам и принимать ванную. Я чувствую укол совести, потому что никогда, если не ошибаюсь, не спрашивал о ней, и хотя она была добра ко мне — я помню, как Клара угощала нас чаем, когда мы воскресным вечером иногда заходили к ней, — ни разу не выразил желания и не посчитал, что должен навестить ее. Правда, в то время я уехал в университет, погрузился в студенческую жизнь и не думал о подобных вещах. Но Люси приходила к ней и, должно быть, хорошо ее знала.
Вино разлито по бокалам, заказ принят.
— Моя мама ее иногда навещала, — говорит Люси. — Вы же знаете, кто была моя мама, да? Диана Белл, урожденная Крэддок, вторая дочь второй дочери Генри и Эдит. Мы с Дженнифер учились в пансионе, но иногда виделись с Кларой. Не хочу создавать впечатления, что мы часто навещали ее, — думаю, не больше четырех или пяти раз. Однажды мама привела нас к ней на школьных каникулах. Потом мы с Дженни пару раз ходили без нее. Клара жила в той своей квартире, ей было уже далеко за девяносто, однако она могла более или менее себя обслуживать и была абсолютна вменяема. Очень живая. Очень умная.
— Клара?
Люси презрительно смотрит на меня. Таким взглядом феминистки пронзают мужчин, когда те, по их мнению, высказывают необоснованные предположения о женщинах. Я ничего такого не имел в виду, я не такой, но этот взгляд мне знаком. Он не вяжется с ее лицом Мэрилин Монро, но очень подходит к голосу, каким Люси мне отвечает:
— Почему бы и нет? Если Клара никем не стала, не получила профессии и мало чего добилась в жизни, это не ее вина. У нее не было возможности. Она хотела стать врачом. Не думаю, что вы знаете.
— Между прочим, знаю. Об этом говорится в одном из писем вашей бабушки к ее сестре, Элизабет Киркфорд.
— Женщины могли стать врачом, — говорит она. — Но с большим трудом. Нужно было выдержать настоящую битву. Это не для Клары, я уверена. — Приносят первое блюдо, и Люси поднимает голову. — Моя сестра — врач, педиатр. — Значит, уже второй потомок Генри выбрал профессию медика. — Последний раз мы виделись с Кларой за год до ее смерти, в восемьдесят девятом. Дженнифер было двадцать два или двадцать три, и она еще училась. Клара была очень довольна, что Дженнифер делает то, что не удалось ей самой.
Мы далеко уклонились от моей цели, и мне нужно вернуться назад. Я должен сосредоточиться на этот милой девушке (определение, которое ей не понравилось бы), на еде, на сборе информации о Генри, а не думать о том, о чем я думаю — о Джуд и о клинике, об имплантации здоровых эмбрионов. Через две недели все выяснится. У Джуд возьмут тест на беременность, и если он окажется положительным… Но сосредоточиться я не могу, и Люси, вероятно не замечающая моего состояния, оживленно рассказывает об успехах сестры на медицинском факультете, о похвалах самых разных людей — в точности, как было у Генри. Она рада, что мать прожила достаточно долго и успела порадоваться за Дженнифер.
Пока о гемофилии не упоминалось ни по телефону, ни здесь. И теперь, сидя перед Люси, я почему-то стесняюсь заговорить об этом. Мне вдруг приходит в голову, что я не воспользовался представившимся шансом. Люси ведь призналась, что она носитель болезни.
— У вас… — нерешительно начинаю я. — У вас есть дети?
— Пока нет, — резко отвечает она и смотрит мне в глаза. Внезапно ее голос и выражение лица смягчаются. — Послушайте, я могу называть вас Мартином?
— А как же еще? — обескураженно отвечаю я.
— Не знаю, но вы ведь лорд, да?
Там, где я привык бывать ежедневно, лордов пруд пруди. И я не привык, чтобы люди испытывали благоговение перед титулом.
— Вы же моя сестра. Пожалуйста, называйте меня Мартином.
— Ладно, значит, Мартин. Вы спросили о детях из-за гемофилии, да?
Я киваю.
Она делает глоток вина, довольно большой.
— У меня нет детей. Пока.
— Что заставило вас пройти тест? Вам рассказала мать?
Мое предположение вызывает у нее смех.
— В качестве урока житейской мудрости? Или полового воспитания? Я не помню ни того ни другого. Мама ни словом не обмолвилась об этом.
— А сама знала?
— Сказала, что нет. То есть, когда я спросила. Потом отказалась в это верить. Просто не захотела обсуждать.
Я говорю, что ее тетя Патрисия знала. Должна была знать, иначе не написала бы то письмо Веронике.
— Ну, да, — соглашается Люси. — Только допускала ли мысль, что тоже может быть носителем? Сомневаюсь. Понимаете, они выдавали желаемое за действительное. Не знаю, известно ли вам, что в семье существовала такая теория: если одна сестра является носителем, то следующая — нет, а третья опять может быть носителем и так далее. Конечно, это полный вздор, но моя бабушка Мэри в это верила. По крайней мере, по словам Клары.
Передо мной мелькнул свет.
— Вы узнали от Клары?
— Совершенно верно. Разве я не сказала? Это было недалеко от нас, ее дом всего лишь в Илинге, а мы жили в Чизике. Понимаете, подростки, какими мы были тогда, любят разговаривать с очень старыми людьми; те им ближе, чем поколение родителей. У Клары была куча фотографий и неиссякаемый запас историй о жизни в том доме в Сент-Джонс-Вуде в те давние времена. Она помнила, как ходила на митинги суфражисток и боролась за предоставление женщинам права голоса, как рассердился ее отец, когда узнал об этом. Однажды — мне тогда было восемнадцать или девятнадцать — она рассказала о гемофилии. Не со злорадством или ради сенсации; она долго колебалась, прежде чем решиться, говорила, что много думала, что это не давало ей покоя.
— Вы хотите сказать, она считала, что ее сестра Мэри тоже может быть носителем, как и другая сестра, Элизабет?
— Прошу прощения, но можно мне еще один бокал вина?
Я извиняюсь за свою невнимательность. В этот момент подходит официант и наполняет наши бокалы. Я вижу, что разговор дается Люси с трудом. Она откладывает вилку и нож, явно не собираясь доедать основное блюдо.
— Клара, — продолжает Люси, — в молодости, когда отец еще был жив и после его смерти, пыталась читать его книги. Это печально, правда, очень печально. Бедная женщина стремилась к знаниям, но всю жизнь ее лишали возможности их получить. Видите ли, ее мать была почти неграмотна. Единственное, что она умела, — рисовать плохие картины и фотографировать. Мэри была очень набожна, всегда занималась благотворительностью в приходе, а Хелена… ну, Хелена шила. Вероятно, дом был завален вещами, сделанными руками Хелены, вышивками и тому подобным. — Люси умолкает, затем говорит: — Простите, я больше не могу есть. У меня всегда пропадает аппетит, когда я об этом говорю.
— О гемофилии, — мягко уточняю я.
— Да. Она читала отцовские книги, заинтересовалась и довольно много узнала. Когда умер ее брат Джордж, ей было всего семнадцать, но Клара знала, что с ним, знала, что это не туберкулез.
— Вы хотите сказать, мать Джорджа не знала? И другие сестры тоже?
— По словам Клары, в доме об этом никогда не говорили. Она видела, какие кровотечения бывают у младшего брата, если он случайно поранится — таких ни у кого не было. Видела, что мальчик несколько недель прикован к постели после обычного падения.
Я спрашиваю, не пыталась ли Клара поговорить с другими членами семьи.
— Она боялась отца. Его все боялись — за исключением Джорджа. Если кто-нибудь хотел о чем-то его спросить, но не осмеливался, Джордж смеялся и спрашивал, почему. Для него отец был милейшим и добрейшим человеком, который не смел возражать сыну. Лучший отец в мире.
Я в изумлении качаю головой. И ругаю себя за то, что не общался с Кларой, не знал всего этого сам.
— В конечном счете Клара обратилась к матери, — продолжает Люси. — Спросила, правда ли, что у Джорджа гемофилия. Почему все утверждают, что у него истощение организма? Они употребляли именно этот термин — истощение. Эдит ответила — вероятно, очень спокойно, поскольку никогда не теряла самообладания, не повышала голоса, — что не знает, что имеет в виду Клара. Женщины не разбираются в таких вещах. Лучше спросить у отца. Наконец, за пару недель до смерти Джорджа, она действительно спросила отца. Должно быть, для этого потребовалось немалое мужество.
— Что он сказал?
— Генри безумно переживал за Джорджа. И ему самому оставалось жить не так уж много. Клара пришла к нему в кабинет, разумеется, предварительно постучав. Он пригласил ее войти и поинтересовался, что ей нужно. Она спросила, правда ли, что Джордж гемофилик. Генри встал и очень спокойно сказал: «Чтобы я больше об этом не слышал, — а потом указал рукой на дверь и прибавил: — А теперь уходи!»
Мы оба какое-то время молчим, потом Люси говорит:
— Джордж умер две недели спустя. Он играл в саду и упал с каких-то ступенек. Клара сказала, у него был сильный ушиб головы. А колено, на которое он упал, раздулось, как воздушный шар. Именно так и выразилась Клара — воздушный шар. Похоже, мальчик умер от чего-то вроде инсульта. Генри на три дня заперся в кабинете. Не ел. Там у него был графин с водой. Никто не знал, выходил ли он ночью, спал ли он. На похороны Генри вышел, но проплакал всю службу. Эдит привезла его домой, уложила в постель и послала за врачом. Она могла делать с ним все, что угодно — в отличие от всех остальных.
Бедный Генри. Бедный Генри, наконец кого-то полюбивший.
— Я нисколько не сомневаюсь, что у Кеннета Киркфорда, сына Элизабет, была гемофилия.
— Клара тоже так говорила. Он был гемофиликом, но умер от дифтерии. Это позволило Элизабет представить все так, что сын болел только дифтерией. Но Клара знала, видела его опухшие суставы и поняла, что это такое. Она рассказала Мэри и Хелене. Тогда Мэри была незамужней, но верила в эти бабушкины сказки, что вторая сестра не может быть носителем болезни, если дефектный ген есть у первой. Точно так же считали в королевской семье, хотя на самом деле это не так.
— Тогда кто рассказал дочери Мэри, Патрисии?
Люси улыбается и вскидывает брови.
— Я не знаю всего, Мартин. В частности этого. Может, Клара. Когда родилась Патрисия, Кларе было всего лишь чуть больше тридцати. Она рассказывала мне, что пару раз ее звали замуж, однако она отказалась, из-за гемофилии. А у Хелены вряд ли был шанс.
Теперь я должен задать неудобный вопрос. Люси умолкает, и вид у нее подавленный. Ее лицо создано для улыбки, для счастья, и печаль ее старит. Внезапно она кажется мне намного старше Джуд — уголки рта опустились, лоб прорезали морщины. У нас обоих пропал аппетит. Мы заказали кофе. До того как его принесут, я должен задать свой вопрос.
— Откуда у вас возникли подозрения, что вы можете быть носителем?
— Я рассказала сестре все то, что рассказала вам. Не сразу. Когда ей почти исполнилось восемнадцать. Я готовилась к экзаменам в Обществе юристов, а она поступила на медицинский. Дженни спросила, понимаю ли я, что это значит: носителями может быть любая из нас или обе. Тот факт, что ген был скрыт на протяжении сотен лет, ничего не значит.
— Если он находился в той хромосоме, — говорю я, — которую Мэри не передала дочерям, то просто исчез бы. А если в той хромосоме, что унаследовали дочери…
— Совершенно верно. В то время мы с Дженни даже не думали о замужестве. Какое там замужество — восемьдесят четвертый год, и мы были молоды. Дженни и теперь не думает. Она не хочет замуж, не хочет детей, но самое парадоксальное, — Люси печально улыбается, — что Дженни не носитель болезни, в отличие от меня. Мы обе проверились при первой же возможности. Я рассказала мужу, когда речь зашла о браке. Он ответил, что ему все равно, и мы поженились. Я приказала себе забыть о детях, но теперь… понимаете, теперь научились отбирать эмбрионы, и…
— Предимплантационная генетическая диагностика, — перебиваю ее я. — Моя жена прошла эту процедуру. Кстати, сегодня.
— Но она не может быть носителем гемофилии!
— Полагаю, может, но дело не в гемофилии. У нее другой дефектный ген. — Чтобы немного утешить ее, я объясняю: — В определенном смысле это еще хуже. У нее все время выкидыши, но если бы ребенок родился, то… с тяжелой инвалидностью.
— Мне очень жаль, — говорит Люси, и я вижу, что она действительно мне сочувствует.
— У меня есть сын от первого брака.
Я сам не знаю, зачем это говорю, причем каждый раз. Возможно, из-за этого нелепого тщеславия, которое не в силах подавить, из-за абсурдной гордости тем, что я в состоянии стать отцом здорового ребенка. Я ничем не лучше Джорджи Крофт-Джонс, которая довольна своей почти неконтролируемой плодовитостью. Чтобы покончить с этим бессмысленным хвастовством, я сообщаю, что у меня такой же дефектный ген.
Меня вдруг охватывает желание узнать, как там Джуд, что с ней происходит, хотя что-то определенное можно будет сказать только через две недели.
Приносят кофе, и Люси говорит, что они с мужем один раз пытались зачать ребенка без гена гемофилии, но ничего не получилось, и через неделю они попробуют еще раз. Она хочет знать, не проявился ли дефектный ген у кого-то из наших родственников, и я рассказываю ей о Джоне Корри. Странно, но ее, похоже, утешает тот факт, что Джон решил не иметь детей, а она сама — повторяет Люси еще раз — согласна только на «ребенка на заказ».
— Остается Кэролайн Агню, — говорю я. — Дочь Патрисии. Она ваша двоюродная сестра. Что случилось с ней?
Люси отвечает, что никогда ее не видела. Возможно, в раннем детстве. Но Кэролайн на десять лет старше, и ей теперь сорок семь. Дженнифер получила от нее письмо, когда умерла их мать, Диана — почему именно Дженнифер, а не она, Люси не знает. Дженнифер ответила на письмо, но этим дело и закончилось.
Я спрашиваю, была ли в письме еще какая-нибудь информация о Патрисии. Люси сухо отвечает, что если я имею в виду гемофилию, то не было. Патрисия писала о приятных воспоминаниях, связанных у нее с Дианой, и о том, что в последний раз они виделись в квартире Клары.
— А ваша мать когда-нибудь упоминала об этом?
— Не помню. Но это могло быть давно, когда я училась в университете. Мы все не большие мастера писать письма.
Последние десять минут я размышлял над тем, что должен позвонить в больницу, как только доберусь до телефонной будки, но после того, как мы с Люси прощаемся и обмениваемся пустыми обещаниями не терять связи, сажусь в такси и еду прямо туда.
Теперь ничего делать не нужно, только ждать. Долгое Ожидание, как говорят в больнице, четырнадцать дней между трансплантацией эмбрионов и тестом на беременность. В нашем случае эти дни растягиваются между концом апреля и началом мая. Джуд ничего не может сделать, чтобы увеличить шансы трех крошечных, размером с булавочную головку эмбрионов, — не помогут ни витамины, ни пищевые добавки, хотя ей рекомендовано избегать чрезмерной физической нагрузки и алкоголя. Она так хочет, чтобы все получилось, что, как мне кажется, с радостью отказалась бы от пищи, если бы это гарантировало успех. Я тоже отчаянно хочу, чтобы все получилось, чтобы Джуд была счастлива — или осталась счастлива.
Хотя теперь ее не назовешь особенно счастливой; она легко переходит от смеха к слезам, иногда отчаянно стремится отвлечься от всепоглощающего желания, затем испытывает вину и суеверный страх. Джуд боится, что если перестанет думать об этом хотя бы на секунду, ее мстительная матка ополчится на нее и отвергнет эти зародыши — из-за того, что Джуд недостаточно их хочет. Настоящее безумие.
Осталось всего одиннадцать дней, и с Джуд все в порядке. Я снова думаю о надежде, этой вероломной добродетели, о том, как она наполняет душу и тело Джуд, вдыхает в нее силы, сбрасывает десять лет, делает походку пружинистой, заставляет глаза светиться. Она даже просит у меня прощения за «отстраненность» и «поглощенность своими мыслями». Все эти недели она была не очень хорошим товарищем, не очень хорошей женой, замечает Джуд, но она все это мне компенсирует, когда будет знать, что у нее здесь — она хлопает себя по плоскому животу — растет здоровый ребенок. И мне не стоит волноваться из-за продажи дома, потому что мы не должны его продавать. Джуд возьмет дополнительную работу, станет личным редактором у какого-нибудь популярного миллионера или, неопределенно прибавляет она, будет читать кому-нибудь рукописи. Я возражаю, убеждаю ее, что не волнуюсь и убежден, что все будет хорошо, хотя на самом деле так не думаю. Мне кажется, Джуд не понимает, что значит работать, когда дома ребенок, не говоря уже о второй работе. Изо всех сил напрягая воображение, я могу поверить, что такое возможно, но понимаю: дома с ребенком буду сидеть я, причем еще и работать, чтобы оплачивать услуги няни. Естественно, ничего этого я не говорю. Прошли те времена, когда мы делились друг с другом самыми сокровенными мыслями и были честны друг с другом — по крайней мере, в той степени, в какой вообще могут быть честными люди. Мне даже не хочется рассказывать о том, как продвигается биография Генри. Как мне рассказать женщине — своей жене, — которая является носителем дефектного гена, о том, что я нашел других женщин, носителей дефектных генов? Джуд в курсе, что я встречался со своей родственницей Люси, но подробностей знать не желает. Она не спрашивает, и я не говорю.
Я не сказал ей о деревушке Тенна и о своей убежденности, что Барбла Майбах уроженка тех мест. Какой смысл? Независимо от исхода ПГД, поехать туда я не смогу. Я понимаю, что Джуд хочет, чтобы я был рядом. И я буду, пока она этого хочет. Проклятая Тенна. Несчастная Тенна. Я рассказал Дэвиду, однако он не очень заинтересовался. Похоже, этих любителей генеалогии не интересуют личности, места рождения, исторические аномалии — только имена и даты.
Мы с Джуд не занимаемся любовью. Она боится что-либо потревожить. Никто не рекомендовал ей воздержание, но истории рассказывают всякие. Держа ее в объятиях и желая большего, я вспоминаю слова другой женщины, тосковавшей по любви. Моя подруга после развода и до встречи с Джуд. Однажды ночью она сказала, что у человеческих существ должно быть что-что еще, а не только разговоры и совместное времяпрепровождение, потому что это дружба; не только любовные объятия, потому что это похоть, — а нечто иное, что можно обнаружить только пребывая в этом трансцендентном состоянии. Она как будто обижалась, что этого не существует или она не может его найти, и сердилась — на что? На Бога? На жизнь? Тогда я ничего не понял. Наши отношения меня устраивали. Но я не был влюблен. Тогда. Теперь я вспомнил ее слова, и теперь я их понимаю — я хочу того же, что хотела она, и, подобно ей, не могу найти.
30
Все закончилось. Плачевно. Две недели назад у Джуд было три эмбриона, а теперь нет ничего. Они словно растворились в крови, которой было даже не так много. Тест просто оказался отрицательным — никакой синей полоски. Так ли она несчастна и расстроена, как в прошлые разы? Не знаю. Не могу сказать. Весь день Джуд была тихой и отстраненной, похожей на тень; она не смотрела в одну точку, не плакала и не злилась, а молча читала рукопись, которую принесла домой с работы. Вопреки обыкновению, она не комментировала текст, не сказала ни слова похвалы или наоборот, а когда добралась до последней страницы, просто закрыла и отложила в сторону.
Конечно, Джуд попробует еще раз. Нарушив молчание, она так и сказала. Это были первые ее слова. Я этого ждал и удивился бы, скажи она что-то другое. Естественно, тут же появилась вездесущая надежда, приблизила свою уродливую голову и прошептала, что, возможно, Джуд надоело, она смирилась с тем, что останется бездетной, поняла, что в жизни может быть нечто большее или другое, чем дети. Она устала лежать в гинекологическом кресле с разведенными ногами, устала от осмотров и анализов. Но живущий во мне реалист, сопротивляющийся надежде, напомнил, что в моем возрасте пора бы уже хоть немного соображать. И когда Джуд это сказала, я улыбнулся, кивнул и накрыл ее ладонь своей. Потом поцеловал. Сказал, что когда-нибудь у нее получится. Клянусь, я думал не о том, что снова придется мастурбировать, глядя на журнал, а о деньгах. Готовь еще две с половиной тысячи — вот что я подумал. А потом Джуд сказала нечто замечательное, но лишь на следующий день, и это было так благородно, черт возьми, что я едва не расплакался.
— Может, сначала съездим в Швейцарию?
Я вытаращился на нее. Потом спросил, откуда она знает, что я туда хотел.
— Дэвид сказал. Ах да, по телефону, перед тем как закончилась моя беременность. Он упоминал, что ты, кажется, собираешься поехать в Швейцарию, в мае, когда сойдет снег, и просил меня поинтересоваться, не хочешь ли ты взять его с собой.
— Боже упаси.
— Прости, я забыла тебе передать.
— У тебя мысли были заняты другим.
Итак, мы едем — Джуд и я. Когда вернемся, снова предстоит эта процедура с яйцеклетками и спермой. Отъезд 5 мая, в пятницу, сначала самолетом в Цюрих, потом поездом до Кура. Джуд говорит, что мы застанем цветение альпийских лугов. Она хочет посмотреть собрание драгоценных камней в зале городской ратуши. Впервые за несколько месяцев я вижу, как ее хоть что-то вдохновляет, и хотя понимаю, что почти все это ради меня, но все равно испытываю еще большую благодарность. Когда вечером неожиданно заявляется Пол, мы с ней сидим в окружении карт — пришлось сходить за ними в «Даунт», — и я читаю выдержки из «Бедекера», потомка того путеводителя по Швейцарии, который Генри брал с собой в свои альпийские походы в 1870-х.
Полагаю, нет никаких причин, почему бы не сказать Полу. Но я предпочел бы, чтобы Джуд этого не делала. Он слишком любит разочарования, неудачи, бесплодные усилия.
— Как они это делают? — Пол имеет в виду механику ПГД.
Я попытался было поинтересоваться, зачем вообще нам все это обсуждать — неудачное замечание, после которого губы у него скривились, — но Джуд отвечает на вопрос, и мой сын на мгновение смущается. Причина не в извлечении яйцеклеток Джуд, а в том, что его отцу придется предоставить сперму. Как и все молодые люди, Пол считает, что процедуру оплачивает Государственная служба здравоохранения, а если и нет, то не спрашивает, сколько это стоит. В отличие от большинства сверстников, он не интересуется деньгами, зарабатывает их по необходимости и никогда не просит взаймы.
— Вы будете пробовать еще?
— Когда вернемся из Швейцарии, — отвечаю я, и он спрашивает, что мы там забыли.
Никто из его знакомых не ездит в Швейцарию. Они предпочитают Центральную Африку, Таиланд или Кубу. Объяснить я не могу, потому что сам до конца не понимаю. Желание увидеть деревню, откуда родом прабабка моей прабабки — это мне представляется недостаточным основанием, и в любом случае я сомневаюсь в его правильности. Прошло почти двести лет, и ее гены в значительной степени разбавлены. Наверное, на самом деле я жду какого-то откровения, которое перевернет если не весь мир, то хотя бы биографию прадеда. Я отделываюсь общими словами, что это связано с Генри, и Пол принимает их без возражений. Он заскочил пропустить стаканчик перед встречей с друзьями в клубе на Тотенхем-Корт-роуд, хотя мне казалось, что в список услуг, предоставляемых клубом, бесплатные спиртные напитки не входят. Он пьет джин с тоником, а мы с Джуд — вино. Угрожающим тоном, к которому он иногда прибегает, Пол говорит, что поживет у нас последние несколько дней пасхальных каникул, прежде чем возвращаться в Бристоль. Мы с Джуд отвечаем, что будем рады его видеть, и он загадочно улыбается.
Любопытно, кому-нибудь из отцов удается поддерживать хорошие, непринужденные отношения с сыном такого возраста?
После смерти Джорджа в дневнике Генри не появляется ни одной записи. Если он и писал письма, то они не сохранились. Похоже, Генри редко покидал дом. Его вторая дочь Мэри, которая занималась благотворительностью, преподавала в воскресной школе и шила вещи для церковной ярмарки, в июле писала своей замужней сестре Элизабет Киркфорд:
Смерть Джорджа сильно повлияла на бедного отца. Мама у нас, как всегда, храбрая и сильная; она не сдается, вместе со мной регулярно посещает утреннюю службу, ходит с визитами и снова начала заниматься своей фотографией, но отец сражен этим жестоким ударом точно так же, как и в тот день, когда это случилось. Мы все знаем, что с ним всегда было нелегко. Помню, в детстве я завидовала девочкам, чьи родители проявляли больше любви и терпимости, и знаю, что ты тоже, Лиззи, но если бы ты теперь была здесь, то при взгляде на него у тебя разрывалось бы сердце — какой он несчастный, раздавленный горем. Вчера Клара спросила меня, был бы он так опечален смертью кого-то из нас. Ты знаешь, какая она резкая и нетактичная. Естественно, я ответила, что такие вопросы задавать не следует, но наедине с собой думаю об этом. В феврале отцу исполнилось семьдесят два, но выглядит он на десять лет старше. Мама как будто не волнуется. Она ухаживает за ним, как всегда ухаживала, но, насколько я могу судить, особого внимания не уделяет…
Генри умер в январе следующего года. Сохранилось еще одно письмо, свидетельствующее о его состоянии в этот период, но мне почему-то кажется, что Генри не смог справиться с горем и вернуться к прежним занятиям. Большинство людей, будь у них право выбора, предпочли бы умереть в своей постели, даже если это означает, что жена или муж, проснувшись утром, обнаружат рядом с собой окоченевшее тело. Генри, похоже, вообще не ложился в постель. Вот что пишет Мэри в октябре месяце:
Я не знала, что у мамы с отцом разные спальни, пока вчера, в три часа утра меня не разбудил шум. Звуки доносились из кабинета отца — словно на пол падали какие-то тяжелые предметы. Как ты знаешь, после твоего замужества я перебралась в твою спальню, у этой комнаты общая стена с кабинетом. Не зная, как поступить, я надела халат и пошла узнать, что случилось. Представь мое удивление, когда я увидела в кабинете отца, не полностью одетого, но и не в пижаме, а в домашней куртке, которую я раньше не видела, в рубашке и брюках. Он сидел за письменным столом и смотрел на чернильницу. Каким-то образом он умудрился уронить ее на пол. Ты помнишь эту чернильницу из синего стекла на серебряной подставке, подаренную Университетским госпиталем к какой-то дате, возможно, на шестидесятилетие. К счастью, чернил там не было, они давно высохли — свидетельство того, что в последний год или даже больше отец не мог работать. Он спросил меня — довольно вежливо для него! — что мне нужно, и я ответила, что услышала шум. Тем же вежливым тоном отец попросил меня поднять чернильницу, а потом сказал, чтобы я ложилась спать, и пожелал спокойной ночи.
Я тоже пожелала ему спокойной ночи, а утром набралась смелости и спросила маму, как часто он ночует в кабинете. Последние шесть месяцев, ответила она в своей спокойной, невозмутимой манере. Отец не может спать и не хочет ее беспокоить. Представляешь, Лиззи, как тихо он должен был себя вести все эти ночи, чтобы не разбудить меня…
Именно в кабинете Эдит нашла его мертвым утром 21 января 1909 года. В половине десятого. Она пошла искать его, когда он не появился в их спальне, чтобы одеться, и не вышел к завтраку. Все, что мне известно о поведении Генри в последние месяцы перед смертью и о самой смерти, почерпнуто из писем Мэри, и я снова испытываю благодарность к собирательскому инстинкту ее сестры. После того как мать сказала о смерти отца ей и ее сестрам, Хелене и Кларе, Мэри отправила телеграммы Элизабет в Йоркшир и Александру в Харроу. В тот же день она писала Элизабет:
Ты, конечно, уже знаешь, что бедный отец умер прошлой ночью или рано утром. По словам доктора Старки, причиной стал сильный сердечный приступ. Знаешь, Лиззи, сердечный приступ вполне мог добить его, но умер отец от горя. Наверное, мама тоже это знает, поскольку все время говорит о милосердном избавлении. Она явно имеет в виду не физическую боль и болезнь; у него были нелады с сердцем, но не очень серьезные.
Разумеется, тебя не будет на похоронах. Никого из женщин не будет, а в твоем положении это особенно неразумно…
Это мог быть намек на беременность Элизабет; возможно, так и было, но в таком случае у нее случился выкидыш, поскольку Кеннет, ее первый ребенок, родился только в июне 1910-го, а Генри умер в январе 1909-го. Кеннет был вторым потомком Генри, больным гемофилией, а мать мальчика — первой из известных носителей болезни в своем поколении. Возможно, милосердным избавлением следует считать то, что прадед так ничего и не узнал. Подозревал ли он это в те последние, горестные недели, когда его дочь была, по всей видимости, беременна? Наверняка.
За десять лет он не написал ни строчки. Вернее, попытки подвести итог своей работы, написать magnum opus, закончились неудачей, или Генри уничтожил написанное. Я склоняюсь ко второму варианту, потому что перетряхнул сундуки, точно так же, как в поисках блокнота — вполне возможно, не существующего, — но ничего не нашел. В конце жизни его подкосила болезнь младшего сына. В сундуках обнаружилось несколько тетрадок Джорджа, которые сохранил его отец, явно желая, чтобы их увидели будущие поколения. По всему видно, что его младший сын был умным и одаренным мальчиком, опередившим в своих занятиях современных детей. Хотя нет, правильнее было бы сказать, что его учили таким вещам, которым даже сегодня не учат в таком юном возрасте, и он доказал, что способен их понять. «Вторжение в Британию» Цезаря. Как мне помнится, я с трудом осилил этот труд в двенадцать лет, Джордж прочел и понял в семь. За год до смерти он начал изучать греческий. По всей видимости, мальчик прочитал все пьесы Шекспира — адаптированные для детей, — «Потерянный рай», а также многие произведения Браунинга и Теннисона. За два года до греческого языка он приступил к изучению алгебры и, похоже, получал удовольствие от этой науки.
Должно быть, блестящий ум мальчика усиливал любовь Генри к сыну. Наверное, мой заклятый враг, надежда — уродливая женщина, сидящая на вершине мира с обмотанной полотенцем головой, — проникла в мечты Генри и заставила поверить, что при внимательном уходе и осторожности у Джорджа будет шанс вырасти, реализовать свой потенциал, овладеть какой-нибудь сложной профессией. Возможно, через несколько лет будет найдено лекарство против его болезни. Увы, не им, для этого слишком поздно, но каким-нибудь подающим надежды врачом, владеющим достижениями современной науки. Такую же надежду питали и русская царица, и принцесса Беатрис. И всех ждало горчайшее разочарование.
Судя по фотографиям, сделанным матерью, Джордж был красивым мальчиком — если отвлечься от болезни и страданий. Он вырос бы еще более привлекательным, чем Александр. И разве мог отец не любить сына, говорившего своим сестрам, что он «милейший и добрейший и лучший отец в мире»?
Заупокойная служба по Генри состоялась в церкви Св. Марка на Гамильтон-террас, а похоронили его на кладбище Кенсал Грин рядом с Джорджем. Думая об этом, я снова задаю себе вопрос, кто — теперь, когда его ближайшие родственники давно умерли, — принес цветы на могильную плиту, под которой лежат кости отца и сына.
31
При упоминании Швейцарии все соревнуются в остроумии, вспоминая часы с кукушкой и шоколад. Они забывают или просто не знают, какая это красивая страна. Ничуть не хуже, я уверен, Кубы и Таиланда, а представление о ней как об уютном уголке тоже неверно. Разве можно назвать уютным место, где расположены самые высокие горы Европы?
Еще одно клише — все поезда там приходят вовремя. Действительно вовремя, но это вряд ли можно назвать недостатком, и кроме того, расписание одинаково по субботам, воскресеньям и будним дням. Наш поезд двухэтажный, и идет он вдоль южного берега озера Валензе. Нас окружает плоская долина с поросшими густым лесом холмами, иногда с замком на вершине, а после Бад-Рагаца начинаются высокие горы. Мы прибываем в Кур точно по расписанию и на такси добираемся до нашей гостиницы в центре города. Нам предоставили белую спальню с натертым до блеска деревянным полом, крашеной мебелью и кроватью на четырех столбиках с кремовым хлопковым пологом. На кровати груда пухлых белых подушек, окно распахнуто, и все вокруг очень свежее, яркое и спокойное.
Окно выходит на узкую улочку и магазин одежды, его название — «Прекрасная Золушка» — вызывает у Джуд смех. Ближе к вечеру, под лучами заходящего солнца мы пешком возвращаемся на вокзал и берем билет на завтрашний поезд, а также на автобус. Обедаем в ресторане большой гостиницы «Герцог Роган», очень элегантном, с французской мебелью XIX века и вкусной едой. Начинается дождь, и в свою гостиницу мы возвращаемся на такси. Мы занимаемся любовью, и нам хорошо, несмотря на двойные меры предосторожности, а потом Джуд спрашивает — самым спокойным и жизнерадостным тоном, какой только можно представить, — не намерен ли я после рождения ребенка сделать вазэктомию[61].
В данный момент больше всего на свете мне хочется именно этого. И хорошо бы прямо сейчас. Естественно, я ничего такого не говорю, а просто соглашаюсь с ней, и Джуд счастлива. Она обнимает меня и говорит, что я понимаю, не правда ли, что она всегда будет чувствовать скованность, если сохраняется возможность зачать еще одного — здесь она на секунду умолкает, прежде чем продолжить: «Одного из тех неудачных, больных, которых я потеряла».
Кажется, я впервые понимаю, что чувствует Джуд. Она так прекрасна внешне, почти совершенна, а в ее теле созревают неполноценные, возможно, даже уродливые зародыши. Теперь я понимаю, почему она восстает против физической любви, акта, в результате которого происходят эти выкидыши. Джуд говорит, что стыдится собственного тела, и я убеждаю ее, что люблю это тело, люблю ее всю. Так сильно я ее еще никогда не любил — это абсолютная правда.
Ночью я просыпаюсь от жары под огромным, толстым одеялом, откидываю свою половину и начинаю думать об Элизабет Киркфорд и Патрисии Агню, о Диане Белл и Веронике. Наверное, они чувствовали то же, что и Джуд, если при каждой беременности боялись родить сына, чья кровь будет вести себя с чудовищной неестественностью. И в случае рождения дочери опасались передать следующему поколению ту ношу ужаса и тревоги, которую несли сами. А женщины из Тенны, все эти Урсулы, Анны и, естественно, Барблы? Сегодня трудно сказать, что они знали, но в книге «Сокровища человеческой наследственности» некий доктор Торман в 1837 году писал о «большой семье гемофиликов из Тенны». Вероятно, женщины видели, как их сестры, кузины, соседки рожают детей, страдающих от тяжелой, а иногда и смертельной болезни, и думали о себе так же, как Джуд.
Поглядывая на Джуд — хотя вывести ее из глубокого сна практически невозможно, — я сажусь, включаю ночник и раскрываю том «Баллока и Филдса», привезенный с собой. Нахожу страницу 255. «Сочетание солнечного света и сухого воздуха принесло деревне славу полезного для здоровья места», — пишет Хесли, и я тотчас узнаю эту фразу. Где же она мне попадалась? Население Тенны около 150 человек. Бедных нет. Органические заболевания сердца, цинга и геморрагическая сыпь — все это здесь неизвестно, хотя среди жителей довольно распространены бронхит, пневмония и плеврит. Это мне тоже знакомо, из какого-то другого источника.
Хесли, конечно, был не единственным исследователем гемофилии в Тенне. Торман опубликовал результаты своей работы еще в 1837 году. Другим известным систематизатором сведений об этой болезни был Грандидье. Он в 1855 году выпустил монографию о Тенне, а свои наблюдения для Грандидье предоставил доктор Виели, врач из Рецюнса, владелец древнего фамильного замка. В то время многие мужчины, больные гемофилией, были еще живы, но когда в 1877 году туда приехал Хесли, все они уже умерли. Естественно, никто не может сказать, сколько осталось носителей болезни.
В год смерти Генри некто Людвиг Пинкус процитировал газетный абзац, где говорилось, что девушки из кантона Граубюнден, к которому относится Тенна, отказывались выходить замуж из-за этой болезни. Пинкус выяснил, что это заявление было ложью, вымыслом, однако врач из больницы в Куре обнаружил два случая отказа от замужества именно по этой причине. В самой Тенне на протяжении тридцати лет случаев гемофилии не наблюдалось.
Разумеется, я все это уже читал, продирался сквозь таблицы наследственности и списки жителей Тенны, которые болели, могли болеть, были носителями или умерли от гемофилии. В них очень трудно разобраться и почти невозможно запомнить, за исключением тех случаев или историй, вызывающих шок или ужас. «Был вызван к Роберту, возраст один год и десять месяцев, по поводу эпистаксиса (носовое кровотечение). Намеревался тампонировать обе ноздри, но был остановлен родителями, заявившими, что кровотечение все равно будет длиться несколько дней. Роберт лежал абсолютно неподвижно, как будто понимал опасность своего состояния. Кровь медленно капала со сгустков вокруг его ноздрей. Кровотечение прекратилось само собой через пять дней. Роберт умный и сильный мальчик, но сильно истощенный. Кожа у него тонкая и прозрачная… Царапины и порезы мгновенно приводят к неостановимому кровотечению». Наверное, то же самое происходило с Джорджем Нантером. И родителям приходилось за всем этим наблюдать? Дальше врач рассказывает о том, что произошло, когда Роберт поцарапал горло палочкой. «Кровь шла из неба, но определить конкретное место было невозможно. Кровь остановили, но на следующий день снова открылось кровотечение, продолжавшееся всю ночь. Его рвало кровью…» О судьбе мальчика ничего не сообщается, но после длинного списка гематом, отеков, кровотечений и приступов боли врач расстается с ним — в десятилетнем возрасте, с одной навсегда изуродованной ногой — и переходит к описанию следующего случая. В числе прочих он упоминает о шестерых сестрах, четверо из них родили больных гемофилией сыновей, о семье с девятью гемофиликами в трех поколениях и о мальчике, умершем в возрасте пяти лет после кровотечения, продолжавшегося шесть недель.
Джордж Нантер, Кеннет Киркфорд, Джон Корри… Я выключаю свет и лежу в темноте, без сна, думаю о Генри и Эдит, обнаруживших, что их девяти— или десятимесячный сын болен гемофилией, и пытаюсь представить, как это произошло. Возможно, ребенка поцарапала булавка, скреплявшая пеленки. А может, он уже подрос, начал ходить, и это было его первое падение. Впрочем, неважно, как именно. Должно быть, Генри отказывался верить своим глазам — он, который всю жизнь изучал эту болезнь, проклят ее появлением в своей семье…
Утро выдалось облачным и хмурым. В горах лежит снег, хотя, возможно, он не тает там круглый год. Обрывки облаков плывут над нижней частью склонов. Поезд везет нас по берегу озера Валензе, затем — вдоль широкой и бурной реки Рабиусы со стального цвета водой и отмелями из серого песка. По берегам растут ландыши, а в полях — бутень и лютики. Привыкший к тому, как это бывает у нас дома, я не верю обещаниям, что в Версаме будет ждать автобус, чтобы отвезти нас в горы, — но автобус на месте. Он карабкается вверх по дороге, а вокруг цветет все, что только может цвести, фиалки и маргаритки, опять ландыши, а потом начинаются крутые повороты, и мы смотрим вниз, на укрытую туманом долину с рекой, где люди на байдарках преодолевают пороги. Цветут сады, а поля желтые от ромашек. Я обещал Джуд цветы и поэтому радуюсь, что их так много. Она сообщает мне их названия — дикие орхидеи и герань, незабудки и купена.
Я должен был предвидеть, что если в горах есть облака, то когда мы поднимемся туда и въедем в них, то нас окружит плотный туман. Именно так и случилось. Мы оказались в самой гуще. Второй автобус, поменьше, везет нас в Тенну. Наверху очень холодно. Туман белый, он стелется по земле и трогает кожу холодными пальцами. К счастью, мы захватили теплые куртки. Нас высаживают у деревенского магазина, супермаркета, какие можно увидеть по всей Европе, и мы заходим внутрь и покупаем согревающие плитки шоколада. Хозяйка магазина, говорящая на довольно приличном английском, знает, кто мы такие и зачем приехали. Естественно, об этом знают все жители деревни. Историк, с которым мы собирались встретиться, нас уже ждет, говорит хозяйка и указывает на дом приблизительно на полпути к следующему горному хребту. Я отвечаю, что сначала нам хотелось бы посмотреть церковь, и мы идем туда, грызя шоколадки.
Это симпатичная церковь, совсем не похожая, как не трудно догадаться, на церковь Св. Марка на Гамильтон-террас. Общего у них только одно — шпили. Церковь в Тенне белая, а колокольня с пирамидальной крышей расположена не в конце нефа, как у нас, а сбоку. И сама церковь, и колокольня крыты серым шифером. Мы входим внутрь, где лишь чуть-чуть теплее, и разглядываем настенную роспись XV века, но меня больше интересует церковный двор и могилы. Я вознагражден и в то же время разочарован. Вознагражден, потому что нашел здесь людей, чьи фамилии записаны триумвиратом Виели-Грандидье-Хесли — это Гартманн, Джоос и Бухли. А разочарование мое вызвано тем, что все эти жители Тенны умерли относительно недавно; тут нет ни одной могилы XIX века. Майбахов нет вообще, но есть парочка Барбл, что меня удивляет. Я считал это имя уменьшительным от Барбары, но похоже, оно самостоятельное и весьма распространено в Зафиентале.
Кто-то машет нам снизу, со склона. Это почтальон, муж хозяйки магазина, он же хранитель архивов. Меня уже предупредили, что архив неполный и что период, которым я интересуюсь, отсутствует. Двадцать лет назад кто-то взял церковные книги — мы называем их приходскими метриками — да так и не вернул. Почтальон почти не знает английского, но очень рад поговорить по-немецки с Джуд. Она переводит, сообщая мне, что книги за почти весь XIX век и большую часть XX пропали. Я не могу понять, как они выпустили документы из виду, не говоря уже об их потере, но не высказываю своего недоумения. Пропажа архивов упоминается в «Баллоке и Филдсе», так что исчезновение церковных книг в Тенне, похоже, можно считать обычным делом. Джуд переводит, что сохранившиеся документы охватывают период с 1666 по 1791 год. Они мне пригодятся?
— Беда в том, что я не знаю.
Я действительно не знаю. Магдалена Майбах, которая упоминается у «Баллока и Филдса» и у Хесли, родилась в 1721 году. У нее было несколько сыновей, двое из которых не заслуживают дальнейшего упоминания, их имена даже не приводятся, а вот о третьем говорится, что он умер в возрасте шести лет, nachdem das Blut ihm alles ausgelofen, ist es in Gott entschlafen (после того, как вся кровь вытекла из него, он уснул навеки). Значит, Магдалена была носителем гемофилии. И она могла быть предком моей Барблы. Но когда родилась Барбла? Дэвид Крофт-Джонс знает только дату рождения ее дочери Луизы. Мне нужно двигаться в обратном направлении. Эдит Нантер родилась в 1861-м, а ее мать Луиза Хендерсон — в 1837-м. Значит, ее мать Луиза Квендон, урожденная Дорнфорд, могла появиться на свет в промежуток времени с 1800 до 1821 года, и значит, ее мать Барбла могла появиться на свет… когда? Скорее всего, в конце XVIII века или в начале XIX, а церковные книги за этот период отсутствуют.
Архивист отпирает дверь деревянного здания, похожего на сельский клуб, но поскольку это Швейцария, внутри все очень чисто и аккуратно. У книг поблекшие и пожелтевшие страницы и древние переплеты. Джуд переводит и сообщает мне, что в XIX веке население вдвое превышало нынешнее, что не совпадает со сведениями Хесли. Архивист пускается в пространные объяснения, какие именно книги отсутствуют, но я вижу, что Джуд уже отказалась от попыток следовать за его мыслью.
— Давайте просто посмотрим, — предлагаю я.
Что мы и делаем. У меня почти нет надежды что-нибудь найти, и единственный наш улов — сведения о том, что Магдалена Майбах, дочь Ханса Майбаха и Урсулы Майбах, урожденной Рюхли, приняла крещение в 1790 году, за год до того, как заканчивается книга. Я спрашиваю себя, мог ли Ханс Майбах быть сыном упомянутой Хасли Магдалены Майбах, родившейся в 1721 году. У нее было трое сыновей, в том числе тот несчастный ребенок, уснувший навеки, когда из него вытекла вся кровь. Я не могу в это поверить, поскольку нужные книги отсутствуют, однако даты не противоречат моей гипотезе. Вполне возможно, что Ханс был братом этого ребенка, болел гемофилией, но не в очень тяжелой форме, и, подобно принцу Леопольду, вырос, женился и завел детей. У Ханса была всего лишь одна дочь. Возможно, после ее рождения он умер. Архивист желает показать мне другие книги, но я тверд и говорю, что уже увидел все, что мне нужно. Мы с Джуд благодарим его и спускаемся по склону горы в гостиницу «Альпенблик», чтобы проверить, что там подают на ленч.
Гуляш. Выбора у нас нет. Его приносят довольно быстро — тушеное мясо в густой коричневой подливе, с картофелем, горохом и морковью, все вместе — и подают нам на двух тарелках. В обеденном зале много деревянной резьбы, деревянный пол и клетчатые скатерти на столах. Я говорю Джуд, что рад, что она поехала со мной, без нее я не справился бы. Странная штука: состоять в браке семь лет, знать, что супруг обладает определенными навыками или знаниями, не ведомыми тебе самому, но ни разу не видеть или не слышать их демонстрации. Я никогда не слышал, как Джуд говорит по-немецки, просто предполагал, что она знает этот язык — на основании одной или двух ее случайно оброненных фраз. И во мне растет восхищение. Здесь, в уютном обеденном зале гостиницы «Альпенблик» я ощущаю прилив сильного желания, причем чуть-чуть другого желания, и с беспокойством спрашиваю себя, неужели лингвистические способности изменили Джуд, превратили ее в незнакомого человека. Она улыбается мне, словно читает мои мысли — надеюсь, мне только кажется, — и я поспешно говорю, что мы сделали в архивах замечательные находки, на которые я даже не надеялся.
— Это могла быть та же самая женщина?
— А зачем называть себя Барблой, если твое имя Магдалена?
Джуд не знает.
— Чем больше я смотрю на эту деревню, затерянную в горах и изолированную от мира, тем чаще задаюсь вопросом, как в те времена ее жители могли попасть в Версам, не говоря уже о Лондоне.
Я соглашаюсь, что это было не просто. Сегодня такое путешествие — пустяк, обычное дело. Девушка может изучать английский и участвовать в программе университетского обмена, приехать в качестве помощницы по дому или просто на каникулы. Но в начале XIX века никто не покидал эти деревни. Для этого пришлось бы пройти пешком не одну милю по горам, причем тропа была доступна только летом. Дороги отсутствовали. Именно недоступность деревни объясняла довольно широкое распространение гемофилии, а также тот факт, что Тенна была ценным источником информации для исследований Тормана, Виели и Грандидье. Женщина выходила замуж за соседа, даже если он страдал от сильных кровотечений от случайного пореза при бритье, или у нее был брат, который das Blut ihm alles ausgelofen. Я говорю, что ответ на эти два вопроса может найтись у историка. Нам подают пудинг с карамельным кремом, потом большие чашки кофе. Джуд идет осмотреться и, вернувшись, предлагает остаться в деревне. Но когда мы выходим наружу и окунаемся в белый, холодный туман, я радуюсь, что мы уезжаем. При необходимости можно вернуться в понедельник. Мы поднимаемся по склону и находим дом историка. Это довольно просторное шале с замшевыми рогами, прибитыми под широкими свесами крыши, и названием «Ресслихаус», похоже, выжженным на дереве. Дверь нам открывает крепкая пожилая женщина в блузке и юбке, с пучком седых волос на затылке. Выясняется, что хозяйка историк-любитель, и она показывает нам генеалогические таблицы. Некоторые доходят до начала XIX века, и в одной из таблиц обнаруживается Ханс Майбах и его дочь Магдалена. Как я и думал, он умер, когда девочка была еще маленькой, а через несколько лет умерла и его жена. Но это ничего не проясняет — ни в одной таблице нет Барблы Майбах. Хотя есть много других Барбл, и историк признает, что это популярное в Граубюндене имя. Слишком популярное, на мой взгляд. Я предпочел бы, чтобы оно было одно.
О гемофилии женщина почти ничего на знает. В конце концов, этой болезни здесь не наблюдалось с 1870-х. В ее семье, Энгельс, и в семье ее умершего мужа, Вальтер, больных не было; и действительно, когда я смотрю на ее генеалогическое древо, то не нахожу ни одного имени, встречающегося у «Баллока и Филдса».
— Почему кому-то могло понадобиться уехать отсюда, скажем, в 1810 году?
Джуд переводит на немецкий и, наверное, не может сформулировать это тактичнее, чем я, потому что миссис Вальтер обижается за свою любимую Тенну и говорит, что никогда не хотела уехать. Когда она была в Цюрихе, несколько раз, в Берне и один раз даже в Париже, то очень скучала по дому и хотела поскорее вернуться.
Джуд спрашивает, как покинуть деревню, если, к примеру, возникнет такая необходимость. Миссис Вальтер отвечает, что впервые уехала отсюда в свадебное путешествие (Flitterwochen), но я прошу Джуд узнать, какой могла быть причина для отъезда почти двести лет назад. Миссис Вальтер не знает. Люди отсюда не уезжали.
— Один человек все же уехал.
Я разочарован, но не больше, чем ожидал. История Барблы могла бы украсить биографию Генри, но в сущности это не так уж важно. В главе о предках Генри и его жене можно написать нечто вроде: «Прабабка Эдит была родом из Швейцарии, и именно она принесла гемофилию в семью Хендерсон», — и не обязательно рассказывать, как она познакомилась с Томасом Дорнфордом и вышла за него замуж. Тем не менее я вернусь сюда в понедельник, после того как у меня будет целый день, чтобы поразмыслить над этим. Я прошу Джуд спросить миссис Вальтер, сохранился ли тут ретороманский язык. Она отвечает, что в Зафиентале на нем никогда не говорили, только на Рейне. Задавая вопрос, я думал о Генри — о ком же еще? — и подозреваю, что он никогда тут не был, поскольку посещал лишь те места, где мог попрактиковаться в ретороманском.
Мы уже уходим, когда миссис Вальтер кое о чем вспоминает. Джуд внимательно слушает, а затем пересказывает мне: неподалеку живет знакомая хозяйки, которая, наверное, нам поможет. Миссис Вальтер отзывается об этой миссис Таубер с большим почтением, вероятно потому, что та живет в замке. Если мы вернемся в понедельник, она постарается пригласить эту женщину к себе. Мы выходим на яркое солнце — все облака ушли за покрытые снегом хребты. С крутого склона открывается великолепный вид на горы, словно парящие в голубом небе, на цветущие долины и на деревню с красными и черными домиками и шпилем церкви, пронзающим небо серебряным кинжалом. По склону поднимается стадо, и до нас доносится звон колокольчиков. У Gemeindehaus[62] ждет автобус, чтобы отвезти нас назад.
У меня есть целый день, воскресенье, чтобы все обдумать. Теплая солнечная погода как нельзя лучше подходит для долгой прогулки по городу, во время нее мы заходим в пару церквей, чтобы послушать хор и — специально для Джуд — мессу на немецком. Все магазины закрыты, в отличие от кафе и баров. Я задумываюсь, не могла ли Барбла наняться здесь на работу в гостинице или таверне и повстречать английского путешественника по имени Томас Дорнфорд. Вполне возможно, хотя я не думаю, что в 1808 году это было приемлемо для добропорядочной девушки. Кроме того, представляется маловероятным, что человек, который мог себе позволить путешествие по Европе, женился на девушке, прислуживавшей ему в таверне. Если он не говорил по-немецки, то они вообще не могли общаться друг с другом.
Мы садимся за столик на улице и заказываем кофе.
— Если она родилась после 1791 года, — говорит Джуд, — ты ее не найдешь. А такое возможно. Барбла могла родиться в 1792-м или в 1793 году, но все равно быть бабушкой Луизы Хендерсон. Тогда ей было бы около сорока пяти. В сорок пять лет вполне возможно стать бабушкой, особенно в те времена.
— В таком случае, чья она дочь? Определенно не Ганса. У него был всего один ребенок, Магдалена, и Ганс умер, когда дочери было два года.
— Но ведь был еще один брат, так?
— Магдалена-старшая родила трех сыновей. Один из них умер от потери крови в возрасте шести лет. Ганс вырос, женился, стал отцом Магдалены-младшей, но умер молодым. От гемофилии? Мы не знаем. Если он был болен, то Магдалена неизбежно стала бы носителем. Однако маловероятно, чтобы все три сына-носителя гемофилии родились больными, так что третий сын Магдалены-старшей, скорее всего, был здоров.
Похоже, перед нами тупик. Я пытаюсь на какое-то время выбросить все это из головы. Мы съедаем обильный ленч, возвращаемся в гостиницу, спим, занимаемся любовью, снова спим. Вечером бродим по городу, взявшись за руки. Словно юные любовники, мы идем вдоль берега реки, останавливаемся, чтобы поцеловаться, заходим в бар и пьем вино, потом где-то ужинаем. К тому времени становится совсем поздно, а утром мы собираемся вернуться в Тенну, и с этим ничего не поделаешь. Я очень давно не видел Джуд такой спокойной и счастливой.
32
Я устал, но долго не могу заснуть. Наверное, слишком много мыслей вертится у меня в голове. С тех пор как мы приехали сюда, при мне много раз упоминали о Версаме, и мы останавливались здесь по дороге в Тенну, а теперь я наконец вспомнил, где раньше встречал это название. По крайней мере, мне так кажется. Я захватил с собой «Баллока и Филдса», но корреспонденцию Генри, естественно, оставил дома, хотя не сомневаюсь, что название Версам встречается в письмах моего прадеда к Коучу или Феттеру. Кажется, в связи с долгим пешим путешествием оттуда до какой-то деревни в Зафиентале. В письме приводится даже расстояние, миль двадцать, хотя я не уверен. А что, если та деревня называется Тенна? Даже если в ней никогда не говорили на ретороманском? И я вспоминаю еще кое-что. Конечно, если память меня не подводит. Строчку из Хесли о климате в Тенне, которую Генри дословно цитирует в том же самом письме. «Сочетание солнечного света и сухого воздуха принесло деревне славу полезного для здоровья места…» К сожалению, я не могу быть абсолютно во всем этом уверен, не видя письма, находящегося у меня дома, в соответствующей папке на моем рабочем столе.
Естественно, мой сон совсем прошел. Я лежу и думаю, что упущенный шанс попрактиковаться в ретороманском для Генри значил гораздо меньше, чем возможность побывать в деревне, печально известной среди гематологов распространенностью наследственной гемофилии. Книга Баллока и Филдса была опубликована лишь тридцать лет спустя, но Генри не мог не знать их источники, не мог не читать Хесли — вне всякого сомнения, эти сведения были ему хорошо знакомы. Возможно, он останавливался в Куре. А возможно, даже не подозревал о близости Тенны, пока не приехал сюда и не открыл свой путеводитель. В любом случае проверить это я могу только дома. Теперь остается лишь предполагать.
Жизнь в Тенне настолько монотонна, что прибытие автобуса, который въезжает в деревню поздним утром, становится настоящим событием. Тем более что на нем должны приехать чужие. Несколько человек ожидают рядом с Gemeindehaus, чтобы нас поприветствовать. Потом нас сопровождают в магазин, угощают кофе с пирожными. Белый туман, который снизу похож на облако, накрывает всю Тенну; сегодня сыро, и влага конденсируется на руках и лицах, вызывая дрожь. Мы идем сквозь марево к «Ресслинхаусу», но при виде гостиницы у меня возникает предчувствие, что впереди нас ждет разочарование — рядом со зданием нет машины, на которой приехала обитательница замка.
Утешить нас должен горячий шоколад с песочным печеньем. Миссис Таубер не могла приехать, потому что кто-то из ее детей нездоров, а новая няня еще не прибыла. Мне дают ее адрес и телефон и сообщают, что она врач, хотя после замужества уже не практикует. Это наводит меня на мысль, что женщина может знать о гемофилии и что она не станет скрывать факт существования болезни в Тенне. Закончив записывать адрес под диктовку Джуд, я отрываю взгляд от бумаги и вижу яйца. Наверное, они были тут и в субботу, но я их не заметил. Красные, коричневые и темно-зеленые, с белым рисунком в виде цветов и листьев или с абстрактными узорами. Миссис Вальтер — наверное, у нее есть имя, но никто не называл ее по имени, и нам не сообщил — объясняет (Джуд переводит), что белыми остаются незакрашенные участки. Все яйцо покрывают темно-красной или какой-нибудь другой краской, а затем острым инструментом вырезают белый узор. То есть белый — это естественный цвет скорлупы под краской. Яйца. Символы вечной жизни. Яйца содержат Х-хромосомы, готовые передать красоту или уродство, здоровье или болезнь, долгую жизнь или скорую смерть.
По словам Джуд, миссис Вальтер не меньше моего расстроена, что ее знакомая из замка не смогла приехать, и чувствует себя виноватой. Джуд успокаивает ее, говорит, что всякое бывает. Можно забыть обо всем и ехать домой, но автобус отправляется только в четыре часа. На миссис Вальтер снисходит озарение, и она дарит каждому из нас яйцо в качестве компенсации. Она сама их расписывала — светло-коричневое с белой лилией для Джуд и красное с цветочной гирляндой для меня. «В память о Тенне», — с улыбкой говорит она, и даже я ее понимаю. Миссис Вальтер упаковывает каждое яйцо в отдельную коробочку, поскольку они очень хрупкие, а путь нам предстоит дальний.
Туман рассеялся, и после ленча в «Альпенблике» — снова гуляш, но с другими овощами — мы потратили послеобеденное время на прогулку по горным тропкам, восхищаясь потрясающими видами. Автобус — естественно — приходит вовремя, и мы возвращаемся в Версам, а затем — в Кур. В результате я чувствую себя немного одураченным и начинаю размышлять, на что же я на самом деле надеялся. Кому из ныне живущих интересно или хотя бы небезразлично знать, что случилось с юной крестьянской девушкой в начале XIX века? Если она действительно приехала отсюда. Насколько мне известно, Майбахов полно во всей Швейцарии, не говоря уже о Германии и Австрии. Другое дело, если бы она, подобно миссис Таубер, жила в замке и была благородного происхождения. Выходя из поезда на вокзале Кура, я понимаю: моя убежденность, что Барбла родом из этих мест, основана лишь на упоминании семьи Майбах в «Баллоке и Филдсе». Но не исключено, что они из Мюнхена или Инсбрука, или что Вероника права и они вовсе не Майбахи, а Мейбеки из Манчестера, а женщина, которой я интересуюсь, имела весьма распространенное английское имя Барбара.
Если завтра встать пораньше и утренним поездом поехать в Цюрих, то можно успеть в Лондон до обеда. Но мы купили билеты на рейс в половине шестого, и придется с этим смириться. Кроме того, Джуд здесь нравится. Она хочет еще немного побыть в самом старом городе Швейцарии, вечером поужинать в хорошем ресторане, а утром посетить музей Ретороманских Альп. Джуд — неутомимый посетитель музеев, и ни один отпуск не может считаться полноценным, если она не сходит во все музеи, какие только сможет найти. Мы вытаскиваем расписные яйца, и Джуд говорит, что они должны стать для нас символом надежды; она не сомневается, что в следующем году у нас будет ребенок. Джуд известно мое мнение о надежде, но она мне не верит.
После визита в музей мы садимся на поезд до Цюриха и приезжаем туда как раз к ленчу, однако до отъезда в аэропорт у нас остается еще часа два или три. По утверждению путеводителя «Бедекер», Банхофштрассе считается одной из лучших торговых улиц Европы, но Джуд не хочет в магазины, что очень разумно, если учесть состояние наших финансов. Ей нужны еще музеи.
Я регистрируюсь в гостинице, а рядом со мной стоит Джуд, взволнованная не меньше меня и ничуть не расстроенная перспективой остаться здесь еще на день. Пока лифт поднимает нас в номер, я размышляю о том, каким образом проявляет себя вероятность или случайность. В Цюрихе полно музеев, но времени у нас оставалось только на один, в крайнем случае на два. Джуд — а тут я полагаюсь на нее — вполне могла выбрать архив Томаса Манна на Шенберггассе, и едва не выбрала, или Фонд Иоханны Спири — в детстве она очень любила книжку «Хейди», — но остановилась на музее фарфора и керамики, а также музее быта. Керамика — это очевидно, Джуд очень любит фарфор, но почему быт? Я всегда считал, что это ей не интересно, ведь она никогда не была домашней женщиной, «половиной» своего мужа. Но, слава богу, Джуд выбрала именно этот музей.
Мы рассматривали шикарный интерьер гостиной маленького замка на Рейне под названием Замок Бенедикт. Рейн — большая река, и мне в голову не приходило помещать ее поблизости от Тенны. Фотография дома — маленького, каким только может быть замок, с башенками и островерхой крышей, на фоне высоких гор — тоже ни о чем не говорила. Откровением стала раскрытая книга на маленьком столике между клавесином и кушеткой с высокой спинкой. Я не обратил на нее внимания. Я не умею читать готический шрифт, а эта рукописная книга, явно чей-то дневник, была заполнена этими причудливыми, изящными и ныне устаревшими немецкими буквами. Джуд умеет, но не очень хорошо. Она посмотрела на раскрытые страницы, потом на меня, потом снова на левую страницу книги.
— Мартин, здесь что-то… — Она сильно побледнела.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил я.
— Со мной все в порядке. — Джуд взяла меня за руку и крепко сжала мои пальцы. — На этой странице имя Магдалены Майбах. А в следующем предложении — Барбла.
— Ты можешь прочитать?
Жена недовольно вздохнула.
— Не очень. Когда-то могла. Теперь забыла. Думаю, тут написано нечто вроде «дать ей новое имя». Определенно, «neue Name», я уверена.
На табличке указано, что дневник датируется 1793 годом, а его автор — Гертруда Таубер, вдова и владелица замка, который перешел ей от мужа, умершего четырьмя годами раньше. Все это написано по-английски и по-немецки. Жаль, что нет перевода самого дневника. В нем запечатлена удивительная картина быта XVIII и начала XIX века.
— Если мы попросим смотрителя взглянуть поближе и нам разрешат, ты сможешь это прочесть?
— Нет, дорогой, не смогу, — ответила Джуд.
— Как ты думаешь, что это значит: женщина, живущая в замке, дает девочке Магдалене новое имя — Барбла? Кто она такая, чтобы так поступать? Какое она имеет право?
— Не знаю. Но послушай, кажется у той женщины, о которой говорила миссис Вальтер, фамилия Таубер? И — это уже становится любопытным — она живет в замке. Автор дневника могла быть ее предком. Нужно выяснить. И успеть на самолет через два часа.
— Билеты можно сдать, — сказал я.
Пришлось снять комнату в гостинице, и только потом начать телефонные переговоры. Вернее, Джуд. Из нас двоих именно она владеет немецким и, слава богу, рада возможности попрактиковаться в нем. Поэтому, когда мы поднимаемся в номер, гораздо более утонченный и элегантный, чем в Куре, она берет телефонную трубку, а я отправляюсь стирать наше белье в раковине ванной комнаты. Мы рассчитывали, что Лорейн постирает его завтра, но завтра мы будем не в Лондоне, а… где?
— В Замке Бенедикт, если сможем его найти, — говорит Джуд.
Она еще не знает. Миссис Вальтер подтвердила, что это та самая Таубер и что, по слухам, ребенку «Франчески» получше, а затем продиктовала Джуд телефон.
Я выхожу из ванной с мокрыми колготками и бельем в руках.
— Франческа и есть нынешняя миссис Таубер?
— Совершенно верно, та самая, которая врач.
— Я бы не отказался посмотреть интерьеры маленького замка на Рейне.
Увы, нам не суждено. Джуд звонит, линия занята, но после десятиминутного ожидания Франческа Таубер берет трубку. Через несколько секунд Джуд переходит на английский, говорит, что сдает наши билеты на самолет, что завтра мы встретимся с миссис Таубер, что ее муж будет чрезвычайно благодарен, что это так любезно с ее стороны, и так далее.
— В Куре. Мы увидимся в Куре. У нее там встреча. Можно перенести вылет на завтра или лучше на четверг?
Я говорю, что лучше на четверг — неизвестно, что нас еще ждет.
— Насколько я понимаю, вы пытаетесь найти женщину по имени Магдалена Майбах, — осторожно говорит Франческа.
Мы пьем кофе за столиком на террасе кафе «Кур», на берегу реки. Франческа — она просит называть ее по имени — примерно того же возраста, что и Джуд, высокая, худая, с очень белой кожей. Мы предлагаем ей пообедать с нами, но она отказывается. Именно за этим миссис Таубер и приехала в город — на ленч с кем-то другим.
— Я пытаюсь найти женщину по имени Барбла Майбах.
— Да. Думаю, вы догадались, что это одна и та же женщина.
— Мы не догадались. Моя жена увидела имена в старинном дневнике, в цюрихском музее. — Я чувствую, как меня охватывает волнение; это смешно, потому что никаких доказательств у меня пока нет.
— Я не справилась с готическим шрифтом, — говорит Джуд.
— Понятно. Меня он тоже ставит в тупик. Барблу удочерила прародительница моего мужа, его прабабушка в шестом или седьмом поколении, и забрала из Тенны. Ее звали Гертруда Таубер, в девичестве Веттах. У нее был один свой ребенок, сын, а после смерти мужа она взяла на воспитание двоих детей.
Я набираюсь смелости и спрашиваю:
— А в дневнике есть что-нибудь о гемофилии?
— Много, но в основном неправда.
Я спрашиваю, нет ли у нее копии дневника, и получаю отрицательный ответ. Они с мужем прочли его, а затем отдали в музей. Хочу ли я услышать историю женщины? Я киваю и говорю: «Да, пожалуйста». Мне не терпится узнать все, что знает она.
— Магдалена Майбах, — начинает Франческа, — родилась в Тенне в 1790 году. Ее отцом был Ханс Майбах, а матерью — Урсула Рюхли. Вы уже это знаете? Хорошо. У Ханса была гемофилия. Его отец был «чужаком» из Рецюнса, а матерью — Магдалена Гартманн, einer den Bluterfamilien[63], явно носитель болезни, но у Ханса, похоже, была не самая тяжелая форма. В юности он страдал от всякого рода проблем, особенно при удалении зубов, а его тело, вероятно, всегда покрывали синяки и гематомы.
Тут Джуд просит официантку принести всем еще кофе. Франческа отказывается, говорит, что у нее повышается давление. Она будет апельсиновый сок.
— Ханс вырос, женился, стал отцом и умер, когда дочери было два года. Он лишился еще одного зуба, и кровь из ранки шла три дня. На следующей неделе лошадь понесла и перевернула повозку, в которой он ехал; Ханс разбил голову о камень и истек кровью. Все это есть в дневнике. Гертруда интересовалась гемофилией, посещала деревни и наблюдала за больными, хотя, конечно, была абсолютно невежественна в том, что касалось причин болезни и способа ее передачи. Но в те времена невежественными были все, в том числе врачи. Многие считали, что гемофилия и цинга — это одно и то же.
Через пару лет от туберкулеза умерла жена Ханса Урсула.
— Хесли утверждает, что в Тенне не было туберкулеза, — возражаю я. Возможно, просто пытаюсь произвести впечатление на Франческу.
— У Хесли много неточностей, но он в этом не одинок. Девочка Магдалена осталась на попечении тетки, сестры ее матери, здоровой женщины; насколько я знаю, она не была носителем гемофилии. Трое ее сыновей были здоровы, а насчет дефектного гена у дочерей нам ничего не известно. Естественно, имея семерых детей, она не обрадовалась обузе в виде восьмого.
Приносят кофе и апельсиновый сок с превосходными швейцарскими пирожными, от которых Франческа отказывается; мы же с Джуд не в силах устоять перед соблазном. Выглянуло солнце, и стало довольно жарко; вода в реке заискрилась. Франческа рассказывает, что Гертруда Таубер, к тому времени уже усыновившая маленького мальчика, родители которого умерли, предложила забрать Магдалену. У нее были собственные представления о том, как передается гемофилия: поскольку сыновья гемофиликов всегда рождались здоровыми, она считала, что дочери тоже должны быть здоровы. В тех случаях, когда у дочерей гемофилика появлялись больные сыновья, Гертруда полагала, что болезнь передалась ребенку от матери. Согласно этой теории, болезнь в семье заканчивалась со смертью гемофилика и не передавалась следующим поколениям. Поэтому Гертруда не боялась, что, удочеряя Магдалену, она берет к себе носителя болезни, от которой истекают кровью.
Как только девочка поселилась в замке, Гертруда сменила ей имя. В своем дневнике она пишет, что всегда не любила имя Магдалена и удивлялась, почему оно так популярно в Граубюндене. Зачем давать имя дочери в честь распущенной женщины, из которой Спаситель изгнал семь бесов? Гертруда назвала девочку Барблой — так она назвала бы собственную дочь, если бы она у нее была.
— Вы, наверное, понимаете, — сказала Франческа, — что в те времена процесс усыновления был совсем не таким, как теперь. Причем не только в девятнадцатом веке, но вплоть до Второй мировой войны. Не нужно было доказывать никаким властям свою состоятельность. Никто не занимался… как вы это называете? Обследование дома?
— Кажется, обследование социально-бытовых условий, — поясняет Джуд.
— Точно. Вы просто забирали ребенка, которого родители не хотели или, скорее всего, просто не могли содержать, потому что у них было еще семеро. И вас не обязывали обращаться с ним как с собственным, давать ему тот же статус и привилегии. Гертруда не имела дворянского титула, но, вне всякого сомнения, принадлежала к высшим слоям общества. Она была владелицей поместья, а Ханс Майбах — пастухом. Усыновленный ею маленький мальчик приходился ей дальним родственником; Гертруда прямо об этом не пишет, но называет его «мальчиком моего родича». Таким образом, Магдалена, или Барбла, как ее теперь называли, никогда не чувствовала себя на равных с другими детьми. Кстати, я не спросила, кем приходится вам эта женщина?
— Барбла? Она моя бабушка в четвертом поколении.
— Ага. Теперь я понимаю ваш интерес.
Девочка ела в столовой для слуг, но время проводила с Гертрудой. Та обучила ее чтению и письму, а потом и французскому языку. Барбле разрешалось играть с другим приемным ребенком, однако девочка могла считать его ни равным себе, ни братом. С родным сыном Гертруды ей играть не позволяли, и она должна была называть его «мой господин». Похоже, что Гертруда хотела сделать из нее гувернантку, а может, экономку, и не очень понятно, зачем она вообще ее удочерила. Явно не в качестве компаньонки или дочери — возможно, всего лишь из милосердия и чувства долга.
В дневнике есть большие пробелы, говорит Франческа, а также много записей, где девочка вообще не упоминается. Потом сообщается лишь, что она сопровождала Гертруду во время поездки в Берн и позже в Вену, но не понятно, в каком качестве. Но если Барблу изначально готовили к карьере горничной, от этого плана, по всей видимости, отказались. Тем не менее Гертруда вздохнула с облегчением, когда ее сын Зигмунд уехал учиться в Венский университет. Четырнадцатилетняя Барбла была слишком красива, чтобы они и дальше жили в одном доме. Однако через три года Гертруда пишет, что девушка сопровождала ее в оперу в Зальцбурге, затем — на бал в Риме. Вероятно, она превратилась в чрезвычайно хорошенькую голубоглазую блондинку с пухлыми губами — мне вспоминается ее праправнучка Эдит, жена Генри. Теперь я не сомневаюсь, что Барбла — моя прародительница.
Они посещают Париж и Амстердам. Барбле двадцать. Гертруда, которая теперь очень гордится красотой девушки и ее «благородными манерами», вероятно, сожалеет, что в детстве держала ее на положении Золушки, но явно не об отъезде Зигмунда. Он теперь обручен с подходящей девушкой, своей ровней. Молодой англичанин, приехавший в Амстердам, чтобы купить бриллианты, знакомится с Барблой на каком-то официальном мероприятии и приходит с визитом. Гертруда называет его «юный герр Дорнфорт», и я вполне обоснованно предполагаю, что он не кто иной, как Томас Дорнфорд, ювелир с Хаттон-Гарден. Затем записи в дневнике надолго прерываются. Следующая — или следующая сохранившаяся, — сделанная шесть лет спустя, сообщает, что «Барбла родила сына». Полагаю, это был младший брат Луизы Квендон.
— Он болел гемофилией? — спрашиваю я Франческу.
— Не знаю. Никто не знает. В то время Гертруде уже исполнилось шестьдесят, а в восемьсот шестнадцатом году шестьдесят — это старость. Год спустя она престала вести дневник, а умерла в восемьсот двадцатом году.
Вот так. Все, что я хотел знать, и даже больше. Мне есть о чем подумать. Я от всего сердца благодарю Франческу, а она отвечает, что сама была рада с нами встретиться, — это такое удовольствие, делиться информацией. Джуд хвалит ее английский, но Франческа говорит, что гордиться тут нечем — у нее мать англичанка. Потом она уходит, сказав, что в половине первого должна встретиться с подругой, и спрашивает, пришлю ли я ей свою книгу, когда ее издадут.
Расставшись с Франческой, мы обходим Кур и любуемся цветами, которые успели вырасти со вчерашнего дня, пробиваясь навстречу солнцу. Я не прочь еще раз увидеть Тенну. Деревня хоть и не наложила отпечатка — слава богу — на мои гены, но стала частью моей жизни. Я чувствую, что теперь другими глазами буду смотреть на ее зеленые луга и черные ели, на альпийские цветы, красные домики и даже белые ледяные туманы. Родина моей прапрапрапрабабки. И — что гораздо печальнее — источник смерти Джорджа Нантера и Кеннета Киркфорда. Но там мои корни, так же как в Годби, в Хаттон-Гарден, Блумсбери и северном Лондоне, и я говорю Джуд, что хорошо бы когда-нибудь приехать сюда в отпуск и пройтись пешком по Граубюндену, потому что теперь здесь у меня появилось что-то родное.
— Если повезет, — отвечает Джуд, — то в ближайшие несколько лет нам будет не до пешеходных прогулок.
У меня такое чувство, словно мне плеснули в лицо холодной водой. Если повезет… Если повезет, у нас будет ребенок или даже два, и в отпуск мы сможем ездить разве что в Диснейленд. Если вообще сможем позволить себе отпуск.
После обеда мы возвращаемся поездом в Цюрих, и я размышляю о рассказе Франчески и о том, что это для меня значит. И прихожу к выводу, что Квендоны и Хендерсоны никак не могли знать, откуда родом их предки. Если они и знали, что Томас Дорнфорд познакомился со своей женой в Амстердаме, то, скорее всего, считали ее уроженкой Голландии. Им этого было достаточно, а если бы они и выяснили, что Барбла была дочерью швейцарского пастуха, то держали бы рот на замке. Хотя в те дни выяснить это не представлялось возможным — да и с какой стати? Имя Барблы Майбах сообщила мне Вероника, но больше она ничего не знала. Теперь я замечаю еще одну вещь, на которую раньше не обращал внимания. Гертруда Таубер позволила, а возможно, порекомендовала Барбле сохранить свою фамилию. Вне всякого сомнения, она не хотела, чтобы благородная фамилия мужа перешла к крестьянской дочери.
Самое главное во всем этом то, что мне удалось выявить источник гемофилии: Ганс Майбах, унаследовавший ее от матери, урожденной Гартманн, ее семья принадлежала к числу Bluterfamilien из Тенны, и передавший болезнь Барбле. А от нее невидимый дефектный ген, в свою очередь, перешел к дочери, от той — к Луизе, от Луизы — к Эдит, от Эдит — к Элизабет и Мэри, которые донесли его до наших дней.
33
Приехав домой, я первым делом нахожу то письмо, которое Генри написал весной 1882 года. Не Коучу, а Льюису Феттеру. Но в остальном память меня не подвела. Название деревни, Тенна, не упоминается, но Версам присутствует, а тот факт, что это Тенна, подтверждается почти дословной цитатой Хесли: «…солнечный свет и сухой воздух делают ее благоприятным для здоровья местом». Письмо помечено: Зафиенталь, Граубрюнден.
Сегодня Полу исполняется двадцать. Мы отправили ему открытку и вложили внутрь чек. Все, что бы мы ни купили, обязательно не подойдет. Естественно, я какое-то время смотрю в окно поверх стопок бумаг Генри на моем столе и вспоминаю, как родился Пол, а также месяцы, предшествовавшие этому событию. Сегодня мне немного неловко вспоминать, как мы с Салли говорили всем, что «делаем ребенка». Особенно если учесть, что это была неправда. Все вышло случайно. Теперь мы с Джуд действительно делаем ребенка, и это самое точное определение, поскольку еще ни один ребенок не был сделан так намеренно и расчетливо. Процедуру мы повторили. Естественно, во второй раз было не так противно, как в первый. Надеюсь, с третьим и четвертым разом сравнивать не придется. Джуд имплантировали четыре эмбриона — у наших яйцеклеток и сперматозоидов никогда не было проблем со слиянием, — и теперь снова остается только ждать результата.
Только что позвонил главный организатор правительственной фракции в Парламенте и пригласил на ленч после каникул на Троицу. Как сказал кто-то из персонажей «Укрощения строптивой», но что же это чудо предвещает? Возможно, до него дошли слухи, что я изучаю жизнь Генри, и он хочет сообщить что-то связанное с моим прадедом. Вездесущий Генри. Я перечитывал дневники, пытаясь найти другие упоминания о Тенне, но, похоже, там ничего нет.
Не очень понятно, сколько пеших походов совершил Генри. Амелия Нантер сохранила все письма, которые сын писал ей из отпуска, и все они, по-видимому, остались в целости и сохранности. Насколько мне известно, вся корреспонденция лежит передо мной на столе. Я говорю «насколько мне известно», потому что у меня имеется только одно доказательство, фраза, которую Амелия сама написала своей сестре: «Генри пишет такие чудесные письма из тех далеких краев, что я заботливо храню каждое». В некоторых он точно указывает свое местоположение. Например, в письме с озера Тун Генри даже приводит название пансиона, где остановился, а когда пишет из «Зафиенталя, Граубюнден», отмечает, что живет в доме, принадлежащем семье Шиле. В других просто встречается название кантона. Однако почти все письма содержат описания деревень, гор и озер, с их названиями. Возможно, Генри думал, что это будет интересно матери — она могла увлекаться географией. Когда мать умерла и Гамильтон тоже (в один день, с разницей в четыре часа), из корреспондентов Генри остались только Коуч и Феттер, и единственное — или единственное сохранившееся — письмо, которое он прислал Феттеру в 1882 году с материка, выглядит загадочным по сравнению с теми, что он писал домой, в Годби-Холл.
Почему он не указал название деревни? Возможно, потому, что Феттер должен был его знать. Возможно, Феттер предполагал, что Генри туда поедет. Не знаю, но глядя на письмо, я понимаю то, что не понимал раньше. После слов «солнечный свет и сухой воздух делают ее благоприятным для здоровья местом» идет следующая фраза: «За исключением, по мнению В. и Г., как вам известно, одного аспекта». Когда я впервые прочел ее, то подумал, что под В. может подразумеваться доктор Виккерсли. Теперь я вижу, что В. и Г. — это Виели и Грандидье, врачи, впервые задокументировавшие случаи гемофилии в этом регионе.
Я чувствую легкое разочарование. Но на что я надеялся? Полагаю, на нечто драматическое. Естественно, Генри, будучи специалистом в этой области, не мог не читать Виели и Грандидье, а также Хесли, ведь их работы были изданы в 1855 году. Тут нет никакой загадки, разве что загадочной остается скрытность Генри, который заменил фамилии инициалами и не указал точного адреса. Но скрытность характерна для него, тут нет ничего необычного. Наоборот, было бы странно, если бы мой прадед не посетил Тенну, учитывая значение деревни для области знания, которой он занимался, а также тот факт, что он много раз бывал в Швейцарии.
Меня больше интересует другой вопрос: почему Генри не отправился туда раньше? Почему ждал до 1882 года? А может, и не ждал. Может, это было повторное посещение Граубюндена. Не исключено, что он приезжал сюда в 1870-х, но просто не упоминал название деревни в письмах к матери, женщине, которая ничего не знала о гемофилии и была далека от этих проблем. Или он побывал там еще во время учебы в Венском университете. Генри об этом не пишет, но он мог совершить путешествие на юго-восток Швейцарии вместе со своим приятелем, знавшим ретороманский язык. Тот факт, что об этом не упоминается в письмах домой, легко объяснить. Сын, находившийся на содержании у отца, скрывал от родителей, что не все полученные деньги тратятся на учебу. Чем больше я размышляю, тем менее вероятным мне кажется, что Генри не удосужился посетить такое важное для него место.
Почта приходит очень поздно, но с лихвой компенсирует опоздание. Это письмо, которое я меньше всего ожидал, — от моей троюродной сестры Кэролайн. Написанное от руки. В нем номер телефона, подпись «Кэролайн», но ни намека на то, сохранила ли она фамилию Агню, замужем ли она, есть ли у нее дети. Неясно также, что сказала ей Дженнифер, хотя Кэролайн знает, что я пишу биографию прадеда. В ее стиле есть какая-то резкость и грубость, что-то неприятное. Например, Дженнифер рассказала о нашем с Люси ленче, и Кэролайн ясно дает понять, что ей этого не нужно. Она ненавидит «такие вещи». Кэролайн не знает, пригодятся ли мне ее сведения о семье, но готова мне все рассказать, только хочет приехать ко мне домой — или чтобы я приехал к ней. Она живет в Рединге, это всего полчаса на поезде. И не нужно думать, что она желает познакомиться с другими родственниками, только мы вдвоем, пожалуйста.
Мне совсем не хочется в Рединг, но я отправлюсь туда, если не будет другого выхода. Перечитывая письмо, я чувствую, что пригласить ее на ленч, или ужин, или даже на чашку чая было бы ошибкой. С некоторым трепетом я беру телефонную трубку и жду включения автоответчика, поскольку безо всяких на то оснований предположил, что Кэролайн не замужем, живет одна и работает на полную ставку. И удивляюсь, когда она отвечает.
Голос у нее низкий и довольно грубый. Наверное, я сноб, хотя и пытаюсь с этим бороться, — но мне режет слух ее «эстуарный английский»[64]. Ее речь совсем не такая, как у членов моей семьи. Я изо всех сил стараюсь не замечать ее выговора — это просто неприлично для человека, едва не вступившего в лейбористскую партию.
— Я приеду и встречусь с вами, если хотите, — говорит Кэролайн. — В четверг, около трех?
Выбора мне не оставляют, и я понимаю, что если не соглашусь, то услышу в ответ: как хотите, вам решать. Этот четверг последний в мае и последний перед весенними каникулами Парламента, хотя мне теперь все равно. Я говорю, что это было бы замечательно, и спрашиваю, как она будет добираться до Лондона.
— У меня нет машины, — отвечает Кэролайн. — Я приеду на поезде на вокзал Паддингтон.
Почему мне кажется, что такси ей не по карману? Я объясняю, что нужно доехать до Бейкер-стрит по линии Ватерлоо, пересесть на Юбилейную линию и выйти на Сент-Джонс-Вуд, добавляю, что очень ей благодарен, что с нетерпением жду встречи. Не знаю почему, но я ждал большего. Ждал, что она расскажет, зачем «приезжает в город» именно в этот четверг. Однако Кэролайн ограничивается кратким: «Тогда договорились» — и вешает трубку.
Словарь Фаулера рекомендует не использовать слово «интриговать» в значении «озадачивать, удивлять, заинтересовывать», а выбирать один из этих синонимов, но все они мне не подходят. Моя троюродная сестра Кэролайн меня заинтриговала. Мне хочется узнать, что она за человек. Замужем ли она? Была ли когда-нибудь? Ее мать давно умерла, но где ее отец? Конечно, я могу и не получить ответов на все эти вопросы.
Я звоню в офис главного организатора правительственной фракции в Парламенте и сообщаю секретарю, ведающему его расписанием, что из всех предложенных мне дат предпочитаю вторник, 6 июня. Я тщательно выбирал этот день. Единственный из списка после того, как Джуд будет знать, прижились ли имплантированные эмбрионы. К тому времени я буду знать. Если произойдет почти невероятное и парламентский организатор предложит мне какую-то работу — не могу представить, какую, но явно оплачиваемую, — у меня будет больше оснований, чтобы принять или отвергнуть предложение. Если нам придется выложить еще 2500 фунтов, я соглашусь. А потом я делаю то, что поклялся никогда не делать. Начинаю думать, на сколько попыток хватит Джуд. Пять? Десять? Двадцать? Для двадцати понадобится пятьдесят тысяч фунтов. Но я должен остановиться, от этих мыслей никакого проку…
Кэролайн Агню оказалась высокой и крупной женщиной, весом не меньше пятнадцати стоунов; выглядит она на все свои сорок семь лет, и даже старше. У нее серо-стальные волосы, коротко постриженные, но не по моде, а так, словно сбоку и сзади их обрезал какой-то очень консервативный парикмахер. Естественно, никакого макияжа — ни намека на женственность. Серые фланелевые брюки, джемпер, хлопковая курточка и ботинки в стиле «Док Мартенс».
Я жду, что предложенный чай будет отвергнут, но Кэролайн соглашается — без молока и без сахара, но с печеньем с шоколадной крошкой. Она не интересуется, как я поживаю, ничего у меня не спрашивает, а делает глоток из чашки, оглядывается и говорит, что это, наверное, «дом старика».
— Нет, но здесь выросли ваша бабушка и мой дедушка. В двадцатых годах прежний дом продали и вместо него купили этот.
Кэролайн не спрашивает, а утверждает.
— Вы живете один в этом шикарном доме.
— Я женат. Мой сын учится в университете.
Она кивает с видимым равнодушием. Я спрашиваю ее о Кларе.
Похоже, Кэролайн больше ни с кем из родственников не общалась. Почему же Клара стала исключением?
— Она была крестной моей мамы, — говорит Кэролайн. — В те времена это кое-что значило. Мама часто приходила к Кларе, пила с ней чай и с той, другой.
— Хеленой.
— Точно. Я не ходила — тогда.
— Это было здесь, я хочу сказать, в этом доме. Они тут жили.
Она безразлично кивает.
— Мама погибла в автомобильной аварии. За рулем был папа. Он остался жив, но потерял ногу. С тех пор он живет со мной. У меня квартира, маленькая, но с двумя спальнями. Соседка приглядывает за ним в мое отсутствие. У него был инсульт.
Я внимательно слушаю. По крайней мере, Кэролайн мне довольно много рассказала. Потом интересуюсь — приготовившись услышать в ответ, что это не мое дело, — работает ли она.
— Приходится. Меня некому содержать.
Она не говорит, что у нее за работа.
Мы отвлеклись от Клары. Я спрашиваю, когда Кэролайн впервые пришла к ней и почему, но уже понял, что она принадлежит к той категории людей — непривлекательных, бесцеремонных, грубых, но тем не менее составляющих «соль земли», — которые пальцем не пошевелят для таких, как Дэвид и Джорджи, не говоря уже о Мартине и Джуд, но считают само собой разумеющимся приходить к старым и немощным и ухаживать за ними. Для них это такая же неотъемлемая часть жизни, как принимать ванну или есть.
— Она осталась совсем одна, — говорит Кэролайн. — И была очень расстроена смертью мамы. Кроме меня, у нее никого не было.
— Диана, — возражаю я. — Диана и ее девочки.
— Диана объявилась только после того, как Люси и Дженнифер уехали в какой-то модный пансион. — Ее тон не меняется, и она, похоже, нисколько не обижена. — Потом Диана стала приходить, иногда приводила с собой девочек. Я их ни разу не видела. Диана приходила одна, без сопровождающих. Я написала Дженнифер, когда умерла ее мать. Не знаю, почему Дженнифер, а не Люси, старшей. Наверное, просто имя Дженнифер мне нравится больше.
— Клара рассказывала о семье?
— Немного. Больше ей не о чем было говорить. Можно мне еще печенья?
— Конечно. — Я наливаю ей вторую чашку чая, потом чашку себе и собираюсь с духом. Пора.
— Она говорила с вами о гемофилии?
Я жду удивления: «О чем?» Но Кэролайн остается спокойной и принимает вопрос как должное.
— Немного. Хотела выяснить, знаю ли я. Но мама сказала мне, когда я была еще ребенком. — Кэролайн впервые улыбается, потом смеется, хотя ее смех напоминает череду быстрых вдохов. — Сказала, что я должна сообщить мужу перед свадьбой. Я ответила, что не выйду замуж. Конечно, не выйду. Кому я такая нужна?
Что на это ответишь? Ничего. Я молчу. И теперь не могу спросить, не это ли обстоятельство помешало ей выйти замуж. Врач или психоаналитик задал бы этот вопрос, но я всего лишь дальний родственник, биограф.
— И вы сказали Кларе, что уже знаете?
Она кивает. Похоже, ей безразлично. Кэролайн решила, что никогда не выйдет замуж, что ее никто не захочет, а остальное не важно. Она родилась в 1953 году и вполне могла бы иметь ребенка вне брака, но не сделала этого. Я теряюсь, не зная, что еще спросить, и тут она говорит:
— После смерти Клары мне достались кое-какие ее вещи. Мне сказали, Тео отказался от них, и тогда я забрала. — Она задумывается. — Это ваш отец?
Я киваю.
— А какие вещи?
— Пару чемоданов, коробка с одеждой, несколько книг по медицине и много старых фотографий.
Вот что остается после человека, прожившего почти сто лет, — немного одежды, книги и фотографии.
— А что это за книги по медицине?
— Не ее отца. Старые, но не настолько. Одна — о гемофилии и о королеве Виктории, а также медицинский словарь. Остальные не помню. Я отдала их на благотворительную распродажу в церкви. Да, и еще пара блокнотов в черных обложках.
Сердце у меня замирает. Разве я мог вообразить, что пропавший блокнот, другой блокнот с заметками Генри, продолжение того, что есть у меня, объявится при таких обстоятельствах? Я не осмеливаюсь спросить напрямую.
— Они принадлежали Генри Нантеру? Нашему прадеду?
— Наверное. Я их не читала. Почерк слишком мелкий.
Я иду в кабинет, беру со стола блокнот. Кэролайн кивает.
— Один я отправила вдове, — она имеет в виду мою мать, отец умер вскоре после Клары. — Он мне был не нужен. Хотела отправить второй, но не смогла найти, а когда нашла, его читал мой отец. Ему приходилось пользоваться лупой, но я не возражала. У него так мало развлечений. Наверное, блокнот его заинтересовал. Ему восемьдесят, и он не очень здоровый человек.
— К моей матери блокнот так и не попал.
— Нет. Я его не нашла. Папа мог выбросить блокнот вместе с мусором, всего несколько месяцев назад. Я уверена, что в квартире его нет. Это важно?
Внутри у меня пустота. Я пожимаю плечами.
— Возможно. Но теперь уже ничего не поделаешь.
Кэролайн смотрит на часы.
— Я должна идти. В больнице мне назначено на пять, а уже половина пятого. Если хотите, могу прислать фотографии.
Почему я уверен в том, в чем сомневался раньше: Генри все рассказал только в блокноте, который скрывал о всех? Я качаю головой, что Кэролайн воспринимает как отказ от ее предложения. Зачем Клара взяла эти блокноты? Потому что интересовалась медициной, тогда как для других эта наука была безразлична? Или в этих записях содержалось нечто такое, что она все время читала и перечитывала, вспоминая об отце? С другой стороны, она не питала к нему особой любви.
— Как вы думаете, ваш отец запомнил то, что прочитал? — Мой голос звучит тихо и как-то жалко.
— Маловероятно. Последнее время он все забывает. Я отнесла цветы на могилу, потому что он все время приставал ко мне, совсем замучил, а когда я сказала, что отнесла, отец уже забыл о своей просьбе.
— Цветы на чью могилу?
— Прадедушки Генри.
Мне это кажется странным.
— Ваш отец? — растерянно переспрашиваю я. — Он не мог знать Генри. Он был всего лишь… кем? Мужем внучки, родившимся после его смерти.
— Знаю, — с обычным безразличием кивает она. — Папа сказал, что ему очень жаль Генри.
— Откуда вы знаете, где его могила?
— Мама туда ездила. Она обычно приносила цветы своей матери на кладбище в Фулхэме и бабушке на Кенсал Грин.
Кэролайн уходит, и я вдруг вспоминаю, что однажды рассказывал мне специалист по доколумбовой Мексике. Когда испанские конкистадоры завоевали страну, они уничтожили почти все записи и рисунки ацтеков, так что сохранились лишь несколько кодексов. Прошло совсем немного времени, и испанцы пожалели о содеянном и постарались восстановить тексты, оставшиеся лишь в памяти людей; именно эти рассказы дошли до наших дней.
Может, мне придется рассчитывать на память слабоумного старика. Странного старика, который так жалеет другого, давно умершего, что просит дочь принести цветы на его могилу. Может, эта жалость вызвана тем, что он прочел в потерянном блокноте?
34
Меня пригласили вернуться в качестве пожизненного пэра. Вчера позвонили из канцелярии на Даунинг-стрит. «Премьер-министр попросил меня узнать, не согласитесь ли вы присоединиться к правительственной фракции в Палате лордов».
Я этого не ожидал. Мне это и в голову не могло прийти. И конечно, как всегда бывает в таких случаях, вы не в состоянии думать, не в состоянии оценить, что вам предлагают, и не в ваших силах что-нибудь решить. Шок вас парализует. Я молчу, пытаясь переварить услышанное, но тщетно.
— Возможно, вам потребуется несколько дней на раздумья.
— Да, — говорю я. — Да. До конца недели?
До конца недели остается всего три дня, и он соглашается, очевидно, наслаждаясь моей растерянностью. Наверное, это отличная работа — преподносить людям приятные или по меньшей мере ошеломляющие сюрпризы. Я кладу трубку на рычаг и просто сижу, собираясь с мыслями, пытаясь оправиться от потрясения, потом долго смотрю в окно, верчу в пальцах яйцо из Тенны и, наконец, спрашиваю себя: да или нет?
Я скучаю по Парламенту и хочу вернуться. Но в то же время мне нравится свобода, когда есть возможность проводить вечера с самим собой и с Джуд, делать то, что хочу. Я польщен предложением, но желаю сохранить свободу. Больше никаких поперечных скамей, никакой независимости — только места на скамьях правительственной фракции и подчинение повестке дня. Я очень скучаю по библиотеке, по великолепной обеденной зале и даже по ужасному хлебу. И скучаю по своей маленькой роли в управлении моей страной. Но мне придется вступить в лейбористскую партию. Они не отдадут место в парламенте беспартийному. Однако разве перед изгнанием я не размышлял над присоединением к правительственной фракции?
Возвращается Джуд, но я ей не говорю. Вернее, говорю, но не сразу. Мы выпиваем — то есть я выпиваю. Она снова не употребляет алкоголя, поскольку где-то прочла: то, что женщина ест в первые дни беременности, определяет всю жизнь будущего ребенка. Джуд вернулась в царство надежды, сильнейшего стресса, ожидания и неуверенности, не в силах ни сохранять безразличие, ни надеяться, ни бояться. Что до меня, то я перестал понимать, чего хочу, — только осознаю собственное ничтожество. Потому что думаю о деньгах. Тот внутренний голос, нашептывающий нам вещи, в которых нельзя признаваться никому, напоминает об уже потраченных 5000 фунтах, а ему отвечает другой, но тоже противный, что если Джуд беременна, то по крайней мере срочных трат больше не предвидится, а если нет, значит, придется распрощаться еще с двумя с половиной тысячами. Это безумие — пытаться компенсировать то, что мы всего лишь думаем о другом человеке. Я «заглаживаю вину», готовя ужин, а Джуд сидит на диване и читает рукопись.
Мы поели, и я выпил больше, чем следовало бы. Почему мне не хочется ей говорить? Наверное, предполагаю, что жена попытается меня остановить, потому что она не хочет, чтобы три раза в неделю я возвращался домой поздно вечером? Если так, то я должен серьезно подумать, прежде чем соглашаться. И я, конечно, думаю. Джуд не будет пытаться заставить меня делать то, чего я не хочу, — тут не может быть никаких сомнений. Но я должен сказать ей сегодня, поскольку ждать до завтра было бы непростительно. Я наливаю себе еще один бокал вина и все выкладываю, без предупреждения.
Джуд реагирует совсем не так, как я ожидал. Она встает, подходит ко мне, обнимает и говорит:
— Мои поздравления. Какая честь!
— Думаешь, я должен согласиться?
— Но ты же не собираешься отказываться, правда?
— Не знаю, — бормочу я.
Теперь, узнав, она приходит в волнение и все время говорит об этом. Она твердит, что я это заслужил и что она сама будет рада вернуться. Сидеть под барьером с другими женами и мужьями пожизненных пэров. Вот почему главный организатор правительственной фракции пригласил меня на ленч в четверг на следующей неделе. Мне это не приходило в голову? Я очень хорошо ее изучил и вижу легкую тень, пробежавшую по ее лицу при упоминании того, что будет через девять дней. Слышу дрожь в ее голосе, которую никто другой не заметил бы. К тому времени, даже раньше, она уже будет знать результат этой попытки: успех или неудача. Будет синяя полоска или нет.
Если не в этот раз, то обязательно в следующий, или потом, еще через пять тысяч фунтов. Вот о чем думаю я, когда просыпаюсь ночью, а Внутренний Голос, противный, коварный и расчетливо практичный, убеждает, что я должен принять пожизненное пэрство, потому что мне нужны деньги. Это компенсация расходов в размере десяти тысяч в год, или двенадцати, если постараться, причем не облагаемых налогом. К черту идеализм, благородство и верность убеждениям. Думай о деньгах. И если последняя стадия реформы Палаты лордов оставит в ней только избранных пэров, получающих жалованье, я выставлю свою кандидатуру. Потому что мне нужны деньги.
Джорджи Крофт-Джонс нездоровится. Все время, пока она носила Галахада, Джорджи прекрасно себя чувствовала, а теперь ее тошнит каждый день — и весь день. Утром она звонит по телефону и жалобным голосом спрашивает: может, мы зайдем? Ей так одиноко, так скучно, и у нее депрессия. Насчет депрессии я не удивлен, поскольку в качестве помощницы, которая должна присматривать за ним самим, Джорджи и Галахадом, Дэвид пригласил не кого-нибудь, а свою мать Веронику. Джуд предлагает сегодняшний вечер и предлагает поужинать дома. Мы идем по Лаудердейл-роуд, потому что сегодня выдался чудесный, теплый вечер, а эти улицы весной очень красивы; все сады становятся ярко-синими — по словам Джуд, это цветут чайные кусты.
Вероника суетится на кухне; она в тех же туфлях на невероятно высоких каблуках, но все же сделала одну уступку и поверх короткой юбки и черно-белого джемпера надела фартук. Мы пожимаем друг другу руки, и она ясно дает понять, что ожидает от меня поцелуя; вероятно, мы уже достаточно близко знакомы, и я касаюсь губами ее надушенной и напудренной щеки.
— Уже закончили? — спрашивает Вероника.
Я теряюсь.
— Что закончил?
— Разумеется, книгу о моем дедушке.
— Еще не начинал, — сообщаю я, извиняюсь и иду к Джорджи.
Вид у нее жалкий. Она лежит на своей большой кровати с пологом на четырех столбиках; один тазик стоит на прикроватной тумбочке, другой — на полу. В комнате пахнет рвотой, несмотря на открытое окно и распыленный освежитель воздуха с ароматом луговых трав. Я никогда не видел Джорджи такой худой, или, если уж на то пошло, Галахада таким толстым. Он ползает по кровати. Вот что меня ждет, думаю я и представляю, как на нашу идеальную кровать совершает набег большой жизнерадостный младенец.
Джорджи все знает насчет имплантации и того, на какой стадии в данный момент находится Джуд. Они обсуждают это, и моя жена не скрывает своих надежд и страхов, но я замечаю в Джорджи нечто новое — отсутствие энтузиазма. Беременность уже не веселое приключение, как в первый раз. Входит Дэвид, такой же усталый, и приносит бутылку вина. Джуд, конечно, не будет пить, а желудок Джорджи все равно ничего не удерживает. Мы с Дэвидом выпиваем по бокалу, закусываем маленькими сырными крекерами, которые напоминают мне те, что подаются в гостевой комнате Палаты лордов, и Дэвид забирает сына с кровати. Галахад возмущенно вопит и лупит кулачками по голове отца.
В его отсутствие, как будто ребенок в его возрасте что-то понимает, Джорджи начинает рассказывать о своих симптомах, мнениях разных врачей и об особенностях своей репродуктивной системы. Джуд завороженно слушает. Я выскальзываю из комнаты и нахожу Веронику; она сидит в гостиной, уже сбросив фартук, пьет джин и читает «Спектейтор».
— Ребенку нужна твердая рука, — говорит она, намекая на Галахада, чьи вопли проникают во все уголки не очень большой квартиры. — Представьте, если их будет двое. Они должны купить дом, прежде чем родится второй. Вы с женой приняли правильное решение.
Я вопросительно смотрю на нее.
— Не иметь детей. Каждое следующее поколение хлопотнее и дороже предыдущего.
Я никак не реагирую. Те пару часов, которые мы тут пробудем, я решил провести с пользой.
— Недавно я встречался с Кэролайн, дочерью вашей кузины.
Вероника удивленно вскидывает брови, но молчит.
— Ее отец еще жив. Вы его знали?
— Конечно. Я была подружкой невесты на их свадьбе — вернее, замужней подругой. Тогда я уже вышла замуж. Очень красивый, гораздо красивее Патрисии, которая была крупной и бесформенной, с маленькой головой.
— Ее дочь такая же.
— Последний раз я видела ее, когда ей было шесть.
Веронике явно не интересна Кэролайн — ни что с ней стало, ни где она живет. Ей больше по вкусу злобные сплетни.
— Тони, — продолжает она, и я не сразу понимаю о ком идет речь… да, конечно, об Энтони Агню, отце Кэролайн. — Тони пил, когда попал в ту аварию. Я точно знаю, хотя это никогда не выплывало наружу. Но погиб вовсе не он, нет.
— Он лишился ноги.
— А кто в этом виноват? Знаете, он был из тех, кому война пошла на пользу. — Мне еще не приходилось самому слышать подобные заявления. — Майор Агню. В мирное время он бы им никогда не стал. Продавал машины, но после аварии лишился работы. — Вероника делает большой глоток джина, и я задумываюсь, не перейти ли мне на этот напиток, который, похоже, помогает хорошо сохраниться. — Их венчал отец Патрисии; ее мать, тетя Мэри, тоже присутствовала. К тому времени моя мать уже умерла. Тетя Мэри была чудаковатой старой каргой, помешанной на религии. — Вероника прихорашивается, проводя рукой с красными ногтями по золотистой шапке волос. — В те времена женщины так быстро старели. Она кланялась и крестилась во время церемонии и стояла на коленях, когда все остальные пели гимны.
— Я собираюсь встретиться с Энтони Агню, — объявляю я, хотя эта мысль только что пришла мне в голову. — Хочу с ним поговорить.
— О чем? — Вероника как будто встревожилась.
— Думаю, он может мне что-нибудь рассказать о Генри Нантере.
— С какой стати? Генри умер за несколько лет до рождения Тони.
От необходимости отвечать меня спасает Дэвид, появившийся в комнате с бутылкой вина в руке. Галахад все еще плачет.
— Все в порядке, дорогой, — говорит Вероника. — Закрой к нему дверь, и пусть выплачется. Это единственный выход.
Просто поразительно, какое извращенное удовольствие получают такие люди, как она, от жестокого обращения с детьми. Я спрашиваю Веронику о ее тете Кларе. Она присутствовала на свадьбе?
— Может быть. Я не помню. На мою ее точно не приглашали, так же как и Хелену. Нам хватило других родственников, Роджеру и мне, и мы не стали звать этих смешных старух.
— Насколько я знаю, Клара хотела стать врачом.
Вероника смеется.
— Хотеть она, конечно, могла. Бог мой, в те времена женщинам это было недоступно.
— Вы не знаете, интересовалась ли Клара исследованиями отца? Может, самим отцом? Забирала ли она какие-нибудь… записи после его смерти?
— Вы меня спрашиваете? Понятия не имею. Ты не принесешь мне еще джина, Дэвид? Он поможет мне заснуть, если ребенок не перестанет шуметь.
Когда мы уходим, ребенок все еще шумит. Дэвид выражает сомнение, что обращение за помощью к матери было разумным шагом, но что ему оставалось делать? Джуд обещает спросить Лорейн, не поможет ли она — временно, пока Джорджи не станет лучше, что, по всеобщему мнению, произойдет на четвертом месяце беременности.
Следующим утром я звоню Кэролайн. Она дома — полагаю, как всегда, — и берет трубку, но, по всей видимости, не рада моему звонку.
— Встретиться с папой? — переспрашивает Кэролайн таким тоном, словно живет в Тасмании или на Урале. — Вам придется самому приехать сюда. Он не может к вам приехать.
— Когда?
Этот простой вопрос ставит ее в тупик.
— Не знаю.
— В понедельник?
— В понедельник Весенний день отдыха.
— Какая разница? Или вы куда-то собираетесь?
— Мы выходим только к врачу или в больницу. Я работаю по утрам.
Отец стар, повторяет Кэролайн. Он перенес инсульт, у него только одна нога, и его нельзя волновать. Но в конце концов она сдается, и я назначаю встречу на понедельник, после обеда. Во вторник Джуд самой нужно в больницу, и я, естественно, поеду с ней. А сегодня я должен позвонить помощнику премьер-министра и сказать ему… Что? Да или нет? Почти наверняка «да», разве не так?
Мне нужно больше времени, но это невозможно. Я сказал, до конца недели, а сегодня пятница. Насколько легче было бы писать биографию Генри, насколько лучше, во всех отношениях, было бы пребывать в мире и покое, иметь достаточно свободного времени, чтобы этим заниматься. Хочется никуда не спешить, иметь возможность подобрать точное слово, метафору или фразу и долго — хоть полчаса — смотреть на страницу, потом встать и обойти дом, размышляя. Но всего этого я буду лишен, если сегодня приму предложение — мне придется ограничить себя несколькими часами работы по утрам, а во время заседаний Парламента пятницу вообще придется исключить. А еще, возможно, топот маленьких ножек и крики, вырывающиеся из маленьких легких…
Но мне нужны деньги. Семьдесят проклятых фунтов в день, четыре или пять раз в неделю. Жалкая сумма, не правда ли, если сравнить с зарплатами других? Я выкидываю все это из головы — на часах всего одиннадцать утра. Я думаю о Тони Агню, майоре в отставке, которому война пошла на пользу, поскольку он вернулся с нее целый и невредимый, а в мирное время лишился ноги. Почему этот бывший солдат и продавец машин так жалеет давно умершего человека, что посылает цветы на его могилу? Мне бы не помешала какая-нибудь идея, рабочая гипотеза, прежде чем в понедельник днем я поеду в Рединг. Но все, что мне приходит в голову, не похоже на Генри. На самоуверенного Генри. Тирана. На моего прадеда, бросившего одну женщину, затем другую, чтобы жениться на той, которая понравилась ему с первого взгляда, а когда она умерла, женился на ее сестре. Генри, который отказывался обсуждать со взрослой дочерью состояние ее брата и который был настолько тверд в своем решении не позволить ей изучать медицину, что она понимала бесполезность любых просьб. С другой стороны, это был Генри, жена которого «могла делать с ним все, что угодно», единственная из всех, а сын называл самым милым и добрым отцом в мире. Парадоксальный Генри. Загадочный Генри.
Сегодня Джуд работает дома. Она устроилась в гостиной с рукописью; читать ей не хочется, но нужно. Я свожу ее куда-нибудь на ленч, а потом, когда мы вернемся, позвоню помощнику премьер-министра. Скажу, что не согласен. Откажусь от предложенного пэрства и смогу спокойно писать свою книгу, надеясь, что она, в отличие от прежних, будет продаваться. Пока я так размышляю, пока принимаю окончательное решение, в кабинет входит Джуд; щеки у нее порозовели, глаза сияют, и она сообщает, что только что сделала тест на беременность. Еще рановато, ей советовали подождать до следующей недели, но она не удержалась.
— Положительный, — сообщает Джуд. — Яркая синяя полоска.
Я целую ее и обнимаю. Говорю, что это лучший день в моей жизни — я знаю, что теперь все будет хорошо. Это «дизайнерский ребенок», и, что бы ни случилось в прошлый раз, с ними не бывает выкидышей. У них не бывает дефектов, они идеальны, они тихо и безмятежно живут внутри матери, а когда появляются на свет, то они… дизайнерские. Версаче и Диоры в мире младенцев, что подтверждает их стоимость, гораздо большая, чем обычного, не сделанного на заказ ребенка.
Я хватаю телефон, набираю волшебный, магический номер, и когда на том конце берут трубку, прошу передать премьер-министру, что я рад принять его предложение. Я вернусь, и я буду благодарен.
35
Это высокий худой старик. Если он съежился, то когда-то был очень высоким. Но я не думаю, что он съежился. Держится он очень прямо, а единственное, что указывает на протез, — это хромота, причем не всегда заметная. Забавно, что мужчина может быть очень красив, а похожая на него дочь уродлива. Для разных полов у нас разные стандарты красоты. Грубое лицо Кэролайн хорошо смотрится на Тони Агню, по-прежнему хорошо, хотя ему уже восемьдесят, а его жизнь вряд ли назовешь легкой. Он сам открыл дверь, возможно, из желания продемонстрировать мне, что еще крепок. Кэролайн дома — где же ей еще быть — и присутствует при нашем разговоре; возможно, будет следить, чтобы я не задавал болезненных для отца вопросов.
Почему она хотела создать у меня впечатление, что Тони дряхлый старик, почти выживший из ума? Нуждающийся в присмотре соседки. Нуждающийся в ней. Наверное, чтобы оправдать свое существование. Показать мне, что она пожертвовала своей жизнью ради благородного дела. «Да, хорошо, — наконец согласилась она, когда я спросил, в какое время приехать. — В понедельник днем, около трех. Отец к тому времени проснется. Ему нужно принимать вторую порцию таблеток. Автобус с вокзала проезжает мимо нашего дома».
Я не спросил насчет такси — знал, что они там будут. Кэролайн стояла у окна, когда я приехал, выглядывала меня, заметила такси. Испытываешь какую-то неловкость, встречаясь взглядом с наблюдателем, который тебе знаком, своей кузиной, и видишь, как она отворачивается, не улыбнувшись, не говоря уже о том, чтобы махнуть рукой. Теперь на ее лице выражение покорности. От нее уже ничего не зависит, и она не в состоянии что-либо изменить. Мне хочется, чтобы Кэролайн ушла и мы остались одни, я и этот интеллигентного вида старик в твидовом костюме и жилете, но я понимаю тщетность своих надежд, даже когда он просит дочь — очень ласково, называя своей дорогой девочкой, — принести чашку чая. Она возвращается, причем скоро.
Тем временем Энтони рассказывает о своей теще, Мэри Крэддок, урожденной Нантер. Она всегда называла себя «достопочтенной», вспоминает старик. Даже в приходском рукописном журнале ее упоминали как «достопочтенную миссис Крэддок». Она была фанатичной в своей вере, каждый день ходила в церковь и могла пойти к утреннему богослужению или святому причастию в другое место, если их не было в приходе мужа. Такое рвение оттолкнуло дочь Мэри, его жену, от религии, и в последний раз она была в церкви на собственном венчании. О жене он говорит приглушенным тоном, почти с благоговением. Речь у него правильная, типичная для армейского офицера и, возможно, для старого школьного учителя — совсем не такая, как у Кэролайн. Она возвращается с подносом — с чашками и небрежной грудой ложек, — снова выходит и снова возвращается; в этот раз на подносе у нее молоко в картонной упаковке и пакет печенья. Сахар, правда, насыпан в сахарницу, но вид у него такой, словно он предназначен для других целей — например, для приготовления выпечки.
К моему удивлению, Кэролайн начинает рассказывать о работе. Тот факт, что сегодня официальный выходной, не имеет для нее значения, потому что она работает пять дней в неделю в доме для престарелых. Она рассказывает анекдот о стариках, обсуждающих могилу на кладбище. Я мог бы использовать его как предлог, чтобы спросить Тони Агню о цветах, которые он хотел положить на могилу Генри, но мне не дают вставить ни слова. Остается ждать. Тони — он просит называть его по имени — послушно смеется, хотя анекдот на удивление не смешной, и я пользуюсь случаем, чтобы спросить о блокноте.
— Блокноте?
Он растерянно смотрит на меня, и на долю секунды я чувствую его раздражение и ярость. Если Тони забыл о существовании блокнота, то можно спокойно уйти отсюда, вернуться на вокзал и поехать домой. Однако он не забыл, и я вижу — такое иногда бывает со стариками, — что блокнот просто выскочил у него из головы и нужно сделать сознательное усилие, чтобы вернуть память. Сделав это усилие, Тони вздыхает и говорит:
— Вы имеете в виду блокнот лорда Нантера, где он записал все эти вещи?
— Да.
Я беру печенье. На меня вдруг нападает голод, хотя печенье из тех, что нравится детям, — рассыпчатые сэндвичи с бордовым повидлом внутри. Кэролайн пристально смотрит на меня, возможно, ожидая похвалы тому, что оказалось у меня во рту, словно пекла печенье сама.
— Очень вкусно, — бормочу я.
— Он хочет узнать об этом, папа, — говорит Кэролайн. — За этим он и пришел.
— Что случилось с блокнотом? — спрашиваю я.
Отчаяние на его лице смешивается с недоумением.
— Не знаю. Пытался вспомнить, но не смог. Не знаю. Я положил его к каким-то бумагам, газетам… То есть на этот стол. Или еще куда-то…
Тони поднимает глаза верх, пытаясь вспомнить. Я начинаю понимать, что Кэролайн не преувеличивала. Первое впечатление от этого старика обманчиво. Он изо всех сил старается выглядеть здоровым и бодрым, показать, что владеет собой, но через какое-то время сдается. В его голосе появляются плаксивые нотки.
— На какие-то журналы, — говорит он. — Я его туда положил. Потом… дочь дала мне ежедневную газету. Думаю, я просмотрел ее, отложил…
— Папа, мы все это уже обсуждали. — Ни намека на нетерпение. — Ты положил газету на блокнот, который был на журналах, а я отправила всю кипу в мусор. Я не заметила блокнот, он был спрятан под газетой.
— Тебе виднее, девочка моя.
— Газеты стали такими толстыми, — светским тоном произносит Кэролайн. — В них столько всего.
Ясно, что блокнот потерян, причем безвозвратно. Я представляю, как он лежит в мусорном контейнере, между «Дейли телеграф» — у меня нет сомнений, что Тони, как и Вероника, читает «Дейли телеграф», — и женским журналом, а сверху спортивное приложение и официальная хроника. Я вижу, как этот контейнер стоит во дворе дома и мусорщики, или как там их теперь называют, с кряканьем поднимают его и опрокидывают в свой грузовик с решетчатыми бортами. Блокнот выскальзывает из него и падает на груду газет, журналов упаковок от печенья, пакетов от кукурузных хлопьев и распечаток электронной почты. Все это отправляется в утилизационный рай, куда в наше время после смерти попадают хорошие газеты. Чтобы превратиться в серые конверты с надписью на клапане: «Изготовлено из вторичного сырья».
— Теперь уже поздно, — говорю я.
Тони печально качает головой.
— Мне ужасно жаль. Мне нельзя одному выходить из дома.
Ему нельзя одному оставаться дома. Разумеется, я этого не говорю. Я пытаюсь извлечь максимум из того, что есть. У меня нет выхода. В конце концов, это же не единственный экземпляр рукописи Карлейля «Французская революция», который бросила в огонь горничная Милля, правда? Всего лишь записки старика, ключ к загадочному volte-face[65] характера, понять без них его невозможно.
— Вы его читали? — спрашиваю я.
— О, да. — Тони явно забеспокоился. — Но лучше бы я этого не делал. Думаете, я мог забыть, раз забываю все остальное?
— Послушай, папа, — перебивает Кэролайн. — Ты не забываешь все, и тебе это прекрасно известно.
— Слава богу, у меня есть ты, девочка. Ты моя память.
Я спрашиваю, что такого было в записках, чего нельзя забыть.
— Я знаю, что такое раскаяние, — говорит Тони. — Лучше других.
Старик умолкает.
— Он имеет в виду маму, — объясняет мне Кэролайн, словно туповатому ребенку. — Он имеет в виду маму и аварию. И винит себя, правда, папа?
— А кого еще мне винить, милая? Это была моя вина. Я убил ее, как если бы положил мышьяк в чай.
Кэролайн пожимает плечами. Она все это уже проходила. Вероятно, не один раз. Может, она согласна с отцом. В то время ей было двадцать два, и она вряд ли сидела в машине с родителями. Но ей известны факты. Вероятно, проводилось расследование и даже предъявлялось обвинение — что бы там ни говорила Вероника. Может, Тони выпил или заснул за рулем. Я в замешательстве смотрю, как в уголках глаз старика появляются слезинки и медленно скатываются по щекам. Кэролайн встает, вытирает отцу лицо салфеткой, которую берет из коробочки на столе, и говорит, словно он глухой или потерял разум:
— Он плачет. Не обращайте внимания. Со стариками это бывает, особенно с теми, кто перенес инсульт; я постоянно вижу такое в доме для престарелых. Наверное, именно это имеют в виду, когда говорят, что человек впал в детство.
Я давно не встречал таких бесчувственных людей, как Кэролайн, — хотя нет, Вероника еще хуже, — но Тони этого не замечает. Он слабо улыбается. И даже благодарит дочь. От всего этого мне становится неловко, и я размышляю, стоит ли продолжать. Наверное, не стоит, если Кэролайн останется здесь, по-прежнему будет сидеть между нами. Но тут вмешивается случай, которого я не ждал и на который даже не смел надеяться. Звенит дверной звонок, и Кэролайн идет открывать.
— Я на минутку, — говорит она, но минутка растягивается надолго, как это часто бывает в подобных случаях.
Позвонившего в дверь приглашают войти, и поскольку гостиную занимаем мы с Тони, провожают куда-то еще. В кухню? В спальню Кэролайн? Я не знаю, но услышав, как закрывается дверь, предлагаю налить Тони еще чаю. Раскаяние. При чем тут раскаяние? Чье раскаяние?
Тони берет чашку и снова улыбается.
— Расскажите мне о блокноте, — прошу я, стараясь, чтобы в моем тоне не было настойчивости. — Расскажите, что вы прочли.
— Это было нечто вроде статей, которые обычно читаешь… в общем, как в газете. Нет, не совсем так, — старик морщит лоб, подыскивая слова. — Как признание. Но признание самому себе. Я чувствовал себя неловко, когда их читал. Они не были предназначены для чужих глаз.
— Его дочь Клара прочла. Она нашла блокнот после его смерти и хранила все эти годы.
— Ах да, Клара, — говорит Тони и отвлекается. У меня такое ощущение, что намеренно. — Я помню ее. Милая старушка. И очень умная, всегда читала заумные вещи. Она меня простила, не то что некоторые. Такие мстительные. Она сказала, что нельзя винить человека за то, что он не хотел сделать.
Я должен вернуть его к блокноту, хотя мне очень хочется узнать, кто оказался таким мстительным. Диана? Вероника?
— А Генри Нантер винил себя за то, чего не хотел сделать?
Моя догадка верна, поскольку Тони отвечает, явно оживившись:
— Точно, он винил себя, в этом-то все и дело, это было во всех статьях, буквально в каждой строчке, только он сделал это намеренно. Вот что самое плохое, самое ужасное. Он всего этого хотел.
— Чего именно?
— Не знаю. — Тони выглядит подавленным. — Может, я просто не догадался. Я никогда не отличался особым умом, мой мальчик. Хороший солдат, — скромно прибавляет он, — да и только. В тех заметках, что написал ваш прадед, было много такого, чего я не понимал. Но, как я уже сказал, это проходило везде красной нитью — раскаяние. Помню, одну фразу он повторяет несколько раз. Звучит примерно так: «Я заранее обрек на болезнь своих потомков». Я запомнил ее потому, что пришлось посмотреть некоторые слова в словаре. Но я все равно не понял, что он имел в виду.
Тут до меня доносятся голоса из соседней комнаты, а затем — чей-то плач. Я слышу звук открывающейся и закрывающейся двери, журчание льющейся из крана воды, в кухне или ванной.
— Та женщина, которую впустила Кэролайн, — говорит Тони, — наша соседка, и муж ее бьет. Она всегда приходит сюда, жалуется на свои несчастья, но вопрос в том, пойдет ли она в полицию? Черта с два!
Может, именно эта соседка иногда присматривает за ним? Плач не смолкает, и в соседней комнате включают радио, чтобы заглушить громкие всхлипывания. Разумеется, Тони уже забыл о блокноте и, полагая, что мы обсуждаем домашнее насилие, начинает подробно описывать травмы несчастной соседки.
— Блокнот Генри Нантера, — напоминаю я.
— Ах да. Да. Он что-то сделал, много лет назад. Я не знаю, что. Кэролайн поняла бы, мозги у нее, как у матери, но у нее не было времени это читать. Он что-то сделал, сознательно, ради медицины. Так он сам пишет. А если точнее, то «ради будущего медицинской науки». Я помню эту фразу. Она застряла у меня в памяти. Но я расстроился не из-за этого. На меня так подействовало раскаяние бедного старика и еще его слова… да, о любви.
— О любви?
— Господи, ну почему я положил этот проклятый блокнот на журналы и книги, сам не знаю, куда? Сколько раз я себя за это ругал. Откуда мне было знать, что вы вдруг объявитесь и захотите посмотреть, что в нем написано?
— Любовь, — говорю я. — Что он говорил о любви?
Похоже, Тони снова заплачет, но тут я ничем не могу помочь.
— Он писал… он писал, что никогда не знал настоящей любви. Думал, что знает, вспоминал какого-то парня… я забыл его имя… какого-то парня, который утонул, но это ничто по сравнению с тем, что он чувствует теперь, писал он, когда любишь кого-то больше, чем самого себя, и готов умереть вместо него. Он никогда в жизни такого не испытывал, говорит он, даже к тому утонувшему парню, — слезы текут по щекам Тони, старческий голос дрожит. — И самое плохое, самое ужасное, что именно он сделал так, чтобы тот, кого он любит, умер, а он сам продолжал жить… Боже мой, бедный, бедный старик…
Радио выключили, и квартира наполнилась плачем и всхлипываниями, как отсюда, так и из соседней комнаты. Такое впечатление, что плачет весь мир. Я достаю салфетки для бедного старого Тони и вытираю ему лицо. У меня не осталось сомнений, что нужно отступиться; я не могу его больше расспрашивать, не могу подвергать жестокому и непривычному наказанию. Мне самому хочется плакать. Но я заставляю себя найти в портфеле, который принес собой, лист бумаги и записать все, что услышал, по крайней мере основное. Тони постепенно успокаивается, потом называет себя дураком. Что я должен о нем думать? Звуки в соседней комнате стихли. Открывается и закрывается входная дверь, и в гостиную входит Кэролайн.
— Вы его опять расстроили, — говорит она тоном, каким няня обращается к расшалившемуся ребенку. — Я знала, что так и будет, стоит мне отвернуться.
Однако Тони больше не расстраивается. Вероятно, он уже забыл причину своих слез и хочет знать, что привело у ним соседку на этот раз.
— Он поставил ей синяк под глазом. Я хотела вызвать «Скорую помощь», но она никогда не дает мне ничего сделать. Говорит, что он ее любит и пообещал больше так не делать. Ну и глаз у нее теперь!..
Не думаю, что мы еще когда-нибудь увидимся. Я сижу в поезде, просматриваю свои заметки, но уже знаю ответы на все вопросы. Знаю, что сделал Генри и почему. Мне кажется я все понял, когда Тони сказал об обреченных потомках.
И хотя я догадался еще час назад, истинный смысл произошедшего дошел до меня только теперь, когда я стал перебирать в памяти события и людей в жизни Генри, которых, как мне кажется, я уже довольно хорошо знаю. Ричард Гамильтон, «парень, который утонул», мать Генри, его женщины. Джимми, Оливия, Элинор, Эдит. Королева Виктория и ее семья, его достижения, его открытия, его дети. Преднамеренная жестокость. Швейцария и якобы невинные пешеходные прогулки в Альпах. Кровь, кровь, везде кровь.
Поезд прибывает на вокзал Паддингтон, и я встаю в неизменную очередь на такси, продолжая думать о Генри. О, чудовище.
36
Я вернулся в Палату лордов почти два месяца назад, в конце июля, перед самыми летними каникулами. На мое представление в качестве лорда Нантера Лайстона я никого не приглашал. Как наследственный пэр, ставший пожизненным, я получил разрешение занять свое место без официальной церемонии, но Джуд все равно пришла — и, как ни странно, Пол тоже. Мой сын напросился прийти, сам себя пригласил. Вероятно, он не возражает против назначенных пэров, только против наследственных, хотя предпочитает, как он выразился, «избранных лордов». Он сидел там, где я никак не ожидал его увидеть, на ступенях трона, и на его лице уже не было выражения презрительной скуки, как в прошлый раз.
Приставка Лайстон появилась потому, что пожизненный пэр обязан ассоциировать себя с какой-либо местностью. Годби больше не принадлежит нашей семье, и хотя это не имеет никакого значения, мне не хочется использовать это имя, пока в Годби-Холле живут другие люди. Я подумывал об имени Альма. Но битва при Альме, в честь которой названа площадь, была первым сражением Крымской войны, а по правилам геральдики можно брать себе имя только того сражения, в котором сам участвовал (как Монтгомери Аламейнский или Александр Тунисский), или, что звучит еще более мрачно, того места, которое ты разорил. Поэтому я выбрал Лайстон, поместье, в состав которого когда-то входил район Сент-Джонс-Вуд, и память о нем сохранилась лишь в названии одного дома в Лиссон-Гроув. Я пришел на ленч с главным организатором правительственной фракции, вступил в лейбористскую партию и занял свое место на правительственных скамьях, во втором ряду сзади.
Все это очень мило — я ежедневно напоминаю себе о ностальгии по парламенту, которую испытывал в период своего изгнания, — и это не единственная моя радость, хотя жизнь имеет и оборотную сторону. Я обнаружил, что Генри нависает надо мной, словно черная туча. Подобные чувства я переживал в юные годы, когда читал о какой-либо немыслимой жестокости или видел шокирующую фотографию, и это застревало у меня в памяти, время от времени возвращаясь, усиленное и еще более мрачное, обычно в минуты одиночества, днем или бессонной ночью. То же самое теперь происходит и с мыслями о моем прадеде. Я до сих пор никому не говорил. Возможно, мне кажется — хотя это, вне всякого сомнения, глупо, — что неразумно рассказывать беременной женщине такие ужасы, что ее жизнь должна быть спокойной и безмятежной. Нет, я в этом уверен. А что касается меня самого, то я радуюсь, наблюдая, как она счастлива, как переполнена радостью — теперь, когда Джуд вынашивает двоих детей. Странно, но предстоящее рождение близнецов развеяло мой страх перед повторным отцовством. Когда я думаю о жестоком поступке Генри — перед тем, как заснуть, или уже ночью, — то напоминаю себе о двух малышах, о том, что я буду видеть, как они растут здоровыми и красивыми. Джуд уже на шестом месяце, все у нее замечательно, и мое смятение прошло. Дети появятся на свет к следующему январю, и я почему-то уверен, что роды пройдут благополучно.
Мы можем себе позволить остаться в этом доме — мы справимся. Оглядываясь назад, я спрашиваю себя, как осмелился жаловаться, даже самому себе, что зачатие близнецов обошлось мне в 5000 фунтов. Джуд вернется на работу после родов, я буду получать компенсацию расходов, выдвину свою кандидатуру, если возникнет вопрос о выборах, мы наймем няню, а по утрам, сидя с детьми, я попробую свои силы в журналистике. Займусь рецензиями. Последняя из написанных мной биографий уже опубликована, а биография Генри Нантера никогда не будет написана. Я понял это уже несколько месяцев назад — принял такое решение, возможно, в надежде, что отказавшись писать эту книгу и забросив исследования, я смогу изгнать из своей памяти и преследующие меня образы, и стыд. Ничего не вышло.
Сказав себе, что намерение пощадить Джуд по причине ее беременности типично викторианское и что именно так поступил бы Генри — Генри-лицемер, — я, тем не менее, сначала решил рассказать обо всем Полу. Если он будет слушать. Хотя, скорее всего, будет. Были и другие варианты — например, Лахлан, но мне почему-то не хочется, чтобы об этом узнал кто-то посторонний. Можно поделиться с Дэвидом, но мне кажется, что ему все равно, а рассказать Джону Корри, даже в письме, у меня не хватает духу — он хоть и ученый, но для него это слишком личное.
За последние месяцы мои отношения с сыном во многом изменились к лучшему. Он говорит, что, будучи единственным ребенком, надеется когда-нибудь завести большую семью, но поскольку серьезно думать об этом пока рано, для начала ему прекрасно подойдут две маленькие сестрички. Я не верю своим ушам, когда Пол спрашивает, позволим ли мы ему иногда поработать нянькой или присмотреть за детьми в дневное время. Я и мечтать не мог, что у него появятся подобные желания. А может, просто не давал себе труда выяснить. В любом случае мы понемногу движемся к настоящей близости — как с Джуд, — и я серьезно раздумываю над тем, не доверить ли ему… как бы это выразиться… прошлые тайны Генри.
В эти выходные Пол в Лондоне и, наверное, заглянет к нам. Скорее всего, сегодня вечером. Я предполагаю, что он придет, и жду его, но не в гостиной, а в своем кабинете, где на обеденном столе передо мною разбросаны или сложены в стопки материалы о Генри. А в центре на подставке стоит красное расписное яйцо, подаренное мне в Тенне. Джуд отправилась к Крофт-Джонсам — на машине, потому что я не хочу, чтобы она возвращалась домой одна после наступления темноты, даже по тем безопасным улицам. Джорджи больше не тошнит, а живот у нее не такой огромный, как в прошлый раз. На тот случай, если родится девочка, они отказались от имени Изулт и хотят назвать ее Брангеной, в честь служанки Изольды из оперы.
Я поставил на стол поднос с бутылкой виски, графином воды и двумя стаканами, хотя сам вряд ли буду пить. Уже не в первый раз после разговора с Тони Агню я замечаю, что держу яйцо в левой руке и верчу в пальцах, словно четки для снятия нервного напряжения, но не помню, как брал его. Если буду продолжать в том же духе, то сотру всю краску.
Даже если Пол придет, возможно, я ему ничего не скажу. А возможно, вообще никогда никому не скажу.
«Управляйте обстоятельствами и не позволяйте обстоятельствам управлять вами». Так, наверное, думал о себе Генри, не понимая, что это невозможно. Фома Кемпийский тоже не понимал, как и люди, запомнившие слова Генри Нантера и приписавшие эту мудрость ему. Обстоятельства выше нас. Они сильнее, и с этим ничего не поделаешь. Он был карликом, раздавленным их безжалостной рукой.
Кто знает, когда ему в голову впервые пришла эта мысль? И почему? Вполне возможно, и даже вероятно, что он видел себя мучеником. Ведь всего за полвека до него Дженнер заразился оспой, впервые иммунизировав себя — по крайней мере, он надеялся — материалом, взятым из язв коровьей оспы. Генри — вне всякого сомнения, эгоцентрик — мог рассматривать свои действия с той же точки зрения. Эксперименты, предпринятые во благо человечества, ради славы науки, но предполагающие жертву со стороны ученого. По крайней мере, он пожертвовал своим личным счастьем.
Вполне возможно, Генри знал об уникальных аномалиях в Тенне еще со времен учебы в Венском университете. Там, учитывая его растущий интерес к болезням крови и его одержимость кровью, он мог познакомиться с работами Виели и Грандидье, опубликованными несколькими годами раньше. Кто знает, может, любовь к прогулкам в Альпах возникла именно из-за этих находок? Мне кажется вполне вероятным, и я даже почти уверен, что первый визит Генри в Тенну относится именно к этому времени. В убеждении — похоже, ошибочном, — что там говорят на ретороманском, он даже мог приступить к изучению языка, рассчитывая, что это пригодится в будущих исследованиях.
Искал ли он в начале 1860-х конкретную семью гемофиликов? Сомневаюсь. В таком случае он нашел бы ее и поступил бы так же, как двадцать лет спустя. Может, это ему просто не пришло в голову. Или только после того, как в глазах почти всех окружавших его людей — но не в собственных? — Генри добился исключительного успеха, стал ведущим специалистом в своей области, лейб-медиком, профессором, он стал задаваться вопросом, каковы же его истинные достижения. Он не внедрил никаких новшеств, ничего не открыл, если не считать открытием подтверждение выводов других исследователей о том, как переносится и передается гемофилия. А если бы у него в семье был носитель гемофилии? Если бы у него был свой гемофилик?
Отверг ли он поначалу эту мысль как чудовищную? Мне бы хотелось так думать, хотелось бы хоть что-то сказать в его оправдание. Но у меня нет доказательств ни того, ни другого. У меня вообще нет никаких доказательств. За исключением убежденности, что так должно было быть, поскольку это единственно возможное объяснение. Я абсолютно уверен, что как только эта мысль пришла в голову Генри, она осталась там и начала расти, и он не мог избавиться от нее, даже если бы хотел. Вполне вероятно, прадед убеждал себя, что если не наберется мужества этого сделать — он ставил себя, знаменитого врача, любимца королевы, в центр всего, — то будет сожалеть об упущенной возможности всю оставшуюся жизнь. Управлять обстоятельствами — вот каков ответ.
Звонок в дверь. Конечно, Пол опять забыл свои ключи. Но это не Пол, а представитель общественности Мейда-Вейл, который обращается ко мне за поддержкой в их усилиях запретить строительство двух высотных зданий, запланированное на Паддингтон-Бейсин. Он хочет войти, хочет «обсудить» все со мной, и бесполезно доказывать ему, что здесь Сент-Джонс-Вуд, почти в миле оттуда.
— Их будет видно из вашего дома, — сообщает он, словно этот аргумент решит дело. — Их будет видно из Ричмонда!
У меня не хватает духа сказать ему, что огромные деревья в дальнем конце сада заслоняют не только вид, но и свет, а также не пропускают свежий воздух к задней стороне дома. Я покорно обещаю написать своему депутату, мэру Лондона, плюс нескольким советникам в Вестминстере. Гость с вожделением смотрит на виски (или мне это кажется), и я вдруг понимаю, что не хочу его отпускать. Мне он кажется довольно милым, и мне нужен собеседник, который мне что-то расскажет, пусть даже о грубых ошибках властей, лишь бы отвлечься от мыслей о своем прадеде. Но когда я предлагаю ему выпить, он отвечает, что не может — он за рулем, — и тогда я понимаю, что гость смотрел не на виски, а на стопки бумаг на столе. Он спрашивает, что я пишу.
— Биографию одного человека. — Я не уточняю, что не пишу, а писал.
— Наверное, приятное занятие, — задумчиво произносит он.
— Иногда.
Я думаю, что после него придет мой сын и мне не придется быть наедине со своими мыслями. Я его провожу, потом придет Пол, а потом вернется Джуд. Глупо, да? Но это не мое преступление, не мой грех, не мой ужас.
Я выхожу вместе с ним на тротуар и смотрю в сторону станции метро на противоположной стороне площади. Там никого нет, если не считать женщины, прогуливающей йоркширского терьера, — ни Пола, ни, конечно, Джуд. Представитель Мейда-Вейл садится в машину и едет в следующий пункт назначения. Я возвращаюсь в дом. Сумерки опускаются быстро, и если я снова выйду, высматривая сына, то не увижу конца улицы. А что, если мысли Генри были похожи на сумерки, на сгущающуюся тьму? Когда он состарился, когда сожалел о содеянном?
Идея пришла ему в голову в молодости, не оставляла его в среднем возрасте, а потом что-то случилось, подтолкнуло Генри к действию, превратило безумную мечту в реальность. Толчком могла послужить публикация в 1877 году доктором Антоном Хесли результатов своих исследований в Тенне или смерть Ричарда Гамильтона. Генри любил Ричарда, и если бы он мог жениться на его сестре — в каком-то смысле жениться на Гамильтоне приемлемым для общества способом, навечно связав себя с ним, — то великая идея могла бы так остаться тем, чем она была, — жуткой фантазией, какие посещают всех нас, но никогда не реализуются. Подобная фантазия возникала и у меня, когда я надеялся, что Джуд окажется неизлечимо бесплодной или ее ребенок умрет. Но Гамильтон погиб в катастрофе на мосту через реку Тей. Когда это случилось, Генри мог подумать, что любовь и счастье ему уже не суждены и остались лишь честолюбие и признание его успехов.
Два года спустя он влюбился — по крайней мере, принимал свое чувство за любовь — в Оливию Бато. Одновременно он поддерживал типичную для джентльмена викторианской эпохи связь с Джимми Эшворт. Отношения с обеими женщинами не могли быть постоянными, поскольку противоречили великому замыслу. Пришло время продолжить исследования семей, в которых гемофилия передавалась по наследству.
Звонит телефон. Это Пол. Год назад звонок с сообщением, что он придет или не придет, был таким же невероятным, как объятие, которое теперь у нас иногда случается. Его сегодня не будет, но он может заскочить завтра, если мы не возражаем.
— Как там Джуд и мои сестрички?
Я не говорил, что мы точно знаем: оба ребенка девочки. Я отвечаю, что все хорошо. Джуд в гостях у Крофт-Джонсов, а я собираюсь выпить виски. Странно, но теперь мне действительно хочется выпить, и я наливаю себе порцию, достойную Лахлана Гамильтона. Любопытно, что пили джентльмены в викторианскую эпоху? Я так и не удосужился выяснить. Вероятно, мадеру и много шерри. А также бренди, напиток героев, как говорил Сэмюэл Джонсон.
Генри вернулся в Зафиенталь, пройдя двадцать миль пешком от Версама до Тенны, и стал задавать серьезные вопросы о жителях деревни. Гемофилия больше не преследовала живых, но осталась в памяти людей. Вероятно, это было весной 1882 года. Он выяснил, что женщина по имени Магдалена Майбах, впоследствии названная Барблой, была увезена из Тенны в Цюрих, а затем в Париж своей приемной матерью и благодетельницей. За Барблой Майбах стоило проследить. Ее отец упоминался Виели и Грандидье, а затем и Хесли как больной гемофилией, и поэтому она сама могла быть носителем болезни. Генри был убежден, что болезнь каким-то таинственным способом передается с кровью — а с чем же еще? Возможно, если его эксперимент увенчается успехом, он выяснит, что это за таинственный способ.
Я не знаю, каким образом он узнал о судьбе Барблы, но в то время во многих европейских странах начали вести записи рождения, бракосочетания и смерти, и это не составило большого труда. Конечно, потребовалось определенное время. По всей видимости, поиски заняли около года. Генри узнал, что Барбла вышла замуж за Томаса Дорнфорда, ювелира с Хаттон-Гарден, и имела детей. Одна из ее дочерей вышла за Уильяма Квендона и стала матерью некой Луизы Квендон, теперь жены Сэмюэла Хендерсона, адвоката из Блумсбери.
Зачем столько хлопот, когда в его профессиональные обязанности входило лечение пациентов с гемофилией? Вне всякого сомнения, он мог выбрать дочь одного из них. С легкостью, если бы не требование соблюсти тайну. Кто поверит врачу, который отговаривает дочерей гемофиликов выходить замуж, а самих гемофиликов — жениться, и в то же время, прекрасно представляя, что его ждет, берет в жены женщину, которая с пятидесятипроцентной вероятностью является носителем болезни?
В дневнике Генри я читаю, что весной 1883 года он отправился в пешее путешествие по Озерному краю. Я в это не верю. Скорее всего, Генри был в Амстердаме, завершая поиски Барблы и ее потомков. Следующий шаг — познакомиться с семьей Хендерсонов. Один из способов — поручить все свои юридические дела адвокатской фирме Сэмюэла Хендерсона. Однако против такого шага имелось несколько возражений. Фирма Хендерсона была никому не известным, скромным товариществом трех адвокатов, не особенно процветающим. Для такого человека, как Генри Нантер, переход к ним выглядел бы странно, даже подозрительно. Кроме того, у него уже были адвокаты, выдающиеся представители своей профессии, «Мишон де Рейя»[66] той эпохи. Потом, разумеется, Генри поручил фирме все свои дела, но к тому времени он уже не сомневался в чувствах дочери Хендерсона. Но пока идея о внезапном нападении и спасении привлекала его своим драматизмом. В любом случае это был превосходный план, гарантирующий спасителю благодарность Сэмюэла Хендерсона и одобрение всей семьи, а кроме того, обеспечивающий предлог для частых визитов в дом на Кеппел-стрит.
Естественно, абсолютной уверенности, что женщины передали гемофилию Ханса Майбаха последующим поколениям, у него не было. Но даже на этом этапе он мог сделать обоснованное предположение. Возможно, сын Барблы умер в юном возрасте. Ее дочь Луиза тоже потеряла маленького сына, брата Луизы Хендерсон. Однако все это не давало уверенности, что Луиза Хендерсон сама была носителем болезни, а впоследствии, когда Генри с радостью приняли в лоно семьи, его должен был смутить тот факт, что Лайонел Хендерсон пребывает в добром здравии и явно не страдает ни от какой болезни крови. К тому времени он, вне всякого сомнения, наводящими вопросами уже выяснил у самой Луизы и ее дочерей, что у последних не было брата, умершего в детстве.
Но еще до этого Генри срежиссировал драму на Говер-стрит, которая оказалась успешней, чем он ожидал. Я был абсолютно прав, когда еще на раннем этапе своего исследования сделал вывод, что мой прадед нанял Брюэра — за приличное вознаграждение, а также обещание жены, дома и кругленькой суммы его сводному брату. Вероятно, попутно была устранена такая мелкая проблема, как беременность Джимми. Генри стал желанным гостем на Кеппел-стрит, доверенным лицом семьи. Две девушки оказались не так уж дурны собой, хоть и не чета Оливии, но Бато не была носителем гемофилии. Генри порвал с ней, а вскоре бросил Джимми.
Теперь ему предстояло выбрать одну из двух дочерей Хендерсона. Вполне возможно, он с самого начала предпочитал Эдит, но заставил себя считать приемлемыми обеих, пытаясь выявить в них признаки носителя гемофилии, если таковые существовали. В своем дневнике он пишет, что уже давно понял, что принцесса Беатрис является «проводником» болезни, однако с его стороны это могло быть всего лишь тщеславие. Вне всякого сомнения, Генри пристально наблюдал за обеими сестрами. В те времена для юной девушки упоминание о менструации в присутствии мужчины, даже врача, считалось немыслимым. Верхом неделикатности было говорить об этом и в присутствии другой женщины, за исключением матери, да и с той лишь намеками и эвфемизмами. Девушки должны были делать вид, что «проклятия Евы» не существует. Тем не менее в то лето случилось нечто, заставившее Генри убедиться, что он на верном пути, и остановить свой выбор на Элинор. Кто бы сомневался, что этим событием стала «консультация», о которой попросила его мать девушек в июле 1883 года?
Это всего лишь предположение, когда я говорю, что Луиза Хендерсон хотела спросить Генри о месячных Элинор, о том, что сегодня мы называем дисменореей. Об этом и о склонности к появлению синяков. Достаточно ли этих признаков, чтобы указать на носителя гемофилии? Я не знаю, но уверен: Генри думал, что знает. Вопрос в том, каков ответ. У Генри был ответ. Через месяц он сделал Элинор предложение, и девушка согласилась. Теперь его невестой стала прямой потомок Ханса Майбаха из Тенны, гемофилика, чья дочь, внучка и правнучка, скорее всего, были носителями болезни; сама женщина почти наверняка тоже являлась «проводником» гемофилии.
Все наши с Джуд теории о том, что Генри организовал ее убийство в поезде Большой западной железной дороги, рассеялись как дым, поскольку Элинор была именно той женщиной, к которой его привели долгие исследования и поиски в архивах, наиболее вероятным носителем гемофилии из двух сестер. По всей видимости, ее смерть стала для него большим ударом — как если бы он на самом деле ее любил. Ему не было нужды изображать горе. Искренняя печаль и горькое разочарование — вот что он чувствовал. Теперь Генри предстояло начать все сначала, возможно, вернуться в Тенну, найти еще одного гемофилика, чьи потомки по женской линии рассеялись по Европе и могли иметь, а могли и не иметь, как ему это представлялось, смертельно опасный дефект в своей крови.
Или в его распоряжении уже была подходящая кандидатура? Сестра Элинор, причем гораздо красивее ее. Но как убедиться, что эта сестра тоже носитель болезни? Если вторая консультация с Луизой Хендерсон и состоялась, то в дневниках об этом ничего нет, однако отсутствие записей еще ничего не значит. На этот раз именно он задавал вопросы, а мать Эдит отвечала. Возможно, Генри даже сообщил миссис Хендерсон, что намерен жениться на Эдит, но его волнует здоровье девушки. Может ли она, к примеру, иметь детей? Не страдает ли Эдит, как и ее сестра, дисменореей?
В наше время такие вопросы предполагаемого жениха будущей теще посчитали бы ужасным проявлением мужского высокомерия и мужского доминирования, худшим примером дурного вкуса. Мы восстаем против ханжества викторианцев, как они восставали бы против нашей открытости и привычки называть вещи своими именами. Но вкусы меняются, точно так же, как и приемлемые темы для разговора. Кроме того, прежде чем заявить, что любая настоящая мать отказалась бы обсуждать это и указала бы Генри на дверь, следует вспомнить, что смерть Элинор разрушила все надежды Хендерсонов. Удачный брак, большой дом в модном пригороде, титул, знаменитый муж — все это вылетело в окно поезда вместе с телом Элинор. Но семье выпал второй шанс. Взгляд Генри обратился на младшую дочь, и единственное, что могла делать миссис Хендерсон, это поощрять новый союз.
Что же она сказала Генри? Вне всякого сомнения, нечто такое, что, по ее мнению, не должно было оттолкнуть жениха. Возможно, что месячные у Эдит обильные, но регулярные. А насчет синяков она могла признаться, поскольку считала их безвредными. Миссис Хендерсон могла даже — тут я даю волю своей фантазии — сказать, считая это признаком здоровья, что у Эдит долго не останавливается кровь, если девушка случайно поранится.
Теперь о самой Эдит. Неужели Генри мог быть настолько хладнокровным, что перенес на сестру все те чувства, которые испытывал к Элинор? Они были сестрами, причем очень похожи. Судя по всему, Эдит была уравновешенной, спокойной и флегматичной женщиной, принадлежала к тому типу жен, которые не доставляют мужьям никаких хлопот. И еще Генри мог думать о цели брака: рождении детей. Он был уже не молод — в феврале 1884 года ему исполнится сорок восемь. Зачем снова начинать утомительные поиски подходящей невесты, потом ухаживать за ней, если в его распоряжении уже имелась одна кандидатура?
Управляйте обстоятельствами и не позволяйте обстоятельствам управлять вами.
Пришла Джуд с ворохом новостей о новом доме Крофт-Джонсов, в который они переезжают на следующей неделе. О такой большой закладной ей еще не приходилось слышать — этот «городской дом» в Хэмпстеде обошелся почти в миллион фунтов. Я поцеловал жену, когда она вошла, но теперь снова обнимаю, так крепко, что она высвобождается и спрашивает, что со мной.
— А что тебя смущает в моем объятии?
— Отчаяние, с которым ты это делаешь.
Джуд желает знать, в чем дело, я отвечаю, что в Генри, и тогда она закатывает глаза и восклицает:
— Кровавый Генри.
— Именно, кровавый. Причем во многих отношениях. Если бы я хотел произвести мелодраматический эффект, то сказал бы, что он всю свою жизнь шел по колено в крови.
Джуд отвечает, что ей известна моя склонность к театральным эффектам, и просит рассказать. Что я и делаю. Забываю о всей этой чуши насчет деликатного обращения с беременными женщинами и рассказываю. Она берет яйцо у меня из рук и смотрит на него, на то место, где от моих нервных движений начала стираться краска.
— Он был еще хуже, чем я думала.
Мы переходим в гостиную, садимся на диван, рядом друг с другом.
— Продолжай, — просит Джуд.
— Как ты знаешь, Генри женился на Эдит, и она сразу забеременела. Их первый ребенок, Элизабет, родилась через девять месяцев, в августе.
— Думаешь, Генри смотрел на дочь и гадал, носитель ли она?
— Вероятно. Такой же вопрос он задавал себе по поводу следующей девочки, потом еще одной, и еще. По меркам того времени Генри был уже стариком. И мог не дождаться замужества старшей дочери, чтобы проверить, является ли она носителем болезни.
Джуд захватила с собой генеалогическое древо, составленное Дэвидом, и теперь внимательно изучает его.
— Когда родилась Клара, ему было пятьдесят пять.
— Тогда это считалось старостью. И еще одно: он все еще не был абсолютно уверен, что его жена носитель. Четыре года спустя у него родился сын.
— Александр, — кивает Джуд. — Но для Генри ничего не прояснилось, потому что у Александра гемофилии не обнаружилось.
— Но убедиться в этом Генри мог только через несколько месяцев. Мой прадед стал пэром, но все еще не сделал сенсационного открытия, на которое нацелился и которое должно было стать основой его главного научного труда.
— А через два года Эдит родила Джорджа, — напоминает Джуд.
— Да, Джорджа. Интересно, когда он узнал? Провел какой-то тест, чтобы выявить аномальное кровотечение?
— Не надо.
— Хорошо, не буду. Судя по всему, у мальчика была тяжелая форма болезни. Интересно, обсуждали ли его состояние родители? Мы не знаем, насколько они были близки — только тот факт, что Эдит единственная могла делать с Генри «все, что угодно». До сих пор я не задавался вопросом, знала ли она сама, ее сестра и ее мать о наследственной гемофилии. Возможно, они о чем-то догадывались. Теща Генри видела, как умирает ее маленький брат, и ей могли рассказать, что стало причиной его смерти. Когда лорд и леди Нантер узнали о болезни младшего сына, мать Эдит могла сообщить Генри о своем брате, умершем от потери крови, а также о том, что нечто подобное произошло с ее дядей.
— А не могла ли она рассказать об этом раньше? На много лет раньше? В конце концов, несмотря на то, что викторианские мужья держали своих жен в неведении практически во всем, Эдит могла знать, что болезнь, составляющая специализацию ее мужа, встречалась в ее семье. Вполне возможно, глядя на своего здорового брата, Лайонела, она считала, что не может передать болезнь своим детям. А Генри поддерживал в ней это убеждение. Он не хотел, чтобы жена боялась произвести на свет больного гемофилией ребенка. Она могла отказать ему в близости.
Джуд спрашивает, могли ли женщины отказать мужу в близости в XIX веке, когда клятва верности и покорности воспринималась очень серьезно, но я отвечаю, что речь идет о последних годах того столетия, когда общество быстро менялось. По всей видимости, Генри не насиловал ее. Об этом не могло быть и речи. Кроме того, Эдит могла какое-то время ему отказывать, и этим объясняется четырехгодичная пауза между рождением Клары и Александра.
— Тем не менее Эдит вернулась к нему, — говорит Джуд. — Должно быть, она сожалела, что не отказалась от близости с мужем после рождения Александра.
— Если и сожалела, то не она одна. Генри тоже. Хотя «сожалеть» — неточное определение. Это были нестерпимые муки совести.
Кулаки Джуд крепко сжаты. Она раскрывает левую ладонь, и я вижу, что яйцо из Тенны раздавлено и превратилось в какую-то бесформенную массу. Похоже, она не сознавала, что делает.
Мы в постели, и Джуд уже спит. Ее голова лежит у меня на плече, а правая рука — на моей груди. В конце августа она «ускорилась», как выразилась бы Эдит, и теперь, когда ее живот прижимается к моему бедру, я чувствую, как шевелятся близнецы — едва различимый трепет превратился в толчки и удары. У меня на глазах выступают слезы. Чувствовал ли Генри точно так же своих детей — как они поворачиваются и устраиваются поудобнее в утробе матери? — а если чувствовал, был ли он растроган? Через сто лет из эмбрионов Эдит выбрали бы здоровых, и больной гемофилией Джордж никогда не появился бы на свет.
Генри и не надеялся достичь такого, изучая болезнь сына. Он даже представить себе не мог «детей на заказ». Собирался ли он ставить опыты на ребенке? Испытывать разные методы остановки кровотечения? «Не надо», — остановила бы меня Джуд. Но если и собирался, то потом, совершенно очевидно, отказался от своего намерения. Потому что полюбил Джорджа, почти сразу. В конце жизни он узнал, что такое любовь, и его сердце наполнилось ужасом и невыносимой болью. Даже чувство к Ричарду Гамильтону бледнело перед его любовью к сыну.
Никто не может сказать, почему он полюбил больного ребенка и не испытывал никаких чувств ни к своему наследнику, ни к дочерям. Генри не любил ни одну женщину, а то, что называл любовью, было всего лишь сильным сексуальным влечением. Наверное, ему это казалось насмешкой судьбы: мальчик, появления которого он ждал столько лет, средоточие всех его надежд, оказался бесполезным из-за такой неуловимой и не поддающейся определению субстанции, как любовь. Простое чувство уничтожило все его цели и стремления. Но против этого чувства он был безоружен. Обстоятельства управляли им. Обстоятельства победили. Генри испытывал к Джорджу такую страстную, всепоглощающую любовь, что не мог быть строгим с ним, как с остальными детьми, не мог сказать ему ни единого грубого слова, был не в состоянии расстаться с любимым чадом даже на несколько часов.
Что касается magnum opus, книга так и не была написана. Видя страдания сына, видя кровотечение, которые невозможно остановить, распухшие суставы, почти невыносимую боль, слабость, Генри больше не мог думать о гемофилии вне связи со своим сыном. И причиной страданий ребенка был он сам! Своими многолетними намеренными действиями, своим бездушным расчетом он обрек на мучения и, несомненно, на гибель единственное существо, которое когда-либо любил. Труд всей жизни теперь вызывал у него ужас, и Генри запрещал себе думать о нем.
Раскаяние. Вот что так сильно расстроило Тони Агню. Я нисколько не сомневаюсь, что все это было в последних заметках из пропавшего блокнота — откровения Генри Нантера, когда он писал нечто совсем не похожее на великий научный труд, задуманный им много лет назад. Зачем Клара взяла этот блокнот? И откуда? Явно не из сундуков. Возможно, нашла в одном из потайных ящиков письменного стола, которые так любили викторианцы. Или даже открытым, на письменном столе отца, когда Генри оторвался от письма, застигнутый последним сердечным приступом.
Генри выгнал ее из кабинета, когда она осмелилась спросить, не гемофилией ли болен ее брат. Не злорадствовала ли Клара, видя раскаяния отца? Вряд ли. Не похоже на нее. Неизвестно, что было в том блокноте. Может, признание, что он жалеет о черствости в отношении остальных детей, или даже рассказ о поисках Эдит, и Клара сохранила эти записи как доказательство того, что в конце жизни отец сожалел о своем отношении к ней и ее сестрам. Нет, конечно. Она ненавидела его за то, что он сделал с ее братом и, возможно, с сестрами. Она хранила блокнот не из мстительности, а как доказательство. Для будущего биографа? Для меня? Клара намеревалась все рассказать Александру, наследнику, «главе семьи». Хотела рассказать и, возможно, показать, но Александр умер раньше нее.
Генри смотрел, как медленно умирает Джордж, и понимал, что, несмотря на все свои мнимые достижения, не в состоянии помочь сыну. Он был прав, когда говорил, что заранее убил свое потомство. Суждено ли его дочерям испытать подобное, когда они родят сыновей? Наверное, ему в голову иногда приходила мысль, что лучше бы он убил Эдит и себя самого в их первую брачную ночь. Но мой прадед этого не сделал, а продолжил исполнение своего чудовищного плана. Во имя науки — хотя правильнее было бы сказать, ради собственной славы. И вот результат.
Он ненадолго пережил Джорджа. Истерзанное сердце Генри кое-как протянуло несколько месяцев, а затем разбилось. Как и Тони, я его жалею и мог бы плакать по нему. Будь я сентиментален, а не только склонен к мелодраматизму, я бы тоже пошел на кладбище Кенсал Грин и положил цветы на его могилу.
Я осторожно выскальзываю из-под Джуд и брыкающихся близнецов. Рука у меня занемела, а плечо не двигается. Утром я скажу ей то, что понял еще после разговора с Тони. Я не могу писать биографию Генри. Наверное, это глупо, но мне не хочется, чтобы другие люди знали, что сделал мой прадед. Я не могу все это выложить и получить в награду то, за что когда-то был готов многое отдать, — чтобы какая-нибудь воскресная газета предложила напечатать серию самых сенсационных отрывков из книги. Мысль о том, что люди будут это обсуждать, вызывает у меня дрожь. Генри стал моим проклятием, и я жалею, что вообще взялся за его биографию.
Кровавый Генри. Бедный кровавый Генри.