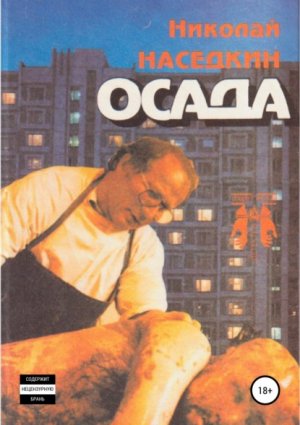
ОСАДА
Рассказ
Уж так душа болела в этот день у Веры, что даже слёзы беспричинно то и дело наворачивались на глаза.
Она с ходу нахамила шефу, лишь тот заикнулся было попрекнуть её за опоздание, вдрызг рассорилась с Полиной, ближайшей товаркой по работе. Вечером, растрёпанная и взвинченная, из последних сил пробилась в троллейбус, потащилась к матери. На сердце давила тяжесть. Хотелось прилечь где-нибудь в сухом тёплом углу на мягкий диванчик и полежать.
Троллейбус, как всегда вечером, напоминал бедлам: крики, ругань, хождение по ногам, пьяные безумные глаза. Мест свободных, само собой, – ни единого. Какая-то старая калоша притиснула Веру к жёсткому ребру сиденья так, что перехватило дыхание. Она, еле сдерживая себя, промолчала.
Вдруг совсем рядом, над ухом, раздался липкий голосок:
– А ничего тёлка. Щас познакомимся…
Хмельной тошнотный душок коснулся ноздрей Веры. Она обмерла: «Господи, неужели ко мне?» Ей сейчас не хватало только пьяных приставаний.
Но через мгновение Вера поняла – ухаживают не за ней. В беду попала маленькая девчушка – в очках, беретике. Она пыталась отмолчаться, но два осовелых пса с грязными ногтями и сальными мордами взялись за дело всерьёз.
– Ну ты, бля, чё нос воротишь? Мы ж по-хорошему, не хамим…
– Отстаньте, пожалуйста! Ну не трогайте, ну не трогайте меня!
Голосок девчонки прерывался. Сцена сотворялась в вакууме.
Вера чувствовала-знала – надо вмешаться, нельзя вот так отсутствовать: девчонка даже в спину её толкала, отбиваясь от подонков. Но знала Вера и другое – никакая сила не заставит её совершить этот подвиг: «Ну почему я? Почему? Вон мужиков сколько…»
– Э! Э! Что здесь происходит? – строгий окрик.
Троллейбус облегчённо перевёл дух – с передней площадки протискивался милиционер.
Вера выскочила на своей остановке – прямо в жирную лужу. Проклятый извозчик! Не видит собака, где останавливается? Гад ползучий!.. Вера сладостно, в охотку ругалась шёпотом, судорожно искала в кружочке зеркала своё лицо: тушь, конечно, поплыла, глаза – как у крольчихи. Жуть! Она горько вздохнула, протёрла лицо платочком, положила под язык валидол и достала зонт – дождь не дождь, но сверху летела какая-то морось.
Вера поплелась к дому матери. «И чего это я так расклеилась? Поди – магнитные бури опять…» Где-то там, в самой-самой глубиночке её сознания шевелилась тяжёлая тревога: что-то вот-вот случится. Вера, сама себя обманывая, мысль эту глушила, отодвигала-прятала – она верила в предчувствия и боялась их.
Как всё-таки тяжко на душе!
У Антона настроение также было весь день весьма-весьма паршивое.
Ни в магнитные бури, ни в предчувствия он не верил и полагал, что расплачивается за вчерашнее пиво. Пиво ему категорически запрещалось – он уже трижды валялся в больнице с желудком. Но как тут удержишься, если идёшь мимо магазина, а там выбросили свежее «Жигулёвское», да ещё нет никакой нормальной очереди: так, всего-то человек тридцать жаждущих успели подскочить к разгрузке.
Антон по случаю и расстарался – схватил десять бутылок. Больше половины вчера же и усидел. Да ещё умял тушку страшно солёной ставриды холодного копчения. Вот сегодня и вертелся – в желудок будто кто шурупы вкручивал. Хоть матушку-репку пой!
В голову лезли шершавые крамольные мысли: «Это уже не жизнь… Если так до могилы мучиться, лучше уж… Ждать, пока сгниёшь заживо?..» Не мысли – обрывочки. Связно и полно думать боязно: кто его знает, до чего можно додуматься. Вон в «Комсомолке» проскочило: за год в благословенной нашей стране восемьдесят тысяч человек сами точку в своей судьбе поставили… Чёрт-те что в башку лезет!
Антон взял дипломат – ого, тяжёленек. А-а-а, совсем забыл – Солженицын. Вот единственная радость за весь день: наконец-то ему «Архипелаг ГУЛАГ» достали. Тэк-с, тэк-с, тэк-с… Три толстенных тома. А от тёщи придётся – по традиции – картошку тащить, варенье, компот… Надо оставлять Александра Исаевича… Но сегодня – пятница? М-м-м… Ладно, поглубже в стол упрятать, бумагами прикрыть и запереть, а завтра утречком – делать нечего – придётся подъехать.
Он замкнул кабинет, подёргал дверь, сдал ключи вахтёрше и, морщась, массируя время от времени живот, потащился пешком по раскисшим октябрьским тротуарам. Тёща жила от его конторы не так уж далеко…
– Слышь, земляк!
Антон встрепенулся. Перед ним покачивалась образина в засаленной болоньевой куртке – небритая, смрадно дышащая.
– Слышь, земеля, рубель надо. Рваный всего. Не хватает…
Антон напрягся. Шагах в двадцати, у дверей винно-водочного магазина курили и поплёвывали ещё две образины, поглядывали на него. Обычно Антон старался пройти это место стороной, да вот задумался.
– Нет у меня, – резко бросил он и попробовал миновать вымогателя.
Тот шагнул поперёк.
– А поискать, земеля, а? В карманах-то пошарь, поищи. Сам понимаешь – на пузырь не хватает.
Антон спохватился: не ту тональность взял. С этими шакалами надо по-другому…
Однажды, также по осени, он ездил командированным в Псков. Угодил на выходной. С утра осмотрел город, а вечером попал в театр. Но то ли спектакль не вдохновлял, то ли усталость с дороги скрутила – одолела зевота. В антракте оделся, вышел. И поддался лирике, решил пешком пройтись по поздневечернему древнему Пскову. Дорогу представлял себе уже довольно ясно: скоро вышел к угрюмой громаде кремля, свернул на мост через Великую. Ночь – светла, луна – сияет: поэзия! Да ещё на мосту фонари почти все целёхоньки.
Зато за мостом – мрак и темь. Но Антон, видя невдалеке за домишками и заборами сверкающие ленты этажей гостиницы «Рижская», шаг не убыстрил, шёл размеренно, руки в карманах плаща, в голове – мечтания.
И вдруг сзади, из-за правого плеча:
– Эй, мужик, спичек дай! – голосок. И голосок какой-то опасный, таящий угрозу, мерзкий.
Антон мгновенно понял, что влип в историю. Он растерялся и, не зная ещё, как себя вести, что делать, молча обернулся, увидел малого лет шестнадцати, требовательно, нагло глянувшего ему в глаза, и чуть сзади ещё три тёмные, неторопко идущие фигуры. Антон, не останавливаясь и не отвечая, продолжал идти всё тем же гуляющим шагом. Так хотелось рвануть – до гостиницы оставалось метров полтораста.
– Ну, спички есть у тебя, спрашиваю? Эй, ты! Ну остановись!
Антон ощутил на рукаве цепкие пальцы. Оставалось последнее мгновение: сейчас его схватят сначала за руку, потом за шею… По мостовой изредка проносились машины – мимо, мимо… Мимо!
И вот – словно Бог надоумил Антона. Он медленно повернул лицо к семенящему сбоку шакалёнку и внешне твёрдо, свысока, даже слегка насмешливо изрёк:
– Молодой человек, вы хоть маленько думаете – к кому можно приставать, а к кому нет?
И опять, не останавливаясь: раз-два, раз-два… Гостиница – уже вот она родимая, рукой подать.
Тот чуть поотстал, потом догнал, ухватился снова за рукав.
– Ну остановись, поговорить надо!
Антон, чуя, что останавливаться ни в коем случае нельзя, развернулся на ходу и ещё более жёстко, подавляя, проговорил:
– Вот что, молодой человек, я сейчас удостоверение достану и приглашу с собой пройти. Ясно?
Какое такое удостоверение вдруг выскочило, он и сам не знал – экспромт. И опять: топ… топ… Он не оборачивался. В ушах даже засвербело: что там сзади? Ничего не слышно. Свернул на дорожку, бегущую к яркому подъезду гостиницы, и только тогда плавно обернулся – четверо стояли у забора, уже вдалеке, совещались, жестикулировали.
Антон сразу прошёл в ресторан, заказал двести водки, залпом выпил. Руки подрагивали, майка к спине прилипла. Антон даже представить себе до конца боялся, что случилось бы, останься он лицом к лицу на пустынной улице с теми тёмными фигурами…
Теперь он всегда при столкновении с существами из того – другого – мира старался брать тоном, спокойствием. Вот и сейчас, смерив ханурика взглядом с кудлатой головы до порыжелых штиблет, Антон насмешливо, уничижительно спросил:
– Что, молодой человек, у вас – проблемы?
Тот опешил от такой резкой перемены, отступил на шаг.
– Чё, проблемы? Рубель надо – не хватает…
Антон разозлился, двинулся на него.
– Ну-ка, пойдём со мной. Быстро!
Парень отшатнулся, поддался.
– Да ты чё? Никуда я не пойду! Меня ждут вон…
И он метнулся к дружкам, оглядываясь на Антона. Надо бы радоваться победе, но на душе так муторно, что – ну их всех к чёрту! Что же это творится, а? Что происходит?
В предчувствия Антон не верил.
Когда вышли от тёщи – совсем свечерело.
Занудил уже настоящий плотный дождь. Хотели переждать, но известно: осенний дождь – долгий. Ночевать у Евдокии Петровны, что ли? Потопали. Вера с Наташкой – под зонтиками. Антон поднял воротник плаща, опустил на уши шляпу, сгорбился – в обеих руках по увесистой сумке с банками, картошкой, луком. Тяжесть бытия!
Наташка впереди плывёт-выступает. Ишь ты, тринадцать лет всего, а туда же, пигалица! Походка-то, походка какая: и впрямь – плывёт. И – вот новости! – штаны эти модные, тёртые-перетёртые. Варёнки, что ли? Откуда они у неё? Тёща, видно, опять задаривает.
– Наташка!
– Чего?
– Откуда у тебя это безобразие на ногах?
– Это не безобразие, это очень модные, красивые и практичные брюки.
Вот и положи ей палец в рот. Вышагивает – тоненькая, маленькая, а уже – женщина, взрослый человек. Скоро ухажёры заведутся – красавица! Чего уж там скрывать: удалась дочка, дочурка, дочушенька… Чёрт, вот от нежности горло перехватывает, а вслух не выговаривается.
– Наташка, чтоб сняла эту мерзость. Такие похабные штаны только девицы лёгкого поведения носят.
– А у меня, пап, по-твоему, – тяжёлое поведение?
Ну вот, сейчас орать придётся. Ведь дурёха не знает, не догадывается, какие муки претерпевает он, отец, думая о её судьбе. Да разве она понимает, в каком мире живёт, по какому краю пропасти каждый день ходит? Антон порой, глядя на размалёванных, чадящих на ходу цигарками, с откровенно блядскими глазами девок, заполонивших улицы города, неожиданно говорил себе: «Если Наташка станет такой – убью!» И вот, пожалуйста, – уже штаны проститутские напялила. Эх, Наташка, Наташка, дурёха ты наша… Придётся сегодня воевать.
– Да отстань ты от девчонки! – раздражилась Вера. – Не в штанах дело.
– Как раз в штанах. Это – не штаны, а вывеска, призыв к парням: «Подходите, я – готова!»
– Тьфу на тебя! Перестань, ей-Богу, и так тяжело на сердце.
Замолчали. Шуршал дождь. Хлюпали лужицы под ногами. Противно скрипели ручки одной из сумок: хр-р… хр-р… хр-р…
Свернули на Интернациональную – на улице с таким громоздким и нелепым названием судьба сподобила их жить. Вот и родная хата – десятиэтажная кирпичная крепость, придавившая собою целый квартал. Резкими выступами и углублениями по фасаду дом походил на гигантский коленчатый вал. Спереди на уровне второго этажа висел стеклянный параллелепипед «Дома торговли». Витрины его слабо блестели глубинным светом. Как раз под зелёным неоном магазинной вывески находился их подъезд – в самом центре дома.
Антон всегда старался проскочить под нависшим универмагом пошустрее и Веру с Наташкой поторапливал. Помнилось, как в самом начале, когда магазин только-только освятили, буквально на второй день его работы, вернее – ночь, рухнул целый пролёт стены со всеми витринами и рекламными «Добро пожаловать!». Слава Богу, в три часа ночи прохожих под стеною не случилось – обошлось без жертв. Бока злосчастного магазина подпёрли железными балками, но лучше уж не находиться слишком долго под его нависшей тушей, не испытывать судьбу.
Ладно – прошмыгнули. Перед тем как подняться по ступенькам, Антон привычно глянул вверх – всё нормально. По остроумному проекту архитектора (чтоб ему до пенсии не дотянуть!) прямо над подъездом громоздились этажеркой переходные балконы. В доме этом несуразном лестничные клетки находились совершенно изолированно от жилых секций. Если поднимаешься по лестнице, то на нужном этаже надо пройти по балкону улицей, тогда только попадёшь в коридор с квартирами. Пацаньё, само собой, любило околачиваться на этих балконах: интересно же поплевать вниз на головы входящих, а то и сбросить чего-нибудь посущественнее и потяжелей.
Однажды Евдокия Петровна ворвалась к ним в квартиру задыхаясь, перепуганная и расстроенная: оказывается, только она взошла на первую ступеньку крыльца, как прямо перед ней ахнула о бетон пустая бутылка и – вдребезги. Ещё бы шаг и – гуд бай!
Та-а-ак… В подъезде опять темень. Обычно светилась хотя бы одна лампочка внизу, у почтовых ящиков. Сегодня и той нет.
Антон, чертыхнувшись, передал одну сумку Вере, достал ключи, на ощупь растворил свой ящик. Газеты – много: видимо, «Литгазета», «Комсомолка», местная… Ага, открытка какая-то… От кого, интересно?
– Ни один лифт не работает. Поздравляю! – ворчливый голос Веры.
Ну уж, разумеется – всё под настроение. Потащились на пятый этаж пешедралом. В балконные двери тускло отсвечивали уличные фонари. Невыносимо пахло мочой, отхожим местом…
Ничего, ничего, сейчас закупоримся в квартире: горячая ванна, сытный ужин, газетки свежие – поправим настроение, прорвёмся. Вот и пятый этаж. Тэ-э-эк-с, стекло рифлёное в двери снова зияет звездой пролома. Каблуком саданули, мерзавцы. Балкон – пуст; за широкой колонной-подпоркой – никого. А бывает, стоят-толкутся двое-трое, покуривают, матюгаются, цинично взглядывают. Рядом, на стенке балкона, обыкновенно – узоры свежие: помочились уже, облегчили души.
Дверь в первый тамбур открыта. Тамбур – высокий и узкий, как шифоньер. Лампочки нет. Дверь в следующий тамбур, где мусоропровод и лифт, закрыта – на пружине. Наташка – первая. Потянула на себя дверь, шагнула. И отпрянула. Ну-ну, что такое?
Антон перехватил сумки одной рукой, оттеснил дочь и жену плечом, шагнул сам. В тамбуре – а он довольно обширен, с комнату, в нём сухо, тепло и чисто, – компашка. Пацанов штуки четыре, два парня постарше и девица. Девица совсем голая, стоит согнувшись к батарее отопления. Над ней копошится один из парней. Какая мерзость!
Замолкли, повернулись к Антону, уставились. Парень, второй из старших, оторвал бутылку ото рта, губы облизывает, смотрит – пока без выражения, пустым взглядом. Даже девица изогнула шею от батареи, пьяно высматривает: чё там? хто там? Лишь тот, над ней, не отвлекается, работает, пыхтит – дорвался.
Антон, придерживая локтем дверь за спиной, дотянулся до двери в коридор (дебил архитектор помешался на дверях и тамбурах!), отступил шаг в сторону:
– Быстро!
Вера с Наташкой юркнули – торопливо, жалко, стыдно. Антон, чувствуя сверлящие взгляды, не в силах повернуть голову на деревянной шее – а надо бы, надо бы в упор посмотреть, осадить! – замедленным движением прикрыл одну дверь, потом, шагнув в коридор, другую.
Горит всего одна лампочка – в центре. Медленно, степенно пошёл. Топ… топ… топ…
Вот слева уже 90-я квартира, справа – 95-я… Топ… топ… топ… Коридор длиннющий, как в бараке или в общежитии. Налево – две двери: трёхкомнатные квартиры. Направо – четыре: по краям – двухкомнатные, в серёдке – одноячейные. Вот направо и родная 93-я. Дверь коричневым дерматином обита, глазок насторожённо выглядывает, два замка сверкают – всё, как у людей. Стандартно.
– Вера, достань свои ключи. Быстро!
Быстренько надо, быстренько. Взгляды у гостей больно нехорошие. Что они там сейчас? О чём говорят? Вера копается в своей дурацкой сумочке.
– Ну быстрее, В-вера!
– Да сейчас, сейчас! Куда они, проклятые, запропастились? Свои бы уже давно достал!
Скрипнула дверь в тёмном начале коридора. Ну – всё! Фигура показалась. Одна. Идёт, вихляясь, к ним.
– В-в-вер-р-ра! – рычит Антон.
Вера наконец выхватывает ключи, возится с чехольчиком – никак не сбросит со связки. Сбросила. Прыгающими пальцами суёт ключ в верхний замок. Не попадает…
Тот приближается. Пацан молодой: усики – серой полоской. Взгляд пьяный, нахрапистый. Что ему надо? Один замок уже открыт.
Малый обходит Антона, словно столб, хватает за рукав куртки Наташку.
– Пойдём к нам!
Антон на секунду оторопел, потерялся. Подонок уже тащит перепуганную упирающуюся Наташку, лыбится.
Антон бросил сумки (банка с компотом – кр-р-рак!), задохнулся от ярости, страха за Наташку. Схватил сучонка за шиворот и так рванул, что тот сел на задницу, потом вздёрнул, тычком запустил вдоль по коридору.
– Пшёл отсюда, гадёныш!
Пацанчик полетел, согнувшись, трепыхая руками, словно крыльями, завопил:
– Тюлень! Тюлень! Он меня ударил!
В коридор впрыгнули сразу несколько. Бросились к ним. Дверь всё же распахнулась. Антон, подхватив сумки, заскочил последним. Захлопнул.
Щёлкнуло.
Повернул второй замок до упора.
Набросил цепочку.
С той стороны раздался глухой удар.
Вера, не раздеваясь, опустилась на ящик для обуви, облокотилась на пустую телефонную полку, схватилась за сердце. Сейчас – разорвётся.
Она массировала грудь, смотрела упорно на тёмную растущую лужу под сумкой (вишнёвый компот жутко напоминал кровь), думала: «Придётся сейчас полы мыть…» Наташка – рядом на табуреточке, глаза – в пол-лица, испуг через край плещется. Антон, согнувшись, совсем как та деваха у батареи, вглядывался в глубокую скважину глазка.
Вдруг по нервам ударил звонок. Они разом вздрогнули. Ещё – др-р-рлин-н-нь! И ещё – др-р-рлин-н-нь! И ещё, и ещё… Жёсткий палец там, в коридоре, утопил кнопку звонка и лишь слегка её покачивал.
Вера заткнула уши, согнулась к коленям и зарыдала. Завсхлипывала и Наташка. Антон обалдело смотрел с минуту на белую коробочку под потолком, невольно морщась каждый раз при новой трели, подпрыгнул, рванул – звонок отлепился от стены, хряснулся об пол. За дверью – отчётливые голоса:
– Открывай, козёл! А ну – открывай! Всё равно ведь откроешь – куда денешься? Давай, быстро!
Вера подняла заплаканное, страшное в этот момент некрасивостью, грязное лицо, выдавила:
– Го…го…говорила – телефон. Всё тянешь, тянешь…
– Да о чём ты? – зло отмахнулся Антон.
Хотя, чего тут злиться? Телефон сейчас, действительно, не помешал бы. Во всём коридоре только у них не имелось телефона – вот что обидно. Антон ходил пару раз на приём к начальнику городской телефонной сети – зажравшейся свинье в галстуке: просил, требовал, выяснял, почему у всех соседей телефоны есть, а у него – нет. Но требовать как надо Антон не умел, не тот характер. Да, у соседей есть, а у вас нет, и будет не раньше, чем через два-три года – весь сказ. Чёр-р-рт, может, соседи услышат, догадаются позвонить в милицию?
В дверь начали долбить ногами.
– Открывайте, эй! Щас дверь высадим!
Хорошо, что Антон нынешним летом, во время ремонта, укрепил замки – набил на дверь металлический лист от старого фотоглянцевателя. Замки сидят прочно. Цепочка – надёжная. Но вот сама дверь – злым ударом пробить насквозь можно. Ведь хотели, хотели полностью дверную коробку заменить – пожалели гроши, отложили на потом.
Дверь трещала, тряслась – минут через пять-десять рассыплется. Что же делать?
– Наташка, быстро – молоток и большие гвозди!
Антон сбросил плащ, кинулся на лоджию. Какое счастье, что не успел сделать полки – всё тянул. Две доски – натуральные, толщиной почти с кирпич, одна метра два, другая чуть короче – лежат голубушки. Антон втянул их в прихожую, примерил – в аккурат. Длинная доска перекрыла через центр дверь по высоте, вторая ловко уперлась в плинтус напротив и – под углом к первой. Так, где гвозди?..
В это время погас свет. Гады! Вырубили пробки в коридоре.
– Вера, зажги фонарик!
Яркий луч заплясал по потолку, опустился на дверь.
– Наташа – свечи! – приказал Антон.
Сам принялся вколачивать гвозди, соединяя доски в крепкий упор. Наташка поставила на полочку сувенирный канделябр с тремя цветными стеариновыми столбиками, суетливо подожгла. Закачались тени по углам. Наташка снова примостилась на табурет. Антон притащил из кухни хлеборезную доску, приладил над упором, пригвоздил к вертикальной доске и к двери насквозь. Всадил гвоздей восемь. Вот так! Сел рядом с Верой на полированный обувной ящик. Все трое напряжённо уставились на замки.
С той стороны громили уже всерьёз. Плечами, подошвами. А это что? Хр-р-рес-с-сь! Похоже – ножом располосовали обивку. Хр-р-рес-с-сь! Ещё…
– Везёт, что коридор у нас узкий: разбежаться и садануть как следует не смогут, – деловито сказал Антон, прерывисто вздохнул.
Вера посмотрела на него жалким, каким-то затравленным взглядом.
– Что же соседи, а? Антош, что же соседи, а?
При неровных бликах свечей лицо её походило на гипсовую маску.
– Надо в 92-ю стучать, – встрепенулся Антон.
Он – прямо в заляпанных туфлях – побежал в комнату, по ковру, приник к узкому пространству меж книжными полками и сервантом. Постучал костяшками пальцев – до боли, до онемения. Тихо. Заколотил кулаком. Схватил вазу хрустальную из серванта – донышком, тяжёлым, литым. В обоях появились вмятины. Ни отзвука! Чёрт! Неужто дома нет? Да – дома, дома: притаились, замерли. Ну только б позвонили по ноль-два…
Хотя, хотя…
За стеной, в двухкомнатной 92-й, жил болгарин Валентин с русской женой и пятилетней дочкой. Всего неделя, как он вернулся из больницы – лежал месяца два, а то и больше. Да, точно, в августе ещё как-то в субботний вечер, было светло совсем, спустился Валентин в тапочках за почтой. Между третьим и вторым этажами на площадке стояли – человек пять. Пили «чернила», курили. Валентин протиснулся бочком, пробормотал с улыбкой:
– Что, ребята, больше места нет?
И пошёл. И тут же сел. Ударили по голове бутылкой. Били-пинали его всего минут пять, но так размолотили, что врачи еле склеили. Теперь Валентин ходил согнувшись, бочком – такое впечатление: вот сейчас – раз! – и рванёт, помчится прочь, прикрывая голову руками…
В другую сторону, в 94-ю, стучаться тоже бесполезно: сосед, ветеран орденоносный без одной ноги – лечится в санатории, перед отъездом просил почту забирать из ящика.
Тупик.
Антон, подсвечивая фонариком, прошёл на кухню, достал ледяное пиво из тёмного холодильника, отбил пробку о край стола, не отрываясь выцедил – аж зубы заломило. Вернулся в прихожую. Жена с дочерью всё так же оцепенело не сводили глаз со вздрагивающей двери, сосредоточенно слушали угрозы.
– Открывайте, мать вашу! Хуже будет!..
Антон машинально взял открытку из газет, подсветил – уведомление с ГТС: телефон будет установлен в четвёртом квартале следующего года. Антон скомкал открытку, отшвырнул. Пошарил в нише за ящиком с инструментами, достал туристский топорик, расчехлил. Деловито попробовал пальцем лезвие. Поставил рядом с собой, прислонил к стенке.
Вера, странно апатичная, усмехнулась обидно: куда тебе! Антон и сам в глубине души сознавал – ударить человека топором он не сможет. Хотя топорик покупался именно для самозащиты – без него Антон не ходил на рыбалку, не выезжал в лес по грибы. Топорик у пояса придавал уверенности, спокойствия. Когда в лесу встречались люди, мужики, Антон расчехлял топорик, приготовлялся к столкновению, но всегда потаённо надеялся: до схватки не дойдёт. Увидят, что вооружён – отстанут. Главное – посуровее лицо сделать и напружиниться.
А ещё с недавнего времени Антон взял за моду носить при себе нож. Перочинник, «белочку», за два двадцать. Чёрт его знает: человека живого пырнуть, конечно, ещё решиться надо, но блеснуть лезвием при случае – вдруг поможет? Антон регулярно шаркал ножик наждачкой, пускал зайчики лезвием, хорохорился. Вера над ним подшучивала…
Внезапно вспыхнул свет. Антон и Наташка вскочили, уставились, щурясь, на плафон. Горит, светит! Вера отрешённо протирала лицо носовым платком, сморкалась.
Антон одним выдохом задул свечи. И одновременно свет погас. И зажёгся. И потух. И вспыхнул. Антон, злясь, ломая спички, затеплил свечи, надавил на выключатель. Постоял пару секунд в раздумье. И начал ковыряться – отпирать замки.
– Ты что? – вскрикнула Вера.
– Ничего! Идите в комнату с Наташкой. Я с ними поговорю, – решительно, зло прикрикнул Антон, беря в правую руку топорик.
– Да ты что? – вскочила Вера, вцепилась в руку. – Их вон сколько! Поговорит он! Ничего они не сделают: постучат и уйдут. Сядь!
– Эх, ружьё бы сейчас, – скрипнул Антон зубами, сел снова рядом с женой, положил топорик рядом. И вдруг завизжал: – Эй, вы там! А ну перестаньте! Прекратите сейчас же, сволочи!
За дверью стихло. Антон неуверенно глянул на Веру, она – на него. Наташка, приоткрыв рот, вытянув тонкую шею, вслушивалась: неужели всё?
Антон вскинулся глянуть в глазок: эх, сам же его доской перекрыл!
Прошла минута. Откуда-то издалека, из-за двух-трёх стен доносилась скорбная музыка – Бетховен. Или это в голове звучит? Быстрое горячее дыхание Наташки. Веры совсем не слышно: затаилась, ждёт.
Тр-р-рах-х-х! Гулкий металлический удар. Что это? Что? Ах, чёрт! У мусоропровода – Антон вспомнил – валялась секция от батареи отопления. Конец! Сейчас дверь – в щепы.
Но дверь пока держалась. Зато сверху, с притолоки сорвался кусок штукатурки. Ещё один. И вдруг – половинка кирпича: шмац! В дыру засверкал коридорный свет. Ворвались голоса, гогот пьяных негодяев.
Антон напряжённо думал, лоб – складками. Мотнул головой.
– Вот что: надо с лоджии на помощь звать. Прохожих или соседей. Быстро!
Они, теснясь, метнулись через кухню на лоджию. («…крепнут мир и дружба между народами…», – долдонит радио над холодильником.) Их окна выходят во двор. В боковых секциях-выступах «коленчатого вала» светятся зашторенные окна. Там – люди. Во дворе – тихо, пустынно. Рябит дождь.
Однако – стоп: кто-то показался. Далековато – не разобрать. Двое. Идут по дорожке мимо дома. Вошли в круг фонарного света: ага – мужчина и женщина, под одним зонтом, с сумками. Надо кричать.
Антон щёлкнул шпингалетами, дёрнул створку окна – безрезультатно. Что такое? Он рванул ещё: ручка, стеклянный рифлёный шар, оторвалась – Антон шарахнулся локтем и плечом о стену. Проклятая краска!
– Начерта нам надо было стеклить лоджию? – взревел он. – Пропадай теперь из-за этого!
– Антон! Антон! – только и сказала-простонала Вера. – Антон, сделай что-нибудь!
Мужчина с женщиной удалялись, сейчас скроются за выступом дома. Уже осталось несколько шагов.
Антон нагнулся, подхватил скамеечку, без размаха ткнул её торцом в стекло. Оно лопнуло со взрывным звоном. Прохожие приостановились, вглядываясь из-под зонта. Антон сунулся в дыру, помаячил секунды две, обернулся к своим.
– Чёр-р-рт, ну как я буду кричать? Вера, ты крикни!
Вера замешкалась, замялась, отступила.
Вдруг Наташка подскочила к окну, схватилась ручонками за стеклянные зубцы и страшным, ненатуральным каким-то голосом тоненько завопила:
– Помоги-и-ите! Помоги-и-ите! Нас убива-а-ают!
Мужчина с женщиной подхватились, исчезли. Во многих окнах погас свет.
– По…мо…ги…те! – захлёбываясь, крикнула последний раз Наташка в пустое пространство двора и, прикрыв заалевшими пальцами глаза, уткнулась в грудь Антону.
Трах! Трах! Трах!..
Осада продолжалась.
Как они мечтали об отдельной квартире!
Сначала теснясь у тёщи, потом снимая углы, затем прозябая в коммуналке, – они грезили о своём изолированном мирке. Казалось, ничего больше не надо: дайте нам наш куб пространства, дайте нам нашу собственную маленькую крепость, где можно спрятаться, укрыться от суматошного шизофренического мира хоть на мгновение. С какой серьёзностью, с какими затратами сил, времени и нервов они обихаживали, обставляли и украшали свою квартиру, особенно, конечно, Вера мытарилась: то за обоями пять часов в очереди мается, то какие-то кашпо заморские в художественном салоне сторожит.
Обклеили, обставили, намыли, натёрли и, действительно, квартирка получилась уютная. Придёшь из мира – грязный, согбенный, взъерошенный: скинешь обувь у порожка, наструишь прозрачно ванну до краёв, отмокнешь, на кухоньке примешь ужин – не торопясь, посмакивая; в комнате возляжешь на диване под торшером с газетами или книгой, а то телек врубишь – чего там старенького? Вот и ещё отсрочил на денёк свою гибель или сумасшествие, уравновесился.
Да разве можно было предугадать, что своя же квартира-крепость станет западнёй? Это там, за окнами, за крыльцом – мрак и жуть. Это там идёт постоянная война-охота. Это там можно жертвой стать в любой миг и без всякого повода. Господи, ну почему, зачем ты привёл этих тварей подпитых сюда? В чём вина наша, Господи?..
Антон, часто дыша, прижимал к себе Наташку, смотрел на огненные жала свечей. Он чувствовал горячий взгляд Веры на своём лице, но никак не мог повернуться – странная вялость заполнила всё тело…
Точно так же не мог Антон смотреть Вере в глаза однажды в ясный летний вечер много-много лет назад. Тогда длились первые дни их страстной, чувственной дружбы. Только в десятом классе, под самый последний звонок разглядели Антон и Вера друг дружку, просверкнула меж ними искра. А до этого два года за соседними партами посторонне сидели.
В тот день они сдали историю. Гуляли после экзамена по стадиону, заброшенному, заросшему травой, а по краям – деревьями. Говорили, смеялись, но главным образом – целовались чуть не поминутно: кровь играла, щёки алели, окружающий мир существовал где-то там, вдали, за пределами атмосферы.
И тут Антона из пустоты пространства кто-то грубо облапил, дохнул в лицо портвейном. Антон очнулся, отпрянул и узнал – Боец, парень из его дома. Антон с ним почти не общался: Бойцов учился в ПТУ, обитал в другом мире – в антимире. Но «привет» на «привет» при встречах обменивали.
Боец, качнувшись, снова заключил Антона в объятия, скорячился в борцовскую стойку, замычал. Антон, нервничая, начал отдирать от себя парня, но тот словно прилип.
– Боец, ты что? Не узнал, что ли? – Антон сам слышал в своём голосе постыдные умоляющие нотки. – Боец, ну правда, что ты? Отстань. Мы же в одном доме живём – не узнал?
– К-короче, – пробубнил Боец, начиная кружить Антона по траве, точно по борцовскому ковру. – К-короче…
Антон зыркнул на Веру. Она стояла в сторонке, прижимала кулачки к подбородку, смотрела растерянно, испуганно.
И Антон решился: подстегнул себя, плеснул в душу злости, резким тычком отбил левую руку Бойца, отклонился назад и своей правой вмазал ему по физии. Но – слабовато: не удар – пощёчина. Однако Боец оторвался, застыл, хлопая ресницами.
Только воспрянувший Антон хотел резко отодвинуться и распрощаться с соседом по дому, как из-за деревьев нарисовались ещё двое. Антон, не успев собраться, после первого же тычка в лицо закрыл голову руками, выставив локти, скрючился. Его мигом сбили на землю, принялись с аппетитом пинать.
Спасла Антона Вера: она так пронзительно завизжала, что пинальщики не выдержали, приложили ещё по разу «фраера причёсанного», подхватили Бойца и – смылись. Антон в общем-то отделался легко: фингал, губа разбита да бока гудят. Но больше всего душа кровоточила – от стыда хотелось в канализационный люк головой. Да ещё Вера сыпанула добрую пригоршню сольцы на свежую рану – шла, шла, да и ляпнула: «А ты драться, оказывается, не умеешь…»
После этого вечера они не встречались полгода.
Шмац! Шмац!
Антон догадался – пробивают дыру над притолокой.
– Если бы не застеклили лоджию, мы бы сейчас спокойно к соседу перебрались, – ровно, бесстрастно сказал он.
Лоджия – одна на две квартиры. Посередине тонкая перегородка в половину кирпича.
– Подождите, – оживился Антон, отстранил от себя Наташку, – сейчас всю раму выбьем…
Он побежал за топориком. Наташка приникла к матери. Девчонка словно заснула: не открывала глаз, еле держалась на ногах. Лицо её было измазано в крови.
Антон схватил топорик, глянул – наверху зияла квадратная дырища. Левый верхний угол дверной коробки ходил ходуном.
И тут Антона осенило – ванная!
– Вера, Наташка, сюда!
Он открыл ванную, впустил жену с дочкой, бросил напоследок взгляд назад – дверной косяк трещал, выскакивал из плоскости стены. Антон закрылся на защёлку, сунул фонарик Вере. Положил топорик в раковину, обеими руками сорвал зеркало вместе с полочкой – посыпались банки, тюбики, флаконы. Швырнул всё в ванну. Перехватил удобнее топорик, ахнул остриём по стене…
Ещё когда они только вселились, Антон, отделывая ванную, обнаружил: от соседа-инвалида в этом месте их отделяет тонюсенькая стеночка из половинок кирпича и сыпучего раствора. Чтобы капитально закрепить раковину, пришлось даже нашивать деревянный щит на всю нижнюю часть перегородки.
От первого же удара сделалось окошко с ведёрное дно. Загремело и рассыпалось зеркало соседа. Антон с сумасшедшей силой рубанул крест-накрест несколько раз, приказал:
– Наташка, полезай!
Он подсадил дочку, просунул её ногами вперёд, протолкнул в дыру. Быстро подтащил стиральную машину «Малютку».
– Вера!
Жена ступила на унитаз, с него – на «Малютку», хотела перешагнуть раковину, но узкая юбка держала.
– Вера! – заорал в бешенстве Антон. – Да задери ты её, чёрт возьми!
И сам схватил за подол, вздёрнул юбку. Вера, сверкая исподним, корячилась, протискивалась в пролом.
«Боже, – мелькнуло у Антона в голове, – это же кинокомедия! Это же цирк!» И он почувствовал на глазах слёзы.
Прежде чем скрыться самому, Антон, охнув от натуги, стащил со стены железный шкаф с запасами мыла, зубной пасты, порошка стирального – придавил им дверь. Вплотную придвинул и стиральную машину. Приладил под ручку швабру – всё, глядишь, задержит на минуту-другую.
В квартире соседа они оказались впервые. Свет вспыхнул. Краем глаза Антон заметил – сиро, убого: стол, стулья, дерматиновый диван. Но главное – телефон. Вот он голубчик, ярко-красный, стоит на тумбочке у окна – ждёт.
Антон схватил трубку… В телефоне – чёрный провал тишины. Сволочи! Они, конечно же, провода в коридоре оборвали…
Всё!
Антон загнанно осмотрелся: может, ружьё где висит? Не хотелось верить, что шансов не осталось.
– Пап, а что если так: когда они все сюда полезут – в коридоре ведь никого не будет? Мы в двери выскочим и убежим, а?
А что, идея! Молодец Наташка! Только бы на улицу выскочить: всё же – центр города. Да и время ещё – Антон глянул на часы: Господи, всего полчаса прошло! Ещё только половина десятого.
Антон ринулся в переднюю. У соседа тоже – два замка. Так, верхний – нормальный: изнутри открывается. А нижний? Нижний…
Антон сгорбился у дверей, приник к тёплому дереву лбом, закрыл глаза.
– Ну что, Антон? Что?!
Антон устало развернулся, обнял жену и дочь, крепко прижал к себе. Вдохнул тревожный родной аромат их волос.
И всхлипнул.
В ванной раздались крики, хохот, весёлые глумливые матюги…
Лю-ю-юди-и-и-и-и!..
СКАЗКИ БАБУШКИ АЛЁНЫ
Рассказ
Признаться, до этого дня я мало внимания обращал на нашу соседку по квартире.
Волею судьбы попали мы в коммуналку на две семьи год назад. Тогда за стеной жили два человека – Маруся, продавщица мебельного магазина, и её мать, Алёна Дмитриевна, которая за месяц до нас прикатила к дочери из самой что ни на есть сибирской глухомани доживать, как она выражалась, свой вдовий век.
И надо же было такому случиться: не успели мы толком познакомиться с соседками, как Марусю посадили. История случилась, увы, обыденная: какие-то прожжённые хапуги там, в мебельном, ворочали тысячами, спускали деревянный полированный дефицит направо и налево, наживали себе дачи и машины, а в результате, когда верёвочка перестала виться и пришлось держать ответ, были посажены на простую неполированную скамью две молодые дурёхи. Самые крайние. Одна из них – Маруся.
Бабушка Алёна, как начал называть соседку наш Димка, на удивление стойко держалась все дни, пока длилось судебное разбирательство. Она приходила домой с сухими глазами, шумно, с прихлёбом полными блюдцами пила на кухне чай вприкуску и обстоятельно, с мельчайшими подробностями рассказывала, по большей части моей жене и Димке, о ходе дела.
Из рассказов Алёны Дмитриевны можно было догадаться, что она до последнего денёчка надеялась на то, что святая, опять же по её выражению, правда восторжествует. Сделав прихлёб душистого, заваренного на сибирских травах, чая, держа на сухой растопыренной ладошке расписное блюдце и собрав рот в морщинистый узелок, старушка, углубившись на секунду в недавние воспоминания, решительно цокала языком:
– Однако должно по-человечьи кончиться. Лик у судьихи праведный, не должна душой покривить. Оправдают Марусю мою, сиротиночку. Как есть, оправдают… Ведь не брала она ни копеечки… Не таковская!
В день вынесения приговора в суд с Алёной Дмитриевной поехала моя жена, отпросившись с работы. Обратно Зина привезла старушку на такси, чуть живую, в слезах, больную и убитую горем. Дочери дали пять лет с конфискацией.
Вот таким образом деревенская старушка-сибирячка оказалась в нашем чернозёмном городе одна-одинёшенька. Сперва она вроде бы порывалась махнуть обратно на Енисей, но забоялась. Хатёнка там была продана, деньги распылились, и волей-неволей Алёне Дмитриевне приходилось смириться с судьбой. Да притом и Маруся находилась не слишком далеко от нашего города, под Уралом, так что старая мать надеялась когда-никогда собраться к дочери на свидание…
Вот ловлю себя на том, что намеренно растягиваю предисловие к самой сути рассказа, потому, видимо, что сам для себя до конца не уяснил её, эту суть, не разобрался в истоках сказок бабушки Алёны, не совсем понимаю, откуда в ней, в Алёне Дмитриевне, это взялось. По натуре своей, как я мог вполне убедиться, она была незлобива и уж тем более не критиканка. Прожила всю свою цельную жизнь в сибирском селе, робила в колхозе телятницей, имела любимого мужа, с которым прожила много лет, схоронила его давно уже и горе своё выплакала, в людях старалась видеть в первую очередь хорошее…
Узнал я о сказках случайно. Димка по вечерам и в выходные дни нередко прямо-таки пропадал в комнате Алёны Дмитриевны. Приятелей-однолеток поблизости в подъезде не оказалось, так что на улицу пацана в этот первый год нашей жизни на новом месте не очень-то тянуло. Нашёл он подружку в лице Алёны Дмитриевны. А нам с Зиной и спокойнее, есть время своими делами заниматься, за сына душа не болела.
Правда, поначалу мыслишка была беспокойная: не будет ли бабушка о Боге в разговорах с Димкой слишком часто поминать? Потом убедился – нет. В Бога Алёна Дмитриевна не верила. Верила, видимо, в жизнь.
Так вот – сказки. Уж больно они оказались необычными и даже дикими на слух, для меня лично. Впрочем, пора к сути.
Димка и раньше что-то лепетал о сказках бабушки Алёны, дескать, она их рассказывает. Сказки так сказки. Кто их в детстве не слушал? Димка наш к своим пяти годам знал, конечно, и Колобка, и Красную Шапочку, и Кота в сапогах, и всех популярных героев мультиков. Сам эти сказки довольно связно, но, разумеется, с неожиданными пропусками и уморительными включениями пересказывал, но вот произведения Алёны Дмитриевны в Димкином изложении казались полной абракадаброй. О каких-то «продавщицах», «безликих людях», «толстых начальниках», «очередях», «автобусах» и прочем в том же духе.
Бред!
Однажды в субботу Зина вышла на работу. Авралы у них в конторе случались нередко. Я после завтрака выпроводил Димку погулять во двор под апрельским солнышком, а сам засел за диссертацию. Давалась она мне с превеликим трудом, и давно, откровенно говоря, я бы её забросил, но тогда нам приличная квартира, как говорится, перестала бы светить – как бы вообще в однокомнатную не загреметь…
Так вот, до обеда мы с сыном честно тянули каждый свою лямку: он скучал во дворе, я – за письменным столом, зато после борща и чая с вареньем дружно решили расслабиться. Я лёг подремать на диван, Димка отправился в гости к Алёне Дмитриевне – она как раз вернулась из одиссеи по рынку и магазинам.
В квартире стояла духота: в апрельскую теплынь котельная жгла напропалую всё сэкономленное за зиму горючее – радиаторы чуть не плавились. Все двери в квартире были, естественно, распахнуты. В дремоте чудились мне какие-то липкие кошмары…
Проснувшись, я услышал говор соседки. Сначала ни единого слова разобрать было нельзя: бу-бу-бу… му-му-му… Я начал машинально прислушиваться, и наконец, слово к слову, фраза к фразе одна из сказок бабушки Алёны вошла в моё сознание. Как принято сказки называть по главному герою, то я бы озаглавил эту так:
– Некий человек, касатик ты мой, наделён был большущими полномочиями, – рассказывала напевно, вкусно выговаривая слова, бабушка Алёна. – Такими большущими, что прямо сказать – агромадными. Ему, к примеру, если видел он нахально несправедливого спесивца, наглого хапугу, пропойцу богомерзкого или другого какого потерявшего стыд и совесть сквернавца, то дозволялось этому полномочному человеку даже и стрелить его тут же на месте без суда и следствия. Насмерть и без пощады!
Вышел полномочный человек на улицу, глянул округ себя на жизнь нашу, и душа его от увиденного заболела и захотелося ему крепко плакать. А увидел он, голубчик ты мой, что ещё много зла неизбывного есть на земле, и людишек, потерявших стыд и срам, развелося без счёту по всем углам и закоулкам.
Ну, значится, повздыхал наш богатырь, потом в платочек вышитой сморкнулся, рукава на рубашечке узорчатой закатал до самых плеч своих могутных и кинулся в бой за хорошую жизнь и счастье всех людей на свете.
А перво-наперво наметил он порядок навести с троллейбусами да автобусами. Ведь как мучаются люди-то, как мучаются! Бывало, самая стужа, вьюга до костей грызёт, или когда в теплынь дождь нахлынет – стоишь, маешься у столба с табличкой остановочной, а троллейбусов с автобусами, словно Змей-Горыныч проглотил, – ни единого. А как отчаются люди, изведутся до белого каления, поопаздывают по делам-то своим срочным, глянь-поглянь, а машиныто гуськом идут, да все не под тем, как надо, нумером…
– Баб Алён, – встревает вдруг тоненький голосок Димки, – а как это – гуськом?
– Это, касатик ты мой ясноглазенький, значится, друг за дружкой, след в след, словно гусята за гусыней-матерью. Разве не видал? И вот садится, – продолжает сказительница, чуть слышно постукивая спицами, – полномочный человек в первый же троллейбус и сразу наблюдает ужас сколько неполадков. Водитель попался парень широкий, мордатый, вертит себе колесо рулевое да цигаркой с фильтрой чадит. Остановки называть не называет и на одну старушку тихую, зла никому не сделавшую, как закричит непотребно: куда, дескать, с медяками, карга старая, суёс-с-ся, я только на сорок копеек талонов отовариваю!..
Ну, думаю, бяда-а-а!.. То есть, та старушка, в троллейбусе, думает – бяда-а-а! Где же сорок копеек серебром взять, ежели в наличии нету? И тут этот полномочный человек вежливо протискивается, старушку загорюнившую посторониться просит и молчком парнюгу того краснорожего из-за колеса рулевого за шкирку вытаскивает и на простор улицы выносит. Тот кричит благим матом, народ толпиться начал. Прислоняет мой защитничек водителя наглого к стенке троллейбусной, бумагу ему с полномочиями под нос суёт и наган шестиствольный из кармана вынает.
Ахнул тут честной народ, детина же в ноги бухнулся, носом своим жалостно захлюпал, за руки человека полномочного ловить начал.
«Пощади! – молит слёзно. – Детки у меня дома малые и работой я своей очень даже дорожу!..»
«Ну раз дорожишь, – сурово говорит богатырь-молодец, – так справляй дело по совести, по-человечьи работай, по правилам, и друзьям-товарищам троллейбусным своим закажи, а не то покараю без всякой повторной жалости и раздумьев!..»
– И отпустил? – разочарованно ахает кровожадный неизвестно в кого Димка. – Надо же было хоть холостыми стрельнуть, попугать для острастки!
– Наверное, деток малых пожалел полномочный человек, да и разве можно вот так сразу, без упреждения, человека стрелить? А оно и так помогло. Слух среди шоферов троллейбусных и автобусных быстро разнёсся: есть-объявился, мол, человек с бумагой, плохо будешь ездить – враз застрелит. И такая, касатик ты мой, прыть на транспорте пошла – любо-дорого! Все стали ездить в аккурат, перестали люди изводиться, на службу опаздывать, мир и покой воцарился в городе этом сказочном. Начали люди благодарить полномочного человека и предлагать ему разные подарки, но он напрочь и наотрез отказывался. Потому как высоко честен и чист помыслами был…
А следующий подвиг, касатик ты мой ясноглазый, совершил он вот какой. Пришли к нему от народа, стали жалиться: одолели, мол, пьянчуги, житья миру не дают, похабничают. (Я невольно морщусь.)
Ну, ладно, собрался, значит, наш полномочный человек и пошёл не за тридевять земель, не в тридесятое государство, а до самого ближнего винного магазину. И увидал он там картину мерзкую и безобразную, такую непотребную, что стало ему, молодцу прекрасному, очень уж на душе смурно и горестно. Томился в очереди за зеленым вином люд, потерявший облик и стыд человечий. Особливо-во мерзким своим видом поганили природу-матушки женщины, предавшиеся питейной непотребной страсти. Видит полномочный человек, как стоит одна из них у дверей злодейского магазина, одежонка на ней грязная, расщепе-е-ерилас-с-ся-а-а (Господи, я даже вздрагиваю) и канючит у мужиков-пьяниц, чтоб они пропустили её к прилавку вожделенному…
Алёна Дмитриевна замолкает, и я въяве представляю, как морщатся её губы в брезгливой усмешке, слышу, как она тяжко вздыхает, видимо, придавленная реализмом своего рассказа. Надо было, наверное, встать и прервать эти душещипательные беседы, но было лень, да и мне самому уже стало интересно узнать, каким таким способом её сказочный герой справится с тем, с чем государству не под силу. Димку, судя по всему, это тоже интересует шибко.
– Ну, баб Алён, как он их вывел-то, пьяниц?
– Трудно-то, трудненько ему пришлося, о-хо-хо-о-о… Опять же стрелить всех – это ж сколько надо было народу загубить? Больше, поди, чем за войну да при Сталине поубивалося и сгинуло. Увещевать питухов нет резону, глухи они к резонам и уговариваниям. В тюрьмы посадить – не хватит опять же, касатик ты мой, никаких тюрем и казематов каменных…
– А их в Сибирь надо было! Сибирь-то большая, – резонно замечает Димка.
– И-и-и, милай, пробовали так-то, да ничегошеньки не вышло. Было, было, да быльём не поросло. Кто-то шибко умный грамотей запридумал однажды, годков двадцать тому, словить по всей Москве-матушке пьянчуг забубённых да к нам в Сибирь их и вытолкать взашей. Так они, милок ты мой, тунеядцы эти самые, испоганили места наши светлые – хоть матушку-репку пой, а в столичном граде-городе новые народилися, развелися и размножилися… Да об том разговор надо вести наособицу, в другой раз.
А на сей случай придумал полномочный человек вон чего. Приказал он повсеместно на всех сивушных фабриках и заводах злодейку эту горькую разливать в простые банки тусклые, наклейку на них лепить как сажа чёрную и противную, а на наклейке малевать череп белый высохший, кости под ним внакладку и крупно упреждать надписью: мол – яд смертельный.
И что ты думаешь? Очереди винные враз поубавилися, порастаяли. Кто ж тебе, если не совсем забулдыжник и стыд обронивший человек, станет водку проклятую из банки с черепом хлебать? Или того пуще – шампанскую? Брезгливо!
Но, конечно же, осталися и таковские, что всё им нипочём. Ничегошеньки-то им не страшно и не мерзостно. Берут и пьют, берут и пьют. Чего ж им голова мёртвая на наклейке, когда они политуру жрут, керосин хлебают, всякие тараканьи отравы водой разводют да заместо тараканов сами вовнутрь себе льют. Пошла намеднись до хозмагу, дайте, спрашиваю, того снадобья, что стёкла до жгучего блеску хорошо так очищает. Нету, отвечают, бабка, всё выпили алкаши проклятые, прости, Господи, за слово злое, да справедливое.
Ну так вот, слушай, Митрий-Димитрий, далее. Решился тогда полномочный человек на самое крайнее, распоследнее средство. Позабыл он про жалость, распалил сам себя гневом праведным и указ издал строжайший: поставить цену на водку треклятую по гривеннику за бутыль, по пятачку за чекушечку, а на всякие коньяки да вина заморские – по пятиалтынному, это, значится, по пятнадцати всего копеек.
Чего тут начало-о-ся! Кинулися все пьянчуги со своими остатними медяками в магазины винные, начали хватать банки с черепами, принялись лакать, словно собаки, водку жадно и без удержку, и все враз, касатик ты мой, сгорели, умерли и сгинули…
И что ты думаешь? Чистота такая в городе том удивительном объявилася, такая культурная и радостная жизнь. Магазины винные вскоре позакрывать пришлося за ненадобностью, а чтоб даже память об ихнем вредоносном существе изничтожить, посносили те магазины под корень тракторами мощными, а на местах освобождённых фонтаны понаделали, и лились в тех фонтанах струи пенные из воды сладкой газированной да из соков виноградных и мандариновых – подставляй посудину какую-никакую да пей сколь хочешь на здоровье и радость. Вот такая сладкая жизнь пошла, касатик ты мой ясноглазый.
– А пиво? Пиво тоже совсем исчезло? – на полном серьёзе спрашивает тревожно мой сыночек. – Папа ведь пиво любит. Он зараз может аж шесть бутылок выпить. Без передышки! Я сам видал!..
Чёрт-те что! Вот стервец, позорит отца родного!.. Нет, надо решительно вставать…
– Пиво? Пиво, что ж… Пиво не водка, можно и оставить чуток, – неожиданно легко соглашается Алёна Дмитриевна.
Я с облегчением откидываюсь на диванную подушку и чуть ли не вслух удовлетворённо констатирую:
– То-то же!
Сказка продолжается.
– Ну, касатик ты мой, вот как дальше дело складывалось. Узнал весь народ про силу небывалую полномочного человека, поверил в него, возрадовался. Теперь, просят богатыря, возьмись, мил-друг, за самое тяжёлое геройство: очисти ты землю нашу от зловредных, разъевшихся паразитов-начальников. Спасу от них совсем уже нету – о народе не думают, о простых людях душа у них не болит, а лишь сами под себя гребут, дачи да дворцы себе белокаменные строят, на машинах казённых да собственных раскатывают и толстые зады свои трясут. А ещё, кричит народ-то полномочному человеку, мы вон в очереди за собачьей колбасой по два часа маемся, а начальники пайки из икры редкостной да колбасы копчёной прямо на дом получают!
Распалился тут полномочный человек, разгневался сызнова и вопрошает сурово:
«А какойный из начальников в городе этом самый из самых заевшихся?»
А народ ему на то ответствует:
«Так наш новый самый главный партейный секретарь, недавно ещё бывший председателем горисполкома. Он и председателем был никудышным, на народ поплёвывал, а как сделали его партейным начальником, так и вовсе до последнего предела зачванился. Это ж подумать надо – он с чего новую должность начал? Взял да и сменил свои хоромы председательские на квартиру ещё более буржуйскую, агромадную, хотя семью имеет никчёмную, всего-то их три человека. И всё это, – народ возмущается, – в открытую делается, без зазрения совести и без боязни людского суда…»
Кошмар! Буквально – кошмар! Я чуть ли не подскакиваю на диване, сажусь, свесив босые ступни на прохладный пол. Вон откуда эти сказочки. Ведь это мы с женой как-то на днях, за вечерним чаем на кухне, повозмущались, что прежний председатель нашего горисполкома Н. только лишь пролез в первые секретари горкома, так тут же поменял квартиру. Надо сказать честно, мы с Зиной здорово распалились. Я помню, Зина даже употребляла в адрес Н. словечки «сволочь», «свинья зажравшаяся», «буржуй с партбилетом». Ещё бы, прозябаем по коммуналкам уже который год, невольно терпение лопнет…
Но, чёр-р-рт побери! Вот бабуся так бабуся, дышло ей в бок! Послушает, послушает да сказочки складывает. Надо же, сатирик какой, эта Алёна Дмитриевна. Прямо Салтыков-Щедрин в платочке!..
Я пару раз нарочито кашляю и индифферентным голосом зову:
– Димыч?
Сын пришлёпывает, недовольно «чёкает», всем видом показывая, что ему некогда, его ждут, у него там страшно интересные дела.
– Димыч, – говорю как можно жизнерадостнее я, – вот что, пока ещё «Детский мир» не закрыли, поехали-ка, старик, покупать тебе компьютерный тир – тот самый…
– Ура-а-а!..
Вечером мы с Зиной посоветовались и решили Алёне Дмитриевне пока ничего не говорить. Зина вообще никакого криминала в случившемся не увидела, да и если что-то говорить соседке, о чём-то просить её, то – о чём? Не рассказывать нашему сыну сказки? Смешно.
Но через пару дней произошло вот что. Я возвращался из института домой, проходил мимо нашей дворовой детской площадки, скрытой кустами, и услышал Димкин голос.
– Да ты знаешь, – тонюсенько кричал он кому-то в запальчивости спора, – да ты знаешь, кто мой папа? Не знаешь? Он – пол-но-моч-ный че-ло-век! Понял? Мой папа, если хочешь знать, может застрелить и тебя, и твоего папку, и любого самого-самого толстого начальника. Он враз порядок наведёт! Вот! Съел?..
Съел и сел на подвернувшуюся скамью я.
Выбрав подходящий момент, когда мы остались в квартире вдвоём, я подловил соседку на кухне.
– Алёна Дмитриевна, – перед этим в комнате я минут десять ставил голос, и теперь он звучал довольно жёстко, – прошу простить меня за странность просьбы, но мне чрезвычайно было бы приятно, если бы вы согласились не обременять себя рассказыванием ваших сказок моему отпрыску. Он… э-э-э… не совсем правильно их может воспринять, понимаете? И вообще ни к чему ребёнку слушать подобные, тяжёлые и мрачные для детской психики ваши сочинения …
Алёна Дмитриевна, сидя на табуреточке, всё расправляла и гладила на коленях пергаментными руками выцветший клетчатый фартук, потом глянула на меня, как мне показалось, с усмешкой, с обидной какой-то снисходительной улыбкой и кротко сказала:
– Нельзя так нельзя – воля ваша, голубчик. Против воли родительской пойти не могу. Только ведь я эти сказочки про жизнь не расскажу мальчонке – сама жизнь расскажет. Жизни-то, ей не запретишь рассказывать саму себя… Так-то!
Через месяц нам, слава Богу, дали квартиру. А недавно я узнал, что объявлена большая амнистия. Дочь Алёны Дмитриевны наверняка выходит на свободу. Может быть, теперь наша бывшая соседка станет жизнерадостней, добрее? Чего без толку злиться-то? Ведь если начать изводиться, к примеру, из-за того, что семья секретаря горкома Н. живёт втроём на шестидесяти метрах и в центре, а моя семья – на двадцати четырёх и у чёрта на куличках, то можно совсем известись и раньше времени загнуться. Что толку-то? Злись не злись…
А всё же, надо признать, сочиняла Алёна Дмитриевна складно. Этого у неё не отнимешь. Надо же так придумать – полномочный человек !..
ТВАРЬ
Рассказ
Кривить душой не буду: сердце у меня ёкнуло.
Ещё бы!
Так всё неожиданно, нелепо. Любой бы на моём месте струхнул. И, главное, я сразу понял: это – не галлюцинации, не бред. Вот что самое жуткое. Хотя я, конечно, поначалу и пытался себя убедить: мол – допился, голубчик, допрыгался.
Но я в тот день не так уж много выпил. Утром пива три кружки. В обед бутылку на двоих с приятелем разлили. Потом в кафе «Лель» я таки выпросил у Нинки, буфетчицы, сто пятьдесят, хотя кобенилась, сучка, кричала: пока, видите ли, пиво не продаст, водкой торговать не будет. Паскуда! Хлебом её не корми, дай человека унизить. Это она со мной, с приятелем, хотя и бывшим, так, а что она с простыми похмельными бедолагами вытворяет?
Тьфу!
Так вот, домой я пришёл вполне в норме. Себя помнил. Разогрел суп. Распечатал банку бражки. Сам её квашу: слабовата, ещё не дозрела, но к водке чуть добавит градусов. Пойдёт. Выпил кружку, супу похлебал. Супец жиденький, из консервов, третий день уже на лоджии киснет, но вроде ничего, есть можно. Я ведь потом, когда это началось, ещё подумал между прочим: не отравился ли я супцом?
Похлебал, посуду сполоснул – с этим у меня строго: порядок в доме какой-никакой должен быть, иначе очень легко окончательно в свинтуса превратиться. Животным быть не хочу.
Нацедил ещё порцию бражки, прихватил в комнату, включил телевизор. Жена с собой много чего забрала, «Горизонт» цветной тоже прихватила, так что мне вот этот недокормыш маленький и бесцветный остался – «Сапфир». Сверкает, долдонит чего-то и – ладненько. Засветил я его, кресло любимое откатил от стены, устроился. Сижу, потягиваю хлёбово, смотрю. Какой-то мордатый дядя в галстуке, с щетинистой причёской, на кабана похож, нагло убеждает: мол, чтобы жить лучше – надо цены снова повысить. Осклабился похабно, харя мясистая лоснится: голодать, товарищи, полезно – врачи советуют…
Мерзавец!
Переключил на второй канал. И вот странно: телек бормочет, за стеной, слышно, вода в ванной у соседей журчит, за окном дети кричат и взвизгивают, а в комнате – тишина. Как бы луч звуковой от «Сапфира» падает, от стены лучик пульсирует, мелкие волны-крики из-за открытого окна всплёскивают, а в остальном пространстве моей квартиры – вязкая масса тишины. Давящей тишины. Я то и дело без нужды откашливаюсь, нарочито соплю, всхохатываю якобы над фильмом, гмыкаю, а порой даже и бросаю два-три слова в сторону экрана. Чёрт, надо было хоть Нинку сегодня вечером к себе затащить – всё живая душа. Чего там говорить, одному по вечерам тошно…
И вдруг я почувствовал на себе чей-то взгляд. Я как раз допил брагу, потянулся поставить кружку на журнальный столик, отвернулся от «Сапфира» и уловил отблеск зрачков. На меня кто-то пристально из полумрака смотрел.
Вот тут-то я ухмыльнулся и сказал себе: поздравляю, голубчик, – допился, допрыгался.
Я постарался сохранить беспечный вид, откинулся на спинку кресла, напряжённо уставился в экран. Напрасно: я всё время чувствовал – кто-то в упор на меня смотрит. Притом откуда-то снизу, почти от пола. Спину враз защекотали мурашки. Я передёрнул плечами, резко повернулся в ту сторону: два горящих в полутьме зрачка вперились в меня из угла.
Я громко произнёс в пространство:
– Так-так-так! Берём себя в руки. Ус-по-ка-и-ва-ем-ся. Три раза глубоко вдыхаем. И – смотрим телевизор.
Трижды вдохнув, я демонстративно потянулся, резво подрыгал ногами и старательно приклеил взгляд к дрожащему студню телеэкрана.
Безуспешно. Через минуту я, не выдержав, скосился – светящиеся точки из темноты угла буравили меня.
Чёр-р-рт! Я вскочил, опрокинув кресло, кинулся к стене, врубил верхний свет. Обернулся: угол – пуст.
Переведя дух, я погладил через рёбра прыгающее сердце, ещё раз, уже облегчённо, чертыхнулся: нервы, чёрт бы их побрал! Впору валерьянку начать пить вместо водочки и бражки. А кстати – хлебнуть бы надо, для успокоения.
Свет я не выключил. Пошёл к столику за кружкой. И вдруг решил: дай-ка гляну за шифоньер. На всякий случай. Между боковиной шкафа и стеной чернела ниша. Сверху заглянуть в неё трудновато: труба отопительная мешает. Внизу же она изгибается к батарее, пространство – пошире. Я встал на колени, подсунул голову под трубой к самой стене, посмотрел в нишу…
– Ах! Ой!..
Отпрянув, я шарахнулся виском о проклятую батарею. В глазах потемнело.
За шифоньером сидела, прижавшись к полу, какая-то тварь. Она походила на грязно-белую кошку. Может, и в самом деле – кошка? Но уж больно взгляд осмысленный и неестественно горящий, да и морда какая-то странная – крупная, несоразмерная с телом, уродская.
Секунд десять я, перемогая боль в голове, корячился у батареи. В мозгу тюкало одно и то же: бред… двери были закрыты… Бред! Двери закрыты!
Наконец я опомнился: ах ты тварь! Я вскочил, бросился в ванную за шваброй. На бегу глянул в кухню: а-а-а, вон что – на лоджию-то дверь распахнута… Но ведь – пятый этаж!.. Однако ж, думать и гадать пока некогда.
Выставив швабру ручкой вперёд, я сунулся в нишу – пусто. Я снова упал на четвереньки, заглянул в узкую щель под шифоньером. Никого. Пополз по периметру комнаты, заглядывая под тумбочку, под диван, под стол…
Ха, конечно, – почудилось! Фу-у-у… Однако ж… Хе-хе! Шуточки плохи…
Я отключил бубнящий телевизор, отнёс швабру на место, постудил висок под краном, выпил ещё кружку бражки и, постелив, лёг спать.
Эх, хорошо бы сразу уплыть в сон, но – куда там. Колючие мысли засвербели в голове, не давали боли успокоиться. Да-а-а, тварь эта мерзкая привиделась мне, понятно, неспроста – сигнальчик, звоночек. Я и сам в последнее время подспудно чувствовал: порю хреновину, так недолго и брыкнуться. А жить-то, братцы вы мои, ещё очень даже хочется и желается. Да ладно, если кувыркнёшься, голубчик, а что, не дай Бог, если крыша совсем съедет? Будешь по квартире на карачках ползать и слюни до полу распускать…
Откровенно говоря, я не ожидал, что так скоро начнутся вот такие всякие проблемы. Всего полгода, как я живу один. Я давно мечтал об этом празднике одиночества. Как же я ненавидел порой жену свою, готов был, кажется, убить. Скандалы, скандалы, сплошные скандалы. Особенно стали они хроническими и горячими, когда мне пришлось уйти с прежней постоянной службы. Не то что поддатым, даже с запахом домой придёшь – визг, тарарам, слёзы.
В один из вечеров сцена вышла уж совсем чересчур безобразной. Я был только слегка подгазован, чуть-чуть на взводе. Невыносимо хотелось выпить ещё. Хотя бы глоток. Я знал: у жены в заначке хранится бутылка шампанского – к Новому году. Я понимал: просить бесполезно. Жена сидела сзади на диване, вязала. Я – в кресле, смотрел телевизор. И как назло, показывали фильм дурацкий, где каждую минуту пьют и пьют – только пробки хлопают.
Где же у неё может быть «шампунь» запрятан? Я позевал, похрустел суставами.
– Ну его, это кино дебильное, пойду лучше чайку хлебну.
И замер: вдруг благоверная моя тоже загорится чаю попить? Но она, ворчнув: «Тебе всё бы хлебать», – отпустила меня с миром. На кухне я для блезиру поставил с грохотом чайник на плиту и бросился шарить по шкафам. Тщетно. Чёрт её подери, наверное, в комнате где-нибудь заныкала… Стой-ка, стой-ка, а – ванная?
И точно, в шкафу со стиральными порошками и мылом покоилась праздничная бутылка. Потея от усилий и страха, я бесшумно свернул ей на кухне блестящую головку, нацедил в чайную чашку шипучей радости, залпом заглотил. Чуть не закашлялся. Быстренько налил новую порцию: скорей, скорей!
Но дверь из комнаты уже хлопнула, приоткрылась кухонная. Я сунул бутылку под стол, бросился к жене, вытолкал её обратно в коридор.
– Уйди отсюда! Уйди, я сказал!
– Что ты там делаешь? Что ты там, подлец, делаешь? – с ходу завизжала она. – Тварь ты такая! Как ты посмел шампанское взять?..
Я, стиснув зубы, держал дверь. Жена её дёргала, била. И – трах! – рифлёное стекло разлетелось в мелкие дребезги. Лицо жены – страшное, перекошенное. Кулак её окровавленный. Она, распахнув донельзя рот, завыла в голос.
Мне бы остановиться, но я захлебнулся злостью, тоже взревел, взвыл от ярости, схватил тяжёлую бутылку из-под стола, замахнулся… Жена, подавившись криком, отскочила, прикрылась красным кулаком. Я жахнул бутылью о край стола.
– На-а-а, дура! Подавись своим паскудным вином!..
Я понял: уснуть вот так сразу не удастся.
Мысли-воспоминания давят – это бы ладно. Однако ж, и наваждение не кончается. Я изо всех сил склеивал веки, но продолжал ощущать на себе чужой упорный взгляд. Я же убедился: никого в комнате нет. Чего ещё надо? Нет, нет, нет! Ни-ко-го. Я – один.
Чуть разлепив ресницы, я всмотрелся в темноту. Два зелёных фонарика висели надо мной. Усилием воли я заставил себя не шевельнуться, распахнул глаза во всю ширь: светящиеся зрачки не исчезли. Надо ж было – эх, не подумал! – шторы открыть. В такой тьме что угодно может пригрезиться. Стараясь двигаться плавно, я выпростал правую руку из-под одеяла, занёс её за голову, нашарил тумблер торшера, щёлкнул.
Тварь!
Когда я сплю один, диван-кровать раскладывать нет смысла – постилаю так. И вот теперь на возвышающейся спинке дивана, прямо над моим лицом сидел этот грязный кот, хищно всматривался в меня. Пасть его щерилась совсем по-собачьи: вот-вот, и он вцепится мне в горло.
Скорее от страха, чем осознанно, я наотмашь шарахнул тварь правой рукой по морде. Зверь отпрыгнул, клацнул клыками, выгнул спину, вспушил хвост.
– Брысь! Пшёл, сволочь!
Я вскинул одеяло, хотел накрыть, поймать урода, но он громадным прыжком махнул на тумбочку с радиолой, оттуда – на журнальный столик. Я бросился к нему, запустив тапком. Кот зыркнул на меня бешеным взглядом, сиганул на штору, в мгновение ока повис под самым потолком. С ходу я вцепился в шторину, с проклятием рванул вниз. Гардина рухнула, я еле успел увернуться. Тварь с шипением перемахнула на телевизор, чуть не сорвалась, заелозила по стеклу лапами. Я пнул её с размаху, но угодил по экрану и присел от боли. «Сапфир» влепился в стену и тяжко грохнулся об пол. Враг мой сгинул без следа.
Снизу, от соседей раздался настойчивый стук: кончай шуметь! Я глянул на часы – полвторого ночи. Голова раскалывалась, трещала. Прихватив с собой флакон одеколона, я плотно, на защёлку затворил комнатную дверь. На кухне я разбавил «Гвоздику» водой, превозмогая тошноту, запихал в себя отвратную мутную смесь, залил сверху брагой. Ну всё, докатился, дошёл окончательно – одеколон начал жрать. Но, вроде, полегчало. Вскоре я отключился прямо на стуле, уронив голову на липкий стол.
Ах ты тварь такая! Горло мне хотела перегрызть.Шиш тебе с хреном!
Я ещё поживу…
Наутро, разбитый и вконец больной, я, стараясь не смотреть по углам и не обращать внимания на кавардак в квартире, оделся, выпил кружку своего лекарства и ушёл.
В те дни я подрядился продавать исторический роман «Ярмарка» местного автора Яковлева. Каждая книжка стоила девять рублей, из них рублишко – мой. Часам к пяти вечера я наторговал себе восемнадцать целковых. Хватит. Домой идти не хотелось. Куда же податься? Да в «Лель», конечно, больше некуда.
В этом заплёванном гадюшнике я проторчал до самого закрытия. Хорошенько вдарил. Намешал пива с водкой так, что закачало. Вот и славненько! Ещё Нинку прихватить с собой, и – никакие твари нам не страшны. Хе-хе! Мы и сами, когда вмажем, – как твари.
Но Нинка меня ошарашила:
– Не пойду, и всё.
– Да как это ты не пойдешь, сучонка ты разэдакая?
– А вот так, не пойду, и всё, промежду нами всё закончено!..
Упёрлась и – ни в какую. Я и просил, и грозил, и умолял. Даже пытался было всё как есть объяснить: дескать, тварь какая-то в доме завелась, страшно мне одному. Куда там! Нинка как про тварь услышала, окончательно, дрянь такая, заартачилась. Ладно, плюнул я, стребовал у неё откупную бутылку взаймы, поплёлся один.
Дома я первым делом заглянул в комнату, включил свет. Мерзкая тварь с хвостом сидела на самом виду, посреди комнаты, злобно на меня зырилась. Надо бы испугаться, но выпивка надёжно бодрила. Я смачно харкнул в сторону зверя, обложил его матерно, ушёл на кухню. Нахлюпал полный стакан водки, достал горбушку хлеба, вскрыл консервы. Сейчас булькну залпом двести пятьдесят и – бай-бай. Пусть хоть вся преисподняя здесь шабаш справляет. Я приложился к краю стакана и, запрокидывая голову всё сильнее, начал медленно втягивать тёплую муторную жидкость.
Вдруг что-то тяжёлое и мягкое ударило меня в затылок. В лоб впились острые иглы когтей. Нестерпимая боль пронзила голову. Я вскрикнул, дёрнулся, опрокинулся навзничь вместе со стулом, хряснулся теменем о плинтус.
Тут же вскочив, я зажал лоб ладонями, чувствуя – кожа содрана, сочится кровь. Кот, изогнувшись дугой на столе, напружинился, вот-вот снова на меня прыгнет. Сердце у меня стиснуло: почему он меня совсем не боится? Почему?! Я, с ужасом глядя на взъерошенную дикую тварь, пошарил рукой сзади себя: чем бы её садануть? Если она ещё раз в меня вцепится, я заору на весь дом.
Рука наткнулась на кастрюльные крышки: они сушились на стене в специальном ярусном каркасе. Выхватив нижнюю, самую тяжёлую, я запустил её в кота. Тот увернулся, соскочил на пол. Я цапнул другой эмалированный диск, с маху швырнул: на! Он, вращаясь, разрубил бы тварь надвое, если б попал. Но – опять мимо. Ах, тебе мало? Не боишься, гадина? Зверь презрительно меня рассматривал. Я сгрёб двумя руками чайник с плиты и обрушил на кота: гром, грохот, звон, брызги… Тварь, наконец, растворилась за дверью. Снизу послышался раздражённый стук.
Да пошли вы!
Я опустился на стул и сидел, застыв, с полчаса, тупо уставившись на бутылку. Потом налил водки в ладонь, смочил израненный лоб, заскрипел зубами. В бутылке плескалось ещё порядочно. Хотел налить в стакан, но, удивив сам себя, опрокинул поллитровку над раковиной, вытряхнул всё до последней капли. Посидел ещё, подумал, достал из-за стола пятилитровую банку с остатками браги, тоже слил в канализацию.
В ванной глянул на себя в зеркало: ничего себе – видок! Словно в драке побывал. Залез под холодный душ, полоскался, пока не посинел. То и дело в голове мелькала мыслишка: не кликнуть ли соседей на помощь? Однако ж, чёрт его знает: упекут ещё в психушку. Соседи у меня те ещё типы, да и любовью ко мне не пылают – жена постаралась в своё время, настроила.
Хмель окончательно выветрился. Голова, хотя и гудела, но работала ясно. Я прошёл в комнату, всмотрелся по углам – пусто. Где же может он прятаться? А-а-а, да вот же где! Я подкатил журнальный столик к шифоньеру, на столик взгромоздил стул, вскарабкался, заглянул на антресоль. Так и есть, кот лежал на самой верхотуре.
Он опять вёл себя как-то странно: лежал обыкновенно, по-кошачьи, укрылся хвостом, спокойно, мирно щурился на меня золотыми щёлками зрачков. Ещё бы замурлыкал, подлец, тогда б вообще идиллия. Словно не он час тому назад чуть не выцарапал мне глаза.
Я смотрел на кота в упор, но ни страха, ни злости в себе тоже не находил. Устал, видимо. Вдруг мысль юркнула в мозгу: уж не моя ли это благоверная? А что? Она ж ведьма ведьмой. Обернулась хвостатой тварью и терзает теперь меня, мучает…
Впрочем – бред. Пора кончать. Я спустился, принёс из кухни консервы, которые чудом каким-то устояли на краешке стола, подсунул банку коту (или кошке – чёрт там разберёт) под нос. Зверь хмуро на меня взглянул, равнодушно свернулся калачиком, затих. Почему он ничуть не тревожится? Ведь я могу схватить его сейчас и… А что, если топорик отыскать?
Кот, словно учуяв мои мысли, приоткрыл один глаз: мол, хватит глупостей.
– Ну и бес с тобой, – устало сказал я и оставил его в покое.
Только лишь я коснулся подушки головой, как провалился в тёмную, бездонную – без сновидений – пропасть.
Бывшая тёща искренне обрадовалась, увидев меня на пороге.
Это меня вдохновило. Мы с ней вопреки поговоркам-анекдотам друг на дружку никогда не злобились. Журила она меня, бывало, за лишнюю рюмашку, но – жалостливо, с сочувствием. И когда доводилось ей при баталиях наших семейных присутствовать, чаще мою сторону держала, дочку свою от излишней злобы урезонивала.
Жены дома не оказалось – в баню она пошла. Я вспомнил: сегодня же воскресенье – Божий день. Значит – Бог в помощь. Тёща начала удерживать: здесь дождись, чай вот закипел, щи разогреваются. При слове «щи» я сглотнул слюнки, но всё ж решительно взялся за ручку двери: пойду встречу. Ждать не было сил.
Городская баня дымила на соседней улице. Я встал у крыльца и вскоре увидел свою Галину Фадеевну. Она меня не заметила. Шагов полста я шёл за ней вплотную в странном волнении, никак не находя решимости окликнуть. Наконец проглотил ком в горле.
– Галя!
Она обернулась и – вспыхнула, качнулась ко мне. Лицо её, розовое, сияющее, было детски беззащитным без косметики, милым и родным. Но тут же она нахмурилась, насупилась, отступила на шаг.
– Чего тебе? Зачем припёрся?
– Галь, не надо… Я прошу… Я по-серьёзному…
Меня бодрила-подбадривала её первая реакция, непроизвольная: не безразличен же я ей?
Долгим, тяжёлым, мучительным, изматывающим получился тот наш разговор. Жена поставила жёсткий ультиматум: лечиться. Как я ни корчился, ни извивался – пришлось согласиться. Тёща по радостному случаю обрадовано колготилась, потчевала меня соленьями-вареньями и всё приговаривала:
– Так-то лучше, ей-Богу. Мирком да ладком – оно и справнее. Без водочки-то куда как слаще жить…
Она знала, что говорила: муж её, Галин отец, сгорел от пьянства.
– Ты кота завёл? – жена удивлённо разглядывала грязно-белое животное.
Я тоже с неприятным удивлением воззрился на тварь, которая – вот новости! – задрав палкой хвост, делала поползновения потереться о наши ноги. В глубине души я надеялся, что этот мохнатый чёрт с появлением жены исчезнет из квартиры напрочь. И вот – здрасте вам! – чуть не ластится, корчит из себя мирную домашнюю живность.
– Да скучно одному было, – пробормотал я. – А тут он или она, до сих пор не знаю, появился. Через лоджию, что ли, влез.
– Через лоджию?
– А что ты думаешь, коты, знаешь, какие шустрые.
– Ты хоть помыл бы его.
Я невольно хмыкнул. Помыть… Такого зверя, пожалуй, помоешь.
Но, как ни поразительно, жена без лишних разговоров действительно прополоскала кота (он оказался всё же «мужиком») в тазу с антиблошиным шампунем. Кот мирно фыркал и не царапался. Он вообще теперь притворялся обыкновенным домашним котом. Небольшие, правда, странности за ним остались. Он, например, не ел. Совершенно. По крайней мере, на наших глазах. И не гадил. Оно бы и к лучшему, однако ж – раздражает. Как же это: живое существо и не ест? И ещё: почему эта тварь не мурлычет, не мяукает? Немая, что ли? Да разве бывают кошки немые? Бред какой-то!
Пробовал я ещё пару раз шугануть зверя из квартиры, но быстро отступался. Кот мгновенно впадал в ярость, раздувался до чудовищных размеров, изготовлялся к прыжку. Это поддатому можно с такой дикой тварью сражаться, у трезвого – коленки слабоваты. Чёрт с ним, ещё перегрызёт ночью горло…
Ладно, как-нибудь всё образуется, потом, когда жизнь окончательно и полностью в нормальную колею войдёт. Пока же я старался не обращать внимания на мохнатого выродка, да и не до него было: каждый день таскался в клуб трезвости «Оптималист» на лечебные сеансы, искал работу, вечера проводил у жены с тёщей. Гале же странности кота в глаза особо не бросались: она, по уговору, жила пока у матери, дома бывала изредка. Раз только мимоходом спросила:
– Ты его к порядку приучаешь? Надо в определённые часы ему дверь в туалет открывать. Приучаешь?
– Ха, учёного учить… – скривился я, но, чтобы замять разговор, успокоил: – Приучаю, приучаю, уже почти приучил.
Для себя самого успокоительное объяснение странностям кота я вроде нашёл: двери на лоджию всегда открыты, он шастает на улицу, там и ест, и пьёт, и всё такое прочее. Пятый этаж? Такой твари – хоть десятый. Тварь она и есть тварь. Тем более, когда совсем даже не Божье, а – чертовское создание.
Я сбился с ног. Устал.
Часа три уже мотаюсь я по городу. Моросит дождь. Проклятый октябрь! Я совершенно продрог. И главное, что бесит – впустую бегаю. Во всех магазинах – хоть шаром покати. Лишь опухшие от безделья, зевающие продавщицы. Просил, унижался, чуть не плакал. Ну ведь есть же у них под прилавком, есть, я знаю. Собаки наглые! Ещё голос повышают, покрикивают.
Мне надо одну только бутылочку. Хоть чего. Хоть паршивой «Стрелецкой». Хоть портвейну вонючего. Хоть… Чёрт, может, одеколон дешёвый есть?
Я вприпрыжку помчался в универмаг. Ха! Французская туалетная вода за сто сорок. А у меня всего-навсего – червонец. Ни копья больше. И Нинка, корова потная, как назло в отпуск ушла. Приспичило ей. Где ж взять-то? В кабаке четвертной надо, да ещё – выпросишь ли? И – деньги, деньги, деньги!
Я глянул на часы, уже шесть вечера… Стоп, ребята! Это идея. Часы у меня приличные: «Полёт», восемнадцать камней, будильник. Таким в наши дни цена – за две сотни. Я срываю их с руки: скорей, скорей!
Однако ж, торгашом быть, оказывается, совсем не просто. Покупателя надо бы за грудки хватать, а я вместо этого мямлю, краснею, отвожу взгляд.
– Ворованные, што ли? – глумливо кривится плюгавый лысый старикан.
Видела бы моя покойница матушка, до чего я дошёл. Впрочем, это всё скоро кончится…
И тут меня осенило: надо – в духе времени – бартер провернуть. Я кинулся в «Лель». Сменщица Нинки, расплывшаяся размалёванная баба в кудряшках, чуть-чуть меня знала. Я без обиняков сунул ей под толстый нос часы и мятый червонец: нужна бутылка. Мерзавка поманежила меня, помучила, но мне отступать было некуда – упросил.
Домой я бежал рысью. Скорей, скорей, уже невмочь. Только б Галя не припёрлась. Я уже не могу ждать, не могу…
Кот, взъерошенный, свирепый, сидел в прихожей. Я не удивился, знал, что так будет. К чёрту! Я с порога, не раздумывая, шуганул его пинком.
– Пшёл!
Он увернулся, шарахнулся прочь, бессильно сверкнул фосфорным взглядом.
– Потерпи, тварюга! – прикрикнул я. – Сейчас по-твоему всё будет, позабавишься.
Замки я запирать не стал, только накинул цепочку, чтобы сразу можно было догадаться: я – внутри…
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА. Сегодня утром в доме № 8 по улице Энгельса обнаружен труп гражданина А. По предварительным данным, гражданин А. более года назад был уволен по сокращению. Нигде не работал, сильно пил. Попытки лечиться от алкоголизма в клубе «Оптималист» результатов не дали. Месяц назад гражданину А. с его согласия было вшито в мышцу средство «эспераль» (так называемая «торпеда»), полностью исключающее употребление спиртного. Причиной смерти А. и стала водка: опорожнённая бутылка валялась рядом с трупом.
Обнаружена записка странного содержания: «Не могу больше видеть кабанов, призывающих голодать!!!», — которая предполагает версию самоубийства. Не исключено, что А. был болен белой горячкой. На магнитофонной кассете обнаружены также весьма странные записи о каких-то «тварях» и «чертях», надиктованные голосом А.
И ещё одна деталь: на лице и горле трупа имеются кровавые царапины и ссадины. Предположительно, это следы кота, который, по словам бывшей супруги А., жил последнее время в квартире. Однако самого кота обнаружить не удалось.
ТРУДНО БЫТЬ ВЗРОСЛОЙ
Рассказ
«Судьба (если только она есть), скорей всего, – слепая, злая и взбалмошная старушонка. Без всякой системы и справедливости суёт она в руки кому попадя обжигающие слитки счастья и с отвратительной застывшей гримасой прислушивается – что будет? А люди: маленькие и большие, добрые и злые, великие и обыкновенные, но все одинаково – дети, и кричат, и смеются, и плачут от восторга, сжимая в ручонках сверкающие кусочки счастья, носятся с ними, всё время боясь потерять.
И вдруг однажды они обнаруживают, что вместо ослепительного золотого самородка счастья они сжимают в кулачках серый булыжник горя. И многим невдомёк, что у них всё время и был этот грязный тяжёлый булыжник, и что они сами наделяли его в воображении сиянием…
И острой болью дёргается сердце, слыша отдалённое безобразное хихиканье старухи-судьбы, которая ещё раз в полной мере насладилась наивностью и доверчивостью очередного живого сердца…»
Лена отложила пухлую тетрадь, откинулась на подушку и блаженно улыбнулась: «Какой умница Стас! Ведь надо же так написать!..»
– Умница, умница, умница! – повторила она быстро несколько раз, словно целуя Стаса, и рассмеялась. – Ну и глупышка же я, уже сама с собой разговариваю!
Лена ждала любви, как люди на вокзале ждут свой поезд: сколько бы ни задерживался, а всё равно придёт.
На чём базировалась эта уверенность, Лена меньше чем кто-либо могла объяснить, она просто знала, что или сейчас, или через год, когда ей будет восемнадцать, или даже через два ей встретится ОН. Может быть, обожаемый Грин вдохнул в неё эту уверенность? Она была уверена и потому спокойна.
Ирка, соседка по комнате в студенческом общежитии, пятью годами была постарше и, естественно, поопытнее во всех делах, в которых только требуется опыт. Эта многоопытная Ирка частенько билась лбом о стенку Ленкиного спокойствия. Вот образчик обычного вечера в комнате № 318.
Ирка, сидя в одной короткой, до размеров майки, сорочке перед настольным зеркалом, отчаянно дымя сигаретой и одновременно намазывая импортной тушью ресницы, по привычке клокотала:
– Дура ты, Ленка, как есть круглая дура! Как арбуз. Ну вот какого ты лешего этот дурацкий дойч долбычишь? Ведь послезавтра он… А кстати, мне Жора идейку подкинул: Тургенев – скучный мужик, а смотри, как клёво выразился…
Ирка с одной накрашенной ресницей на лице, от чего у неё сделался какой-то подмигивающий вид, нашла в книге нужную страницу и с наслаждением вычитала:
«Владимир Николаевич говорил по-французски прекрасно, по-английски хорошо, по-немецки дурно. Так оно и следует: порядочным людям стыдно говорить хорошо по-немецки…»
– А, каково? Порядочным! Послезавтра на семинаре вслух зачитаю, при немке – потеха будет…
Лена снисходительно улыбнулась:
– Ты хоть знаешь, по какому поводу это сказано? Это же Тургенев пустышку Паншина характеризует, иронизирует, а ты всерьёз принимаешь. Сама-то так и не прочитала роман. И Жоре поменьше верь, опять он подшучивает.
– Ну, Жора, ну, заяц! Я ему щас покажу на скачках! – Ирка обиженно запыхтела сигаретой и углубилась в гримирование своего лица.
Потом промычала от зеркала:
– Думаешь, немка помнит этого Паншина? Дудки! А ты вставай и встряхивайся! От этого немецкого зубы выпадут. На дискотеку пойдём… Опять не пойдёшь?
– Ты же знаешь, что нет. Это дикость: в комнатушке размером с шифоньер, в темноте, прыгать, не зная с кем. («Узнаем!» – вставила Ирка.) Нет, вот я немецкий доучу, потом Карамзина дочитаю и письмо надо домой написать… Дел хватит.
– Ну и бес с тобой! Так и засохнешь за книгами. Ведь, посмотри, тебе – семнадцать, а у тебя схватиться не за что – и лифчика не надо. Одни глазищи да лохмы, как у Пугачёвой, а то и вообще бы за девку не признать. Эх, мне бы такие глазищи! Такие волосы! Да я бы!.. Тебя веником убить мало или твоей же книгой – долго ты будешь так сидеть?!.
Ирка бесилась каждый раз на полном серьёзе, и Лену это даже иногда пугало.
– И что ты злишься? Мне неинтересно знакомиться с этими юнцами, понимаешь? Они все как по шаблону сделаны – скучные.
– Юнца-а-ами… Посмотрите на эту старуху! Много ты понимаешь… Как же скучно, когда их много и все разные?..
Ирка уже успокаивалась, предвкушая весёлую карусель вечера, новые знакомства, поцелуи… Она скинула рубашку, бодро втиснула телеса в джинсы, которые не лопались только потому, что были настоящие, фирмы «Lее», натянула прямо на голое тело распашонку с умопомрачительным вырезом. Навесив куда только можно с полкило золота, она, уже оживлённая и даже похорошевшая, последний раз крутнулась перед зеркалом.
– И-и-иех, соблазню!.. Ленуся, – пропела она традиционную шутку, – если я с мальчиком привалю, сделай видок, что дрыхнешь. Гут? Ну ладно, не смотри на меня синими брызгами – шучу… Чао!
Лена только покачала головой, включила электрочайник и углубилась в модальные глаголы.
Так было раньше. Теперь же всё по-другому. Всё совсем по-другому…
А началось это в новогоднюю ночь. Затащила таки её Ирка в чужую совсем компанию. Были, правда, там человека три тоже первокурсников с её, филологического, а остальные – с журфака, притом все с четвёртого курса. Ирка сразу отхватила себе потрясного журналиста, и уже через полчаса они целовались за книжным шкафом так, что в нём дребезжали стёкла. Лена, стараниями всё той же Ирки, была приведена сегодня в божеский вид. Роскошная шапка рыжеватых, заметно завитых волос служила прекрасной рамой тонкому бледному лицу, в котором всё заслоняли поразительно огромные светло-голубые глаза. Эти широко распахнутые глаза даже не затенялись длинными ресницами, и любой и каждый мог при желании заглянуть через эти глаза-окна в самую душу Лены: грусть или веселье плескались в них через край.
Сейчас в них была откровенная скука. Лена сидела в самом уголочке, между шифоньером и ёлкой. Она время от времени одёргивала широкие рукава праздничного сиреневого платья (на школьный выпускной вечер его сшила) и отпивала по глоточку пепси-колу. Щёки её нежно заалели от выпитого прежде бокала шампанского.
Было шумно и накурено. Еды мало – бутербродики да солёные огурцы. Зато вино и водка лились ручьём. Притом вино такое, что от него, стоило только пролить, пластами выгорала лакировка стола. Одну бутылку шампанского уже выпили, а вторую – и последнюю – ради приличия оставили до звона Кремлёвских курантов. Что-то невнятно бубнил телевизор, в углу взвизгивал магнитофон. Две парочки сомнамбулически извивались, закатывая глаза и прилепив бессмысленные улыбки на лица. Периодически позванивали стёкла в шкафу, за которым укрылась Ирка с долговязым журналистом. Ещё к одному журналисту, на кровати, прилипли две девушки с томными лицами наслаждались мюзикальным искюсством . Тот рвал на обшарпанной гитаре струны и жутко хрипел песни Высоцкого или скорбно гнусавил романсы Окуджавы. Щётка неопрятных усов под его носом лоснилась от вина. В недоеденном бутерброде на столе торчал изжёванный окурок.
Было нехорошо. Хотелось уйти.
Лена отвернулась и прильнула лицом к прохладному стеклу. Шёл снег. С шестнадцатого этажа землю почти не было видно, и, казалось, не снежинки падают вниз, а окно вместе с комнатой, вместе с громадным домом, вместе с ней, Леной, плавно возносится – в ночь, в тишину… «Новый год, – кольнуло внутри, – Боже мой, ведь – Новый год!..» Какие-то ожидания, какие-то смутные мечты, какие-то предчувствия мягкой варежкой сжали сердце и стало тепло, спокойно и уютно. «Я сегодня обязательно буду счастлива! Обязательно!..»
Он вошёл за пять минут до Нового года. Что это ОН, она тогда ещё не знала, просто невольно обратила внимание, что все ему обрадовались – «Стас!.. О-о-о, Стасик!..» – и обрадовались, было видно сразу, искренне и от души. Может, поэтому Лена сразу внимательно его рассмотрела. Всё время, пока парень пожимал руки, шутил, улыбался, она его рассматривала и вдруг поймала себя на том, что пытается найти в нём какой-нибудь изъян. И не находит.
Ей сразу понравилось, что он не в джинсах – как-то натёрли уже глаза эти джинсы. Тёмный костюм-тройка, белая рубашка и галстук придавали ему немного строгий вид и выгодно выделяли на фоне всей мужской половины компании. Строгость костюма оттеняла лёгкая смешинка в карих глазах. Короткие каштановые вьющиеся волосы и светлые красивые усы делали его похожим почему-то на белогвардейского офицера, каковых Лена знала-представляла по фильмам.
С его появлением компания действительно стала компанией. Все собрались за столом, замолкла музыка, стрельнуло шампанское.
– Стас! Стас, тебе слово, давай! – послышалось со всех сторон.
«Какое интересное имя», – подумала Лена и подняла свой стакан. Стас красиво встал, красиво поправил волосы левой рукой, красиво показал белые зубы в улыбке и удивительно красиво сверкнуло янтарное вино в его бокале.
– Ещё Некрасов восклицал: «Не водись-ка на свете вина, тошен был бы мне свет!» Согласимся с поэтом? Вино – это бензин в машине под названием «Веселье». Так въедем на этой машине в новый год, в котором нас всех ждёт счастье! Ибо, подчеркиваю – ибо, нет ничего легче, чем быть счастливым. Помните, Фёдор Михайлович сказал: «Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив». Выпьем за то, чтобы всегда это знать!
«Это же он мне, мне говорит!», – замирая, подумала Лена, и куранты в телевизоре торжественно подтвердили:
– Да-а!.. Да-а!.. Да-а!.. – Двенадцать раз подряд.
И буквально всё, всё, всё преобразилось. Все какие-то милые, добрые, весёлые. Вкусно, до слёз, пахло ёлкой, лесом. А потом милая Ирка знакомила её. Знакомила со Стасом. И Стас сидел рядом с ней. Они пили горькое вино, и голова кружилась. Хотелось смеяться. Стас что-то рассказывал ей о Достоевском. Ужасно хорошо рассказывал. Потом у него в руках оказалась гитара, и он ей, одной ей пел прекрасный романс «Гори, гори, моя звезда». Он пел, и в глазах его стояли слёзы и мягкий голос чуть дрожал, и у Лены по телу пробегали мурашки тёплого страха от того, что всё так невероятно хорошо. Потом они пили со Стасом на брудершафт, и было первое прикосновение губ. Потом танцевали, и он нежно касался ладонями её тела, и она чувствовала силу и ласковость этих ладоней. А потом, под утро, когда он проводил её до дверей 318-й, она, как в омут головой, бросилась ему на шею и прижалась неумелыми губами к его мягким душистым усам. И он долго и сильно целовал её, и она вздрагивала всем своим детским телом от сладости и жара первых настоящих мучительных поцелуев…
Счастье было безмерно.
Они встречались каждый день, и Лена не переставала открывать всё новые и новые достоинства в Стасе. С ним было так хорошо, что Лена даже чуть не заболевала, когда несколько часов его не видела. Она порой ужасалась: а что, если бы она не пошла тогда на эту вечеринку?!
Вместе со Стасом она начала бывать, правда, сначала неохотно, в студенческих компаниях и открыла вскоре, что журналисты и в целом не такие уж дураки, как было принято о них думать в этом университетском общежитии. Но из всех выделялся Стас: пел, играл на гитаре, учился прекрасно, писал настоящие рассказы и один уже напечатал в молодёжном сборнике…
Часто в какой-нибудь комнате собирались несколько человек, и начинались песни, танцы, но чаще споры и даже целые дискуссии – о жизни, кино, литературе… И когда страсти в споре раскалялись до белого каления и спорящие начинали брызгать слюной, точки над i почти всегда расставлял Стас – возраст (ему было уже 28 лет), необычайно высокая эрудиция делали его мнение для многих непререкаемым.
– Ещё Гёте выразился, что стихи должны быть отменными или вовсе не существовать, – веско говорил Стас, и спор о стихах на этом затухал.
Или:
– Всякая любовь проходит, а несходство навсегда остаётся! – это ещё Достоевский в «Униженных и оскорблённых» написал, – и на эту тему дебаты прекращались.
В такие минуты Лена даже пыжилась от гордости за Стаса и, не стесняясь толпы, целовала его в знак награды. Она вообще удивительно как перестала стесняться. Приводила Стаса в свою комнату, и они порой до утра сидели на её кровати, шептались, замирали в поцелуях, до боли в спине обнимались. А бедная Ирка, уже опомнившаяся от первоначального шока, вызванного перерождением Лены, или слонялась по гостям, или затихала на своей постели, стараясь не скрипеть противными пружинами. Наутро Ирка пытливо всматривалась Лене в глаза, с ожесточением хлопала себя по бёдрам и трагически восклицала:
– Опять только обнимались? Дура ты, упустишь красавца, добережёшься!..
Но Лена боялась. Каждый раз, как только во время поцелуев и объятий движения Стаса становились судорожными, почти грубыми, и он начинал страстно дышать, Лена жалобно просила:
– Не надо, Стасик! Миленький, потом… Не надо… Потом…
И Стас, скрипнув зубами, обмякал.
Но всё же однажды, когда Ирки не было дома, это произошло. Было сначала гадко до тошноты, страшно, больно и стыдно. Были слёзы. Но Стас так нежно её успокаивал, в чем-то клялся, так осторожно вытирал поцелуями её слёзы, что через полчаса Лена уже тихонько смеялась и наивно спрашивала:
– Стас, я теперь – женщина, да? Настоящая женщина? Стас, милый, тебе хорошо со мной?..
Стас что-то снисходительно мурлыкал в ответ. Началась сессия. Теперь они почти совсем не расставались. Лена уже не боялась физической близости – Стас удивительно быстро научил её находить в этом наслаждение…
Счастье, казалось, будет вечным.
Оно длилось девятнадцать дней.
20-го января, в воскресенье, утром Стас ещё в полумраке выскользнул из-под одеяла, оделся, поцеловал её, полусонную, в шею и, сказав: «К обеду заскочу. Дела есть», – ушёл. Только Лена потянулась истомлённым телом и уютно запаковалась в одеяло, собираясь ещё подремать, как пришла Ирка. Ей уже третью ночь подряд приходилось ночевать где попало, притом она накануне завалила пересдачу по русскому, поэтому Лена не очень удивилась, когда захлопали двери, зазвенели тарелки, полетели на пол книги. «Глупая! Ну разве можно так злиться? Да и вообще, разве можно злиться?» – подумала она, а вслух спросила:
– Ир, ты чего? Случилось что-нибудь?
– Это у тебя каждую ночь случается, а мне случаться не с кем, я ж не корова!
– Да ты что, Ира? – испуганно вскрикнула Лена. – Да разве можно так? Ты что, завидуешь?..
– Я? Я завидую? – взвизгнула Ирка. – Да мне противно на тебя смотреть! Рвать тянет! Дура ты! Глазищи – с тарелки, а ничего не видишь… «Ах, Стасичек, мой Стасичек, ты мене лю-ю-юбишь?» – передразнила она зло. – Да таких, как ты, тёлок у него уже стадо целое! Я, как дура тоже, думала – пожмётся, пообнимается и затихнет. А она – влюбимшись! Ты иди, иди, посмотри ещё, что за письма к нему идут. Я-то знаю, ведь тоже на «В» фамилия начинается… Чёрт-те что, нет и нет мне письма, а ему одно за другим, одно за другим, и все бабским почерком подписаны. И сейчас опять… Э, э, э, ты чего? Вот квёлая!..
Лена разлепила белые губы и прошептала:
– Нет, ничего, я слушаю… Я очень внимательно слушаю…
Потом, когда Ирка ушла, Лена дрожащими от нетерпения руками натянула платьишко, кое-как причесалась, злясь на непокорные волосы, и, даже не закрыв двери, сбежала вниз. У разделённого на ячейки почтового ящика, к счастью, никого не было. Лена зачем-то воровато оглянулась и схватила толстую пачку писем на «В». Конверты то и дело выскальзывали из рук и шлёпались на пол. Воронову… Варнадзе… Вабуровой… Виноватых… Варнаковой… Есть! Лена несколько секунд подержала конверт, на котором округло и красиво было выведено – Ворожейкину Станиславу Николаевичу – потом сложила его пополам, засунула в кармашек платья и зажала его крепко-крепко рукой.
Она несколько раз вынимала его в комнате, снова и снова вчитывалась в обратный адрес: г. Тамбов, ул. Энгельса, дом N8, кв. 31, и неразборчивая подпись, – но распечатать так и не решалась. Потом хотела отнести и положить на место. Наконец, устав от этого, чувствуя, что вот-вот заплачет, она решила: если он не придёт до четырёх часов, тогда она вскроет письмо, а там – что будет, то и будет. Лена завела будильник и поставила звонок на четыре. Она включила на магнитофоне плёнку с Аллой Пугачёвой почти на полную громкость и легла на постель. Главное, ни о чём не думать! Всё объяснится! Не может быть!..
Хотелось что-нибудь разбить. В груди было больно. Она лежала долго. Вставала только менять кассеты в магнитофоне. Потом взяла с тумбочки тетрадь с рассказами Стаса и открыла наугад.
«…Ветреная тощая секундная стрелка, на бегу чмокнув очередной клинышек на циферблате, сразу устремлялась дальше. Минутная уже более добротно, по-родственному, расцеловывала каждый клинышек в обе щёки и вперевалочку направлялась к следующему. Часовая, толстуха и коротышка, основательно впивалась взасос и потом опять впадала в полудрёму до следующей встречи…»
«Господи, это же всё надуманно, манерно! – подумала Лена и испугалась. – Я уже придираюсь… Ведь мне нравилось это! Ведь нравилось же!..»
Будильник взорвался неожиданно. «Что же это? Почему он не пришёл?» – мелькнуло в голове, и вдруг Лена поймала себя на мысли, что втайне рада этому. Она медленно встала, медленно выключила музыку, медленно отрезала приготовленными заранее ножницами узкую полоску от конверта.
«Здравствуй, Стас… Живы-здоровы… Владик уже говорит “мама” и “баба”… Купили сервант… Вышлю деньги позже… Что там за филологичка у тебя? Верю, что она глупая и смешная, но – хотя я женщина современная – не забывай, что жена твоя! Как бы баловство не завело тебя далеко: эти цыплята способны на глупости. Скоро приедешь, так что ответа не жду… Целую тебя в твои гусарские усы… Жду… Марина».
– Ну вот, всё понятно, – спокойно сказала Лена, и сама удивилась тому, как она это спокойно сказала. Она аккуратно сложила письмо, засунула его в конверт и хотела опять спрятать в кармашек платья, но, очнувшись, брезгливо бросила на стол и прихлопнула книгой. В голове вертелись путаные мысли:
«Ей он обо мне написал, а мне о ней – ни слова: плохо это или хорошо? Впрочем, для кого плохо? Для меня? Для него? Для неё?.. Глупости!..»
Надо было спокойно разобраться. Значит, так: как она сама представляла себе дальнейшее? О дальнейшем она вроде бы и не думала. Где-то в глубине души теплилась твёрдая уверенность, что они будут всегда вместе, поженятся, что они будут любить, любить и любить друг друга. А он, выходит, и не думал об этом? Или думал? Может, он не любит эту свою Марину? Но зачем тогда сразу писать о ней, Лене, да ещё в таком тоне?..
Голову, казалось, кто-то безжалостный обхватил длинными жёсткими пальцами и всё сильнее сдавливал.
Стас пришёл в шестом часу. Ещё из коридорчика он весело крикнул:
– Заждамшись? – но осёкся под взглядом Лены. – Что с тобой? Я сейчас объясню…
– Объясни лучше, кто тебе письма пишет? – стараясь говорить спокойно, спросила Лена.
– Мне? Ах, мне?.. Ну, там, есть некоторые, – противно делая ударение на «тор», растерянно ухмыльнулся Стас.
Лена сейчас только почуяла запах спиртного и заметила блеск в его глазах. «Да он пил сегодня!» Она молча протянула ему письмо. Стас взял его осторожно, посмотрел на адрес, заглянул внутрь и потом ласково посмотрел на Лену.
– Ты что же, свинья, не знаешь, что чужих писем читать нельзя, а? Ты что ж, поросёнок, думаешь – человек с тобой спать согласился и его не стошнило от этого, так теперь и следить за ним можно? Ну и экземпляр! Нет, тупоумие в человеке допустимо, но оно должно иметь и границы. Это ещё Гюго сказал, дура, запомни!..
Это было ошеломляюще, как удар по лицу. Лена, неуверенно ступая, прошла в коридорчик, повернула в замке ключ, вытащила его и взяла под вешалкой тяжёлый молоток. Стас замолк, хотел улыбнуться, но лицо его побледнело. Он нелепо вытянул вперед руки, ладонями к ней, попятился и упал на кровать.
– Ты, сука… (и дальше вообще непечатно, Иркиными словами), – тихо и раздельно произнесла Лена. – Скажи: Леночка, я тебя люблю, но я даже ноги твои мыть недостоин, потому что я – мразь… Ну!
Тот не успел и звука выдавить, как загремел ключ в двери. Лена отбросила молоток на свою постель и брезгливо сказала:
– Вон!
Входившая Ирка еле успела посторониться и сразу прилипла к Лене – что, да что? Но Лена легла, как была в платье, на кровать, отвернулась к стенке и замерла до самой ночи. Уже часов в двенадцать она наконец почувствовала, что что-то давит ей в бок, убрала этот дурацкий молоток, постелила, легла.
Но так и не сомкнула глаз до самого утра.
На следующее утро Лена встала внешне спокойной. Только синева проступила вокруг глаз, да лицо было чуть белее, чем обычно, и молчаливость заметнее. Она с этого дня резко взялась за учёбу: набрала книг в библиотеке, ходила на все консультации, разъясняла Ирке трудные вопросы. Она увлеклась учёбой, которая в общем-то всегда давалась ей легко. Но нет-нет, а во время чтения вдруг вспомнится: «Женщины любят только тех, которых не знают! – это ещё Лермонтов писал…» – или что-либо подобное, и такой страшный приступ ненависти подступит к горлу, что начинало тошнить. И не только к нему, но и к себе она чувствовала в такие минуты ненависть и злобу – надо же так ослепнуть!
А в конце января Лена поняла, что она беременна. От этого удара судьбы закружилась голова, и пальцы рук все дни, пока она ещё на что-то надеялась, мерзли. Но прошли все сроки, и последние сомнения исчезли. Надо было думать – что делать? И она думала. Всю ночь. Мелькали мысли о матери, которая этого непременно не перенесёт, о самоубийстве, об убийстве… Уже застучали под окнами первые трамваи, когда она забылась ненадолго в тяжёлом сне-беспамятстве, а губы её ещё бормотали:
– Никто… никогда… никто…
Утром Ирка, посмотрев на неё, всплеснула руками. – Ленка, ты же помирать собралась! Ты на тень старика Гамлета как две капли воды походишь!
Но голос её тут же дрогнул – что-то жуткое было в глазах Лены. Непонятное. И Ирка вдруг рассердилась:
– Да плюнь ты, наконец, на этого Ворожейкина! Плюнь и разотри!
Сессия кончилась. Лена, сдав всё на «отлично», полетела домой, под Красноярск. Там она покорно выслушивала причитания матери и выговоры сурового отца, что чересчур переучивается, того и гляди заболеет и т. п. Она вскоре ловко перевела разговор на другое, намекнула, что не по-столичному одета и потом за каникулы сшила с помощью Гали, старшей сестры, два сверхмодных, широких, как поповская ряса, платья.
Ещё она несколько раз ездила в городскую библиотеку, брала, краснея, в читальном зале «Справочник акушера-гинеколога» и внимательно его изучала. Когда она видела на рисунках скрюченные существа внутри обезображенных женских тел, приступы отвращения и ненависти заставляли её на секунду закрывать глаза и делать над собой усилие, чтобы подавить сердцебиение. Она с омерзением чувствовала, как внутри её что-то шевелится, но потом, успокаиваясь, заставляла себя понимать, что этого ещё не должно быть – ещё рано.
Через несколько дней она, с облегчением расцеловавшись с родными, полетела в Москву. Ирка ещё не приехала. Лена в первый же день сходила в универмаг и купила четыре широких мужских ремня. Она сшила их один к одному на общую подкладку и, подогнав по размеру, затянула этот самодельный корсет на своём ещё худеньком животе. «Как у лошади сбруя», – невесело усмехнулась она. Самое сложное будет – скрыть эти ремни от Ирки, у которой, к тому же, была дурацкая привычка обниматься ни с того ни с сего.
Ирка примчалась, опоздав на неделю. Жизнь вошла в свою привычную колею: Ирка гуляла, Лена училась. Время ощущалось в том, что сначала растаял снег на карнизе, отзвенела капель, потом на высоких тополях за окном запузырились почки, а затем ветки тополёвые обклеились листочками и можно было уже день и ночь держать окно открытым. Время ощущалось и в том, что Лене время от времени надо было проделывать новые дырки в ремнях и чуть-чуть ослаблять корсет, иначе от болей в животе невозможно было спать. Нервы её были всё время напряжены, и она уже начинала от всего этого уставать.
Скорей бы!
Роды начались неожиданно, ночью.
Ирки, к счастью, не было, и в комнате стояла гулкая осязаемая тишина. Всё произошло удивительно просто, как-то само собой. И боли не было, было только ожидание боли. Лена не успела опомниться, как ребёнок уже оказался у неё в руках. Она с омерзением держала на отлёте красное, сморщенное, мокрое, скользкое существо.
Потом нащупала шейку и начала сдавливать пальцы. Ладони скользнули, и ребёнок с тошнотворным звуком шмякнулся на пол. Лена, помертвев, схватила его и не успела толком поднять, как он снова выскользнул и ударился об пол.
Вдруг лицо ребёнка, оставаясь маленьким, мгновенно обросло усами и шевелюрой, он вытянул мокрую красную ручонку вперед и голосом Стаса жалобно заблеял:
– Л-л-л-леночка!..
Лена отшатнулась и страшно, во весь голос, закричала:
– Аааааааа!
Её уже тормошила Ирка:
– Лена! Ленка, что с тобой? – И потом, когда Лена, стуча зубами о край стакана, крупными глотками пила воду и прикрывала одеялом поплотнее живот, Ирка убеждённо сказала: – Нет, тебе надо броситься в разврат, а то ты от этой зубрёжки чокнешься!
Когда Ирка, уже погасив свет, снова посапывала в своём углу и даже чуть всхрапывала, как всхрапывают все здоровые и довольные жизнью люди, Лена тоскливо плакала и всё шептала: «За что?..» Она вдруг остро позавидовала Ирке, которая живёт так легко, весело, интересно, не задумываясь… Почему ей, Лене, стоило один только раз оступиться и сразу такая расплата? За что её так? Может, за то, что она так серьёзно смотрит на жизнь? А жизнь намного проще… Но ведь она слегка презирает Ирку именно за её отношение к жизни…
Тягучие вязкие мысли ворочались в голове до тех пор, пока не заверещал будильник.
Май прилетел неожиданно, как письмо от друга далёкого детства. Город умылся весенней водой, зазвенел, стал ласковым. Лена часто, ощутив через распахнутое окно эту ласку и зов помолодевшей Москвы, вздыхала и снова садилась за учебники – сессия начиналась сложная. Она выходила из комнаты только в столовую, да и то раз в день, а утром и вечером частенько обходилась чаем. Она попыталась даже начать курить, чтобы и этим уже навредить тому , но организм не принимал дыма, и она ограничилась тем, что перестала делать замечания Ирке, которая палила сигареты одну за другой.
Если Лена, как в дальний поход, ездила на факультет сдавать очередной экзамен, то Ирка носилась без отдыха, опьянённая весной, новой влюблённостью, теперь уже в какого-то аспиранта, и переполненная энергией. Однажды она влетела в комнату и, думая обрадовать Лену, бухнула:
– Знаешь, Стас сейчас о тебе спрашивал! А он шикарный всё же мэн – такая курточка! Наводил справки: можно, дескать, зайти, тетрадь какую-то, говорит, забрать надо…
Лена достала из шкафа пухлую тетрадь и спокойно сказала:
– На, отдай ему и скажи очень внятно, что если он ещё раз попытается, как недавно, поздороваться со мной при встрече, я ему в лицо плюну при всех. Так и скажи.
Говоря это, Лена вдруг заметила, что ненависть где-то там, внутри, шевельнулась вяло, чуть-чуть. И рассердилась на себя за это.
Экзамены приближались к концу.
Многие в общежитии уже упаковали вещи, собираясь домой или в стройотряды. Надо было подготавливать позиции. Нелегко оказалось сочинить правдоподобную ложь домой. Лена чуть ли не целый день сидела над бумагой, нарвала её целую корзину и наконец коротко написала, что пока остаётся в Москве, а может быть, и на всё лето – будет работать в студенческом трудовом отряде на телеграфе и потом проходить практику в Подмосковье. Сразу же пришлось прозрачно намекнуть на то, что заработки у разносчиц телеграмм и практиканток не ахти, и потому она надеется на их помощь.
Вторая задача решалась полегче. Администраторша этажа, Лилия Петровна, была землячкой, тоже из-под Красноярска (поэтому Лена и жила уже на первом курсе в двухместке), и сразу же успокоила Лену:
– Живи, живи, деточка, хоть всё лето, хоть не всё – как хочешь. А абитуру, не бойся, не подселю, найдётся им место.
И вскоре Лена начала жить одна. Теперь можно было запереться на два оборота, раздеться догола и спокойно отдыхать, никого не боясь. Она теперь без отвращения, а даже с каким-то любопытством рассматривала свой живот, уже заметный, круглый, смешной. Рассматривала в зеркале всё своё худенькое тело, припухшие маленькие груди, резкие ключицы и иронически шептала:
– Да-а, женщина, ничего не скажешь – высший сорт… Просто шик!
Когда надо было выходить, она затягивалась, надевала один из своих модных балахонов и когда шла, старалась ступать ногами легко и прямо, и от этого походка её выглядела странно напряжённой.
По её расчётам, если брать во внимание все эти сдавливания, это должно было произойти раньше срока – в конце августа. В крайнем случае она намеревалась искусственно ускорить роды – способы изучила. До конца каникул оставалось не так уж много времени.
Иногда, раскинувшись, обнажённая, на постели, она решалась представить себе, как всё это произойдет, как она всё это сделает. Но сразу же всплывал в памяти тот омерзительный сон, и её начинало выворачивать от страха и отвращения.
Судьба приготовила ей ещё одно испытание. Как-то утром она нашла под дверью телеграмму: «Буду проездом Москве встречай Галя». Пришлось затягиваться в инквизиторский корсет, все три дня, пока сестра жила с ней, быть в напряжении, уходить утром якобы на телеграф и вообще поминутно лгать. Когда Галя укатила на юг, Лена отлёживалась на постели весь день и, прислушиваясь к звонким голосам абитуриентов в коридоре, молила:
– Скорей бы, скорей!..
В последние дни на неё начало давить одиночество. Особенно по вечерам, когда зной первых августовских
дней растворялся и город расправлял плечи, она, накинув халатик, часами сидела на подоконнике раскрытого окна. Внизу весело играли в волейбол, кричали жизнерадостные люди, а потом, когда темнело, гуляли парочки, доносился звон гитары, тихий говор, смех и даже, как ей казалось, – звуки поцелуев, заставлявшие её вздрагивать. В переносице щекотало, и от подступавших слёз начиналась резь в глазах. Позже, ночью, от одиночества сжимал сердце страх, и она вынуждена была включать и свет, и магнитофон.
В один из вечеров, в субботу, она шла из столовой, заметила афишу и поразилась названию фильма – «Не крадите моего ребёнка!» Киноконцертный зал был здесь же, рядом со столовой, и она торопливо купила билет. Фильм оказался американским. Юную красивую девушку, прикинувшись влюблённым и влюбив её в себя, соблазняет по поручению какой-то фирмы парень. Ребёнок, который должен родиться, уже продан за большие деньги богатому бездетному семейству. Всё это раскрывается, и молодая мать отчаянно борется за своего ребёнка…
Лена, затаив дыхание, смотрела на экран: «Почему она не возненавидела этого ребёнка? Ведь парня-то она до отвращения возненавидела. А ребёнок же от него… Надумали? Я-то ненавижу обоих… Обоих? Да! Да!» Лена старалась почувствовать свою ненависть и, когда представляла усы Стаса, передёргивалась, но, как ни старалась, она никак не могла представить реально своего ребёнка… «Ненавижу я его или нет?»
Он начинал уже шевелиться, нет-нет и толкнётся мягко, но настойчиво. И каждый раз Лена замирала – началось?
Однажды она лежала, листая какую-то книгу, и вдруг вспомнила о сумке. Ещё тогда, продумывая свой план, она наметила и сумку, и совок, и даже вокзал, с которого поедет – с Казанского, потому что ездила по этой дороге и запомнила густой лес сразу за городом. Она всё это наметила, а вот сумку до сих пор не приготовила. Лена потыкалась по углам, сознавая, что зря – у неё кроме чемодана и портфеля ничего не было. Пришлось затягиваться и тащиться в магазин. Там она как-то деловито и не торопясь выбрала клеёнчатую вместительную сумку и неожиданно, в последний момент, ещё и огромный целлофановый пакет.
Дома разделась, устелила зачем-то дно сумки газетой, положила туда железный лопатообразный мусорный совок и целлофан. А потом посмотрела на эту приготовленную деловую сумку, и её начала пробирать дрожь. Она смотрела на страшную сумку, и зубы её противно клацали, и как она ни стискивала челюсти, дробный стук не прекращался. Лена резко запихнула сумку под кровать, закуталась с головой в одеяло, с тоской подумала, что ещё и на постель что-нибудь подстелить придётся…
И – заплакала.
Кто-то впился железными когтями в низ живота и начал раздирать её тело.
Сердце остановилось. Был полдень. Лена резиновыми руками с усилием натянула на себя халат («Зачем, зачем я это делаю?»), вышла, шатаясь, в коридор, и, придерживая живот рукой, вдоль стенки пошла в 315-ю («Зачем, зачем я это делаю?!. Ведь я не это хотела делать!») и ввалилась туда. Она успела сказать белыми губами вскочившей Лилии Петровне: «Быстрее… Я рожаю…», – закатила глаза и, цепляясь скрюченными пальцами за дверь, осела на пол. Потом она словно плавала в каком-то вязком тёплом киселе и, изредка выныривая на поверхность, ощущала запах лекарств и смутно видела марлевые повязки на лицах, а вверху – ослепляющий потолок… И всё время была боль…
Она очнулась оттого, что боли нет и услышала странный мяукающий звук, словно где-то вдалеке ехала «скорая помощь» с включённой сиреной.
«Что это? – устало удивилась Лена, и её мягко толкнуло в измученную грудь. – Это же ОН… Жив…»
Она хотела спросить – кто? мальчик? – но глаза её закрылись, и она погрузилась в приятную тёмную тишину…
«Жив!»
ПИРОЖКИ С МЯСОМ
Рассказ
Где же Маринка?
Максим психанул уже всерьёз. Двери школы перестали хлопать, дети, первосменки, разбежались-разбрелись, галдя и балуясь, а дочку, как корова языком слизала. Куда она запропастилась? Надо бы закурить, успокоиться, да в том и запятая – сигареты ещё утром кончились. А стрелять сейчас, попробуй стрельни – чёрта с два кто даст. Ох курить хочется, вот уж действительно уши пухнут, горят так, что и морозец их не берёт. А подмораживать после обеда начало. И темнеет прямо на глазах, хотя только четверть третьего. Ничего, ничего, сейчас обкуримся – из ушей дым пойдёт. Тьфу ты, дались эти уши!
Не выдержав, Максим достал деньги, ещё раз, близко поднося к лицу, быстро пересчитал: девять с копейками. Трояк Лида на хлеб выделила, медь осталась от былых богатств, а шесть дубовых удалось выклянчить за книжку «О русских именах». Оно бы самому попытаться продать, ухватил бы и червонец: книга дельная, справочная, в отличном переплёте. Однако ж, самому торговать – талант нужен. Максим ряшкой не вышел, за глотку покупателя схватить не сумеет. Да и, чего доброго, конкуренты-торгаши вмиг бы накостыляли, проводили бы в шею вместе с его русскими именами, греческими и всеми иудейскими. Ладно, и шести рваных должно хватить. В крайнем случае – без фильтра искать придётся. Главное, чтобы Лида не сразу обнаружила пропажу книги – на стеллажах ряды прорежены уж сильно.
Возле самых ног Максима, на утоптанном снегу, валялся приличный огарок «беломорины». Еле хватало сил, чтобы не нагнуться, не поднять.
Да где же, в конце концов, Маринка?
Максим притопнул захолодевшими подошвами, вздёрнул воротник куртки, глянул на светофор – придётся перескочить к школе, искать дочку. Он бы и вообще не ходил её встречать: чего уж – восемь лет, не маленькая, а до дому, если бегом, минут пять-семь ходу. Но Лида – ни в какую: уж если, милый мой, не работаешь, так будь добр встречать единственную свою дочь из школы. Нечего ей по темноте одной шляться.
Конечно, Максим мог и наплевать с высокой колокольни на приказы жены, на её язвительно-похабный тон, мог, но, во-первых, он, вот именно, безработный, у него, и правда, уйма свободного времени. Во-вторых же, в эти предновогодние дни, действительно, с этими дебильными переводами поясного времени туда-сюда темнело чуть ли не в полдень. Дня, можно сказать, и не было.
Светофор словно заморозило – застрял на зелёном для машин. Максим, психуя, машинально полез за сигаретами, сплюнул, чертыхнулся. Нервы – ни к чёрту! Довела его сегодня до точки кипения дурацкая, маразматическая комиссия в службе занятости населения. До этого Максим как идиот ездил туда, на край города, раз шесть, тратил последние пятиалтынники на автобус, мял свои и чужие рёбра, а для чего? Чтобы потомиться, попотеть среди других угрюмых бедолаг в тесном предбаннике, потом присесть на стул перед надменной фифой с коровьими равнодушными глазами и услышать очередное:
– Пока мы вам по специальности предложить ничего не можем.
Ха – «предложить»! И каждый раз эта тёлка размалёванная упорно предлагала:
– Вы на кирпичный завод не хочете? Тыщу будете получать!
Максим еле сдерживал себя, а так тянуло отсучить её, прошипеть в ответ: мол, а ты, сучка разэтакая, не хочешь ли с вагонеткой покорячиться за тыщу берёзовых? Да что толку с этой Зорькой пикироваться: она в тепле сидит, ногти полирует и ту же тыщу за бесстыжие глаза свои огребает. Их там в одной комнате – стадо целое, недойное, карточки перебирают, бумажки пишут-переписывают и посетителям бормочут: ничем помочь не можем, приходите ещё. Нет, чтоб одного дельного человека с компьютером посадить…
Дурдом!
И сегодня случилась кульминация этой дурдомной комедии – комиссия. Максим полтора часа ждал своей очереди. Таких, как он, доморощенных актёров, собралось человек двенадцать. А режиссёры сидели за массивными дверями в кабинете – целых пять штук. Максим и так чувствовал себя не в своей тарелке, а когда, по зову до предела обминиюбиной девицы в прозрачных колготках, ввалился в кабинет, то и вовсе на душе стало погано. Сидит компашка незнакомых ему людей и в пять пар глаз лениво осматривают его, переговариваются меж собой вполголоса, шушукаются. Максим сначала толком их и не рассмотрел. Лишь крайняя к нему мощная мадам с золотыми колёсами в ушах бросилась в глаза, и то потому лишь, что терпко несло от неё смесью благовония изысканных духов с вонью подмышечного пота.
Максим, усевшись копчиком на самый край расхлябанного стула, уставился вбок, на открытые сверх меры пупырчатые ляжки девицы. Она, стоя у дверей, громко зачитывала по бумажке:
– Филянов Максим Леонидович, пол мужской, тридцать один год, в рядах партии не состоял, образование высшее, преподаватель политэкономии, стаж по специальности пять, общий трудовой стаж – тринадцать лет, последние три года учился в аспирантуре…
Бред какой-то, что – он сам не в состоянии о себе сказать? Так, наверное, они в партию раньше принимали: говорят, здесь пристроились сплошь бывшие обкомовцы и райкомовцы…
Голенастая докладальщица умолкла, почтительно замерла в стойке. Начался экзамен: что? как? почему? где? когда?.. Максим отрывисто, через силу отвечал. Потом те опять принялись шушукаться, понимающе кивать головами. Максим пригляделся-таки: трое мужчин, две женщины, все холёные, одеты добротно, в глазах – сытость, уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Век бы к этим свиньям не пошёл, да вот прижало. Хоть бы пособие назначили – всё полегче. Главное – зиму перебиться, а там видно будет…
– Таким образом, Максим Леонидович, в качестве безработного мы вас регистрируем, но пособие вам выделить не можем, не положено.
– Позвольте, – изумился Максим, – как это не положено? Кем?
– Законом.
Ему отвечал самый вальяжный, в центре. Отвечал подчёркнуто терпеливо, снисходительно, с ленцой. Максим мрачно усмехнулся, по горлу прошла судорога.
– Это что за такой закон, интересно? Я не работаю, место вы мне предложить не можете, и вдруг я не безработный?
– Нет, уважаемый Максим… э… Леонидович, я вам русским языком объясняю: вы у нас теперь зарегистрированы безработным. Но, видите ли, голубчик (Максима передёрнуло), по закону необходимо иметь за последний год тридцать шесть недель трудового стажа…
– Но ведь я на дневном в аспирантуре учился, стипендию получал – разве это в стаж не входит? И вообще, у меня уже тринадцать лет стажа – разве вы не слышали?
Максим для чего-то кивнул на девицу у двери, словно апеллируя к ней. Ему начали втолковывать хором, перебивая друг дружку, тоном и взглядами укоряя его в тупости – пособие он не заслужил…
Да подавитесь вы своим пособием! Максим хотел шарахнуть дверью так, чтоб треск пошёл, но девка голоногая, дурёха, кинулась грудью, как на амбразуру, приняла дверь на себя. Крик, шум. Тот, вальяжный, выскочил, милицией грозить начал…
Безобразная вышла сцена.
Да где же Маринка, чёрт побери?!
Лида в последнее время, как мазохистка, собирала зловещие слухи, жуткие истории о пропавших детях, изувеченных трупах, отрубленных детских головках. Впихивала всё это в уши и душу Максиму. Да что слухи: на днях в газете областной прошла нервомотательная статья о маньяке-убийце. Полгода весь город в страхе держал. Его выловили только на седьмой жертве. Затаскивал, зверюга сдвинутая, девчушку или мальчонку в тёмный угол, насиловал, всячески изгаляясь, потом прирезывал – пересекал горло напрочь…
У-уф! Максим перевёл дух, расслабился – мелькнуло зелёное пальтишко, из дверей школы выскользнула Маринка, увидела его, махнула ладошкой. Он погрозил пальцем, показал – гляди на светофор! Максим специально не приближался к школьному порогу, не заходил внутрь: не дай Бог, поймает Маринкина учителка, пиши пропало – заговорит насмерть, начнёт педагогическими советами пичкать. Да и дочка вон уж какая взрослая, перекрёсток переходить умеет – ничего страшного.
Максим смотрел, как Маринка, вертя по-птичьи головой вправо-влево, спешила к нему. Да-а-а, пальтецо у девчонки скукожилось – форма школьная уже на ладонь выглядывает, коленки торчат. И опять Лида весь подбородок ей зелёнкой измазала. Что ж она так! Простуда простудой, но девчонке-то не к лицу зелёнка.
Он вздохнул, встряхнулся, разгладил морщины: ладно, нечего на дочке своё настроение отыгрывать, надо с ней повеселее, а то она и так в последнее время всё больше пасмурная да задумчивая.
– Э-э, Пелагея! Пелагеюшка, чего так застряла после смены?
Маринка округлила глаза, робко улыбнулась.
– Какая я тебе Пелагея? Ты чего?
– Ах, прости старого папку-дурака! Как же я забыл, ты ведь у нас – Мар-га-ри-та. Королева Марго.
– Папка, да чего ты? – ещё сильнее оживилась дочь. – Я не Маргарита никакая! Ты какой смешной сегодня. Балуешься, да?
Максим и сам приободрился, взял Маринку за руку.
– Пошли-ка быстренько нах хаус. Папка у тебя не балуется, а шибко умный. Он сегодня в одной книжке вычитал: оказывается, и Маргарита, и Пелагея, и Марина – это всё одно имя. Так звали греческую богиню красоты Афродиту. Одни звали её жемчужной, а это и есть по-гречески Маргарита. Другие её звали морской, а это по-гречески – Пелагея, по-латыни – Марина. А почему богиню морской звали, знаешь? Потому что она из морской пены родилась. А жемчужной почему? А моряки в её храмы жемчуг в дар мешками приносили. Вот и получается: ты – тезка всем Пелагеям, всем Маргаритам и самой богине красоты Аф-ро-ди-те…
Максим плёл языком, насыщал дочь знаниями из книжки, что загнал утром за бесценок, а сам высматривал, не продают ли где курево. На углу Коммунистической он узрел трёх цыганок, ринулся к ним. Точно – «Космос» и «Винстон». Ну, на «Винстон» и глядеть нечего, не по зубам, а вот нашенский «Космос»…
– Почём?
– Бэри, дарагой! Дэсят рублэй. Дарам атдаю!
– Да ты что, цветастая! – Максим всплеснул, по-бабьи, руками. – Позавчера за шесть покупал.
– Инфлацыя, дарагой! Бэри, пака ест. На, ладна – за восэм…
Максиму отступать было некуда – уши распухли, вот-вот и лопнут, как пузыри от жевательной резинки. При дочке позориться не хотелось, но – куда ж деваться? Не оглядываясь на Маринку, вцепился в звенящую монистами старуху, начал уламывать, клянчить. Кое-как выцыганил – швырнула пачку, презрительно цыкнула:
– Цэ! На, куры задарам, раз такой ныщий!
Задаром-то задаром, а шесть рублей схватила, карга старая, за пазуху вмиг упрятала.
Максим хотел пободрее оправдаться перед Маринкой, как-нибудь приосаниться и вдруг увидел: она неотрывно смотритна кооперативный ларёк на другом углу. Там из жёлтого тёплого окошка рука продавца методично совала покупателям вафельные кульки с застывшем пеной мороженого. Максим спрятал пачку в карман, крякнул, прочистил горло, взял дочку за варежку.
– Пошли, Марин… Сейчас дома картошки нажарим, молока бутылка есть.
Маринка вздохнула, молча пошла.
– А и дураки же люди, – начал пересаливать Максим, – вон те, мороженое берут. Да разве в кооперативах можно брать? Вчера вон по радио слышал – в Воронеже сто тридцать человек отравились таким мороженым. Да и холод собачий – враз ангина будет. Вот дураки…
– А я, пап, и не хочу мороженого, – тихо сказала Маринка, глядя в сторону, сглотнула. – Ни капельки не хочу…
«Сволочь! – сказал сам себе Максим. – Чтоб ты подавился этими сигаретами!»
Ну что ж он никак не бросит дурацкую привычку пускать дым изо рта и ноздрей? Курить-то начал – смехотура – чтоб не потолстеть. И вот – пристрастился. Книги вон из дома уже ворует, мороженое у дочки изо рта вырывает… Сволочь!
Максим хотел принагнуться, чмокнуть Маринку в щёку, но привычки к телячьим нежностям не обнаружилось, да и народу кругом – пропасть.
Они шли по самой толпливой улице города, Коммунистической – местной пародии на столичный Арбат. Справа и слева сплошной стеной тянулись магазины, лавки, лавочки; в центре пешеходной улицы возвышались обширные клумбы, окаймлённые скамьями-бордюрами. На одной из клумб торчал железный остов будущей ёлки, ершась обрубками труб. Два мужика впихивали в трубы сосновые ветки. Уже вовсю горели уцелевшие фонари. Заполошённые люди сновали по размякшему от соли и грязи гнилому снегу от витрины к витрине, вскакивали в очереди, хватая всё подряд – после Нового года ожидался обвал диких цен.
Фу ты чёрт! Отец и дочь невольно встрепенулись, потянули носами. Из полураскрытых дверей с вывеской «Пирожки» обдало таким ароматом, что в животах ёкнуло. Максим за весь день хватанул два стакана чая, булочку и яйцо. Маринка в школе, конечно, тоже только булочкой да чаем обошлась, а от завтрака одни воспоминания остались. У-у-ух и запах! И вправду – мясной дух. Что интересно, стоят эти пирожки с мясом вполне по-Божески – целковый штука. А вроде – кооператив. Впрочем, ну их – ещё головы ломать да животы томить.
– Мы сейчас, Маринка, вот что, – энергично потёр руки Максим, – купим хлеба и полбатона прям на улице, по дороге, и умнём. Годится?
– Нельзя же на улице, пап, ты сам говорил.
– Ха, говорил! До перестройки. А теперь мы с тобой перестроились. На вот трёшник, беги в хлебный, а я у входа пока покурю. Возьми два чёрного и два батона. Должно хватить. Если, не дай Бог, там опять цены повысили – сама сообрази, но чтобы батон был.
Максим снял с лопаток дочки тугой ранец, сунул ей пакет. Хлебный – через магазин от «Пирожков». Маринка побежала. Он выхватил «Космос», отвернулся от прохожих к фонарю, вспорол обёртку, вскрыл пачку, ущемил сигаретину зубами, чиркнул раз-другой спичкой – о-ох! Дохнул дымом так, что до пупка достало, чуть не захлебнулся. Медленно, кайфуя, выпустил клубочек-другой парного дыма, затянулся ещё раз так же глубоко – полсигареты как не бывало. Надел одну перчатку, подошёл к хлебному, пристроился напротив, положил дочкин ранец на приклумбовый бордюр, приготовился подкурить от первой сигареты ещё одну.
Блаженно закружилась голова…
Где же Маринка?
Максим делает последнюю затяжку, допалив табак до фильтра, берёт ранец: придётся идти помогать, видно – очередина, как всегда, в магазине.
Вдруг, не успевает он сделать и шага, двери хлебного с треском распахиваются, народ – злой, кричащий – валит валом на улицу. Вот тебе, бабушка, и хлебный день! Опять не досталось. Вот стервезация! Придётся на ужин картошку с сухарями грызть.
Максим выпрямляется, глубоко вдыхает в грудь морозец: всё, всё, нечего психовать. Маринка, поди, сейчас тревожится, думает – заорёт отец. Спокойнее, Максим Леонидович, вы ж интеллигент, чёрт побери!
Он всматривается пристальнее. Дочь, видимо, боясь давки, ещё торчит в магазине. Над входом тускло жёлтеют два фонаря из четырёх, с рекламными буквами «X» и «Е». Получается – хе! Люд обозлённый из магазина прёт и прёт, всё больше женщины, старухи. Мелькают две-три цыганки, с узлами, – не те ли, табачницы? Хотя их сейчас развелось – таборами по улицам и площадям кочуют.
Да где же Маринка-то?
Максим щурится, уж лезет в карман за очками, как дверь захлопывается. Что такое? Последний пустой покупатель, поддатый мужичонка в валенках с калошами и треухе, матерясь на всю Коммунистическую, тревожа прохожих, ковыляет в сторону вокзала.
Ну, стрекоза! Максим подспудно, против воли хочет рассердиться покруче, тоже матюгнуться. Что она там – выпрашивает хлеб, что ли? Вот научил девчонку унижаться!
Он быстро, лавируя между людьми, идёт к магазину, открывает дверь. Низенькая полная бабуся, тесня его шваброй по ногам, беззлобно ворчит:
– Нетути, нетути, милок. Опоздавши. Утречком приходи.
Максим нетерпеливо шарит и шарит взглядом. В просторном зале с пустыми хлебными стеллажами вдоль правой и задней сторон и двумя проходами к кассам – всего три человека: бабуся-техничка, кассирша, мусолящая в пальцах трёшки да рубли, и продавщица, проверяющая лотки. Сердце у Максима стукает. Он дико взглядывает на бабку со шваброй, выскакивает на улицу. Как он мог пропустить дочку?
На улице, у входа, Маринки нет. Он бросается к тому месту, где ждал её, и там пусто. Максим швыряет ранец на скамью, стаскивает перчатки, выхватывает из футляра очки, цепляет на нос. Мир сразу становится резким, чётким – другим. Максим пронизывает вооружённым взглядом всё вокруг: Маринки, её зелёного пальто и белой вязаной шапочки нигде не видно. Что за белиберда?!
Когда Максим вновь цепляется за дверь магазина, бабка уже шипит на него, замахивается ручкой швабры, пытается заклинить запор. Максим отпихивает её. Рыжая кассирша, зевая, увязывает деньги, звенит мелочью. Раздражённо зыркает на него. Вдруг она захлопывает рот, с грохотом вбивает ящик кассы, вскрикивает:
– Зина! Гоша!
Господи, да они его за грабителя сейчас примут!
– Девушка, девушка! – Максим старается не кричать. – Минутку! У меня дочка только что здесь была. Девочка – восемь лет.
Он показывает от полу Маринкин рост. И кассирша-«девушка» (ей лет под пятьдесят), и бабуся, и выскочившая Зина, и мордатый Гоша, наверное, грузчик – все смотрят на Максима: ну и что?
– Понимаете, – он торопится, глотает слова. – Девочка… пальто короткое… зелёное… шапочка белая… Понимаете? Жду на улице, жду… Все вот вышли, а её нет… Понимаете?
– Да где ж она, родимый, может быть? – сочувственно, авансом жалеючи, поёт старушка. – У нас, сам вишь, нетути.
– Как же «нетути»? – бормочет Максим. – Где ж тогда она?
Но он и сам видит: Маринки в магазине нет. И вдруг как вспышка в мозгу – цыганки! С узлами! Про цыганок, ворующих детей, столько кошмарных историй ходит. Он опрометью бросается мимо бабуси в дверь.
Цыганки, Максим точно запомнил, подались не к вокзалу, в другую сторону, к Советской…
Но, проскочив шагов тридцать, Максим резко тормозит: совсем чокнулся, совсем с ума сошёл! Какие-то цыганки, какие-то мешки. Господи, девчонка уже ростом чуть не с этих цыганок, народ кругом… Бред!
Максим пытается взять себя в руки, закуривает. Так, так, так… Первое – надо в милицию. Второе – сообщить Лиде… Хотя, впрочем, Лиде не надо. Задача как раз в обратном: до её прихода, до шести, успеть. Не могла Маринка вот так бесследно исчезнуть. Может, она, дурочка, шутить надумала? Сейчас стоит уже у дома и хихикает… Ну ей тогда обломится! Он затаптывает окурок, перехватывает ранец, решает – к дому.
И тут ему шибануло в нос – опять от пирожковой. Густой, едкий запах жареного мяса, сладковатый – странный. Максим, решив, что это от голодухи, давит тошнотворное волнение в животе, в горле, во рту. И – высверк в памяти: «…пирожок-то надкусила, а там – ба-а-атюш-ки! – ноготок от детской ручки…»
Давясь, Максим отскакивает к клумбе с недоделанной ёлкой, сгибается, его выворачивает желчью – мучительно, судорожно, мерзко.
– Ишь, алкаш поганый! Нажрался до блевотины!
Максим зажимает рот, пачкая перчатки, натужно рычит, выплёвывая внутренности. Перед глазами – картина: в магазине, между задними и боковыми полками – ниша. Там – дверь. Как он сразу не догадался. И этот мордоворот – Гоша…
Мозг работает лихорадочно, но чётко. Цепко. План почти отчеканен. Максим, выбрав с клумбы свежий снег, моет перчатки, достаёт платок, на ходу утираясь, высмаркиваясь, бежит к хлебному. Хотя – стоп: там уже делать нечего, время только терять.
Он всматривается – прохода во двор не видно: дома-магазины слеплены всплошь. Максим бегом сворачивает на Кооперативную: так и есть – вход там. В сугробистой темени бесконечного двора – ни души, лишь шастают бездомные собаки, злобно косятся, ворчат. Максим подхватывает у ворот отрезок ржавой трубы – как раз по руке.
Так, хлебный – третий от угла; значит, «Пирожки» – в пятом доме. Между ними утоптана тропинка. Максим, подбежав, сдерживает шаг: снег, подлый, скрипит. С Коммунистической доносится людской шум.
Максим снова, протерев, надевает очки. К пятому дому примыкает пристройка. Справа от двери – оконце с решёткой. Светится. Максим на цыпочках подкрадывается. Проклятье! Стекло до половины заиндевело, ничего не видно. Максим зырк туда-сюда. Ящик. Ага, теперь в самый раз. Подтягивается, заглядывает…
Внезапно сзади: ав! ав! ав! Грязная кудлатая шавка. Вот-вот вцепится в штанину. Ну! Он замахивается трубой. Пёс, взвизгнув, отскакивает, поджимает хвост. Максим на полусогнутых корчится на ящике – кто выйдет, нет? Дверь неподвижна. Из-за неё, Максим только теперь слышит, доносится стук тяжёлого топора и хеканье: хе-к! хе-к!
Сердце ущемило. Он в ужасе вскакивает, уже не таясь, вглядывается сквозь мутное стекло и решётку. Там, внутри, ражий детина со стриженым затылком, стоя к окну жирной, лоснящейся из-под майки спиной, наотмашь рубит что-то на колоде. Чудовищный палаческий топор, сверкая оскалом лезвия, взметается над головой мясника и с сочным стуком падает: хе-к! хе-к! Что он там рубит – не видно, лишь разлетаются кровавые красные брызги.
И тут топор всей своей бритвенной тяжестью врубается в сердце, в голову Максима: в углу, на полу подсобки валяется зелёное детское пальтецо…
Ах! Чёрт!..
Максим отшвырнул сигарету: она дотлела до самых пальцев. Фу-у-у… Он подул на ожог, сунул руку в снег. Японский бог городовой! Волдырь теперь вскочит. Половина второй сигареты впустую сгорела. И в голову чёрт-те что лезет. Совсем сшизился. Надо же – нафантазировал. Идиот!
Он потряс рукой. Ещё одну сигаретку закурить, что ли? Впрочем, что ж, правда, Маринка застряла?
Он уже совсем было решил идти в магазин, как вдруг двери его с треском распахнулись, народ – злой, кричащий – повалил валом на улицу…
Максим вздрогнул, криво сам себе усмехнулся. Быстро полез за очками, начал пристально вглядываться в толпу.
Где же Маринка?
Где?!..
ВЫХОД
Рассказ
Жена Алексея Балашова, Надежда, поехала в Москву на курсы повышения квалификации сроком на два месяца.
Надежда, когда пришёл на неё вызов, сразу загорелась, Алексею же это весьма не понравилось. Дело в том, что сразу ожили в его памяти не очень-то приятные воспоминания. Да что там говорить, гадостные ассоциации вызывало у него совмещение в голове двух слов – «Надежда» и «Москва». Ещё когда они, как говорится, женихались, до свадьбы оставалось всего ничего, Надежда поехала по турпутёвке во Францию. Алексей, как положено, проводил её на вокзал, посадил в вагон, прощальные поцелуи были страстны и горячи. Это было в четверг. А в понедельник он вдруг обнаруживает Надежду на службе. Что? Как? Почему? Оказывается, поездку по каким-то там причинам отложили уже в Москве на полгода.
Правда, Балашова сразу озадачило то, что вернулась Надежда домой, как выяснилось, ещё в субботу, но даже не дала о себе знать. Однако ж, он постарался отогнать от себя все дурные мысли, главное, она снова и сейчас рядом с ним.
Алексей любил Надежду.
Короче, отложили поездку так отложили – лишний повод для радости. Но радость Балашова быстро и очень даже быстро потухла. В то время работали они с Надеждой в одном отделе, сидели в соседних кабинетах и телефон имели параллельный, на один номер. Звонок.
– Вас слушают, – как обычно ответил Алексей.
– Это областное управление культуры?
– Да.
– Можно пригласить Надежду Огородникову?
Что-то сразу толкнуло Алексея в самое сердце – звонок был междугородным. Он нашёл Надежду в соседнем отделе, сказал, что её нетерпеливо требуют к телефону («Кто? Кто? Мужской голос?..»), а сам, закрыв потной ладонью нижнюю чашечку трубки, с колотящимся сердцем прильнул ухом к чужому мучительному разговору.
То, что он услышал, было чудовищным: «Надя! Здравствуй, моя родная!.. Не сплю уже три ночи, только и делаю, что вспоминаю нашу ночь. Ты – чудо! Приезжай ко мне как можно скорее… А хочешь, я всё брошу и приеду?..»
Алексей осторожно прилепил трубку к аппарату и потерял себя. Надо было что-то предпринимать, но что? Он, сжимая до хруста кулаки и поминутно натыкаясь на стол и стулья, заметался по конуре кабинета. Дверь вдруг раскрылась и вошла Надя.
– Алёша, ты уже отчитался за последнюю командировку? – голос её совершенно был спокоен.
– Я… тебя… сейчас… убью! – с придыханием вытолкнул из себя Алексей.
Он так близко подскочил к Надежде, что она отпрянула…
Сцена та получилась бурной и затяжной. Надежда со слезами и покаянными охами-вздохами во всём призналась, но и сумела убедить Алексея, что всё было случайностью, парень тот, журналист из Прибалтики, абсолютно ей не нравится и при следующем же телефонном разговоре она распрощается с ним навсегда. Более того, она потом объяснялась с тем приморским ловеласом при Алексее. Инцидент был исчерпан.
Лишь осталась у Балашова в сердце длинная заноза. Иногда покалывало.
И вот после года семейной жизни Надежда поехала в Москву аж на два месяца. Так надолго они ещё никогда не расставались. Перед разлукой выпала череда бурных семейных ссор. Балашову то не нравилось, что Надежда слишком весело собирается в дорогу, то раздражала самостоятельность её решения ходить там, в Москве, в бассейн, для чего она потратила целый день на доставание медсправки… Одним словом, Алексей нервничал изрядно.
Вечером она уехала, а утром следующего дня уже звонила мужу на работу с переговорного пункта на Калининском проспекте. Всё у неё хорошо. Устроили в прекрасное общежитие. Комната на двоих. («На двоих?» – переспросил Балашов. «На двоих», – спокойно подтвердила жена, не желая улавливать в вопросе подтекстовый смысл.) Живут вдвоём с Любой из Костромы, которая тоже замужем и тоже договорилась с мужем о том, что тот приедет в столицу на Октябрьские праздники…
Надо признаться честно, в первые дни свободы Алексей очень уж сильно с ума не сходил. Отвлекало вначале то, что он мог после работы в полном смысле слова расслабиться – взять бутылочку, выпить, пойти, если хотел, в кино или весь вечер проваляться с книгой на кровати. Потом начало становиться всё скучнее и тоскливее.
Надежда звонила через день. Начали приходить и письма. Балашов как на первое из них ответил, так и строчил каждый день по простыне. (Звонить на вахту общежития можно было только в экстренном случае.) Писать старался с юмором, шутил. А сам ночами подолгу не мог заснуть. Лезли в голову разные дурацкие мысли. И картинки.
В дни ранней своей юности, как и большинство сверстников, Алексей при случае клялся и божился, что никогда и ни при каких обстоятельствах не женится. Потом, чуть повзрослев, он уже предполагал для себя судьбу семейного человека, но в разговорах с приятелями и подругами бравировал тем, что установит в своей супружеской жизни свободный порядок .
– Я, – кричал он как-то, двадцатилетний, во хмелю, – ни одного вопроса не задам жене, если она явится домой под утро, но и сам буду пользоваться полной свободой!..
Однако ж, ещё не будучи женатым, только лишь имея подруг, а потом даже, можно сказать, и любимую, он как-то вдруг с ужасом и неприятным удивлением осознал однажды, что он болезненно ревнив от природы. Стоило его девушке улыбнуться другому или принять приглашение на танец во время вечеринки, Балашов совершенно менялся, становился злым, грубым и опасным для окружающих человеком.
За год семейной жизни в общем-то Надежда поводов для сцен не давала. Но ведь и случаев не представлялось, соблазна не было. И теперь Алексей впервые так остро и болезненно мучился унизительными подозрениями.
Рано утром в самый праздник он приехал в Москву. Вся территория учебного городка оказалась окружённой высокой металлической решёткой. На проходной сидели милиционер и вахтёр, подозрительно в четыре глаза рассматривали всех, требовали пропуска. Балашов позвонил по внутреннему аппарату, Надежда прибежала вся сияющая, заспанная, в родном домашнем халатике под кое-как наброшенным на плечи пальто. Но Алексея и тогда не пропустили. Было странное неудобное чувство, что жена теперь как бы не совсем близкий ему человек, не вся принадлежит ему – живёт словно в другом мире, куда его, мужа, даже и пускать не хотят…
Пришлось им обоим гулять по улице до девяти часов, пока не пришёл нужный чиновник и не выписал временный пропуск Алексею.
В самом корпусе общежития, старинном, прошлого века здании с колоннами у входа, оказалась ещё одна вахта. Прорвались и сквозь неё и очутились наконец-то в комнате. Что ж (Балашов цепко всё осмотрел): два шкафа, две скромные одноместные кровати, письменный и журнальный столы, два стула. Окно выходило на фасад, в окне маячили высокие и пушистые ёлки.
Встреча была, конечно, горячей и нежной. Правда, опять кольнуло в сердце недоверчивому мужу то, что соседка жены по комнате, оказывается, уже три дня не живёт здесь – приехал её благоверный из Костромы, и они обосновались у родственников-москвичей на неделю.
– Не страшно было одной? – постарался будничным тоном спросить Балашов.
– А чего бояться? Тут ребята кругом в соседних комнатах, – неосторожно брякнула жена.
Алексей смолчал, но зарубку на память сделал. Потом случился ещё момент: начали выяснять, как и где жить? Надежда предложила вариант: она договорится с комендантом общежития, чтобы он разрешил мужу переночевать на свободном месте три ночи, а через общую вахту, на улицу, он будет проходить по пропуску Игоря такого-то…
– Какого ещё Игоря?
– Ну парень, сосед, учится тоже. Оставил мне пропуск, а сам поехал домой.
– Зачем оставил?
– Ну для тебя! Для тебя! Для тебя оставил! Неужели непонятно? – прибавила звук Надежда.
Появилась ещё одна зарубка.
Но праздники, надо признать, прошли прекрасно. Алексей водил жену по Москве, в которой не так уж и давно учился пять лет в университете, показывал ей любимые свои уголки города.
Четыре дня промелькнули как четыре секунды. Он уехал домой. Надежде оставалось учиться ещё почти месяц.
И вдруг страшная тоска навалилась на Балашова дома в первые же дни. Это была тоска даже не столько потому, что он скучал по жене, сколько потому, что живёт она там вдалеке, и живёт, может быть, чёрт знает как.
А тут ещё началось. Во-первых, приснился ему безобразный сон, где жена виделась ему с другим мужчиной в самых пакостных позах и ситуациях. А во-вторых, дня три подряд не прилетало от нее ни звонков, ни писем. Что случилось?
И вот постепенно сам собою созрел в голове Алексея стратегический план успокоения растревоженной души. Или, наоборот, – растравления. В четверг после работы он поехал на вокзал и взял билет в Москву на пятницу. Наутро звонила Надежда, он, как всегда, сказал, что скучает, ждёт, любит, целует. «Ты не заболел?» – спросила встревоженно Надежда. «Немного есть, – ответил он. – С обеда отпрошусь и пойду отлёживаться». Вечером же сел в скорый поезд, промучился без сна всю дорогу (и спать не мог, да и ребёнок-крикун в купе попался) и в шесть утра очутился в столице. Нервы были уже напряжены прилично, а надо было убить ещё целый, правда по-зимнему короткий, день.
Съездил он в «альма матер», прослушал там даже одну лекцию в Большой аудитории любимого всеми студентами профессора-филолога Заднепровского (чуть не всплакнул), посетил общагу, где прожил, как он считал, лучшие годы своей жизни, потом сходил на американский фильм в знакомый до мелочей «Ударник», после сеанса долго стоял на самом горбу Большого Каменного моста и пристально смотрел в свинцово-грязную воду…
Часов в шесть вечера, когда было уже по-ночному темно, Балашов доехал до учебного городка. За весь день он перехватил пару пирожков с творогом и выпил пару кружек пива. Теперь, подумал он, поесть бы, но было уже страшно некогда. Он сошёл с автобуса, аккуратно зажигая спички и замечая при этом, как мерзко прыгают руки, прикурил и пошёл вдоль металлической ограды. Кружил перед лицом мокрый снег. Алексей поднял каракулевый воротник кожаного пальто (покупали этим летом вместе с Надеждой – сколько радости было!), достал из «визитки» очки, прилепил на нос, надёжнее прикрыв их от липкого снега козырьком каракулевой кепки. Обыкновенно он обходился без очков (только кино да телевизор в них смотрел), но сейчас ему необходимо было максимальное обострение всех чувств, в том числе и зрения.
Как он и предполагал, вскоре в решётке ограды обнаружилась щель. Кто-то, видимо, специально проделал лаз – железные прутья были искривлены, и человек средней комплекции вполне мог – если ему уж очень надо! – протиснуться на запретную для посторонних территорию. Балашову очень было надо, и он пролез. С минуту постоял в голых мокрых кустах, пытаясь сориентироваться, и сумел точно определить, где находится корпус «В». Вскоре он уже был под знакомыми ёлками, которые так по-новогоднему живописно, помнил он, смотрелись из Надеждиной комнаты. Её окно было на первом этаже восьмым слева, это Алексей зачем-то зафиксировал ещё в свой официальный приезд. Оно светилось.
И вот в этот важный для дальнейших событий момент, надо особо отметить, в душе Балашова всполохнулась нешуточная борьба. Он стоял под ёлками, смотрел на светящееся окно, за которым находилась больше жизни любимая им жена, и колебался. Вариант номер один был таков: тихонько перебраться через ту же дыру в ограде обратно в город на свободу, поехать на вокзал, сесть в поезд на 23:00, уехать домой и до конца дней своих ни малейшим намёком не вспоминать сей глупый вояж в Москву. Выход номер два был ещё предпочтительней: зайти по-людски в двери, оставить вахтёрше в залог паспорт и пройти в комнату к ненаглядной своей Надежде. И объясниться ей в любви.
Он выбрал третий путь.
Местность была открытая, поэтому Алексей тщательно осмотрелся, убедился, что вокруг не оказалось ни души, и быстрым шагом, уклоняясь от ёлочных лап, приблизился к окну. Он успел заметить, что шторы смыкаются неплотно, ещё раз по-птичьи крутанул головой вправо-влево, убрал козырёк кепки со лба и почти прижался очками к стеклу…
Его словно шибануло камнем по голове. На Надеждиной кровати, где они ещё так недавно проводили праздничные дни и ночи, валялся, наполовину укрывшись одеялом, чернявый молодой парень, с усами, бородкой и волосатой грудью. Жена Балашова, Надежда, сидела рядом на стуле в не застёгнутом халатике, груди её были бесстыдно обнажены, пшеничные волосы растрепаны, курносый носик морщился весельем. В руке она держала гранёный стакан с пивом или вином, у парня в смуглой волосатой руке также была зажата посудина с питьём. Они, видимо, только что чокнулись и, смеясь, собирались хлебнуть…
Первое, импульсивное, желание словно уколом дёрнуло руку Алексея – шарахнуть по стеклу кулаком. Но он каким-то чудом удержался. Странное чувство раздвоения охватило всё его существо. С одной стороны, он был убит, растоптан и смят, с другой – испытывал даже какое-то сладострастное ощущение в душе, что его догадки и подозрения так натурально подтвердились.
«Всё – смерть!» – мелькнуло в его голове. Он вдруг услышал каждую клеточку своих напряжённых мышц, а голова стала ясная и пустая, словно он только что отгадал сложнейший кроссворд.
Дальше он действовал интуитивно и смело, но, странное дело, ему везло как лунатику. Он обошёл, крадучись, корпус и заглянул в не зашторенное окно вахтёрской комнаты. Вахтёрша, бабуся с голубыми сединами, смотрела телевизор и вязала чулок. Балашов тихо, без скрипа открыл одну за другой обе входные двери и на цыпочках прошёл в коридор, завернув за угол. Ему никто не встретился. Добравшись до двери 20-й комнаты, где совершалось сейчас преступление, он в раздумье замешкался. Двери, конечно, были заперты изнутри. Попытаться сломать? Сразу может и не получиться. Стучать? Пропадёт эффект внезапности.
Он снял запотевшие очки, тщательно протёр их носовым платком, упрятал в футляр и тихонько высморкался. И тут ему в голову ворвалась идея. Он выхватил кошелек, не найдя двушки, выудил из мелочи гривенник и вернулся чуть назад по коридору в холл. Там стояли две междугородные кабины (из которых чаще всего и звонила Надежда ему) и рядом сиротливо висел на стене городской телефон-автомат. Балашов набрал номер вахты этого самого корпуса «В» и, когда вахтёрша взяла трубку, он тихо (до вахты было не больше тридцати шагов), но убедительно попросил:
– Звонит муж Надежды Огородниковой из двадцатой комнаты, пригласите, пожалуйста, её к телефону – очень нужно!
– Сейчас, – ворчливо ответила бабуся.
Балашов, чуть помедлив, накинул тёплую трубку на крюк и ловко заскочил в будку междугородного автомата. Он чутко слышал, как вахтёрша, продолжая ворчать, прошаркала мимо, как она побарабанила в дверь, как Надежда испуганно ответила: «Сейчас! Сейчас!», – и, спустя минуту пробежала в вестибюль. Вслед за ней прошелестела обратно и старушка…
Тогда он очень быстро вышел из тесной будки, очутился у двадцатой, нажал ручку и ввалился внутрь.
– А? – вскинулся парень из постели.
– Привет! – дружелюбно сказал Алексей, сглотнув ком в горле. – Что, на дискотеку не пошли?
– Да нет, – неуверенно, морща лоб, ответил черноволосый. – Решили вот дома позабавляться…
– Молодцы! И правильно! – жизнерадостно воскликнул Балашов и приложил палец к губам: – Тсссс!..
Он встал справа, за шкаф.
Дверь распахнулась и влетела его единственная жена Надежда.
– Представляешь, Ашот, мужик, видимо, звонил, а связь прервали! – произнесла она, чуть запыхавшись, с порога.
И вдруг увидела Алексея…
Надежда шарахнулась назад, лицо её болезненно вспыхнуло, глаза остекленели от мгновенного животного страха. Она выкинула левую руку, открытой ладонью словно бы отталкивая мужа, и неожиданно и совершенно нелепо вскрикнула:
– Нахал!
Пока Балашов пробирался сюда мимо вахты, хитрил с телефоном, заскакивал в комнату, он, как ни странно, не думал, что сделает в последний миг, когда взглянет Надежде в глаза. Решения не было, он словно бы ослаб на несколько секунд, но когда прозвучало это бредовое «Нахал!» – дикий взрыв ярости содрогнул его. Алексей понял, что сейчас убьёт человека…
И в это же самое мгновение его потрясло неистовое чувство любви к жене. Он вдруг ясно осознал, что она уже не его, что он никогда больше не поцелует её, не притронется к её груди, не услышит от неё ласкового: «Лёшенька!» Она потеряна для него навсегда! Какая-то опьяняющая постыдная волна поднялась к горлу, и Балашов испугался, что сию секунду брызнут у него из глаз слёзы.
Парень тот, голый, под одеялом, на своё счастье за время всей этой фантастической сцены не издал ни звука. Алексей вдруг вспомнил о нём и, зажав белые кулаки в карманах пальто, пересилил колоссальным усилием воли всё своё больное напряжение, повернулся на пятках в его сторону и выдавил:
– Значит, на дискотеку не идёте? Ну-ну!.. Как говорится, счастливо отдыхать…
Он пододвинулся к двери (Надежда продолжала оставаться в столбняке), повернул ручку и с порога уже от смертельного отчаяния хотел бросить что-нибудь бесшабашное, вроде «Привет!», или «Чао!», или, ещё лучше, «Гуд бай!», но из горла его вырвался лишь какой-то безобразный клёкот.
Он плыл по коридору и чувствовал, как глаза начинает жечь слезами. Он убыстрил ход, почти пробежал мимо оторопевшей вахтёрши, которая что-то ему крикнула, и устремился к пропускному пункту.
Невыносимая боль сверлила нутро, он, уже не сдерживаясь, неприлично рыдал навзрыд. Уронил по дороге перчатку, спохватился нагнуться за ней, но, махнув рукой, только ещё быстрее рванулся к проходной.
– Конец! Конец всему!..
Алексей промчался сквозь коридор вахты к спасительному выходу, успел заметить вскинутые лица старика вахтёра и молодого милиционера и вырвался на простор улицы.
Уже клубилась ночь. По трассе с зажжёнными фарами мчались с рёвом потоки машин. Свет их, словно на фотографиях, лучился и размывался в глазах Балашова. Рокот и гул заполнили весь мир.
Алексей на мгновение приостановился, вдохнул для чего-то полную грудь сырого воздуха и, падая навстречу ветру, побежал вперёд.
Радужные фары машин излучали, казалось, не только свет, но и жар.
ВСЕХ УБИТЬ НЕЛЬЗЯ
Рассказ
Борис никак не может усмирить крестик оптического прицела: руки дрожат, дыхание – толчками, пот заливает глаза.
В окуляре мелькают странно близкие деревья, столбы, машины, люди. Но вот в прицел попадает светло-зелёная стена здания, проскальзывает красная вывеска с золотыми буквами «Администрация…» и, наконец, двери: массивные, солидные, обкомовские.
Громадным усилием воли Борис выравнивает дыхание, несколько раз, отложив винтовку, сжимает-разжимает пальцы правой руки, снова, уже твёрдо, уверенно, приникает к прицелу, наставляет дуло на двери. Через пару минут они открываются. Появляются несколько человек – в галстуках, несмотря на жару, в пиджаках, у каждого в руке папка или дипломат. В центре группы выделяется один – упитанный, седовласый, вальяжный. Остальные как бы при нём: внимают каждому слову, почтительно реагируют на всякий жест.
Все они, переговариваясь, гурьбой идут к машинам. Борис, стараясь делать это плавно, ведёт прицел за ними. Дыхание вот-вот опять сорвётся. У двух «Волг» группа останавливается. Прицел, поплясав, упирается в Вальяжного. Борис делает глубокий вдох, затаивает дыхание и – стреляет.
В момент выстрела прицел дёргается, и Борис видит, как хватается за плечо и резко сгибается человек рядом с Вальяжным. Чёрт! Борис стреляет ещё раз. И ещё.
Бах! Бах! Бах!
После второго выстрела другой человек – опять не Вальяжный – подпрыгивает и, схватившись за голову, падает навзничь. И только третья и четвёртая пули попадают в цель. Вальяжный, выронив папку, сначала хватается за левую руку повыше локтя, потом дёргает головой, грузно падает на колени, утыкается лбом в асфальт, опрокидывается на бок.
Страшная паника. Вопли. Кто пригибается, прикрывает голову, кто в столбняке, кто бросается прочь.
Борис секунду смотрит поверх прицела, вскакивает. Один из группы, увидев его, тычет пальцем, кричит. На террасе-балконе десятого этажа жилого дома человек с винтовкой сразу бросается в глаза. Эх, надо было не вскакивать! Борис мчится вниз по лестнице – один пролёт, второй, третий… Вот и его, пятый, этаж. Такой же широкий переходный балкон-терраса. Тамбур. Коридор. Быстрее, быстрее! Еле-еле попадает ключом в один замок, в другой. Винтовка мешает. Дверь распахивается. Борис вбегает, захлопывает дверь, замки – на все обороты, накидывает цепочку, задвигает мощный засов. У-у-уф!
Он в изнеможении откидывается спиной на дверь, закашливается. Рядом с дверью, на стене – зеркало. Борис, утирая платком рот, видит своё болезненное, обтянутое синеватой кожей лицо с воспалёнными глазами и глухо сам себе шепчет:
– Всё – конец!
Борис, встав на табурет в кухне, из глубины через открытую на лоджию дверь наблюдает, как во дворе подъёмная машина с гидравлической стрелой возносит в люльках двух милиционеров с автоматами. Поодаль, сдерживаемые оцеплением, толпятся, гудят зеваки. Два или три автоматчика – Борис знает – держат под прицелом окна его квартиры.
Перед тем его целый час осаждали из коридора – звонили, кричали в мегафон, пытались выбить дверь. Сменили тактику лишь тогда, когда Борис саданул два раза из винтовки – два сквозных отверстия. И вот теперь – штурм со двора. Всё: или пан, или пропал. Нечего мандражировать! Все они сволочи!
Люльки уже вровень с лоджией. Менты, полусогнувшись, ждут, когда стрела приблизит их вплотную, вглядываются из-под шлемов в сумрак кухни.
Борис, вскинув к плечу приклад, мгновенно выцеливает одного из них в плечо, нервно дёргает собачку. Бах! Милиционер, взмахнув руками, откидывается и, кувыркнувшись через ограждение люльки, плавно и тяжело летит вниз. В толпе – крик ужаса.
– Назад! Прочь! Прочь, я сказал! Убью-ю-у-у! Наза-а-ад! – исступлённо визжит Борис.
Оставшийся в живых автоматчик, скорчившись, машет отчаянно рукой: вниз! вниз! Стрела начинает опускаться.
Борис бежит к входной двери, всматривается в глазок. Оптика – немецкая, широкоугольная. Хорошо видны вооружённые люди справа и слева по стенке. Дверь у соседей напротив приоткрыта на цепочке, поблёскивает любопытный глаз.
Борис понимает: сопротивляться бесполезно. Но какая-то дикая, непреодолимая сила заставляет его упрямиться, беситься, корёжит ненавистью и бешенством: хрен вам, суки! Так просто не дамся!
Главное сделано: приговор полностью и целиком приведён в исполнение. Суд свершился. Терять теперь нечего. Только вот – Надя.
Что будет с Надей?..
Борис не сразу это понял.
То, что они с Надеждой никому не нужны. Что всё спущено на тормозах, всё шито-крыто. Что на их деле поставлен крест. Жирный, глумливый, похабный крест. Что его жена. Надежда, измызгана, растоптана, испоганена, а дочка не родившаяся, ещё только ожидаемая, убита, уничтожена – за просто так, за здорово живёшь.
Эх, надо было сразу решиться, не ходить, не унижаться перед жирными разъевшимися кабанами, перед их лизоблюдами.
В прокуратуре приторный, слащавый господинчик, прикладывая руки к груди, убеждал его:
– Поверьте, Борис… э… Сергеевич, и вы, и ваша супруга – вы глубоко ошибаетесь: не мог сын Евгения Петровича в этом участвовать. Вы же отлично знаете, милиция тщательно проверила: у него – неопровержимое алиби. Его вообще в тот день в городе не было. А настоящих преступников обязательно найдём. Потерпите.
Борис судорожно усмехнулся.
– Уж третий месяц ищете…
– Ну что ж, ну что ж, не всё сразу. Дело сложное.
– А я вам повторяю: жена подонка этого сразу узнала, как увидела. Она их всех троих в лицо запомнила. Это был он – точно.
– Ну, дорогой мой Борис Сергеевич, сказать всё можно, согласитесь. Вот найдётся, допустим, человек, который скажет: «Я точно видел, как Борис Сергеевич изнасиловал женщину». А?
– Ага. Собственную жену.
– Ну что ж, ну что ж, бывают и такие случаи – мужья жён собственных насилуют…
Борис побледнел, приподнялся.
– Вы что это говорите? Вы что, издеваетесь?
Он рванул ворот рубашки, задохнулся.
– Ну что вы, что вы! – вскочил прилизанный, плеснул в стакан воды. – Что вы! Простите уж – сами этот разговор завели. Успокойтесь…
Скотина!
В вестибюле казённого здания-дворца у входа – стол, за столом – милиционер. Мент стоял насмерть, как перед бандой рецидивистов: низ-з-зя-а-а! Не положено! Не приёмный день! Борис, устав пререкаться со сторожевым псом в погонах, взял себя в руки, сел на второй стул у стены, жёстко предупредил:
– Пока он меня не примет – я отсюда не уйду.
Старшина соображал минут десять, пыхтел, сопел, но всё же взялся за телефон, прикрывая трубку ладонью, подобострастно доложил:
– …да, да, требует… Что? Слушаюсь!
Пристроил трубку на рычаг, брюзгливо процедил:
– Сейчас выйдут к вам, ждите.
Вскоре на лестницу вывернулся сверху пухленький лысоватый чиновник, сбежал вниз.
– Это вы? Евгений Петрович очень заняты. Они не могут вас принять. Да и часы сейчас, и день сегодня не приёмные.
– Я не уйду, пока не поговорю с ним. Мне надо всего минут пять, – решительно отчеканил Борис.
Чиновник попытался было что-то вякнуть, Борис твёрдо перебил:
– Повторяю, мне срочно нужно поговорить с ним по важному для него делу.
Посыльный испарился. Через две-три минуты телефон на столе дежурного зазуммерил. Старшина, вытянувшись в струнку, прогавкал:
– Есть! Понял!
…И на что Борис тогда надеялся? Разговор с Вальяжным получился дурацким, ненужным, нервомотательным. Борис во время аудиенции сидел сгорбившись, уставясь в ковёр, не желая лицезреть ни циклопических размеров Т-образный стол, ни громадный портрет Ельцина, ни самого хозяина необъятного кабинета. Надо было уходить, но Борис по инерции, назло продолжал тягомотный диалог:
– Ваш сын с приятелями изнасиловал мою жену, убил моего ребёнка…
– Прекратите, в конце концов! – шарахнул по столу Вальяжный. – Это ваши бредни. Даже из Москвы приезжали, разбирались – что вам ещё надо? Я понимаю, у вас горе, но ведь и других понимать надо…
– Где ваш сын? Я хочу с ним поговорить.
– Я же сказал: сына моего в городе нет, он – далеко. И в последний раз предупреждаю: если вы не оставите нас в покое – пеняйте на себя.
– Что, в психушку упрячете?
– В психушку не в психушку, но меры примем.
Борис вдруг издевательски осклабился прямо в лицо Вальяжному:
– А если я меры приму, а?
Тот посмотрел напряжённо, пытаясь понять. Раздражённо-брезгливо махнул рукой.
– Всё, не хочу вас больше слушать! До свидания.
– До сви-да-ни-я, – многозначительно, растягивая слова, ответил Борис. – Вот именно: до сви-да-ни-я!
Он встал, отпихнув стул ногой, пошёл к двери, взялся за сверкающую бронзой ручку, но внезапно обернулся и, сквозь слёзы, прорычал:
– Не-на-ви-жу!
Вышел и наотмашь саданул массивной резной дверью.
Несколько дней после того визита к Вальяжному Борис ходил задумчивый, отстранённый, угрюмый сверх меры.
Как-то они сидели с Надеждой в креслах, отрешённо уставившись в булькающий и мерцающий телеящик. Молчали. Они с того дня теперь всё больше молчали, избегали встречаться взглядами, словно воздвиглась меж ними стена – прозрачная, проницаемая, но вязкая, плотная. Борис вдруг встал, прошёл на кухню, пошарил по шкафам, в ящике стола. Вышел на лоджию, поискал в коробке с инструментами. Куда же он запропастился?
Наконец нашёл – складной ножик-«белочку» в кожаном чехле. Снял чехольчик, попробовал пальцем лезвие. Нашарил в инструментах оселок, прикрыл плотнее дверь на кухню, принялся шаркать. Время от времени прислушивался – не идёт ли Надежда?
Лицо у него было сосредоточенным, решительным, злым.
Искал он долго – несколько недель.
Что сына Вальяжного, как он его крестил – Сынка, в городе не было, Борис поверил. Действительно, папаша услал его от греха подальше. Значит, пока оставались двое – Пацанчик и Мордоворот. И того и другого он видел лишь единожды, уже после, но запомнил шакалов намертво. Только вот адресов их и анкетных данных у него не имелось, да и не надо их разузнавать – светиться не стоит. Всё надо делать без шума.
Борис, выпросившись в отпуск пораньше, с утра до вечера рыскал по городу – по рынку, стадиону, пивнушкам, пляжам… Всматривался в лица парнишек и парней.
Бесполезно.
В субботний вечер он забрёл в городской сад. Вечер был прекрасен. Борис мельком заметил это, пару раз глубоко вдохнул пьянящего воздуха – цвела сирень. На летней площадке раскручивались танцы. Гремели барабаны и тарелки, визжали и стонали трубы-саксофоны – толпа прыгала, потела.
Борис бродил вокруг танцплощадки, высматривал. Внезапно – он услышал – сзади него один парнишка сказал другому:
– Глянь, мусор переодетый, что ли? Кого-то вынюхивает. Может – замочим?
Борис развернулся, вперился прямо в глаза оболтусу. Тот, худой, длинный, в варёнках и майке, заробел, забыл про жвачку, отступил за своего приятеля. Борис качнулся к ним, сжав кулаки, и вдруг узрел за их спинами Пацанчика. Тот, пьяненький, тупо лыбясь, прижимал к себе курносую размалёванную девчушку, тащил её на танцверанду. Борис чуть не кинулся к ним, но сдержался, отвернулся, отступил в тень. Два приятеля, намеревавшиеся его «замочить», наверняка приняли его за психа.
Весь вечер Борис, держась в полумраке, сторожил. Даже когда шакалёнок, всё с той же курносой своей подружкой, совершал вояж в туалет на край парка – проводил издали и туда.
Танцы кончились. Вспыхнула обширная драка. Началась беготня, засвистала милиция. Борис, следя пристально за своей парочкой, молил Бога: только б Пацанчик не встрял в драку, не загремел бы в кутузку. Но тот, видно, окончательно сомлев, покорно плёлся за своей пассией прочь.
Борис крался за ними след в след. Они свернули на пустынную улицу совсем невдалеке от дома Бориса. Девчонка что-то лепетала, хихикала. Пацанчик пьяно мычал и всё тянулся к ней с поцелуями.
Глянув по сторонам, Борис завязал нижнюю часть лица тёмным шарфиком, нагнал их, хлопнул Пацанчика по плечу:
– Эй!
Тот неожиданно резво отпрыгнул, оробело кудахтнул:
– Чево ты? Чё надо?!
Борис крепко поймал его за руку, строго сказал онемевшей девчонке:
– Вот что, девушка, мне с этой особью поговорить надо. С глазу на глаз. Поняла?
Она вдруг сморщилась, сверкнула слезой, тоненько завыла:
– Дяденька, отпусти-и-и! Отпусти-и-и!
Борис топнул в её сторону, в руке его заиграл нож.
– Ну, тихо! Брысь отсюда и – домой. Иначе хуже ему сделаешь.
Девчонка отбежала, пошла прочь, всё время оглядываясь, размазывая слёзы по лицу. Пьяная бравада ещё остатками в Пацанчике бродила, он через силу хмыкнул:
– Ты чего, грабить меня будешь? Так у меня – трёшник токо и больше ни шиша…
– Пошли. И только пикни.
Борис подсунул к самым глазам парнишки блескучее лезвие, тряхнул его за руку, повлёк за собой. Пацанчик явно перетрухнул. Он трезвел с каждой минутой.
– Погоди! Ты чё? Куда ты меня прёшь?
– Молчи! Заткнись, я сказал!
На улицах – ни души. Окна тёмны. Время – около двух ночи.
Борис притащил уже покорного, оцепенелого Пацанчика к своему дому, со двора, свернул не в подъезд, а влево, вниз по лестнице – в подвал. В подвале довольно светло – мерцают два фонаря. Торчат столбы-подпорки. Неуютно, мрачно.
Прислонив Пацанчика к одной из подпорок, Борис ловко завёл его руки за столб, начал стягивать тонким капроновым шнуром, приговаривая:
– Вот и умница… Дрыгаться не надо, не поможет. Кричать тоже не советую, никто не услышит. Место ведь тебе, паршивцу, знакомо? Отсюда криков не слышно, не правда ли?
Привязал, отошёл в сторонку, обтряс руки, словно после важной трудной работы. Стащил шарфик с лица. Пацанчик, вглядываясь, начал, видимо, что-то припоминать. Дёрнулся.
– Ну-с, прекрасно, – бодро сказал Борис. – Теперь и побеседуем. Скажи, сучонок, для начала: как тебе жена моя, Надежда Николаевна, понравилась? Ну, в тот вечер, когда ты, сволочь малолетняя, после своих дружков старших елозил на ней здесь вот, в этом подвале. Понравилась? Может, жениться на ней хочешь? Так я разведусь…
Пацанчик никак не мог сглотнуть ком в горле – кадычок так и прыгал: вверх-вниз, вверх-вниз.
– Впрочем, жениться тебе теперь не придётся уже ни на ком. М-м-да… Ты вот пока лучше что скажи: где тот, самый здоровый из вас, Мордоворот, проживать изволит? И где в настоящее время ваш хозяин, ваш вождь задрипанный прячется?
Пацанчик отперхал, выдавил из себя:
– Тот, здоровый, это брательник мой сродный. Он в Пригородном лесу щас… Он в «Туристе» на лодочной пристани пашет… А тот, брательник сказывал, на море щас живёт, у родственников в Феодосии…
Борис задумчиво осмотрел Пацанчика, что-то прикидывая.
– Тэк-с, тэк-с, тэк-с… Ну что ж… Надежда Николаевна, спрашиваю, понравилась? Она не старая ещё, двадцать семь всего… Выкидыш у неё случился, чуть не умерла…
– Дяденька! – пискнул Пацанчик. – Да не хотел я! Они меня заставили!
Борис на мгновение представил себе отвратную сцену: Пацанчик, пуская слюни, закатывая глаза, дрыгается на Наде…
Лицо Бориса закаменело, глаза сузились. Он зловеще медленно приблизился к Пацанчику вплотную, распустил у него ремень. Шакалёнок напрягся, затаращился: что с ним собираются делать? Борис перехватил ремнём Пацанчика через живот, повыше брюк, пристегнул его плотно к столбу. Подёргал – годится. Нагнулся, разул Пацанчика, отбросил потёртые кроссовки, стянул с него носки. Морщась, держа их на отлёте, скомкал, резким движением впихнул грязный ком Пацанчику в рот. Стащил с него майку, перехватил ею нижнюю часть лица Пацанчика, словно делая его собратом-разбойником, примотал голову к столбу. Теперь гадёныш мог двигать только ногами. Борис расстегнул ему штаны, спустил. Содрал полосатые трусы. Штанами привязал к столбу и ноги Пацанчика. Голый, весь в пупырышках от страха и подвальной сырости, Пацанчик, округлив глаза, мычал и дрыгался.
Борис молча достал из карманов, выложил на дощечку, словно в операционной, флакон одеколона «Саша», носовой платок, нож-«белочку». Раскрыл его, чиркнул по лезвию ногтем, удовлетворённо хмыкнул. Приблизился к столбу, проникновенно сказал:
– Я решил тебя помиловать. Понял? Сначала я хотел всех вас, мразей, уничтожить. Вас же, подонков, нельзя оставлять жить. Ну вот… Но потом я вспомнил, на твоё счастье, что у нас даже государство наше подлое несовершеннолетних не казнит. Поэтому я решил тебя очень и очень легко наказать. Мягко. Мужайся, голубчик, мужайся. Благодари Господа Бога, что жив останешься.
Говоря последние слова, Борис отвинтил крышечку одеколона, смочилим платок, тщательно протёр лезвие ножа. Плеснул одеколона на руку, вымыл ладони. Подошёл к Пацанчику. Нагнулся. Обрызгал обильно из флакона пах. И – сделал секательное движение.
– Вот так!
Пацанчик рванулся, вскрикнул глухо, взвыл, потом обмяк, повис на путах. Борис, ещё смочив платок одеколоном, приложил его к свежей ране. Быстро выдернул шнурок из кроссовки Пацанчика, наложил жгут, посмотрел флакон на свет, вытряс остатние капли жгучей жидкости на место «операции». Отбросил пустую посудину, брезгливо отёр руки от крови шарфиком-маской. Тщательно осмотрел себя при размытом свете подвальных фонарей.
Пока Борис освобождал Пацанчика, натягивал на него трусы, укладывал на землю, подложив под голову кроссовки и штаны, тот всё плавал в полузабытьи. Борис посидел чуток рядом, отдыхая, потом вынул из кармана крохотный пузырёк с нашатырём, подсунул Пацанчику к ноздрям. Тот сморщился, помотал головой, приоткрыл глазёнки. С минуту смотрел дебильно вверх, скосился на Бориса – вскинулся и со стоном схватился за пах. Лицо его перекорёжилось.
– С-сука! Чё ты со мной сделал? Убью, гад!
Борис притиснул его к земле, концом ножа подцепил за подбородок.
– Нет, это я тебя убью, ублюдок! Я. Понял? Радуйся, что жив остался. А без баб многие люди на земле живут и – ничего. Надежду Николаевну помни теперь до могилы… И – серьёзно говорю – если кому расскажешь, или за мной охотиться начнёте – убью сразу. Мне теперь терять нечего. Я своё отжил…
Пригородный лес.
Лето в разгаре. Буйство зелени. Ни ветерка, ни дождинки. Вечер. Солнце уже прилегло на кроны отдалённых деревьев, готовясь унырнуть в ночь.
На берегу реки – трепыхание уютного костерка. Рядом – компашка рыбаков. Солидные дяди, тузы, вскидывали походные стаканчики, галдели, опрокидывали, закусывая ушицей и шашлыками. У костерка суетился, обслуживал хряков Мордоворот. Дело, видать, привычное. Он уже изрядно хлебнул и теперь невпопад всхохатывал, встревал в гвалт, порой бормотал что-то типа:
– Мы вона как умеем… Не шашлыки – сказка, мать твою! Таку ушицу – поди попробуй сгондоби, хрен чё получится…
Из кустов за компашкой наблюдал Борис. Рядом, на траве – дипломат. Борис томился в засаде уже три часа – устал, вспотел, мухи и комары достали.
Пьянка разгоралась, как костёр. Один из рыбарей поднялся, шатаясь, продефилировал к кустам, пустил вонючую струю чуть ли не на Бориса. Он скукожился, морщась, проглотив дыхание, переждал.
– Э-эх, приятно же на родную матушку-природу поссать! – зареготал пьяный боров, застегнул штаны, вернулся к шашлыкам.
У костра дружно похрюкали, похохотали. Свиньи! Вдруг за спиной Бориса раздалось злобное ворчание. Он обернулся – матёрый пёс, нервно дёргал верхней губой, сверкал клыками. Борис хлопнул по земле ладонью, шёпотом цыкнул:
– Цыц! Цыц!
Псина заворчала громче. От костра донеслось:
– Ш-ш-ш… Зверь какой-то, слышите?
–Да брось ты! Какой там зверь – собака…
Борис молча упёрся в пса взглядом, начал давить. Зверь ворчал ещё секунд десять, потом закрыл пасть, так же в упор вперился в человека: кто кого? Наконец, собака не выдержала, отступила, скрылась. У костра продолжали на эту тему:
– Пойти глянуть – кто там?
– Да хватит тебе, вдруг бешеная? Как цапнет за ляжку…
– И впрямь, и так подчинённые бешеным за глаза зовут…
Вскоре пиршество на лоне природы затухло. Один за другим нагрузившиеся по горло рыболовы поплелись к «Туристу» – его высокая крыша выглядывала из-за деревьев. Один из подсвинков потянул Мордоворота с собой:
– Пшли… Пшли, драгой… У меня там кон… коньячок…
– Щас, щас, благодетель, конечно. Коньячок – это вещь. Только вот костерок залью, а то начальство заругает. Вы идите, идите, я щас мигом подскочу.
Мордоворот остался один.
Борис вынул из дипломата туристский топорик, освободил от чехла. С топориком в руке подполз по-пластунски к самому краю кустов. Мордоворот стоял к нему спиной, потягивался, играя буграми спины. Потом рассупонился, начал брызгать на костер. Борис, привстав, сделал один бесшумный шажок, второй, приподнял топорик…
Вдруг Мордоворот, крякнув: «Да ну его к ё… матери! Хватит!», – застегнулся, подхватил пустое ведёрко, сумку с посудой и рысью помчался вверх по тропе. Борис, стиснув топорище, сплюнул, долго смотрел ему вслед…
Пришлось на следующий день устраивать новую засаду.
Благо, гулянки бурлили на берегу, видать, ежевечерне. На этот раз ещё и катались на лодке. Потом казанку вытянули носом на бережок, развели костёр. Мордоворот опять шустро кочегарил и кашеварил, на халяву то и дело опрокидывал стопарик, хохмил – веселил компанию.
Борис терпеливо ждал в кустах на своём наблюдательном пункте. Когда чересчур уж допекло смотреть на жрущих и пьющих весельчаков, достал из кейса бутерброд с сыром, запил из фляжки холодным чаем. Учёным сделался: накануне чуть слюной не подавился.
Как только компания начала разбредаться, Борис, уже наперевес с топориком, встал в стойку – словно изготовился рвануть на стометровку. Мордоворот, суетясь, крикнул:
– Вы идите, идите, а я щас лодку отгоню. Я моментом: костерок залью, лодочку отчалю и – прибегу.
Остался один. Схватил ведёрко, спустился к реке. Поставил ведро рядом с лодкой. Присел на корточки,черпнул ладонями воды, плеснул на лицо, отфыркался.
Борис на цыпочках подкрался к бугаю вплотную. Тот, широко разведя руки, стряхивая капли с пальцев, начал подниматься. В этот миг Борис наотмашь ахнул его обушком в щетинистое темя. И сразу – другой раз. В тоже место. Хрустнул череп.
Мордоворот продолжал распрямляться, замедленно обернулся, поднимая левую лапу к голове, глянул выпучено на Бориса, шагнул к нему, потянулся растопыренной пятернёй… Борис попятился, сжав топор обеими руками. Пальцы – фарфоровые. Перед глазами – кровавые круги. Споткнулся, чуть не сел.
Сделав шаг, второй на взгорок, Мордоворот утерял равновесие, качнулся, захрипел, пуская ртом розовые пузыри, и навзничь опрокинулся в воду. Ноги его остались на берегу. Борис, бросив топорик, еле спихнул тело, словно тяжёлое бревно, в реку. Оно, покачиваясь, поплыло по медленной ночной воде к плотине. Пузырём вздулась над водой рубаха.
Борис, плетьми свесив руки, проводил взглядом труп. Спохватился, толкнул лодку вслед. Взял топорик, присев на корточки, точь-в-точь, как до этого Мордоворот и на том же самом месте, принялся отмывать обушок. Борис сосредоточенно тёр-оттирал топорик пальцами, но вдруг вскочил, размахнулся и зашвырнул его изо всех сил. Тот, как томагавк, кувыркаясь, засвистел к другому берегу и, сверкнув в лучах полной луны, булькнул в воду.
Внезапно Борис почуял чей-то взгляд, в тревоге обернулся: из кустов пристально смотрел на него зелёными светящимися зрачками тот самый лохматый пес. Борис, нервно шаря, нащупал под ногами увесистый мокрый сук, швырнул.
– Цыц, сволочь!
Тварь, злобно клацнув клыками, растворилась в ночи. Тёмную тишину пробуравил стонущий жуткий вой.
Феодосия.
Борис уже третий день шатался по южному городу, по его пляжам и ресторанам. Только глаза утомил.
И вот, когда он, измотанный, сидел в «Астории», пил сухое вино, вяло жевал резиновый антрекот, – нарисовался Сынок с двумя девицами. Официант мигом накрыл им столик – шампанское, коньяк, закуски, фрукты. Праздник жизни забурлил.
Борис через полчаса не выдержал, вскочил, пошёл к их столику, уже взялся было за свободный стул – уже Сынок вскинул на него хмельные водянистые глаза, – но Борис опомнился, прошагал мимо, к стойке.
К Сынку с оторвами вскоре подключился здоровый коренастый лоб. Задача осложнялась. Борис, заказав ещё вина и кофе, весь вечер не спускал с них глаз. Как же он ненавидел Сынка, его паршивую рыжую бородёнку, его масленые толстые губы и визгливый наглый голосок.
Потом Борис, крадучись, тащился за ними по крутым улочкам Феодосии к морю. Те раздухарились, затеяли купание голышом. Борису пришлось на почти совсем пустынном пляже держаться поодаль. К компашке Сынка привязались два патрульных сержантика, поднялся шум-гам. В конце концов сынки и девки прикрылись, выкарабкались в город, остановили тачку. Борис кинулся к проезжему частнику, притормозил.
– Вон за тем такси, пожалуйста!
– Дорого будет, – процедил водитель, молодой суровый парень с перебитым боксёрским носом.
– Сколько будет. Поехали!
Когда мчались уже за городом, повеселевший частник ухмыльнулся:
– Что, приятель, девчонку увели?
– Увели, – сухо буркнул Борис. – Не отставайте, пожалуйста.
И – как чёрт подгадил: «жигулёнок» дёрнулся, вильнул, потерял скорость. Водитель даванул на тормоза, в сердцах сматерился: заднее левое колесо – в лепёшку. Тачка исчезла за поворотом.
– Э-эх! – уничижительно, зло обронил Борис, достал деньги, швырнул на сиденье. Хлопнул дверцей и, раздражённо отплёвываясь, зашагал обратно в город.
Крымская душистая ночь цвела вокруг, звенела, но Борис совершенно её не замечал.
Часов пять вечера.
Дикий пляж под Феодосией. Народу мало. Все, само собой, – в чём мать родила: и мужчины, и женщины, и старики, и дети.
Море напоминало стекло – мёртвый штиль. Далеко-далеко от берега, почти у горизонта, дрейфовал надувной матрас. На нём – Сынок. В руке его – початая бутылка «сухаря». Время от времени он лениво подносил вино к губам, втягивал пару глотков из горлышка. И опять надолго замирал в неподвижности.
«Пора!» – решил Борис, уже четвёртый час пасший свою жертву. Он вошёл в воду в стороне от пляжа, поплыл в открытое море. На лице его – маска, на ногах – ласты.
Он подкрался к Сынку со стороны горизонта, под водой, лишь от дыхательной трубки разбегались тихие бурунчики. Впрочем, напрасно он перестраховывался: Сынок задремал-таки крепко. Борис примерился и, быстро глянув по сторонам, ухватил вялого Сынка правой рукой за подбородок, левой – за темечко, рывком вывернул-крутанул голову, опрокинул его в воду. Мгновение, второе Сынок трепыхался, рвался из рук, но, жадно хлебнув горькой воды, обмяк, и уже ничто не могло спасти его.
Борис, держась за матрас, внимательно осмотрелся. Невесть откуда появилась яхта, совсем рядом. Ему почудилось – в его сторону блестят окуляры бинокля. Всё – сгорел!.. Но яхта с алым парусом, проскользнув мимо, устремилась дальше, в открытое море.
Протерев уставшие глаза, Борис отрегулировал дыхание, натянул маску, прикусил загубник трубки, погрузил лицо в воду. В сиренево-фиолетовом мареве глубины покачивалось обвисшее, раскоряченное тело Сынка. Борис с тревогой вдруг понял: вместо страха, ужаса, отвращения при виде дела рук своих в душе его шевелится радость, довольство, злорадство…
Вот тебе и – не убий!
Борис поплыл опять к горизонту, закруглил большую дугу, вышел на самом краю дикого пляжа, где голые, свободные от препон стыда нудисты безмятежно жарились на солнце.
Борис – на их фоне белый, как мертвец – присел у кромки моря и долго ожесточённо тёр и тёр-оттирал песком руки.
Почему же нет спокойствия в душе?..
Мысль о последнем приговоре влетела ему в воспалённый мозг, когда он ворочался на верхней полке в поезде «Симферополь – Москва».
Попутчики внизу галдели, чокались, звучно хлебали, бренчали на гитаре и травили анекдоты – Борис их не замечал. Ему приснился мерзопакостный сон: подвал, его Надя – голая, истерзанная, избитая. Кучка лыбящихся пьяных негодяев. Сам Борис привязан к столбу, во рту у него кляп из чужих вонючих носков. Помешать псам, прервать мучительную больную сцену он не может и рычит, воет от горя, ненависти и бессилия. И вдруг – самое тошнотворное – он видит: вместо Сынка Надежду насилует его отец, Вальяжный. Он в пиджаке, в галстуке, но без брюк. Он ёрзает на жене Бориса, вихляя студенистым жирным задом, и хрюкает от сладострастия…
Борис очнулся весь в липком колючем поту. Вспоминал, тяжело думал, решал и – приговорил: до конца! Под корень!
Поезд из Москвы в его родной город отходил поздно вечером.
Борис полдня бродил по Рижскому рынку – чреву столицы. В лавках с псевдозаморским тряпьём, голыми календарными девицами, книжонками о космических проститутках и коньяками-шнапсами торчали в основном знойные дети Кавказа. Борис долго выбирал, к какому из них подступиться. Наконец у одного торгаша, скучавшего в своей пёстрой лавке, он, понизив голос, спросил хрипло:
– Слышь, дорогой, подскажи: мне «пушка» нужна. Говорят, здесь можно купить…
– Э-э, ара, зачэм такие разгаворы? Прахади мимо, нэ мэшай работать.
Борис, вздохнув, повернул к двери. Продавец окликнул:
– Э, ара, а чэго тэбэ нада?
Борис, встрепенувшись, мигом вернулся;
– А что есть?
– Ну, эсли хочэшь – писталэт Макарава адин найду. Толька дорага.
– Вы знаете, мне бы желательно винтовку с оптическим прицелом. Чтобы издалека попасть. Я, знаете ли, на кабана хочу поохотиться…
– Мэня нэ касаэтся, на каво ты будэшь ахотиться. Мэньшэ знаэшь – лучшэ спышь. Сколька дашь за винтовку?
– Н-н-н… А сколько надо?
– Пять дашь?
– Тысяч?!
– Э-э, ара, зачэм дурачком сэбя ставишь?
– Согласен, согласен, – торопливо прервал купца Борис. – Завтра в это же время принесу деньги. Хорошо?
– Ладна. Толька учти: каждый патрон – дэсят рублэй, а разрывной – двадцат…
Борис рванул на почту. Слава Богу, успел дозвониться Наде на работу.
– Да, да, всё нормально. Надя, потом всё объясню, Надя, потом, дома. А сейчас – срочно вышли телеграфом на Главпочтамт пять тысяч. Что? Три с половиной? Надя, ну возьми у матери, найди. Срочно! Надя – срочно!..
С почты помчался на вокзал, поменял билет. И всю ночь, всю ночь метался по громадным залам Павелецкого, думал, сомневался, боялся – не успеет, не получится, не сможет…
Он крепко надеялся, что из Феодосии весть запоздает: родственники будут, конечно, разыскивать Сынка до упора, несколько дней, прежде чем решатся сообщить отцу…
Он должен успеть!..
Борис всматривается в глазок: в коридоре заметно какое-то движение – менты жестикулируют, совещаются. Что они задумали?
На секунду так остро колет в груди: Господи, хоть бы это был сон! Хоть бы этот кошмар кончился! Так хочется жить!..
В этот момент раздутое, искривлённое оптикой лицо усатого майора выворачивается сбоку, скособоченный рот распахивается:
– Не стреляйте! Эй, не стреляйте! Здесь ваша жена! Мы все уходим из коридора – все до единого! Впустите жену! Впустите вашу жену!
И правда, Борис видит: коридор пустеет, последним, зачем-то на цыпочках, удаляется майор. Слышится цокот, лёгкий знакомый стук каблуков. Надя!
Борис медлит. Жена приникает лицом к щели между коробкой и дверью.
– Борь! Боря! Это – я. Не бойся, они все ушли. Открой. Открой дверь.
Борис молча стоит ещё томительных десять секунд. Эх, не надо бы, не надо!.. Отпирает замки, отжимает засов, скидывает цепочку. Приоткрыв дверь, рывком вдёргивает Надежду, молниеносно выглядывает – далеко ли враги? Снова запирается на все запоры. Стоит, молча смотрит на жену. В руке – винтовка. Карман оттопырен, оттянут – там патроны. Надя, распахнув глаза, смотрит-всматривается в его безумные зрачки, бросается на шею, стискивает в объятиях, стонет:
– Борис! Боря, что же ты с собой сделал?!
У Бориса кривится лицо, темнеют глаза, он сразу сламывается и фальцетом, плаксивым голосом вскрикивает:
– Это они, они что с нами сделали, а? Н-н-а-дя-а!..
Борис отшвыривает винтовку на ящик для обуви, судорожно обнимает жену, прячет лицо и в голос рыдает…
Объятия длятся, длятся, длятся, становятся всё неистовее, жарче. Вдруг Борис, умолкнув, находит губы Нади, всхлипывая, страстно целует. И ещё. И ещё. Она вначале пытается отстраниться, прервать поцелуй, но через мгновение сама уже отвечает на ласки, пристанывает, шепчет бессвязные полузабытые слова.
Они уже теряют разум. Они уже на полу, на циновке. Они любят друг друга словно в первый раз – судорожно, безумно, сладостно. Борис в горячечном бреду всё повторяет-твердит:
– Надя! Наденька! Любимая моя! Моя единственная! Жить без тебя не могу!..
С обувного ящика прямо на них смотрит в упор чёрный бездонный зрачок дула, словно винтовка подглядывает за таинством любви, сторожит, ждёт своего часа…
Борис уже сидит в кресле, в комнате. Надя стоит перед ним на коленях, обнимает.
– Боря, выхода нет – открой дверь. Открой, я умоляю! Пойми же, пойми: всех убить нельзя. Всех убить нельзя! Ты и так уже отомстил… Сколько можно? Ты же невинных начал убивать…
– Они все виноваты, – угрюмо буркает Борис.
– Не все, Борь, не все. У милиционера, мне сказали, жена и две дочки остались… Боря, ну зачем же ты?..
Борис, скрипнув зубами, мычит, как от зубной боли, отталкивает жену.
– Ну как ты не понимаешь: они же меня уничтожат теперь! Не могут они меня простить…
– Да нет же, нет, Борь, нет! – Надя хватает его за руки, лепечет. – Мне начальник милиции твёрдо обещал, что тебя помилуют. Дадут несколько лет и – всё. Я перееду в тот город, где ты будешь. Я на свидания буду ходить… Боря, выйди к ним, умоляю!
– Надя, ну ты подумай: много помогли они нам? Хорошо защитили? Может, они нашли и наказали твоих насильников? Убийц дочки нашей?.. А? И теперь ты им веришь? Да за одного кабана обкомовского мне – вышка, расстрел…
– Боря, Боря, неправда! Ведь ты не просто так убивал! Боря, он мне обещал!..
– Ладно, Надь, ладно…
Борис встаёт, поднимает с колен жену, твёрдо, жёстко говорит:
– Вот что, иди к ним и скажи: я выйду ровно через десять минут. Ровно через десять. Хочу ещё немного на свободе побыть. Один. Пускай к двери не подходят – иначе буду стрелять. Пусть ждут в конце коридора. И ещё: обязательно скажи – пусть автоматы и пистолеты уберут. Тогда я винтовку у двери оставлю. Поняла? Ну – иди.
Борис притягивает к себе Надю, жадно, мучительно целует в губы, отталкивает, беспрекословно, резко приказывает:
– Иди!
Он провожает жену до двери, смотрит в глазок, отпирает.
– Иди!
Жена погружается в его взгляд, Борис готов к этому: глаза его пусты, холодны, непроницаемы. Надя утирает слёзы, машинально взбивает причёску перед зеркалом.
– Всё, иду.
Он закрывает за женой дверь. Берёт винтовку. Стоит, закрыв глаза, две-три минуты. Неумело, размашисто крестится. И – заглядывает в бездонную дырочку дула.
В чёрную пустоту…
ВСТРЕЧИ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ
Рассказ
Буду краток. Речь не обо мне. Я попал на это место, мне кажется, случайно. Друзья считают, что мне повезло: в тридцать пять лет стать главврачом больницы – это карьера. Но если бы мне кто сказал в то время, когда я учился в мединституте, что я стану когда-нибудь возглавлять так называемый «жёлтый дом», я бы только рассмеялся.
Примерно на третьей неделе моей новой работы ко мне и пришёл на приём, настойчиво этого добиваясь, больной-хроник Михайлов Е. Г. Он вошёл, вежливо и нормально (я почему-то всё ещё ожидал от каждого больного ненормальностей) поздоровался и по моему приглашению сел. Я сразу обратил внимание, что он заикается, мучительно смущаясь. Я потому это заметил, что сумасшедшие обычно не умеют стесняться. Росточком он и так не вышел, но зачем-то старательно горбился, лицо имел худенькое и тоскливое. Под мышкой Михайлов держал тетрадку. Он с минуту помялся и в конце концов мучительно проговорил:
– В-в-вот з-з-записи… П-посмотрите…
Я было попробовал расспрашивать – что за записи? о чём? – но он упорно твердил:
– П-п-поссмотрите, п-потом с-скажете…
Я отпустил его, вскипятил чаю и, усевшись поудобнее, принялся за «записи». Писаны они были нервным, плохо разборчивым почерком. Некоторые места показались мне не совсем литературными, но ведь не член же Союза писателей это писал.
Вот они, эти записки Михайлова.
«Я той осенью пошёл в первый класс. Стоял на дворе 1946-й год, ещё весь в незалеченных ранах. Мы жили тогда в большом селе на берегу Енисея, и потому война связывалась для меня не с воем самолётов, взрывами снарядов и пожарами… Война – это пустые рукава соседа дяди Паши и его судорожная улыбка, с которой подойдёт иногда к нам, пацанам, и попросит:
– Слышь, ребятня, слепите-ка мне, кто половчей, цигарку…
Война – это съёжившаяся фигурка Анки-почтальонши, её спотыкающийся шаг, и жуткий бабий вой за калиткой, откуда она только что вышла.
Война – это щи из лебеды, крапивы и ещё какой-то пресной травы, ежесекундное чувство голода и когда кажется, что живот уже прилипает к позвоночнику и всерьёз боишься, что когда он окончательно прилипнет, то придётся отдирать его пальцами и будет больно.
Но жизнь брала своё и каждодневными радостями стирала в детской памяти оставшееся позади. Летом приехал наконец-то из далёкой Германии отец, и сразу стало легче. Отец был совсем целый и невредимый, только слегка дёргал головой. Но это же пустяки, – он сам так говорил – лёгкая контузия. Правда, отец через пять лет умер, но это – другая история. А тогда казалось (или мне сейчас, спустя много лет, думается, что тогда казалось?), что теперь будет только всё хорошо и никогда ничего плохого.
В школу я вообще как на самый разбольшой, развесёлый и разожидаемый праздник отправился. Мать из отцовой гимнастёрки сшила мне куртку, на которой были дырочки от боевых медалей, чем я чрезвычайно гордился. Отец сам, лично повесил мне через плечо свою офицерскую сумку, пахнущую кожей, порохом и табаком, и я мнил себя не просто настоящим мужчиной, а – военным командиром.
Был ли я тогда трусом, не знаю, но сейчас признаюсь, что, когда на третий день школьной жизни мне разбаклажанил нос Вовка Фашист из 3-го «Б», только фронтовая гимнастёрка с дырочками не позволила это стерпеть. Ух и врезал я ему, сволочуге! Его Фашистом не зря клеймили – он суслика раз изловил и прямо с живого, гад, кожу содрал. Я в то время совсем голопузым был, но до сих пор помню его пальцы окровавленные, его оскаленный слюнявый рот и распахнутую мордочку захлебнувшегося в муках зверька. Фашиста били за это старшие ребята, а он катался в ногах и визжал, что они варят дома суп из сусликов, и если кожу с живого сдирать, то суп наваристее получается…
На большой перемене нам за счёт колхоза выдавали по куску хлеба, прозрачно смазанного коровьим маслом, и по большой кружке жидкого, но горячего киселя. На кисель можно было долго с усердием дуть, растягивая щёки до истомы в предушных впадинах, и от этого «обед» продолжался блаженно вкусное время. Учителям тоже полагался такой паёк, только ели они отдельно от нас, за матовыми стёклами учительской. Чего стеснялись?
Мама (она вела 3 «Б») в первый же день поманила меня в угол буфета и хотела впихнуть мне свою порцию, но я, чуть постыдно не заплакав, громко и грубо отказался: «Чё я, голоднее всех?» Бедная мама поздно поняла свою оплошность и растерянно обернулась: в хрупкой тишине десятки глаз смотрели на свершаемую несправедливость. Мама опустила голову, точно виноватая, и молча ушла в учительскую. А я долго ещё потом ловил на себе подозрительные и завистливые взгляды, но разве можно было объяснить, что, честное слово, и наедине бы от мамы ни крошки не взял – её саму просвечивало насквозь против солнца.
А жрать хотелось. Не есть, не кушать, не пообедать, а – жрать. Чёрт его знает, вроде и картошка уже молодая была, огурцы, помидоры, редиски почти вдоволь, хлеб каждый день ели… Видимо, скопилось за войну этого проклятого голода в животе столько, что его теперь и водопадом еды было трудно затопить.
На второй перемене, когда до киселя надо было терпеть ещё целый-прецелый урок, Митька Корешок решительно рубанул:
– Айда за яблоками!
И мы пошли. Колхозный сад кучерявился прямо напротив школы. Год выдался урожайный на яблоки, и из окон нашего 1-го «А» со второго этажа сад походил на громадный платок сказочной великанши, весь в жёлтых пятнах «чалдона» и красных «ранета», небрежно брошенный посреди села.
Сад был окружён двухметровым глухим забором из неструганных занозистых горбылей. Охранял его днём и ночью дед Козёл – родной дед Вовки Фашиста. Я его, этого деда Козла, почему-то всегда побаивался. Между носом и животом весь он был закрыт чудовищной бандитской бородой, которая смыкалась на щеках с такими же смоляными космами, и из всей этой кущи волос тускло глядели маленькие, с горошину, глазки и высовывался огромной багровой фигой пористый носище. Весь он походил на того страшного цыгана, которым пугала меня в младенчестве бабка, умершая в самом начале войны. Плюс ко всему у него на вооружении имелась, как мы отлично знали, двуствольная «мортира» двенадцатого калибра.
Но хотелось жрать.
Со стороны школы мы подтащили к забору сломанную парту, взгромоздили наверх ящик из-под гвоздей, и теперь даже мне, самому мелкорослому в шайке, яблоки были видны как на ладони. С другой же стороны забора в два ряда шли поперечины, и потому препятствий для отступления не было. Нас собралось человек пять, но никто не решался первым перейти двухметровый рубикон.
Наконец Митька геройски подтянул штаны и сгинул за забором. Полезли и остальные. Замыкающим оказался я. До ближайшей яблони было шагов сорок. Я не одолел ещё и половины, когда Митька вдруг ринулся назад, держа нелепо на отлёте руку с двумя яблоками. Он чуть не сшиб меня с ног, промчался мимо, прерывисто крича почему-то:
– Карау-у-ул!..
Побежали все. Я же с пылу с жару даже не остановился, и притом яблоки, сладкие, хрумкие, вот они – осталось руку протянуть.
И когда я уже протягивал руку и для порядка стрельнул взглядом по сторонам, я увидел деда Козла. Он молча и деловито бежал наперерез вдоль забора. Борода скособочилась на плечо. В руках его сверкал топор. Зайчик от лезвия ударил меня по глазам, и в паху защемило. Я дико вскрикнул и рванулся, но не к забору, а в глубь сада. Я бежал так быстро, что даже не успевал заплакать. И ждал удара топором. По голове.
– Сто-о-ой, стервец! – стегнуло сзади.
Голова моя ещё сильнее втиснулась в плечи. В тот же миг дед Козёл насадил меня на шатун своей руки и зверски тряхнул. Я увидел вдруг собственные рыжие ботинки перед носом, сжался, думая, что сейчас грохнусь спиной о землю. Но дед Козёл странно бережно опустил меня и, ущемив волосы на затылке, пригнул мою голову.
– Щас показню тебя, едрит твою да! Бушь що лазать?..
И я почувствовал на шее обжигающее прикосновение оскала топора.
– Ааааааааааааа!..
Как потом восстановилось по рассказам, все мои «подельники», кроме Митьки Корешка, перелетев через забор, опомнились только в классе. Митька же, сидя на двухметровой высоте, ошарашенно следил за погоней, а потом без лица ворвался в 3-й «Б».
– Вер Петровна! Там!.. Дед Козёл!.. Топором!.. Женьку!.. В саду!..
Сама мама не помнила, как перебралась через забор, уже Митька потом расписывал, что она как пацан перемахнула. Дед, увидев её лицо, отцепился от меня, резво отпрыгнул в сторону и завопил:
– Я постращать, ей-Богу, постращать токо! Оне же весь сад поизлохматили!..
– Сад! Сад! – кричала в горячке мама. – Себе мешками носишь, кулак чёртов, а на ребёнка с топором? 3а пару яблок? Ну погоди, ответишь за всё!..
Я же, уткнувшись в мамин живот, только, задыхаясь, мычал:
– М-ма!.. М-ма!.. М-ма!..
С того дня я начал мучительно ёрзать на начальных согласных. Простую фразу, например: «Пошли на речку», – я выплевывал из горла с полминуты:
– П-п-пошли н-н-на р-речку…
Сколько тягостных воспоминаний скопилось из-за этого со временем! Я стал молчаливым, задумчивым, начал сторониться всех, скверно учиться… Э-э, да что там вспоминать! А как страдала мама после каждого неудачного визита к врачам. Одним словом, первая встреча с этим человеком сразу, сильно и надолго сдвинула с рельсов мою жизнь. Я его ненавидел, но ещё сильнее боялся. Мама тогда бегала к председателю, в милицию, плакала, кричала и даже грозила, но для деда Козла всё каким-то образом обошлось. И он продолжал жить и по-прежнему сторожил колхозный сад. А я, заикаясь, ненавидя его и боясь, подрастал.
Вторая наша встреча нос к носу случилась ровно через десять лет. Опять стояла осень. Наш 10-й «А» находился на втором этаже в самом углу, и два окна из четырёх смотрели на сад. Он стал ещё пышнее и обильнее, а тот же самый забор почернел и, казалось, наполовину закопался в землю. Я сидел на «Камчатке» у самого окна, один, и любил во время урока положить взгляд на праздник сада, чтобы отдохнуть от серого цвета классных стен. А потом, если долго не дёргали учителя, я впадал в ересь мечтательства. Я был в то время безнадёжно влюблён. В Люсю Мамаеву. Из 10-го «В».
Она была красива той не страшной красотой, при виде которой не столбенеешь, не проглатываешь язык и не покрываешься больным липким потом, если тебе надо с ней заговорить. В её лучистых, с брызгами смеха карих глазах не было ни капельки высокомерия и девчоночьей глупой самовлюблённости. Тошно смотреть на иную кривляку, у которой чуть только встопорщилась кофточка на груди да чуть стали округляться другие места, она уже и воображает – королева, поклонения ждёт… Люся была не такая. К ней любой пацан мог подойти и запросто спросить:
– Люсь, пойдёшь сёдни в клуб?
Ну, запросто! Любой. Кроме меня.
Мысленно-то у меня без сучка без задоринки получалось, но только представлю себе, как начну люлюкать: «Лю-лю-люся, п-п-пойдём…», – так горло перехватывало судорогой. Противно становилось. Я издали её любил. Провожал её тоже на расстоянии. А по вечерам на свидания ходил. С её окнами. Стоял часами и смотрел театр теней. И сердце шевелилось в груди, как большой кролик в тесной клетке.
Раз даже охамел до смелости, в темноте перевалился через штакетник палисадника, пробрался между клумбами и к её окну нос приплющил. Одна штора – моя союзница! – чуть завернулась, и я увидел…
Она стояла боком к окну и разбирала постель. Задумчиво, медленно сложила пополам, потом вчетверо розовое покрывало, повесила на спинку стула. Откинула одеяло в ослепительно белом пододеяльнике. Взбила розовую подушку. Подошла к трюмо у противоположной стены, взяла гребень и провела несколько раз по светлым своим волосам. Потом достала розовую ночную рубашку из шкафа и положила на кровать.
«Надо уходить!»
Люся пробежала пальцами по пуговичкам домашнего халатика и скинула его. На ней были только розовые трусики и какой-то девчоночий, видимо, самодельный беленький лифчик. Она мягко перегнулась, расстегнула его и зябким движением выскользнула плечами из бретелек. Я, задыхаясь, увидел два нежно-розовых кружочка, рдеющих на пронзительно белых беззащитных холмиках… Вдруг она вздрогнула бросила взгляд на окно и потянулась к рубашке. Я рванулся напролом сквозь колючую акацию. Обжёг лицо. С маху саданулся о штакетник. Отлетел. Вскочил. Перебросился через него и, шатаясь, пошёл. Я бродил до рассвета. Щёки мои горели, под ложечкой сладко ныло, в глазах всё было белым и розовым, белым и розовым…
Я переждал несколько мучительных дней, отодвигая себя в пространстве как можно дальше от Люси, не смея и взглядом скользнуть по её фигуре или лицу. Она же, по-прежнему, видимо, обо мне не думала. И я через неделю опять начал красться по её ещё не остывшему следу. Но к окну больше никогда не приближался.
Кто знает, может, со временем я и решился бы, так сказать, бухнуться ей в ноги – к-к-казни или м-м-м-милуй! – но неожиданно и страшно точку моему роману поставил дед Козёл.
В Доме культуры шёл последний сеанс. Люся была там. Естественно, и я. В этот раз я настолько осмелел, что впервые сел вплотную за ней и весь фильм осторожно, по-собачьи, вдыхал пьянящий запах её распущенных влажных волос. Почему-то она была без подруг. Я понял, что наступил наконец-то вечер решительных действий. Свет вспыхнул. Она вышла. Я следом. Фара луны после темноты зала слепила глаза. Дождь уже перестал.
Чтобы от клуба попасть на улицу Мира, где жила Люся, надо было обогнуть колхозный сад. Фильм в этот раз был не ахти, публики мало, и когда мы – Люся впереди, я шагах в полста сзади – подошли к садовому забору, то остались на мое счастье (или горе!) вдвоём. И свидетельницей – луна. Как в кино.
«Всё, сейчас начнется вдоль забора глухая тропка, надо просто догнать и небрежно – главное, небрежно! – свою охрану предложить… Сейчас! Только не чересчур волноваться, милейший, а то ей от твоего заикания тошно станет…» Люся вдруг оглянулась на меня и – вот девчонка! – сдвинула оторванную доску в заборе и прямиком через ночной сад. Я остановился. Чёрт с ним, с садом, но ведь там где-то дед Козёл!
Я тронул доску и осторожно заглянул в щель. Люся быстро шла между деревьями, а на ветвях, словно игрушки на новогодних ёлках, блестели яблоки-шары. Я было хотел схитрить: дескать, махну вокруг и встречу Люсю с той стороны, но вдруг рассвирепел и одёрнул свою душонку – что она обо мне подумает? Она-то идёт и на всех дедов и «козлов» начхала!
Я решительно протиснулся, заспешил по чуть заметной дорожке и уже надавил лёгкими на диафрагму, собираясь окликнуть Люсю, как вдруг откуда-то сбоку и сзади громыхнуло:
– Сто-ой, едрит твою да! Сто-о-ой, стервецы!..
Козёл!
Меня и сейчас всего перекорёживает от мучительного стыда при воспоминании о том, что произошло дальше. Я даже, подлец, не оглянулся. Не посмел оглянуться. Меня как ударило. Я подпрыгнул от окрика, втянул голову и помчался паршивым сусликом, теряя ноги, спотыкаясь и чуть не падая. Мелькнуло растерянное лицо Люси, её перекрученное в полуобороте тело. Мимо. Выстрел! Захлебнувшееся «Ой!» и – надрывный душераздирающий визг-стон…
Дед Козёл в тот вечер был пьян и вместо «солёных» патронов (он и раньше по пацанам постреливал солью) засадил в двустволку бекасиные. Люсе ампутировали правую ногу – колено было полностью раздроблено и началась гангрена. Люся долго лежала в области, потом, выписавшись, сразу подалась куда-то в другие края, к родственникам. Одноногая. Я её больше никогда не видел и даже не могу представить её такой. Не могу.
Деда судили. Я выступал свидетелем. В те времена опьянение, как ни странно, ещё являлось смягчающим вину обстоятельством, кто-то к тому же за деда Козла вступился настойчиво, и ему припаяли всего два года.
Ещё на суде меня обожгло отношение ко мне людей: ненависть, презрение, гадливость, насмешки… Сначала всё было нормально. Хотя сидели в зале все свои, сельские, но мало кто знал подробности события. Я не мог ни с кем об этом говорить. Я целыми днями сидел дома (даже в школу перестал ходить) и только и делал, что выворачивался из себя чулком от стыда и тоски. На следствии я многого не договаривал, мямлил, что случайно в саду оказался, что не успел помочь и всё в таком духе. А вот тут, на суде, вдруг решил, что мне надо покаяться. Перед народом покаяться в своей трусости, и тогда, думалось, я перешагну этот проклятый барьер, тогда я смогу наконец взглянуть в глаза людям и, главное, Козлу. На него я вообще смотреть не мог, как ни насиловал себя.
И я начал каяться. Правда, я почему-то начал не с топора, а с самого трудного:
– Я л-л-любил Л-л-люсю…
Я смотрел в пол и выдавливал мучительно, как дурную кровь из раны, слово за словом. «Только не надо про розовое на белом, не надо!» – билось в виске… Но я и про это рассказал. И вот когда должно было нахлынуть так страстно ожидаемое облегчение, я глянул в зал, и всё во мне надломилось…
Я понял в ту же минуту, что в селе мне не жить, и потому на следующий день уехал в краевой центр. Пошёл работать на стройку, копал поначалу землю (да мне и всё равно было – землю копать, гвозди ли заколачивать или деньги фальшивые печатать), поселили меня в общагу. Сперва приставали и в бригаде, и соседи по комнате, на знакомство набивались, потом бросили. Я знал, что они меня Заикой и Чёрным Ящиком окрестили, – плевать! Я молчал. Не до них было. Тут это началось.
Он повадился ко мне по ночам приходить. Днём-то ломаешься с лопатой до двенадцатого пота, он и отставал, а ночью садился на край кровати, мерзко по голове меня шершавой корягой своей гладил и что-то бормотал с угрозой. Прямо запах болотный изо рта его чувствовался…
Я поступил в вечернюю. Начал по ночам заниматься, в холле общаги книги читать, а оставшиеся для сна четыре-пять часов единым глотком проглатывал. Знал: остановлюсь – опять вцепится. И я без остановки читал, читал, читал, пока над книгой же и не отключался. Поглядывали на меня странно. Ох уж эти взгляды! Всю жизнь! Всю жизнь!..
Сейчас-то я понимаю, что это был бой с тенью. Всё равно, что пришла Курносая за человеком, а он кулачонком ей в оскал начал тыкать и думает, что сопротивляется, и не чует, глупый, свиста, с каким приближается к его шее отточенная коса Смерти…
Однако я в сторону ушёл. Я-то с её сестрой бороться пытался. Пытался…
Через два года, как ему освободиться, и начались у меня кошмары сильнее прежнего. Ведь взбрело же в голову, что он непременно оттуда ко мне заедет. Впрочем, я и не знал точно, в каких местах он «отдыхал» и какой дорогой будет возвращаться. Я ждал. Каждый час. Каждую минуту.
И дождался.
Раз поздно вечером в ноябре, после работы, я лежал поверх одеяла и ждал-следил. За окнами лило. Два парня сидели за столом, пили ядовитый вермут и играли в карты, смачно матерясь. Я зримо увидел, как дед Козёл, с нелепым мокрым мешком на плече и топором за поясом, подошёл к дверям общаги, отряхнул капли дождя с шапки и бороды, спросил что-то у вахтёрши и, цепляясь за перила, полез по лестнице… Внутри меня что-то натягивалось и начало вибрировать, сердце свернулось в трубочку. Я машинально пошарил руками, но ничего тяжёлого рядом не было. Дверь отворилась без стука, и он вошёл. Даже не вошёл, а как-то противно, ёрничая, впрыгнул в комнату.
– А вот и я, касатик! Едрит твою да!..
Парни так увлеклись картами, что – ноль внимания. Дед Козёл вдруг судорожно, суетясь, начал сдёргивать мешок с плеч, одновременно пытаясь вытащить топор из-за ремня (он каким-то мерзким рыжим ремнём был в поясе перехвачен), и всё время косил на меня чёрным глазом.
– Ааааааааааааа!.. Н-на п-п-помощь!..
Со мной тогда еле справились пятеро (из коридора ещё набежали). Вызвали мигалку с крестом. Лечили долго. Когда выпускали, врач напоследок ещё раз вдолбил: читать поменьше, а лучше совсем бросить – нельзя голову напрягать. Подался опять на стройку, уже в другое СМУ, землю копать.
Да, забыл совсем, уже перед «освобождением» тот же врач мне осторожненько сообщил, что мама моя уже тому два месяца, как умерла, но – он замялся – ехать на могилу мне не след, могут быть рецидивы. Конечно, он не смерть матери имел в виду (я как-то эту весть спокойно воспринял, не мог осознать), а боялся он моей встречи с ним