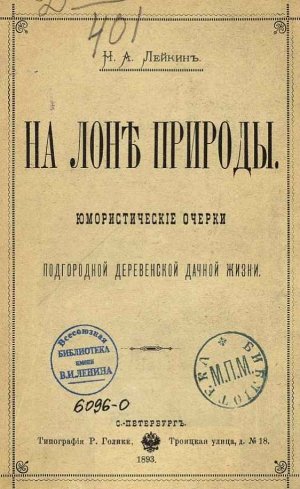
I
Въ деревню Колдовино въѣхала, такъ называемая, купеческая телѣжка, окрашенная въ свѣтло-синій цвѣтъ съ красными и черными полосками по связямъ и спицамъ колесъ. Въ телѣжкѣ сидѣлъ коренастый, грузный, среднихъ лѣтъ человѣкъ торговой складки, въ новомъ картузѣ съ глянцевымъ козыремъ и въ синей чуйкѣ, опоясанной краснымъ кушакомъ. Вся фигура его съ рыжеватой подстриженной бородой и лоснящимся, заплывшимъ жиромъ лицомъ отличалась благообразіемъ и напоминала почему-то лавочнаго кота. Въѣхавъ въ деревню, онъ тотчасъ же осадилъ сытую лошадь и шагомъ поѣхалъ по грязи. А грязь была по случаю осенняго времени непролазная. Колеса вязли въ ней чуть не по ступицу. Лошадь, мѣрно ступая и позвякивая маленькимъ бубенчикомъ и мѣдными бляхами франтовской деревенской сбруи, еле тащила телѣжку. Направо и налѣво стояли избы, крытыя тесомъ, и показывающія нѣкоторое благосостояніе крестьянъ Кое-гдѣ въ маленькихъ окошечкахъ виднѣлись кумачевыя и бѣлыя занавѣски, на подоконникахъ стояли чахлыя растенія въ горшкахъ, а въ окнѣ одной избы выставленъ былъ даже гипсовый купидонъ, стоящій на колѣняхъ со сложенными руками. Былъ праздникъ, послѣобѣденное время. Кое-гдѣ у воротъ сидѣли мужики и бабы. Завидя проѣзжающаго человѣка, они ему кланялись, а тотъ, самымъ ласковымъ, самымъ почтительнымъ манеромъ снимая картузъ, тоже отвѣчалъ на ихъ поклоны. Доѣхавъ до избы, на воротахъ которой была доска съ надписью «староста», онъ остановилъ лошадь и сказалъ стоящей въ калиткѣ дѣвушкѣ въ яркомъ расписномъ платкѣ на головѣ:
— А ну-ка, на счастье, не дома ли голова-то деревни? Семенъ Михайлычъ дома?
— Тятенька? переспросила дѣвушка. — Дома. Сейчасъ только отхлебали мы и онъ лежитъ на лавкѣ.
— Ну, вотъ и отлично. Стало быть, можно засвидѣтельствовать почтеніе головѣ деревни, проговорилъ проѣзжій и, кряхтя, сталъ вылѣзать изъ телѣжки, — Лошадь-то я, умница, къ воротамъ… Вотъ тутъ черезъ столбъ возжи перекину — она и не уйдетъ. Лошадь смирная. Дочка Семена Михайлыча будешь? спросилъ онъ дѣвушку.
— Невѣста. Замужъ пора. На-ка тебѣ пяточекъ мятныхъ пряничковъ — позабавься. Своимъ ребятишкамъ домой везу, а ужъ съ тобой подѣлюсь.
Онъ полѣзъ въ карманъ чуйки, вытащилъ нѣсколько бѣлыхъ круглыхъ пряниковъ и подалъ дѣвушкѣ.
Въ окно избы, между тѣмъ, глядѣла уже голова пожилой женщины, повязанная коричневымъ платкомъ, и что-то шевелила губами. Когда проѣзжій прошелъ черезъ калитку на дворъ, на крыльцѣ его встрѣтила рослая фигура пожилого мужика въ ситцевой рубахѣ и въ жилеткѣ, въ опоркахъ на босую ногу и съ всклокоченной головой.
— Аверьянъ Пантелеичъ! Какими судьбами? заговорилъ мужикъ.
— Ѣду мимо изъ Крюкова отъ обѣдни, вижу вывѣска «староста», какъ, думаю, не заѣхать къ начальству деревни! Здравствуй, Семенъ Михайлычъ, отвѣчалъ пріѣзжій.
— Милости просимъ, милости просимъ. Сейчасъ можно и самоваръ поставить.
— Не для самовара пріѣхалъ, а чтобы засвидѣтельствовать почтеніе. Вотъ трактира-то у васъ въ деревнѣ нѣтъ или постоялаго двора… А то самъ бы я тебя сейчасъ въ трактирѣ и чайкомъ, и горькимъ до слезъ удовлетворилъ. А трактира нѣтъ — ну, и аминь.
— Міръ не хочетъ питейное заведеніе въ деревнѣ открывать. Что жъ ты подѣлаешь съ міромъ-то? Ничего не подѣлаешь. Три раза въ мое староство тутъ торговые люди набивались съ заведеніемъ — ни-ни. Деревня большая, мужики есть и не ослабшіе, а вотъ не желаютъ, да и что ты хочешь.
— Да, да… А было бы, такъ сказать, благоустройство для деревни и все эдакое. А вотъ теперь въ праздникъ послѣ обѣдни и вздумалъ бы кто горькимъ до слезъ позабавиться, а взять-то и негдѣ. Я не ради пьянства говорю, а ради пользительности живота и все эдакое.
— Не хотятъ, отказываютъ, еще разъ повторилъ хозяинъ.
— Знаю, знаю. А что хорошаго? Хорошаго ничего…
— Стаканчикъ-то для тебя, Аверьянъ Пантелеичъ, у меня, впрочемъ, всегда найдется.
— Да я не для себя. Я къ слову. Я самъ кабатчикъ, мнѣ, по настоящему, водки-то и нюхать не слѣдуетъ. Да…
— Вводи лошадь-то на дворъ. На лошади вѣдь пріѣхалъ. Семъ-ка я ворота отворю, приглашалъ гостя хозяинъ.
— И у воротъ постоитъ… Лошадь смирная… Хорошо, говорю, что вотъ я запасливый человѣкъ и ѣду, такъ у меня всегда съ собой бутылка водки на всякій случай въ телѣжкѣ… Кому въ гостинецъ, кому такъ… И все эдакое…
— Грушка! Вводи Аверьяна Пантелеича лошадь! крикнулъ хозяинъ дочери, распахнувъ ворота. — Зачѣмъ ей на улицѣ-то стоять? Пусть подъ навѣсомъ… Можно и корму задать.
Дѣвушка въ яркомъ расписномъ платкѣ стала вводить во дворъ лошадь. Пріѣзжій сунулъ въ телѣгу подъ сидѣнье руку, порылся въ сѣнѣ, вытащилъ оттуда бутылку водки и, подавая ее хозяину, сказалъ:
— На-ка вотъ тебѣ гостинцу отъ моихъ плодовъ земныхъ. Кабатчикъ не сѣетъ, не жнетъ, а плоды-то земные у него все-таки есть, хе-хе-хе… Бери, не стыдись. Везъ дьячку за выписку метрики, да не повстрѣчалъ его; такъ ужъ тебѣ…
— Спасибо, спасибо… заговорилъ хозяинъ, принимая бутылку. — Прошу въ избу, гость дорогой.
— Постой… Есть и для супруги гостинецъ. Какъ ее по имени и отчеству величать-то?
— Фекла Ивановна… Ну, да что ей… конфузливо отвѣчалъ хозяинъ.
— Есть и Феклѣ Ивановнѣ полфунтика чайку. Везъ дьячихѣ, да вотъ не заѣхалъ къ нимъ, — ну, а вотъ оно и кстати. На-ка…
Пріѣзжій засунулъ опять руку въ сѣно, вытащилъ свертокъ съ чаемъ и подалъ его старостѣ.
— Самъ ужъ ей дашь, самъ… Входи въ избу-то… Недолюбливаетъ она тебя, что мы, вотъ, проѣздомъ черезъ Быково у тебя въ заведеніи гуляемъ, ну, а теперь задобрить ее можешь.
— Ну, ладно… Э-эхъ! Бабы, вѣдь онѣ неразумны, оттого и ругаютъ насъ. Непонятіе къ жизни, оттого и недолюбливаютъ. А мы, вотъ, всей душой рады… Постой, умница, постой лошадь-то ставить. Семъ-ка я еще въ телѣжку слазаю. Есть у меня тамъ и для ребятишекъ гостинецъ. Жестяночка монпасье. Везъ дьячковымъ дѣтишкамъ, ну да не видалъ ихъ, такъ вотъ оно и кстати пришлось.
— Что это ужъ ты больно много… замѣтилъ староста.
— Супругу твою задобрить хочу, чтобы полюбила. Бери-ка вотъ, бери…
Пріѣзжій въ третій разъ засунулъ въ сѣно руку и вытащилъ коробку монпансье.
— О! Да у тебя тамъ цѣлая лавка! сказалъ староста, принимая коробку.
— Неисчерпаемый источникъ, это точно. Добръ вѣдь я, ну, и хочется людямъ угодить, сказалъ пріѣзжій и, подмигнувъ, прибавилъ: — Пошарить, такъ и еще найдется. Рѣдко ѣзжу — ну, и все эдакое…
Онъ вошелъ на крыльцо и тотчасъ же спохватился.
— Ахъ, да… Есть у васъ старушка-бабушка. По старымъ годамъ своимъ она, поди, чаю-то съ сахаромъ не пьетъ, за грѣхъ считаетъ, такъ вотъ ей фунтикъ изюмцу на чаепитіе, сказалъ онъ.
— Пьетъ, пьетъ и съ сахаромъ, отвѣчалъ староста.
— Ну, все равно. Бери. Изюмъ хорошій. Крестницѣ везъ. Крестница у меня есть въ Крюковѣ. Михайлы Сидорова дочка. Ну, да не видалъ ея тамъ, такъ и ладно. А вашей бабушкѣ на старые зубы годится.
Пріѣзжій снова рылся въ телѣжкѣ и наконецъ, доставъ оттуда два свертка, произнесъ:
— Бери ужъ кстати и пятокъ лимоновъ… По хозяйству пригодится. Хотѣлъ отцу Василію, да послѣ обѣдни не потрафилось зайти къ нему. Бери, бери… Одинъ изъ лимончиковъ разрѣжемъ и съ нимъ чаю напьемся.
— Да ужъ больно много ты гостинцевъ-то… церемонился хозяинъ, недоумѣвая, что значатъ всѣ эти дары.
— Бери… Не стыдись, коли даютъ. Вѣдь я же у тебя угощаться буду.
— Ну, благодаримъ покорно. Спасибо.
Хозяинъ взялъ дары и послѣдовалъ вмѣстѣ съ гостемъ въ избу.
II
Кабатчикъ Аверьянъ Пантелеичъ входилъ за старостой въ избу, кланялся старостихѣ и, какъ говорится, разсыпался мелкимъ бѣсомъ.
— Матушка, Фекла Ивановна, здравствуйте! голосилъ онъ съ сіяющей во всю ширину лица улыбкой. — Голубушка, добраго здоровья! Ѣхали мимо отъ обѣдни изъ Крюкова — какъ, думаю, къ главнокомандующему деревни по пути не заѣхать! Человѣкъ онъ большой, властный, міромъ излюбленный, такъ какъ ему почтеніе не отдать. Вотъ кстати и гостинчика примите во все свое удовольствіе. Везъ на погостъ дьячку и дьячихѣ, да не трафилось увидать ихъ, такъ ужъ вамъ все это съ пріятствомъ кушать.
— Милости просимъ, Аверьянъ Пантелеичъ, милости просимъ… приглашала старостиха кабатчика. — Садитесь, такъ гость будете. Вотъ пожалуйте сюда въ горницу.
— Сядемъ, сядемъ. А гдѣ же бабушка, старушка божья? У меня и ей есть гостинецъ.
— А вонъ бабушка на печи лежитъ. Лежаночка у насъ, такъ ужъ она завсегда на ней.
Кабатчикъ прошелъ въ чистую, оклеенную обоями горницу старосты, въ которой стоялъ комодъ со шкапчикомъ и изъ шкапчика выглядывала чайная посуда. На шкапчикѣ высились два пузатые самовара. У стѣны подъ окнами была обыкновенная избяная деревенская лавка, а остальныя стѣны были заставлены кроватью съ горой подушекъ, старымъ потемнѣвшимъ краснаго дерева диваномъ и надъ нимъ были налѣплены на обояхъ двѣ засиженныя мухами олеографіи. Въ углу помѣщались иконы съ теплящейся передъ ними лампадкой.
Съ лежанки сходила босая старуха въ синемъ кубовомъ ситцевомъ сарафанѣ. Кабатчикъ тотчасъ же подскочилъ къ ней.
— Стой, стой, бабушка, я тебѣ помогу слѣзть. Стара вѣдь ужъ, ноги-то, поди, не наши, нагулялись тоже въ свое время, заговорилъ онъ. — Здравствуй, бабушка, здравствуй, милая. Не узнаешь нешто меня? Аверьянъ Пантелеевъ я. Вотъ тебѣ гостинчика на здоровье.
— Да ужъ больно ты много гостинцевъ-то… проговорилъ староста. — Такъ что намъ даже и совѣстно.
— Что за совѣсть! Берите на здравіе души. Гдѣ ребятишки-то, Фекла Ивановна? Это вотъ ребятишечкамъ полакомиться въ свое удовольствіе.
— Да на задворкахъ гдѣ-нибудь бѣгаютъ.
— Такъ вотъ передайте для ихъ зубовъ работку. Пусть пожуютъ и пососутъ. Батюшки! Въ горницу-то я вошелъ, а на иконы, грѣшникъ, и не помолился. А все изъ-за ласковости вашей. Очень ужъ вы меня лаской заговорили.
Кабатчикъ началъ креститься на иконы и, наконецъ, по приглашенію хозяевъ залѣзъ за столъ въ передній уголъ, подъ образа.
— Ухъ! отиралъ онъ лицо платкомъ, озираясь по сторонамъ. — Пріятно видѣть, когда крестьянинъ въ такомъ достаткѣ живетъ. Домъ у васъ чаша полная, всего есть. А все труды. Труды великое дѣло. Человѣкъ ты основательный, трезвенный, работящій, обращался онъ къ старостѣ.
А староста между тѣмъ лѣзъ въ шкапъ и доставалъ изъ него рюмки и тарелку. Старостиха гремѣла самоваромъ. Черезъ десять минутъ на накрытомъ красной бумажной салфеткой столѣ стояли откупоренная бутылка водки, двѣ рюмки и лежали рыжики и холодное вареное бычье сердце, нарѣзанное на куски. Староста, наливъ двѣ рюмки, кланялся кабатчику и говорилъ:
— Кушайте.
— Ой, кабатчику-то бы не слѣдъ водки пить! Ну, да ужъ развѣ только изъ-за того, что съ хозяиномъ. Будьте здоровы.
Выпили.
— Отчего кабатчику не слѣдъ водки пить? спросилъ староста.
— Не подобаетъ тѣмъ товаромъ баловаться, которымъ самъ торгуешь, такое ужъ это правило. Начнешь баловаться, привыкнешь, да весь свой товаръ и стравишь въ себя.
— Ну, ты мужикъ не таковскій.
— Крѣпимся. Теперь только ради пріятства съ хорошими людьми пью, да ради немощи на манеръ лекарствія, а когда-то вѣдь и я шибко баловался.
— Быль молодцу не укоръ. По второй рюмочкѣ… предложилъ староста.
— Да развѣ ужъ, чтобы не хромать, согласился кабатчикъ и опять выпилъ.
Староста заговорилъ, что безъ «троицы домъ не строится», «безъ четырехъ угловъ и крышу не кроютъ». Кабатчикъ при каждой рюмкѣ оговаривалъ себя, но бутылку со старостой все-таки выпилъ. Лицо его было потно, глаза масляны. Появился самоваръ на столѣ.
— Вотъ это мой напитокъ! возгласилъ онъ. — Но, откровенно говоря, чаемъ люблю баловаться больше въ трактирѣ. Совсѣмъ фасонъ другой. Я, вонъ, и у себя дома… Завсегда послѣ обѣда къ себѣ въ заведеніе иду. Гости ли пріѣдутъ ко мнѣ — сейчасъ въ заведеніе къ себѣ ихъ веду чаемъ поить.
— Ну, а у насъ этого нѣтъ. У насъ дома, потому трактиръ-то пять верстъ отъ насъ, отвѣчалъ староста.
— А жаль, очень жаль, подхватилъ кабатчикъ. — Для вашего благоустройства бы слѣдовало. А то деревня у васъ этакая богатая, большая, а заведенія нѣтъ, негдѣ и переговорить по душѣ съ благопріятелемъ. Да вотъ хоть бы и тебѣ… Ты человѣкъ служебный, у тебя дѣла общественныя, служишь ты обществу, а гдѣ тебѣ объ общественныхъ дѣлахъ съ нужнымъ человѣкомъ за чайкомъ переговорить? Вѣдь тоже всякаго къ себѣ въ домъ не поведешь къ самовару. Во-первыхъ, бабъ отнимать отъ дѣла надо, а во-вторыхъ, можетъ быть и такіе люди есть, которые тебя угостить желаютъ, такъ какъ ихъ къ себѣ-то звать!
— Что вѣрно, то вѣрно, но что жъ ты подѣлаешь съ міромъ-то, коли не желаетъ онъ въ своей деревнѣ трактира!
— Знаю. Мужики боятся ослабнуть, коли трактиръ будетъ, а это вѣдь все пустяки. Ужъ кто захочетъ ослабнуть, тотъ и за пять верстъ въ кабакъ пить побѣжитъ. Да вотъ у васъ питейнаго заведенія не имѣется, а нешто нѣтъ ослабшихъ отъ вина людей?
— Есть, какъ не быть. Да вотъ Кириллъ Афанасьевъ, Матвѣй Федоровъ. У Матвѣя Федорова даже и жена вмѣстѣ съ нимъ хлещетъ.
— Ну, вотъ видишь, видишь! А вѣдь всегда на питейное заведеніе поклепъ идетъ. «У насъ-де въ деревнѣ питейное заведеніе и все эдакое, такъ оттого мужики и пьютъ». Нѣтъ, ужъ кто не пьяница, такъ хоть десять питейныхъ заведеній въ деревнѣ будь, онъ не сопьется.
— Это что говорить… соглашался староста.
— А нѣтъ питейнаго заведенія въ деревнѣ — и благоустройства нѣтъ. Право-слово. Я не о пьянственности говорю, но вѣдь выпить иногда надо и ради лекарствія. Животъ пучитъ — надо выпить, выпить въ умѣренности, прямо для благоутробія, а какъ ты выпьешь, ежели питейное заведеніе въ пяти верстахъ? Дома тоже не каждый запасъ имѣетъ. А у иного такой слабый животъ, что вотъ ежели онъ не выпилъ, когда нудитъ — сейчасъ разстройство невровъ. Да и такъ… Вотъ у васъ теперича сходки… Послѣ сходокъ, ужъ это отъ начала свѣта, какъ свѣтъ стоитъ, такъ положено, чтобъ послѣ сходки выпить, а гдѣ вамъ пить, коли трактира нѣтъ?
— Да теперь послѣ сходки у пожарнаго сарая пьемъ. У пожарнаго сарая на сходкѣ сбираемся, у пожарнаго сарая, гдѣ инструменты стоятъ, тутъ и пьемъ мірское вино, отвѣчалъ староста.
— А это развѣ модель? Это развѣ удобно? Сарай общественный. Въ немъ труба, ведра, багры, щитъ войлочный. Эти инструменты надо беречь пуще зѣницы ока, чтобъ было въ порядкѣ на случай пожара, а тутъ около сарая и пьяные, и папироски курятъ. Долго ли до грѣха! А будь-ка у васъ трактиръ… Во-первыхъ, благоустройство и благолѣпіе…
— Ну, ужъ какое благолѣпіе въ трактирѣ… замѣтила сидѣвшая тутъ же старостиха.
— Милостивая государыня, Фекла Ивановна, матушка моя разумная! Вы все смотрите съ пьянственной стороны, но возьмите вы теперь лекарственную часть. А проѣзжій человѣкъ? Гдѣ проѣзжему человѣку выпить? возразилъ кабатчикъ.
— Богъ съ нимъ, съ проѣзжимъ человѣкомъ! Намъ бы своихъ-то мужиковъ только уберечь.
— Мужика, сударыня богобоязненная, не убережешь. Мужикъ не ребенокъ. А я вамъ прямо говорю: проѣзжаешь по деревнѣ и виду никакого нѣтъ. Трактиръ видъ даетъ, сейчасъ, это, вывѣска, сейчасъ, это, проѣзжіе мужики… Да и вамъ-то… Ино трактирщикъ яицъ для яичницы у крестьянъ купитъ, молочка для чаю, курочку для селянки. Трактирщикъ можетъ ваши же избытки гостямъ продавать. У васъ покупать, а гостямъ продавать. Вѣдь ужъ ежели открыть трактиръ, то нужно при немъ и постоялый дворъ. А тутъ и господа охотники, которые ежели изъ Петербурга, могутъ свое пристанище имѣть, а крестьянамъ-то все барышъ, потому охотникъ, смотришь, и грибовъ купитъ у крестьянъ, и раковъ, и ягодъ, и всякой штуки… Да-съ… А крестьяне вашей деревни этого не понимаютъ. Вотъ Семенъ Михайлычъ, супругъ вашъ, отлично понимаетъ, а они не понимаютъ, закончилъ кабатчикъ и умолкъ, принявшись схлебывать съ блюдечка чай.
Староста сидѣлъ въ раздумьи и гладилъ бороду.
III
Разговоръ между старостой и кабатчикомъ во все время чаепитія вертѣлся насчетъ трактира. Кабатчикъ горячо доказывалъ всю «пользительность» трактира въ деревнѣ. Староста соглашался съ кабатчикомъ, но ссылался на міръ, запрещающій открывать кабакъ. Старостиха, находившаяся тутъ же, время отъ времени возражала противъ кабака.
— Не знаю ужъ, какимъ угодникамъ намъ и молиться, что Богъ вразумилъ нашихъ мужиковъ такъ, что они не дозволяютъ открывать питейное заведеніе въ деревнѣ. Теперь тишь и гладь и божья благодать, а открой-ка заведеніе, такъ что это будетъ! Упаси Господи! закончила она и вышла зачѣмъ-то изъ горницы.
Кабатчикъ только этого и ждалъ. Онъ посмотрѣлъ ей вслѣдъ, подмигнулъ на нее старостѣ, погладилъ бороду, отдулся и тихо произнесъ:
— А что, ежели еще разъ ударить челомъ міру насчетъ разрѣшенія питейнаго заведенія? Мнѣ бы, къ примѣру, попробовать? Вѣдь я не пробовалъ. Я съ вашими мужиками ласковъ. И мѣстечко у васъ есть на краю деревни, чтобы избушку для заведеньица построить. Мѣстечко хорошее, самое приглядное.
Произнеся эту тираду, кабатчикъ умолкъ и вопросительно глядѣлъ прямо въ лицо старостѣ. Староста отвѣчалъ не вдругъ, подумалъ, пощипалъ бороду и сказалъ:
— Наврядъ разрѣшатъ. Главная статья, что у насъ голтепы мало, все мужики основательные, а они-то противъ кабака и есть.
— А ты основательныхъ-то уговори.
— Да какъ ихъ уговорить! Положимъ, что трехъ-четырехъ уговорить можно, но бабы ихъ полѣзутъ на рогатину и все дѣло испортятъ. Бабы сейчасъ на дыбы… Вонъ вѣдь моя баба тоже…
— Чудакъ-человѣкъ, да вѣдь бабы на сходку не ходятъ.
— А онѣ дома будутъ дьяволить. Дома надьяволятъ, мужиковъ настрочатъ, ну, и…
— Ахъ, бабы, бабы! вздохнулъ кабатчикъ и покачалъ головой. — И всегда-то онѣ помѣха въ мірскихъ дѣлахъ и по благоустройству.
— Ничего не подѣлаешь. Тверезые мужики всегда ихъ слушаются.
— Да я бы на сходъ пять ведеръ вина выставилъ. Когда у васъ сходъ-то?
— Да вѣдь это такъ, что можно и въ будущее воскресенье назначить. Постукалъ въ субботу съ вечеренъ подъ окнами палочкой — вотъ и сходъ на утро будетъ, отвѣчалъ староста.
— Шесть ведеръ поставлю.
— Надо заранѣе начать поить, заранѣе… Обалдѣютъ къ сходу — ну, и тогда пожалуй…
— Да пусть только они ко мнѣ въ Быково покажутся — запою.
— Но бабы… опять произнесъ староста.
— Да что заладилъ одно: бабы да бабы. Мы и бабъ удовлетворимъ. Нельзя ли какъ ни на есть на какой-нибудь вечеринкѣ имъ угощеніе выставить? Ужъ я ублаготворилъ бы.
— У насъ бабы на посидѣлки не ходятъ. Только дѣвки.
— Узнаютъ, что есть угощеніе — придутъ. Да вотъ я хоть у тебя въ избѣ какой-нибудь юбилей для нихъ устрою?
— Какой юбилей?
— А это по новомодному. Что вотъ, молъ, такъ какъ у меня въ Быковѣ восемь годовъ кабакъ существуетъ, то я и угощаю всѣхъ. Меня поздравляютъ, а я потчую. Можно у тебя?
— Поговори-ка съ Феклой Ивановной! Да она глаза тебѣ и мнѣ выцарапаетъ.
— За мою-то ласковость?
— Да вѣдь ты съ кабакомъ подъѣзжаешь.
— Какой кабакъ! Просто трактиръ для благолѣпія деревни. А ужъ какую бы я за зиму избушку на концѣ деревни для украшенія выстроилъ, такъ просто быкъ забодаетъ! Съ узорами, съ вавилонами, чтобы всѣ проѣзжающіе любовались. Кабаки такъ не строются. Выстроилъ бы я на вашей землѣ на десять лѣтъ, а послѣ десяти лѣтъ — изба ваша. Сдавайте ее господамъ подъ дачу.
— Да я-то все это понимаю, а бабы не поймутъ. Не поймутъ и мужиковъ настрочатъ. Втолкуй ты моей бабѣ, къ примѣру.
— И втолкую. Надо только съ хорошимъ ковровымъ платкомъ пріѣхать.
Староста улыбнулся и сказалъ:
— Ну, попробуй.
Кабатчикъ продолжалъ:
— И попробую. Только бы она у тебя въ избѣ юбилей мнѣ для бабъ позволила устроить. А юбилей у меня будетъ устроенъ такъ, что каждая баба по рублевому шерстяному платку вмѣстѣ съ угощеніемъ получитъ.
— Вотъ это ловко. Вотъ это, пожалуй, подѣйствуетъ.
— Ну, то-то. Я добръ, я денегъ не жалѣю, но только чтобъ было понятіе къ жизни. Такъ ты вотъ, Семенъ Михайлычъ, потолкуй съ своей бабой… А тебѣ пять красненькихъ, ежели вся эта музыка съ трактиромъ устроится. Понялъ?
— Понялъ. Благодаримъ покорно. Потолковать съ бабой можно.
— Ну, а я дня черезъ три съ платкомъ заѣду.
— Заѣзжай. Ты маменькѣ-то, старушкѣ, что-нибудь…
— Темненькой шерстяной матерьицы ей на сарафанъ.
— Ну, такъ. А я съ трезвенными мужиками переговорю.
— Ты толкуй такъ, что я домъ хорошій выстрою и двѣсти рублей каждый годъ міру аренды. Десять лѣтъ по двѣсти рублей получать будете и черезъ десять лѣтъ у васъ двѣ тысячи скопится и домъ останется. Сейчасъ тогда въ этомъ домѣ на двѣ тысячи можете школу открыть. А то вѣдь у васъ теперь ребятишкамъ-то четыре версты въ школу бѣгать. Ты на школу напирай.
— Это хуже. У насъ этого боятся. Нѣтъ, ужъ я такъ, что вотъ домъ подъ дачу, къ примѣру, а деньги на міръ, что ли. Что, молъ, мірское…
— Ну, ладно. Дѣлай какъ знаешь. А потомъ, коли выйдетъ все по хорошему — сейчасъ сходъ! А на сходъ я шесть ведеръ, закуски разныя и три пирога…
— Да вѣдь и у меня, коли ежели ты праздновать будешь… Для бабъ-то что ты хочешь устроить?
— Мой юбилей.
— Ну, да, юбилей. Такъ вѣдь узнаютъ коли ежели мужики, что ты бабъ поишь — и они придутъ угощаться.
— Пускай приходятъ. По малости и про мужиковъ ведро водки привезу и три ящика пива.
— Ну, вотъ это дѣло. Какъ бы только мнѣ мою бабу уговорить, чтобы пиръ тебѣ у меня сдѣлать.
Староста почесалъ затылокъ.
— А вотъ съ сегодня начни оболванивать, а я дня черезъ три-четыре съ платкомъ пріѣду. Кого изъ тверезыхъ мужиковъ мнѣ теперь обхаживать? спросилъ кабатчикъ.
— Да вотъ Антипа Яковлева, пожалуй. На краю его изба.
— Знаю, знаю, и даже сейчасъ къ нему зайду. Есть у меня съ собой и бутылочка водки въ телѣжкѣ, есть и кофею фунтикъ для бабы. Ты вотъ что… Ты не зайдешь ли и самъ сейчасъ къ нему со мной?
— Да ужъ разгулялся, такъ отчего же, согласился староста. — Потомъ Емельяна Сидорова обойди. Этотъ галдѣть на сходкахъ любитъ и его слушаетъ міръ.
— Какой онъ такой изъ себя? спросилъ кабатчикъ.
— Рыжій. Мясникъ прозывается.
— Мясниковъ? Знаю, знаю. И къ нему, стало быть, сегодня. И для него бутылка есть. Вотъ только что для бабы евоной ничего у меня нѣтъ. Ну, да бабѣ я меду горшечекъ съ молодцомъ посулю прислать. Такъ сбирайся, Семенъ Михайлычъ, сейчасъ со мной. Надѣвай сапоги-то. Или, можетъ статься, такъ въ опоркахъ пойдешь?
— Въ праздникъ? Въ гости, да въ опоркахъ? Что ты! Осудятъ! Я вѣдь староста.
Староста всталъ изъ-за стола и началъ обуваться. Кабатчикъ тоже всталъ, расхаживалъ по горницѣ, утиралъ платкомъ потное лицо и говорилъ:
— Ахъ, кабы всѣ мужики-то вразумительные, какъ ты, были, — какое бы для деревни чудесное происшествіе было! Вѣдь домъ и двѣ тысячи ни за что жертвую.
Черезъ четверть часа кабатчикъ, распростившись съ семьей старосты, выѣзжалъ на своей телѣжкѣ съ двора. Съ нимъ рядомъ сидѣлъ староста и говорилъ женѣ:
— Я съ Аверьяномъ Пантелеичемъ только до Антипа Яковлева… Дѣло у насъ есть.
IV
Антипъ Яковлевъ стоялъ за воротами, когда телѣжка съ кабатчикомъ и старостой подъѣхала къ его избѣ. Это былъ рослый, плечистый мужикъ лѣтъ шестидесяти, патріархальнаго вида, съ сѣдой окладистой бородой на все еще румяномъ, не взирая на годы, лицѣ. Двое бѣлокурыхъ внучатъ его въ шапкахъ съ большого человѣка и въ кафтанишкахъ съ необычайно длинными рукавами возились тутъ же съ кудластымъ щенкомъ. Антипъ Яковлевъ и въ своемъ домашнемъ быту былъ патріархомъ. Двое его женатыхъ сыновей, каждый съ кучей ребятъ, жили съ нимъ не раздѣльно въ одной избѣ въ полномъ подчиненіи. Изба была большая, двухъ-этажная съ тесовыми воротами и крытымъ дворомъ. Антипъ Яковлевъ былъ богатый мужикъ и имѣлъ деньгу про запасъ. Подъѣзжая къ его избѣ, кабатчикъ воскликнулъ:
— Гора съ горой не сходится, а человѣкъ съ человѣкомъ сойдется, ѣдемъ къ тебѣ, хотимъ въ избу входить, а ты ужъ тутъ какъ тутъ и у воротъ стоишь! Здравствуй, дѣдушка Антипъ Яковличъ! Здоровъ ли сердцемъ?
Антипъ Яковлевъ встрѣтилъ гостей сурово.
— Здоровъ. Что мнѣ дѣлается! По кабакамъ и трактирамъ себя не изводимъ, такъ зачѣмъ хворать! сухо отвѣчалъ онъ.
— Ужъ будто умственный человѣкъ трактиромъ себя и известь можетъ! Поди ты…
— А то какъ же? Порядокъ извѣстный. Какіе столбы отъ виннаго малодушества свихивались.
— Трактиръ, дѣдушка, можетъ быть и для удовольствія сердца. Не все пьянство. Попилъ чайку и развеселилъ сердце, сказалъ кабатчикъ, вылѣзая изъ телѣжки и протягивая руку Антипу Яковлеву. — Впрочемъ, мы объ этомъ сейчасъ потолкуемъ, прибавилъ онъ.
— Да тутъ и толковать нечего. Только попусту.
— А ужъ будто попусту въ праздникъ-то и языкъ почесать нельзя? Былъ сейчасъ у старосты. Поклонился начальству, такъ думаю: какъ же это я обойду поклономъ такого уважаемаго христіанина, какъ Антипъ Яковличъ, коли ужъ я здѣсь въ деревнѣ! На-ка вотъ гостинчика. Кто чѣмъ, а кабатчикъ всегда водкой даритъ, потому ужъ такое его руководство.
Кабатчикъ полѣзъ въ телѣжку, вытащилъ оттуда бутылку и подалъ ее.
— Не надо мнѣ. Ну тебя… отстранилъ бутылку Антипъ Яковлевъ.
Кабатчикъ изумился.
— Да вѣдь я отъ чистаго сердца. На поклонъ… сказалъ онъ.
— Нечего мнѣ и кланяться. Не за что.
— Вотъ те здравствуй! Такая твердыня на деревнѣ живетъ, да ей не поклониться? А я и старухѣ твоей на поклонъ хочу фунтикъ кофейку.
— А ей-то ужъ не за что кланяться и подавно.
Кабатчикъ почесалъ затылокъ.
— Ой-ой, какой серьезный человѣкъ! пробормоталъ онъ.
— Не серьезный, а что жъ зря дары принимать! На свои купимъ.
— Да вѣдь чаемъ-то меня все-таки угощать будешь. Ты чай, а я вотъ водочки и твоей старухѣ кофейку…
— Не надо, не надо, ничего намъ не надо… опять повторилъ Антипъ Яковлевъ, а насчетъ чаю вопросъ оставилъ безъ отвѣта.
Кабатчикъ переминался съ ноги на ногу и спряталъ бутылку опять въ телѣжку.
— А я зачѣмъ къ тебѣ заѣхалъ-то? Во-первыхъ, поклониться, а во-вторыхъ, потолковать о дѣлѣ, сказалъ онъ, кивнулъ на скамейку у воротъ и спросилъ:- Присѣсть можно?
— Сдѣлай, братъ, одолженіе: на то поставлена. Объ чемъ бы только ты со мной потолковать хотѣлъ, желательно было знать?
— Дѣло обширное. Конечно, все это еще только у меня въ моемъ собственномъ головномъ воображеніи и желаю я, такъ сказать, съ тобой посовѣтоваться, потому ты старикъ вразумительный и все эдакое… И не думалъ я, признаться сказать, объ этомъ раньше, а ѣхалъ мимо и вижу на краю деревни мѣсто свободное…
— Ну, ну?.. улыбнулся старикъ, торопя кабатчика, и сѣлъ на скамейку.
Помѣстился рядомъ съ нимъ и до сихъ поръ стоявшій на ногахъ кабатчикъ.
— Мѣсто-то ужъ очень у васъ на краю деревни прекрасное, а стоитъ оно зря, пустыремъ… Такъ хочу я порадѣть для вашей деревни и изукрасить его, продолжалъ кабатчикъ.
— Кабакомъ, что ли? перебилъ его Антипъ Яковлевъ.
— Постой… Зачѣмъ такъ говорить? Дай прежде сказать. Школы у васъ нѣтъ въ деревнѣ, а деревня обширная, хорошаго села стоитъ.
— Такъ ты думаешь школу строить, что ли? Вотъ удивилъ.
— То-есть, желательно бы мнѣ, Антипъ Яковлевичъ, построить собственно не школу, а домишечко, избушечку приглядную и ударить міру челомъ, чтобъ на десять лѣтъ мнѣ аренды… Подвѣсти рублей въ годъ платить вамъ буду, а по окончаніи всего этого происшествія, черезъ десять лѣтъ то-есть, двѣ тысячи мірскихъ денегъ у васъ скопится, а съ процентами ежели считать, то и больше, да и домъ вашъ будетъ. Тогда вы можете въ лучшемъ видѣ школу открыть. Вотъ какое мое руководство у меня въ умѣ.
— А до школы-то ты все-таки въ этомъ домѣ десять лѣтъ кабакъ держать будешь? спросилъ старикъ.
— Не кабакъ, голубчикъ, не кабакъ, а трактиръ и постоялый дворъ.
— Одинъ чортъ.
— Такъ вѣдь долженъ же я себѣ какое-нибудь льготное происшествіе сдѣлать, ежели я хочу міру черезъ десять лѣтъ домъ подъ школу пожертвовать. А школа вещь хорошая, умственная. Вотъ теперича у тебя внуки. Вотъ они со щеночкомъ балуются. Вѣдь черезъ годикъ ихъ ужъ грамотѣ учить надо, а школы въ деревнѣ нѣтъ. Каково имъ въ чужое-то село за четыре версты въ школу бѣгать!
— Такъ вѣдь домъ-то только черезъ десять лѣтъ подъ школу очистится, а при чемъ же тутъ внуки-то, коли имъ въ будущемъ году въ школу бѣгать надо? Или десять лѣтъ, не учась, твоей школы ждать? Брешешь ты, милый, что-то.
— Такъ-то оно такъ, сконфузился кабатчикъ. — Но я вообще… Я и для другихъ ребятишекъ. Я вообще для вашихъ деревенскихъ ребятишекъ… Такъ вотъ, прежде чѣмъ міру бумагу писать, я и хотѣлъ съ тобой потолковать, такъ какъ ты у міра голова, міръ тебя уважаетъ и предпочитаетъ и все эдакое. Такъ что ты скажешь насчетъ школы-то?
— Насчетъ кабака, а не насчетъ школы. Ты ужъ говори прямо. Вилять тутъ нечего… перебилъ кабатчика Антипъ Яковлевъ.
— Да какой же кабакъ! Не кабакъ, а постоялый дворъ въ хорошемъ домѣ, а домъ будетъ только на украшеніе деревни.
— Ну, постоялый дворъ. А постоялый дворъ будетъ съ продажей водки и при этомъ всегда пьянство и буянство и ночное шатанье.
— Зачѣмъ же пьянство и буянство-то? Можно честно и благообразно.
— Будетъ тутъ честно и благообразно! Живемъ тихо и смирно, и безобидно, а тамъ пропойцы явятся. Вѣдь ужъ три раза міръ у насъ кабатчикамъ въ кабакахъ отказывалъ, а ты опять…
— Да я собственно для школы, Антипъ Яковлевичъ…
— Поди ты! Ну, братъ, мелешь вздоръ! Вотъ еще какой школьный благодѣтель открылся.
— Зачѣмъ такъ? Зачѣмъ такъ, Антипъ Яковличъ? Развѣ я не сочувствую? Даже очень сочувствую и желаю, чтобы было украшеніе и благоустройство. Челомъ тебѣ бью, ты ужъ не галди противъ меня на сходкѣ-то.
— То-есть какъ это? спросилъ старикъ.
— Очень просто. Будь за меня, а ужъ я тебѣ премного благодаренъ останусь.
Антипъ Яковлевъ презрительно взглянулъ на кабатчика и воскликнулъ:
— Чтобъ я на міру за кабакъ стоялъ? Да ты никакъ бѣлены объѣлся, почтенный!
Онъ всталъ со скамейки. Всталъ и кабатчикъ и сказалъ:
— А я бы тебя и твою старуху, Антипъ Яковличъ, хорошими подарками удовлетворилъ.
— Уходи, уходи отъ меня. Зря толкуешь. Не таковскій я…
Антипъ Яковлевъ махнулъ рукой. Кабатчикъ пожалъ плечами.
— Ужасти какой серьезный человѣкъ! пробормоталъ онъ. — Прощай, коли такъ.
— Прощай, прощай. Поѣзжай, съ Богомъ.
Кабатчикъ влѣзъ въ телѣжку и шагомъ поѣхалъ отъ избы Антипа Яковлева. Староста шелъ около телѣжки.
— Видишь, какой строгій! Нѣтъ, этого не объѣдешь, сказалъ онъ и спросилъ:- Къ мяснику теперь? Къ Емельяну Сидорову, что ли?
— Да надо будетъ съ Емельяномъ Сидоровымъ потолковать.
— Ну, такъ ты и поѣзжай къ нему. Вонъ его изба. А я потомъ задворками приду. Неловко мнѣ съ тобой вмѣстѣ. Антипъ Яковлевъ смотритъ.
— Ну, ладно.
Кабатчикъ стегнулъ лошадь. Староста свернулъ къ своей избѣ.
V
Емельянъ Сидоровъ, по прозванью Мясникъ, хоть и былъ изъ числа мужиковъ исправныхъ и не ослабшихъ, какъ ихъ называютъ въ деревнѣ, но выпить подчасъ любилъ. Въ прежніе годы онъ имѣлъ барку, возилъ съ подряда въ Петербургъ кирпичъ и бутовую плиту на ней, стало-быть былъ человѣкъ бывалый, какъ говорится, любилъ краснобайничать на сходкахъ и считался за человѣка вліятельнаго въ деревнѣ. Барочный извозъ онъ нынѣ оставилъ и занялся скупкой телятъ у мужиковъ для продажи мясникамъ, отчего и самъ получилъ прозванье Мясника.
У избы на скамеечкѣ сидѣла жена Емельяна Сидорова, женщина лѣтъ сорока, и грызла подсолнухи, когда подъѣхалъ кабатчикъ. Онъ снялъ картузъ и, не слѣзая съ телѣжки, воскликнулъ:
— Матушкѣ-хозяюшкѣ особенное! Съ пріятствомъ кушать!
— Спасибо. Благодаримъ покорно, отвѣчала женщина. — Попотчевала бы и васъ подсолнухами, да не мужчинское это кушанье. Куда ѣдете?
— Былъ у обѣдни въ Крюковѣ, помолился Господу Богу, а теперь пробираюсь домой и заѣзжаю кой къ кому изъ хорошихъ мужичковъ, чтобы почтеніе имъ сдѣлать. Былъ у старосты, былъ у дѣдушки Антипа Яковлича и теперь къ вамъ. Самъ-отъ дома?
— Сейчасъ тутъ былъ, да, надо полагать, на задворки ушелъ. Колесо у насъ тамъ у телѣги сломалось, что ли. А вы къ нему?
— То-то и дѣло, хочу поклонъ отвѣсить.
— Ой, что такъ? конфузливо проговорила женщина. — Зачѣмъ же это?
— Хорошимъ основательнымъ христіанамъ всегда отвѣшиваю. Самъ основательности придерживаюсь и въ другихъ это руководство люблю. Вы меня знаете?
— Еще бы не знать! Вы изъ Быкова. Кабакъ держите. Вотъ мы, бабы, очень ужъ на васъ недовольны, что вы нашихъ мужиковъ спаиваете. Какъ попадутъ въ Быково, такъ ужъ ничего и не жди хорошаго. Вернутся всегда не настоящимъ манеромъ.
— Матушка-голубушка, все это вздоръ. Никого силой споить невозможно.
— Ну, соблазнъ на дорогѣ. А мужики слабы, да еще при своемъ малодушіи…
— Ну, на вашего супруга вы, кажется, не можете пожаловаться.
— Бывало, что и онъ у васъ загуливалъ, а придетъ домой выпивши, да все тычкомъ и наотмашь, такъ какъ же быть довольной-то?
— Пожалуйста, фунтикъ кофейку за это безпокойство… Везъ въ Крюково дьячихѣ передать въ гостинчикъ, да не трафилось ее увидать, такъ ужъ вамъ. Пожалуйте…
Кабатчикъ быстро вынулъ изъ телѣжки фунтъ кофе, быстро слѣзъ и протянулъ кофе женщинѣ.
— Ой, что это? Зачѣмъ же это? воскликнула та.
— Берите, берите. Это за безпокойство, чтобы неудовольствія на насъ съ вашей стороны не было. Про кабатчиковъ дамы думаютъ, что это вороны хищные, анъ выходитъ совсѣмъ напротивъ. Получайте. Что жъ вы стыдитесь!
— Ну, благодаримъ покорно. Вамъ мужа?
— Очень бы любопытно было его видѣть.
— Такъ пойдемте въ избу. Сейчасъ я его кликну.
— А лошадь-то можно, я думаю, здѣсь у воротъ оставить. Вотъ я и возжи черезъ столбикъ перекину.
— Конечно, можно. Никто ее не тронетъ. У насъ смирно.
Кабатчикъ возился около лошади и привязывалъ возжами къ столбу. Въ калиткѣ воротъ показался Емельянъ Сидоровъ, а сзади его въ отдаленіи виднѣлся староста. Емельянъ Сидоровъ былъ средняго роста мужикъ въ потертомъ пальто и сапогахъ бутылками. Пощипывая рыженькую бородку, онъ говорилъ:
— Прямо къ самовару потрафилъ. Входи, входи, Аверьянъ Пантелеичъ, милости просимъ. Баба! Самоваръ поставь скорѣича.
— Смотри-ка, фунтъ кофею подарилъ. Вотъ ужъ не ожидала-то! Даже и совѣстно… показала женщина мужу свертокъ.
— Бери, бери. Чего тутъ совѣститься-то? Мало мы ему денегъ-то въ Быковѣ оставляемъ! отвѣтилъ Емельянъ Сидоровъ. — Прошу покорно, Аверьянъ Пантелеичъ…
— Прежде всего дай настоящимъ манеромъ поздоровкаться. Здравствуй, проговорилъ кабатчикъ и протянулъ руку.
— Чего ты въ калиткѣ-то! На порогѣ не здороваются. Входи во дворъ.
— Въ такомъ разѣ постой, погоди. Поклонился женѣ гостинчикомъ, такъ надо и мужу…
Кабатчикъ полѣзъ въ телѣжку, порылся въ сѣнѣ, вынулъ оттуда бутылку съ водкой и, войдя во дворъ, протянулъ и руку, и бутылку Емельяну Сидорову, сказавъ: «пожалуйте».
— Спасибо, спасибо. Ну, вотъ теперь, здравствуй… заговорилъ Емельянъ Сидоровъ. — А то вдругъ на порогѣ! На порогѣ здороваться, значитъ, потомъ ссоритъся, а ужъ мы давай лучше въ мирѣ жить.
— А чтобы въ мирѣ намъ жить, такъ даже поцѣлуемся.
Кабатчикъ отеръ рукавомъ губы.
— Что ты, что ты! Развѣ нонѣ Христовъ день, чтобы цѣловаться? забормоталъ Емельянъ Сидоровъ, пятясь, но кабатчикъ ужъ сочно облобызалъ его.
— Такъ крѣпче будетъ, надежнѣе, сказалъ онъ. — Главная статья въ томъ, что дружбу-то мнѣ съ тобой хочется прочную, надежную водить. — Ахъ, да… Сейчасъ жена твоя сказала, что у тебя колесо у телѣги поломалось. Какое колесо-то: заднее или переднее?
— Переднее.
— Переднее? Ну, вотъ и отлично. А у меня какъ разъ, есть въ Быковѣ хорошій надежный скатъ, переднихъ колесъ. Поѣдешь мимо Быкова, такъ заѣзжай и возьми себѣ.
— Недорого запросишь, такъ отчего же?
— Зачѣмъ дорого! Что дашь, то и ладно. Вѣдь колесами я не торгую. У меня другая статья.
— Ну, спасибо. Переднія колеса мнѣ, дѣйствительно, нужны.
— А у меня они зря стоятъ.
Кабатчикъ, Емельянъ Сидоровъ и староста вошли въ избу. Изба была на полугородской манеръ и состояла изъ кухни и чистой комнаты. Въ чистой комнатѣ, главнымъ образомъ, бросались въ глаза широчайшая кровать подъ ситцевымъ пологомъ съ грудой подушекъ, пузатый самоваръ и стариннаго письма иконы въ углу съ пучками вербы за ними и съ десяткомъ фарфоровыхъ и сахарныхъ яицъ, окружающихъ кіоты. Кабатчикъ усердно сталъ креститься на иконы и, кончивъ, опять сказалъ:
— Теперь еще разъ здравствуйте.
— Садись, такъ гость будешь, пригласилъ хозяинъ. — Сейчасъ вотъ мы твой гостинецъ и разопьемъ, пока баба самоваръ ставитъ, прибавилъ онъ, откупоривая бутылку, и спросилъ: — Пьешь вѣдь самъ-то?
— Только самую малость потребляю, а ужъ сегодня и то былое дѣло. Ну, да съ тобой побалуюсь рюмашечкой, чтобы дружбу закрѣпить. Тяжеленько-то тяжеленько мнѣ будетъ, ну, да ужъ одинъ день не въ счетъ, отвѣчалъ кабатчикъ, тяжко вздохнувъ.
Хозяинъ поставилъ на столъ откупоренную бутылку и три рюмки. Хозяйка тащила тарелку соленыхъ грибовъ и край холоднаго пирога съ капустой.
VI
Емельянъ Сидоровъ налилъ три рюмки, взялъ одну изъ нихъ въ руку, чокнулся ею о двѣ другія рюмки и сказалъ старостѣ и кабатчику: «ну-ка»… Всѣ выпили. Кабатчикъ поморщился и, тыкая вилкой въ соленый грибъ, чтобы закусить, проговорилъ:
— Вѣдь вотъ нигдѣ я водки не пью, а у васъ въ вашей деревнѣ во второмъ домѣ выпиваю. А отчего? Оттого, что вы мужички почтенные, да и деревню вашу люблю. Въ цѣломъ округѣ, кажись, краше вашей деревни нѣтъ, и какъ только я ѣду мимо…
— Говори, Аверьянъ Пантелеичъ, прямо, говори безъ подхода… Онъ знаетъ, я ему передалъ… перебилъ кабатчика староста и кивнулъ на Емельяна Сидорова.
— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, у васъ здѣсь мѣста чудесныя и мужики основательные. Да вотъ хоть бы взять его, Емельяна Сидорыча… Телятиной онъ занимается…
— Брось… Оставь… остановилъ кабатчика въ свою очередь Емельянъ Сидоровъ. — Ну, чего въ самомъ дѣлѣ меня-то расхваливать! Самъ я знаю, какой такой я есть человѣкъ. Ты кабакъ, что ли, нарохтишься у насъ завести?
— Не кабакъ, голубчикъ Емельянъ Сидорычъ, а школу. Школой хочу порадѣть вамъ, главнымъ образомъ, а кабакъ это только…
— Оставь. Знаемъ. Чего ты?
Кабатчикъ перемѣнилъ тонъ.
— Да думаю въ началѣ и питейное заведеніе, произнесъ онъ. — Это точно… То-есть, трактиръ съ постоялымъ дворомъ. Тихій, скромный трактиръ, чтобы, теперича, проѣзжающіе чайку и все эдакое…
— Распивочно и на выносъ? спросилъ Емельянъ Сидоровъ.
— Да, ужъ надо распивочно и на выносъ. Деревня, такъ по деревенскому обычаю и дѣйствовать будемъ. Патентъ-то ужъ заодно… Заодно тяготы нести. А только боюсь я, что вотъ міръ…
— Надо заранѣе оборудовать міръ.
— Вотъ поэтому я къ тебѣ и пріѣхалъ на поклонъ. Ты краснобай, говорятъ, на міру, гуторить мастеръ, зубы заговаривать.
Емельянъ Сидоровъ самодовольно погладилъ бороду и сказалъ:
— Ты пои больше, всѣхъ пои.
— Да я радъ всей душой, но есть тоже люди супротивные. Вотъ, напримѣръ, сейчасъ Антипъ Яковлевъ. Я къ нему всѣмъ сердцемъ, съ низкимъ поклономъ… «Желаю, говорю, благоустройство вашей деревнѣ», а онъ…
— Этотъ зажрался, этотъ себѣ цѣны мѣры не знаетъ. Да ужъ на что тебѣ: сыновья у него по сорока лѣтъ мужики, а онъ ихъ на помочахъ водитъ. Федосѣй Гавриловъ то же самое… Къ этому тоже не подступайся… заговорилъ староста. — А ты намъ довѣрься — вотъ мы съ Емельяномъ Сидоровымъ и будемъ орудовать.
— Голубчики, порадѣйте! Въ долгу не останусь, ей-ей, не останусь! воскликнулъ кабатчикъ. — Вѣдь я изъ-за чего хлопочу? Просто неловко такой большой деревнѣ безъ питейнаго заведенія быть. Теперича, пріѣхалъ къ кому гость, сродственникъ, нужно его попотчевать — неужто за четыре версты за бутылкой пива бѣжать? А ближе у васъ нѣтъ. А родины, а крестины? А помянуть за упокой? А иконѣ въ своей часовнѣ празднуете? Какъ тутъ быть? Вотъ я и задумалъ предложить міру двѣсти рублей въ годъ. Мѣстоположенія вашего мнѣ немного надо. Саженъ двѣсти квадратныхъ на пустырѣ отведете близъ дороги, я и доволенъ, а міру за все это происшествіе двѣсти рублей… И потомъ черезъ десять лѣтъ домъ вашъ.
— Ты вина побольше на сходку приволоки — вотъ это будетъ вѣрнѣе, училъ Емельянъ Сидоровъ кабатчика.
— Пятью ведрами могу поклониться, шестью, семью даже.
— На сходку и пяти ведеръ достаточно, а ты раньше подпаивай, подпаивай такъ, чтобы дня за три ужъ въ туманѣ ходили.
— Ничего, голубчикъ, не пожалѣю, только бы мужички православные меня поняли. Теперича кто изъ вашихъ ко мнѣ на постоялый въ Быково зайдетъ — всѣ гости дорогіе, всѣмъ по сороковочкѣ съ закуской… А на сходку шесть ведеръ.
— Ты лучше мнѣ и старостѣ отдѣльно по полуведру, а на сходку пять ведеръ. И съ пяти ведеръ облопаются, ежели ужъ въ туманѣ на сходку придутъ, говорилъ Емельянъ Сидоровъ.
— Ладно, други любезные, ладно. Какъ только дѣло оборудуется — по ведру даже пришлю.
— Нѣтъ, ты раньше… Ты такъ пришли, чтобъ мы передъ сходкой могли нашу голтепу твоимъ виномъ поить, а ужъ послѣ приговора-то ты особо по четверти хорошей, сказалъ староста.
— По четверти мало. Что намъ четверть! возразилъ Емельянъ Сидоровъ. — Тогда по полуведру и по ящику пива. Согласенъ?
Кабатчикъ посмотрѣлъ на него пристально.
— Да вѣдь я, милый человѣкъ, тебѣ переднія колеса… сказалъ онъ.
— Колеса само собой. Да вотъ еще что… Ты бабъ, бабъ нашихъ одари. Онѣ на сходку хоть и не ходятъ, а противъ кабака галдѣть могутъ не хуже Антипа Яковлева съ сыновьями. Вотъ, напримѣръ, моей бабѣ хорошій мѣдный кофейникъ. Давно ужъ она у меня кофейникъ клянчитъ.
— Бабамъ я хочу пивное и сладостное угощеніе сдѣлать на какой-нибудь вечеринкѣ, подъ видомъ того, что я себѣ юбилей справляю. Я ужъ говорилъ старостѣ.
— Это само собой, а кофейникъ отдѣльно.
— Что жъ, можно и кофейникъ, только бы хорошему дѣлу быть, согласился, глубоко вздохнувъ, кабатчикъ.
— Да и не одной моей бабѣ. А вотъ у насъ есть вдова Буялиха… Родственница она мнѣ. Баба, ой-ой, какая голосистая! И сынъ при ней пропойный… Она на всѣхъ перекресткахъ будетъ противъ кабака звонить, такъ заткни ей глотку сапогами для дочери, что ли. Для дочери сапоги, ну, а ей хоть ситцу на платье.
— Я думалъ, благодѣтели, всѣмъ бабамъ, которыя на вечеринкѣ будутъ, по платку.
— То особо. А ей сапоги для дочери и ситцу для самой. У ней можешь и бабью пирушку-то устроить. Давай сейчасъ пять цѣлковыхъ мнѣ. Я живо ее подговорю и утрамбую… проговорилъ Емельянъ и, протянувъ руку, прибавилъ: — Выкладывай пятерку-то.
Кабатчикъ опять удивленно посмотрѣлъ на него.
— Постой… Да вѣдь тебѣ я колеса, мѣдный кофейникъ, ведро вина… сказалъ онъ.
— А что жъ изъ этого? Надо и деньгами за хлопоты. За то ужъ я за тебя на первый сортъ говорить буду.
— Такъ-то оно такъ, но все-таки…
— Чего: все-таки? Ты лучше у міра ужиль. Ты вотъ хотѣлъ міру семь ведеръ, а мы говоримъ: пять. Давай, давай, не стыдись.
— Да вѣдь вамъ по ведру, такъ тѣ же семь.
— Можетъ быть и не по ведру придется съ тебя, а больше. Надо, чтобъ и голтепа, и исправные мужики тебѣ славу пѣли, а то никакого проку не будетъ. Ты знаешь ли, у насъ міръ-то какой? Троимъ торговцамъ уже въ кабакѣ отказали и помолились даже, чтобъ никому ужъ не разрѣшать и даже не разговаривать объ этомъ на сходкѣ. А теперь нужно міръ побороть. Давай пятерку, давай.
Кабатчикъ вздохнулъ, полѣзъ за голенище, вытащилъ оттуда бумажникъ изъ синей сахарной бумаги и выложилъ передъ Емельяномъ Сидоровымъ пять рублей.
У старосты разгорѣлись глаза и онъ произнесъ:
— Давай и мнѣ, коли такъ, пять рублей. Я начальство.
— Да вѣдь съ тобой я ужъ условился, что послѣ всего происшествія поклонюсь тебѣ.
— То особо. А это впередъ, въ задатокъ, чтобы крѣпче было.
— Э-эхъ, господа! Да вѣдь еще конь даже у насъ не валялся насчетъ питейнаго-то заведенія, а вы…
Кабатчикъ кряхтѣлъ.
— Давай, давай… Чего ты, въ самомъ дѣлѣ, жалѣешь пятерки-то? Вѣдь тысячи наживать будешь въ кабакѣ-то.
Пришлось дать пять рублей и старостѣ.
Жена Емельяна Сидорова внесла самоваръ и поставила на столъ.
VII
Бутылка водки уже почти была допита, когда въ окно избы кто-то постучался и крикнулъ:
— Войти побесѣдовать можно?
Емельянъ Сидоровъ взглянулъ въ окошко и произнесъ:
— Терентій Ивановъ тамъ. Охъ, пронюхалъ ужъ. подлецъ, что тутъ за музыка! А не пригласить нельзя. Дѣло попортить можетъ. Войди, войди… поманилъ онъ стоявшаго у окна.
— А что это за Терентій Ивановъ такой? Исправный мужикъ? спросилъ кабатчикъ.
— Какое исправный! отвѣчалъ староста. — Шильникъ, ярыжникъ. Онъ тоже заломитъ себѣ халтуру, только ты не сдавайся.
— Зачѣмъ сдаваться! Нельзя же ужъ такъ, чтобъ меня, какъ липку, всѣ ободрали. Попоить его въ свое время можно, ну, бабѣ его платокъ…
— Онъ безъ бабы. Вдовый.
Вошелъ черноватый, корявый, тщедушный мужиченко съ клинистой бородкой, въ дырявомъ синемъ армякѣ и въ стоптанныхъ сапогахъ. Быстро перекрестившись на иконы, онъ сказалъ:
— Чай да сахаръ. Господину хозяину! Господину старостѣ! Господину кабатчику Аверьяну Пантелеичу.
Онъ по очередно подалъ всѣмъ руку и продолжалъ, обращаясь къ кабатчику:
— Говорятъ, заведеніе у насъ задумалъ открыть и угощеніе дѣлаешь? А что жъ ты меня-то, Терентія забылъ?
— Насчетъ заведенія дѣло еще только въ головномъ воображеніи, а что ежели насчетъ угощенія, то самъ я здѣсь гость и вотъ Емельянъ Сидоровъ меня угощаетъ.
— Толкуй! Будто я не знаю, что ты по бутылкѣ водки всѣмъ развозишь! Сейчасъ бабы сказывали, Антипъ Яковлевъ тоже говорилъ.
— Двумъ знакомымъ своимъ по бутылкѣ въ гостинецъ подарилъ, это точно, не отрекаюсь.
— Такъ подари и мнѣ. Что жъ я за обсѣвокъ въ полѣ!
— Садись, садись, перебилъ его Емельянъ Сидоровъ. — На, вотъ, выпей остатки изъ бутылочки. Остатки, говорятъ, сладки.
Онъ налилъ ему водки въ чайную чашку.
— Что мнѣ остатки! Людямъ по бутылкѣ, а мнѣ остатки!
— И радъ бы, голубчикъ, тебя почествовать, да что жъ подѣлаешь, коли больше водки при себѣ нѣтъ. Всего только двѣ бутылки и были въ телѣжкѣ. Да и не сюда везъ, а это ужъ такъ только. А везъ я дьячку въ Крюково, да не удалось мнѣ его повидать только.
— Толкуй! Знаемъ. Ну, со здоровьемъ! Хоть чашечку отъ тебя урвать…
Терентій Ивановъ выпилъ, сплюнулъ на полъ длинной слюной, крякнулъ и отерся рукавомъ.
— Выпей еще полчашечки, тогда ужъ и бутылкѣ конецъ, предложилъ Емельянъ Сидоровъ.
— Давай.
Терентій Ивановъ выпилъ еще полчашки и сказалъ:
— А все-таки мнѣ, братецъ ты мой, Аверьянъ Пантелеичъ, обидно, что ты меня бутылкой не подарилъ. Первый я у тебя покупатель буду при кабакѣ, а ты…
— Когда заведеніе настоящимъ манеромъ открывать задумаемъ, и тебя бутылочкой удовлетворимъ, сказалъ кабатчикъ.
— Тогда бутылки мало. Что тогда бутылка!
— У міра разрѣшеніе просить будемъ, такъ нѣсколькими ведрами ему поклонимся.
— То особь статья. То міръ… А ты мнѣ отдѣльно четверть, коли задумалъ открывать заведеніе.
— Да задумать-то я задумалъ, дѣйствительно.
— Такъ чего жъ зѣвать! Вотъ староста здѣсь… Онъ начальство… Въ воскресенье сходку пусть назначаетъ, ты пиши бумагу, а мы поможемъ на сходкѣ…
— Обстряпать дѣло нужно, какъ слѣдуетъ, прежде чѣмъ сходку назначать, замѣтилъ староста.
— Думаешь, не разрѣшимъ? Разрѣшимъ въ лучшемъ видѣ. Наголодались ужъ мы безъ заведенія-то. Разрѣшимъ, только бы халтура хорошая была.
— Однако, троимъ ужъ не разрѣшили.
— Наголодавшись не были.
— Да про какую голодовку говоришь? У насъ въ деревнѣ никогда кабака не было.
— Портерная одно лѣто была, а въ портерной и винцо потихоньку продавали, а теперь и того нѣтъ. Одно вотъ только обидно, что Аверьянъ Пантелеичъ бутылочкой мнѣ не поклонился. Э-эхъ!
— Пей чай-то… кивнулъ Терентью Иванову Емельянъ Сидоровъ.
— Что чай! Отъ него лягушки въ утробѣ, говорятъ, заводятся.
Разговоръ пошелъ вяло. Кабатчикъ какъ-то стѣснялся говорить при Терентіи Ивановѣ о будущемъ кабакѣ и сталъ переводить разговоръ на другіе предметы. Наконецъ, выпивъ двѣ чашки чаю, онъ опрокинулъ чашку на блюдечко кверху дномъ, положилъ на дно огрызокъ сахару и, поднимаясь съ мѣста, сказалъ:
— Ну, за угощеніе… Пора и ко двору. Ко мнѣ милости просимъ.
— Приду, безпремѣнно приду, заговорилъ Терентій Ивановъ:- потому, какъ хочешь, а насчетъ бутылки мнѣ обидно.
— Ну, вотъ, придешь и получишь, отвѣчалъ кабатчикъ — Гдѣ хозяюшка-то? Прощайте, хозяюшка… искалъ онъ глазами жену Емельяна Сидорова.
— Прощай, Аверьянъ Пантелеичъ, прощай, выскочила та изъ кухни.
Хозяинъ и староста вышли провожать кабатчика за ворота. Вертѣлся тутъ же и Терентій Ивановъ и сильно стѣснялъ кабатчика. Кабатчикъ отвелъ хозяина въ сторону и шепнулъ ему:
— Такъ уговори родственницу-то твою, вдову-то, чтобъ я могъ у ней пирушку для бабьяго сословія сдѣлать.
— Буялиху-то? Да тутъ и уговаривать нечего. Что я ей скажу, тому и быть. Ты ужъ будь спокоенъ. А завтра или послѣзавтра я пріѣду къ тебѣ, чтобы сказать, въ какой день этотъ самый пиръ… Я съ старостой пріѣду. Потолкуемъ и насчетъ бумаги міру.
— Ну, ладно. Прощенья просимъ. Прощай, городской голова! крикнулъ кабатчикъ старостѣ и сталъ садиться въ телѣжку.
Подошелъ Терентій Ивановъ и, протягивая ему руку, заговорилъ:
— Да что бы ужъ тебѣ, Аверьянъ Пантелеичъ, насъ троихъ къ себѣ въ Быково взять? Тамъ бы и попоилъ насъ.
— Нѣтъ, нѣтъ, не поѣдемъ мы сегодня, отвѣтили въ одинъ голосъ староста и Емельянъ Сидоровъ.
— Ну, меня одного съ собой возьми.
— И радъ бы, милый человѣкъ, тебя съ собой взять, да еще по дорогѣ въ одно мѣсто заѣхать надо. Насчетъ лѣсу я хочу справиться въ Ягодинѣ.
— А я подожду въ Ягодинѣ въ телѣжкѣ. Ты насчетъ лѣсу, а я твою лошадь покараулю.
— Нѣтъ, ужъ ты лучше въ другой разъ ко мнѣ въ Быково приходи и я тебя какъ слѣдуетъ ублаготворю.
— Такъ-то оно такъ, переминался съ ноги на ногу Терентій Ивановъ:- да больно ужъ мнѣ обидно, что ты меня сегодня бутылочкой-то не почествовалъ. Старостѣ бутылку, Емельяну Сидорычу бутылку, а мнѣ ничего…
— Прости ужъ, другъ любезный, не случилось третьей-то бутылки со мной, не захватилъ я. Ну, да мы въ другой разъ… Прощай!
Кабатчикъ стегнулъ возжами лошадь.
— Стой! Стой! замахалъ руками Терентій Ивановъ. — Погоди!
Кабатчикъ остановилъ лошадь. Терентій Ивановъ подошелъ къ нему.
— Слышь, Аверьянъ Пантелеичъ… Тогда ужъ ты вотъ что… Ты дай мнѣ деньгами на бутылку водки, а то, право слово, обидно…
Кабатчикъ улыбнулся, досталъ изъ кошелька сорокъ копѣекъ и подалъ ихъ Терентію Иванову.
— Ну, вотъ теперь спасибо, теперь благодаримъ покорно…
Кабатчикъ кивнулъ ему и снова поѣхалъ. Староста и Емельянъ Сидоровъ, глядя на Терентья Иванова, улыбались и покачивали головами.
VIII
Село Быково, гдѣ кабатчикъ Аверьянъ Пантелеевъ имѣлъ трактиръ и постоялый дворъ, было большое село и находилось на шоссейной столбовой дорогѣ. Питейное заведеніе и постоялый дворъ помѣщались въ новомъ двухъ-этажномъ домѣ самого Аверьяна Пантелеева. Домъ былъ деревянный, окрашенный въ ярко-желтую краску, съ зеленой крышей, и стоялъ на краю села. Трактиръ и постоялый дворъ были въ нижнемъ этажѣ дома, а въ верхнемъ жилъ самъ Аверьянъ Пантелеевъ.
На слѣдующее утро Аверьянъ Пантелеевъ только еще проснулся и пилъ у себя въ квартирѣ чай въ сообществѣ своей супруги и ребятишекъ, какъ изъ нижняго этажа пришелъ буфетчикъ и доложилъ:
— Тамъ внизу въ трактирѣ какой-то пьяный мужикъ изъ деревни Колдовино васъ спрашиваетъ.
— Ну, началось! вздохнулъ кабатчикъ. — Сильно пьянъ? спросилъ онъ.
— Изрядно намазавшись. И главное, даромъ водки и закуски требуетъ. Брешетъ, что вы у нихъ питейное заведеніе задумали открывать и обѣщали всѣхъ колдовинскихъ даромъ поить. Я, разумѣется, всѣ эти пустословные разговоры безъ вниманія и деньги требую за водку, а онъ бунтуетъ и говоритъ: «зови ко мнѣ хозяина».
Кабатчикъ еще разъ вздохнулъ.
— Дѣйствительно, у меня есть легкое головное воображеніе насчетъ Колдовина, сказалъ онъ. — Поднеси ему два стаканчика и отрѣжь рубца тамъ, что ли, или сердца на закуску. И какъ это скоро всѣ узнаютъ! покачалъ онъ головой и спросилъ: — Да колдовинскій ли еще мужикъ-то?
— Колдовинскій. Онъ къ намъ иногда заходитъ. Только, Аверьянъ Пантелеичъ, онъ водку водкой, а кромѣ того, пару пива требуетъ…
— Э-эхъ! Ну, поставь ему и бутылку пива.
Буфетчикъ удалился, но черезъ четверть часа прислалъ подручнаго мальчишку.
— Что тебѣ? спросилъ его кабатчикъ.
— Колдовинскій мужикъ бунтуетъ. Выпилъ два стакана водки и бутылку пива, и требуетъ еще пару пива. Буфетчикъ не даетъ, а онъ разныя слова… Прислалъ спросить.
Кабатчикъ сморщился и покрутилъ головой.
— Однако, долженъ же какой-нибудь предѣлъ быть, а то этому конца не будетъ, сказалъ онъ. — Кабакъ еще только въ мысленности, а ужъ они разорить хотятъ. Вели поставить пару пива и ужъ больше чтобъ ни на копѣйку…
— Слушаю-съ. Тамъ внизу еще мужикъ изъ Колдовина и тоже угощенія требуетъ.
— Тьфу ты пропасть! Поднеси еще два стаканчика.
— Онъ такъ желаетъ, чтобы вы сами внизъ сошли.
— Скажи, что не могу, что у меня урядникъ сидитъ.
— Слушаю-съ.
Подручный буфетчика ушелъ. Этимъ, однако, дѣло не кончилось. Еще черезъ полчаса передъ кабатчикомъ опять стоялъ буфетчикъ и улыбался.
— Тамъ еще трое изъ Колдовина, докладывалъ онъ.
— Фу! протянулъ кабатчикъ. — Стало-быть ужъ пятеро?
— Да, съ тѣми съ двумя пятеро. Требуютъ водки, требуютъ пива. «Аверьянъ Пантелеичъ, говорятъ, намъ обязанъ… потому, онъ теперь весь въ нашихъ рукахъ».
— Да кто такіе, по крайности?
— Одинъ столяръ — вотъ что кіоту вамъ къ образу дѣлалъ, другой бочаръ и баба съ нимъ евоная. Потомъ еще одинъ… Семенъ Давыдовъ.
— Ахъ, и баба еще!
— Баба-то главнымъ образомъ и подбиваетъ… «Ужъ коли, говоритъ, продаваться ему, такъ продаваться такъ, чтобы по настоящему было»… Это, то-есть, вамъ. Насчетъ питейнаго.
— Дай по стакану водки съ закуской и по бутылкѣ пива.
— Куда-съ! Не утрамбовать ихъ этимъ. Баба зудитъ, что меньше какъ на дюжинѣ пива и не миритесь. Они къ вамъ наверхъ хотѣли итти, да ужъ я урядникомъ пугаю.
— Ты поднеси по стаканчику водки и по бутылкѣ пива и скажи, что настоящимъ манеромъ я въ Колдовинѣ поить буду. Мужикамъ на сходкѣ будетъ вино выставлено, а бабамъ будетъ вечеринка и отдѣльное угощеніе.
— Хорошо-съ. Я скажу.
Буфетчикъ ушелъ. Кабатчикъ напился чаю, взялъ торговую книгу и счеты и принялся щелкать на счетахъ. Снова явился подручный буфетчика.
— Бунтуютъ-съ колдовинскіе. Внизъ васъ требуютъ. Непремѣнно видѣть хотятъ. Никакого сладу нѣтъ. Тотъ мужикъ, которому вы три бутылки пива велѣли дать, даже тарелку разбилъ, говорилъ мальчикъ.
— Я вѣдь сказалъ, чтобы имъ объявили, что на сходкѣ поить буду.
— Михайло буфетчикъ имъ говорилъ, но они не внимаютъ. «То, говорятъ, особь статья, а это особь статья, потому онъ обязанъ».
— Сколько ихъ тамъ? Пятеро?
— Пятеро, да баба шестая.
— Поставить имъ еще по бутылкѣ пива, и ужъ больше ничего — ни-ни.
— Слушаю-съ…
Опять удалился подручный буфетчика. Кабатчикъ бросилъ счеты и въ волненіи заходилъ по комнатѣ, пощипывая бороду.
— Эдакъ ежели дѣло каждый день пойдетъ, то мнѣ и пятисотъ рублей имъ на пропой будетъ мало! Помилуйте, что это такое! Только вчера легкій подходъ сдѣлалъ и свое умственное воображеніе насчетъ заведенія троимъ колдовинскимъ объявилъ, а ужъ сегодня спозаранку вся деревня на даровщину пить лѣзетъ! бормоталъ онъ.
— Напрасно ты, кажется, съ этимъ новымъ кабакомъ вязаться-то задумалъ, замѣтила жена.
— Ну, ужъ это не твое дѣло, не тебѣ о торговыхъ дѣлахъ разсуждать! оборвалъ ее Аверьянъ Пантелеевъ. — А только ужъ и народъ же нонѣ! Охъ, какой народъ! Шагу безъ мзды не сдѣлаютъ. Говорили, Колдовино смирная, трезвая деревня. Какая это, къ чорту, трезвая деревня, коли спозаранку пропойные люди пить лѣзутъ.
Еще разъ появился передъ кабатчикомъ буфетчикъ.
— Чего ты съ одного лѣзешь! огрызнулся на него кабатчикъ. — Насчетъ колдовинскихъ тебѣ вѣдь сказано мое рѣшеніе.
— Да что жъ мнѣ дѣлать-то, коли не внимаютъ! Я ужъ и урядникомъ пугалъ, и тѣмъ, и сѣмъ, честью говорилъ — никакой словесности не чувствуютъ. Да тамъ еще колдовинскій мужикъ. Этотъ пріѣхалъ на лошади и требуетъ четверть водки.
— Шестой?
— Да ужъ это седьмой. На лошади пріѣхалъ. Требуетъ четверть и полдюжины пива.
— Кто такой?
— Терентій Ивановъ, корявый такой.
— Ну, не мерзавецъ ли человѣкъ есть! Вѣдь я еще только вчера его поилъ и сорокъ копѣекъ ему на бутылку водки далъ! воскликнулъ кабатчикъ.
— А сегодня за четвертью пріѣхалъ и за пивомъ. Стаканчикъ сейчасъ онъ ужъ на нашъ счетъ выпилъ. Такъ какъ прикажете: отпускать четверть или не отпускать?
— А вотъ я сейчасъ самъ внизъ сойду.
Кабатчикъ, бывшій въ одной жилеткѣ, сталъ надѣвать на себя пиджакъ, чтобы итти внизъ въ трактиръ, какъ вдругъ на лѣстницѣ раздались чьи-то шаги и въ прихожую комнату квартиры вошли колдовинскій староста и Емельянъ Сидоровъ Мясникъ.
IX
— Не ждалъ, поди, гостей-то сегодня? Ну, а мы вотъ какъ скоро!.. говорилъ кабатчику Емельянъ Сидоровъ, отирая грязные сапоги о половикъ въ передней. — Бабы наши сегодня утречкомъ говорятъ; «молотить»… А я имъ: «какая тутъ молотьба, коли Аверьяну Пантелеичу угодить надо. Къ нему поѣдемъ». Запрегъ лошадь, захватилъ вотъ старосту и къ тебѣ… И лошадь-то, признаться, сегодня нужно было, чтобы подъ яровое на весну полоски двѣ вспахать, а я ужъ говорю: «плевать… Послѣ вспашемъ. Успѣется еще». Баба ругаться — ну, да я ее утрамбовалъ. «Какъ я, говорю, дура ты безпонятливая, ведро водки на себя отъ Аверьяна Пантелеича потащу пять верстъ?» Вѣдь пять верстъ отъ насъ къ вамъ.
— Люди говорятъ, четыре только… сухо отвѣчалъ кабатчикъ.
— Ну, четыре. И четыре версты надсадишься на себѣ тащить. Да вѣдь вотъ и старостѣ ты тоже ведро обѣщалъ.
Кабатчика покоробило.
— По полу-ведру я обѣщалъ, кажется, а не по ведру, проговорилъ онъ.
— Ну, вотъ! Толкуй еще! На ведрѣ сторговались.
— Ну, да, на ведрѣ, а только двоимъ.
— Нѣтъ, каждому по ведру, подтвердилъ староста. — Чего ты жилишь-то? Тонешь, такъ топоръ сулишь, а вытащатъ тебя, такъ и топорища жаль.
— Да вѣдь ты меня еще не вытащилъ. Я еще и бумаги-то міру не подавалъ, а тамъ что міръ скажетъ.
— Все оборудовано, махнулъ рукой Емельянъ Сидоровъ, входя изъ прихожей въ комнату, и началъ креститься на образа. — Ну, теперь здравствуй! Гдѣ хозяюшка-то? Надо и хозяюшкѣ поклониться.
— А она тамъ около печки, по своему кухонному интересу. Придетъ, такъ поздоровкаешься. Что же ты оборудовалъ?
— Да все. Я и Буялиху насчетъ бабьей вечеринки подговорилъ, и все эдакое… Согласна въ лучшемъ видѣ. «Только, говоритъ, пускай онъ побольше угощенія присылаетъ и побольше посуды». Да смѣетъ ли она артачиться, коли я прикажу! Послѣзавтра у ней вечеринку валяй. Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.
— Ладно. А только ужъ и деревня же у васъ алчная! Вѣришь ли, смучили меня сегодня ваши мужики. Съ самаго утра, съ самыхъ, то-есть, позаранокъ прутъ въ трактиръ на даровое угощеніе. Одинъ какой-то подлецъ даже тарелки въ трактирѣ бьетъ.
— Ничего не подѣлаешь. Хочешь нажиться, такъ надо и отъ себя тщетиться.
— Да наживешься ли еще? Вѣдь это еще все буки.
— Вовсе не буки. Съ того и прутъ сюда пить, что порѣшили тебѣ мѣсто подъ кабакъ отдать и приговоръ подписать. Староста сейчасъ же послѣ твоего отъѣзда пошелъ по деревнѣ и сталъ говорить мужикамъ насчетъ кабака.
— Да, да… Обѣгалъ всѣхъ, кого можно. Несогласныхъ будетъ мало на сходкѣ. Всѣ согласны и наше навѣрное возьметъ, подтвердилъ староста.
— Да что ты! улыбнулся кабатчикъ.
— Вѣрно, вѣрно. Наголодались. Въ самомъ дѣлѣ за виномъ четыре версты бѣгать — шутка ли! Всѣ согласны. Одно только говорятъ, что пять ведеръ на міръ мало. Требуютъ семь, и пусть, говорятъ, онъ пять ящиковъ пива намъ на загладку выставитъ.
— Ахъ, Семенъ Михайлычъ, какъ ты это все поднимать любишь! крякнулъ кабатчикъ — Вѣдь ужъ условились, что на міръ пять ведеръ и ничего больше. А теперь ужъ семь ведеръ водки и пять ящиковъ пива.
— Да при чемъ же я-то тутъ? Мужики требуютъ семь.
— Ну, такъ вотъ свое ведро и отдай, которое ты у меня себѣ выговорилъ. Ты ведро отдашь, староста свое отдастъ — вотъ семь и выйдетъ. Я вѣдь и раньше такъ хотѣлъ. Вотъ вы и отдайте.
— Вишь, ты какой! Зачѣмъ же это я свое-то ведро отдамъ? сказалъ староста.
— И я не отдамъ, подхватилъ Емельянъ Сидоровъ. — Съ какой ты это стати пяченаго-то купца изъ себя строишь? Сначала обѣщалъ, а потомъ пятишься.
— Да вовсе я не пяченый купецъ. Вѣдь вы берете по ведру, чтобы міръ поить, ну, и отдайте міру.
— Мы беремъ, чтобы до сходки міръ поить, чтобы такъ дѣло поставить, чтобъ ужъ на сходку нѣкоторые въ туманѣ пришли. Въ туманѣ мужикъ ласковѣе, сказалъ староста и тутъ же прибавилъ:- Ну, да съ мужиками дѣло рѣшенное, ежели семь ведеръ и пиво, а вотъ бабъ надо хорошенько на вечеринкѣ ублаготворить. Вчера только услыхали о кабакѣ, такъ и загалдѣли на всю деревню. «Что же это только будетъ! Никогда у насъ кабака не было! Мужики у насъ теперь всѣ сопьются, малые ребята безъ куска хлѣба останутся». Разговоръ идетъ обширный. Ивана Епифанова жена привела сегодня своего мужа къ часовнѣ и заставила положить передъ иконой три земные поклона, что онъ на міру противъ кабака кричать будетъ.
— Эка дура! Вотъ дура-то! покачалъ головой кабатчикъ.
— Да и другихъ бабъ подговариваетъ. Ты вотъ что, Аверьянъ Пантелеичъ, ты попробуй ее самоваромъ ублажить, подари ей самоварчикъ, такъ, можетъ, она и сдастся.
Кабатчикъ поднялъ руки къ верху и воскликнулъ:
— Господа, да вѣдь съ одного вола семь шкуръ не дерутъ, а вы хотите содрать двадцать!
— Не надо ей самовара. Ну, будетъ она одна несогласна — плевать, сказалъ Емельянъ Сидоровъ.
— Да вѣдь мужъ ея Иванъ Епифановъ будетъ несогласенъ на сходкѣ, возразилъ староста.
— Да вѣдь ужъ несогласные на сходкѣ все равно будутъ, безъ этого нельзя. А то ежели всѣмъ самовары дарить, то и въ самомъ дѣлѣ очень много. Вотъ Буялихѣ сапоги для дочери или четыре рубля — это точно. Я такъ и сказалъ ей. Да подари ей кофейникъ.
— Сапоги и кофейникъ! Охъ! вздохнулъ кабатчикъ.
— Да ужъ этой надо. Этой-то я такъ и сказалъ
— Сапогъ довольно! Чего ее ублажать! спорилъ староста.
— Мало, Семенъ Михайлычъ, мало. Женщина у себя въ домѣ пирушку дѣлаетъ.
— Да вѣдь угощеніе-то будетъ не ея.
— Все равно.
— Никакихъ я кофейниковъ, никакихъ я самоваровъ… началъ было кабатчикъ.
— А моей-то женѣ кофейникъ обѣщался? Безъ этого нельзя, перебилъ его Емельянъ Сидоровъ. — Да вотъ еще что… Гдѣ тѣ колеса-то, что мнѣ отдать ладилъ?
— Послѣ колеса! Успѣешь! Чего тебѣ? Не пропадутъ колеса, сказалъ староста. — Сначала Аверьянъ Пантелеичъ пусть потчуетъ насъ, Мы въ гости къ нему пріѣхали. Въ трактиръ къ себѣ поведешь или здѣсь угощать будешь?
Соображая всѣ тѣ громадные расходы, которые придется ему понести на подкупъ міра, кабатчикъ растерянно чесалъ затылокъ.
— Да ужъ садитесь здѣсь. Сюда я велю подать закуску и выпивку, сказалъ онъ. — А то тамъ съ одного ваши мужики на меня налетать будутъ. Полонъ трактиръ вашими мужиками, и только и ждутъ того, чтобы я вышелъ и чтобы съ меня угощеніе стянуть.
— Безъ угощенія, братъ, ау! Безъ угощенія ничего не подѣлаешь! подмигнулъ староста, опускаясь на стулъ около стола.
— Да вѣдь ужъ я поилъ ихъ, господа. Никому не отказалъ. Всѣмъ была отпущена водка и пиво было дадено.
— А ты пои до туману. Не жалѣй. Все это тебѣ потомъ въ пользу… Жалѣть тутъ нечего, наставлялъ Емельянъ Сидоровъ.
Кабатчикъ пошелъ въ кухню къ женѣ распорядиться насчетъ угощенія для гостей и спросилъ:
— Колбаски вамъ на закуску-то къ водкѣ подать?
— Вали и колбаски, вали и ветчинки. Рыбки, ежели есть. Ужъ пріѣхали отъ деревни набольшіе головы къ тебѣ, такъ ты угощенія не жалѣй, отвѣчалъ Емельянъ Сидоровъ.
— Ты яишенку съ ветчинкой намъ сооруди — вотъ что, прибавилъ староста.
— Ладно.
Кабатчикъ сдѣлалъ движеніе.
— Постой, постой… остановилъ его Емельянъ Сидоровъ. — Килечкой еще попотчуй, да селяночку нельзя ли?
— Да ужъ останетесь довольны. Господи! раздраженно проговорилъ кабатчикъ и удалился.
X
Староста и Емельянъ Сидоровъ прображничали у кабатчика далеко за полдень. Кабатчикъ еле могъ ихъ выжить отъ себя. Оба гостя были совсѣмъ пьяны. Уѣзжая домой, староста долго искалъ глазами, что бы ему выпросить у кабатчика, и наконецъ выпросилъ баранью шапку, висѣвшую въ прихожей на гвоздѣ. Съ лѣстницы гости еле сошли. Садясь въ телѣгу, они долго лобызались съ кабатчикомъ и клялись ему въ вѣрности. Въ телѣгу имъ положили по ведерному боченку водки, а для Емельяна Сидорова, кромѣ того, и передній скатъ колесъ. Староста, видя, что Емельянъ Сидоровъ уѣзжаетъ съ новыми колесами, позавидовалъ ему и сталъ просить у кабатчика себѣ дугу, стоявшую тутъ же подъ навѣсомъ, гдѣ они садились въ телѣгу. Кабатчикъ далъ дугу. Выѣзжая уже со двора. Емельянъ Сидоровъ вдругъ остановился въ воротахъ.
— Ахъ, да… Жена наказывала, чтобы я чайничекъ трактирный, расписной, у тебя попросилъ ей для заварки чая. Ихъ у тебя въ трактирѣ, поди, много напасено, а нашъ-то дома трещину далъ, такъ какъ бы не развалился.
Кабатчикъ пожалъ плечами, но велѣлъ дать и чайникъ. Опять прощанія и изъясненія въ любви и вѣрности, и наконецъ гости уѣхали.
— Ну, народъ нынче! вздыхалъ кабатчикъ, покачивая головою послѣ отъѣзда гостей. — Да это цыганскіе какіе-то, а не русскіе мужики! И того имъ дай, и это подари, и того поднеси… Тьфу, пропасть! Да они меня какъ липку обдерутъ до тѣхъ поръ, пока міръ составитъ приговоръ о дозволеніи открыть въ деревнѣ заведеніе. Надо кончать съ этимъ дѣломъ, скорѣе кончать, рѣшилъ онъ.
Только что староста и Емельянъ Сидоровъ уѣхали, явилась вдова старуха Буялиха, та самая баба, у которой предназначалось сдѣлать вечеринку для угощенія колдовинскихъ бабъ. Это была высокая, тощая женщина лѣтъ подъ шестьдесятъ, въ ситцевой ватной кацавейкѣ и сильно потертомъ головномъ платкѣ. Отрекомендовавшись кабатчику, она сказала:
— Уговориться пришла насчетъ пирушечки этой самой.
— Да вѣдь Емельянъ Сидоровъ и староста сейчасъ уговорились со мной. Вечеринка для бабъ будетъ у тебя въ избѣ послѣзавтра, угощеніе и посуду я пришлю съ человѣкомъ, закуску тоже, такъ чего же тебѣ?.. отвѣчалъ кабатчикъ.
— Такъ-то такъ, оно это дѣйствительно, но надо съ твоей милости задаточку за труды.
— Какого такого задатку? На сапоги для твоей дочери три рубля я послѣ всего этого происшествія дамъ, платокъ ситцевый ты вмѣстѣ съ другими бабами получишь.
— Нѣтъ, милый, безъ задатку я не согласна. Рубль задатку, тогда такъ. Да и на сапоги не три рубля, а четыре. Какіе же это сапоги за три рубля! У меня дочь-то невѣста. Надо ей польскіе сапоги.
— За три рубля можно и польскіе сапоги купить. У меня жена, вонъ, за три рубля носитъ.
— Ты рубликъ-то дай — вотъ что. А тамъ на сапоги потомъ можешь, пожалуй, и три рубля. Ужъ Богъ съ тобой… Я согласна, стояла на своемъ старуха.
Кабатчикъ далъ.
— Вотъ спасибо, вотъ за это благодарю, заговорила старуха. — Ну, а кофейникъ-то мѣдный сейчасъ можно мнѣ получить?
— Какой такой кофейникъ? Я кофейникъ не обѣщалъ, отвѣчалъ кабатчикъ.
— Что ты! Что ты! Мнѣ Емельянъ Сидорычъ сказалъ, что хорошій мѣдный кофейникъ.
— Кофейникъ это я его женѣ обѣщалъ, а не тебѣ.
— А я-то что же за обсѣвокъ въ полѣ? Я вечеринку для бабъ устраиваю, да буду безъ кофейника? Нѣтъ, я не согласна, коли такъ. Что жъ это такое! Это ужъ обида.
— Какъ не согласна? Емельянъ Сидоровъ съ меня вчера пять рублей взялъ, чтобы уговорить тебя на вечеринку. Сегодня пріѣзжалъ и сказалъ, чтобы я былъ спокоенъ.
— Да что мнѣ Емельянъ Сидоровъ! У меня мой домъ, а не Емельяна Сидорова. Онъ только мнѣ свойственникъ приходится и ничего больше. Нѣтъ, ужъ кофейничекъ-то пожалуйста… Я только на кофейничекъ-то и польстилась, а то бы и вниманія не взяла. Шутка ли вечеринку устроить для всѣхъ бабъ!..
— Да ты сама, что ли, устраивать-то будешь? Вѣдь угощеніе-то будетъ мое, посуда моя, даже свѣчей привезу, чтобы тебѣ освѣтиться.
— Ты и керосинчику привези. У меня двѣ лампочки.
— Ладно. Привезу и керосину бутылку.
— Что бутылку! Ты жестяночку фунтовъ въ двадцать, да чтобы и жестяночка мнѣ осталась.
— Бочку еще не привезти ли! Это, наконецъ, несносно! Что это такое! вспылилъ кабатчикъ. — Да что вы меня ободрать хотите, что ли! Ну, куда тебѣ столько керосину?
— Да ужъ кабакъ открываешь у насъ, такъ надо отъ тебя и попользоваться. Шутка ли? Какое у насъ въ деревнѣ потомъ пьянство начнется! А у меня сынъ загульный. Пріятно нешто мнѣ все это? Грѣхъ на душу беру, бабъ подговариваю, чтобы ротивъ кабака не галдѣли, такъ ужъ было бы за что грѣшить. Нѣтъ, безъ кофейника и керосина я не согласна.
— Ну, ладно, ладно. Будетъ тебѣ кофейникъ, не кричи.
— И чтобы полпуда керосину. Это безпремѣнно, и съ жестянкой…
— Охъ! громко вздохнулъ кабатчикъ. — Да это жиды какіе-то, цыгане!
— Чего ты, милый, ругаешься-то? Мы тебѣ пользу устраиваемъ, душу свою продаемъ, а ты…
— Ладно, ладно. Привезутъ тебѣ послѣзавтра керосинъ и кофейникъ вмѣстѣ съ угощеніемъ и посудой. Иди съ Богомъ! Рубль получила, и иди.
Кабатчикъ ушелъ изъ кухни, гдѣ принималъ Буялиху.
— Какъ, иди! воскликнула она ему въ слѣдъ. — Я къ тебѣ въ гости пришла, а ты: иди. Ты меня долженъ попотчевать. Всѣхъ потчевалъ, а я — иди. Обязанъ попотчевать. Мы для тебя все устраиваемъ, хлопочемъ, бабъ подбиваемъ, а ты вонъ меня гонишь.
— Да вѣдь всѣхъ васъ, колдовинскихъ бабъ, рѣшилъ я послѣзавтра у тебя попотчевать, сказалъ кабатчикъ, остановившись. — Вѣдь у тебя въ домѣ будетъ обширное угощеніе, такъ чего жъ тебѣ еще?
— То особь статья, а это особь статья, отвѣчала старуха. — Сегодня я къ тебѣ въ гости пришла. Вотъ тоже люди-то! Шла, шла, четыре версты перла, думала, что встрѣтятъ меня тутъ, какъ родную, на почетное мѣсто посадятъ, а ты даже рюмочкой водочки съ пивцомъ не хочешь попотчевать.
— Ну, садись, тутъ въ кухнѣ къ столу. Сейчасъ тебѣ подадутъ угощеніе. Анна Ивановна! Угости тутъ вотъ одну колдовинскую гостью, вызвалъ кабатчикъ изъ комнатъ свою жену.
Буялиха сѣла къ столу, видимо недовольная пріемомъ кабатчика. Выпивъ два стаканчика водки и закусывая вареной говядиной съ горчицей, кабатчицѣ она говорила:
— Вѣдь вотъ мы для васъ какъ стараемся, чтобъ заведеніе вамъ открыть у насъ въ Колдовинѣ, а муженекъ твой этого и не чувствуетъ. Шла я сюда, такъ думала, что онъ меня и чайкомъ, и кофейкомъ, и съ медомъ, и съ вареньицемъ, и съ постнымъ сахарцемъ…
— Да чаемъ я тебя напою и сама съ тобой попью. Вотъ закуси только сначала, отвѣчала кабатчица.
— Милая! Ласка отъ него не та. Я сейчасъ ужъ вижу, что ласка не та. Другой бы сейчасъ и кофейку и чайку на домъ, ребятишечкамъ пряничковъ, леденчиковъ…
Кабатчица промолчала.
— Ты мнѣ все-таки хоть какого-нибудь гостинчика на домъ дай, продолжала Буялиха.
— Да хорошо, хорошо! Пряники у насъ есть. Я дамъ тебѣ въ карманъ, насыплю.
— Ты кофейку хоть полфунтика…
— Хорошо, хорошо.
— Какіе, милая, бабамъ платки-то будутъ дарить на пирушкѣ? Ты не можешь мнѣ показать?
— Да не покупали еще. Завтра мужъ поѣдетъ покупать въ городъ. Какіе платки! Платки, разумѣется, обыкновенные, ситцевые.
— Какъ ситцевые? Емельянъ Сидорычъ и староста сказывали всѣмъ бабамъ, что шерстяные. И я тоже бабамъ говорила, что шерстяные.
— Шерстяные, шерстяные! Чортъ васъ всѣхъ задави! откликнулся изъ комнаты кабатчикъ.
— А ежели шерстяные, то неужели ты меня-то, голубчикъ, отъ остальныхъ бабъ не отличишь? задала вопросъ Буялиха.
— Непремѣнно отличу. Тебѣ платокъ будетъ изъ рогожи, послышалось изъ комнаты.
— Вотъ, вотъ, матушка, какъ онъ меня предпочитаетъ! плакалась Буялиха передъ кабатчицей.
Домой она ушла отъ кабатчика пьяная, награжденная вымаклаченными гостинцами, съ рублемъ въ карманѣ и все-таки недовольная.
XI
Въ назначенный для бабьей вечеринки въ Колдовинѣ день, къ полуразвалившейся избѣ Буялихи подъѣхалъ цѣлый возъ съ ящиками пива, боченками водки, посудой и закусками. На возу сидѣлъ работникъ кабатчика Аверьяна Пантелеича, за возомъ прыгали деревенскіе ребятишки, били въ ладоши и припѣвали:
— У Буялихи пирушка будетъ! У Буялихи пирушка будетъ!
Работникъ пріѣхалъ съ возомъ и не разгружался. Онъ остановился у воротъ и закурилъ трубку. Къ возу за ворота выбѣжала Буялиха, уже полупьяная.
— Что жъ ты не вносишь въ избу ящики и боченки-то? спрашивала она.
— Аверьяна Пантелеича дожидаюсь. При самомъ разгрузка будетъ, отвѣчалъ работникъ кабатчика.
— Керосину привезъ?
— Привезъ, привезъ. Всего привезъ.
— Такъ давай мнѣ скорѣй. Надо лампы заправлять.
— Все при хозяинѣ. Таковъ приказъ мнѣ былъ.
— Дай хоть пива-то парочку… протянула Буялиха руку къ ящику.
— Не вороши, не вороши… Не велѣно до самого трогать, отстранилъ ее работникъ.
— Ну, иродъ же твой хозяинъ! Я ему избу свою подъ пиръ отдаю, хлопочу, бабъ уговариваю, а онъ запрещаетъ. Я хозяйка здѣшней избы, я Буялиха, сама Буялиха. Можетъ быть, кому другому не велѣно выдавать, а не мнѣ.
— Никому не велѣно.
Вышелъ за ворота сынъ Буялихи — молодой парень съ опухшимъ лицомъ и синякомъ подъ глазомъ.
— Сколько вина-то привезъ? спрашивалъ онъ работника, подбоченившись.
— А это ужъ самъ хозяинъ отпускалъ. Самъ и приметъ.
— Въ боченкахъ только, или есть и сороковки?
— Все есть.
— Дай сороковочку. Я хозяинъ здѣшній.
— Никому ничего не велѣно давать. Пріѣдетъ, такъ у него спроси.
— А коли такія ваши слова, то мы и въ избу къ себѣ не пустимъ — вотъ что.
— Врешь. Впустишь.
Работникъ продолжалъ посасывать трубку.
— Ну, ладно же, черти! Покажу я вамъ, коли онъ и меня не уважаетъ, погрозился сынъ Буялихи, жадно смотря на возъ съ бутылками.
— Уйди ты! Не вертись тутъ! кричала на него Буялиха. — Пьяница…
— Сама такая же.
Подходили бабы и спрашивали Буялиху:
— Привезли ужъ угощеніе-то? Стало быть, можно и приходить къ тебѣ?
— Вечеромъ, вечеромъ, умницы, приходите, когда стемнѣетъ, а раньше не слѣдъ.
— Платки-то тутъ? Въ возу? Покажи-ка, какими платками онъ насъ дарить будетъ.
— Не ворошите, не ворошите въ возу! Нѣтъ тутъ платковъ.
Вскорѣ въ маленькой купеческой телѣжкѣ подъѣхалъ и самъ кабатчикъ. Лицо его сіяло.
— Бабеночкамъ почтеніе! На юбилей ко мнѣ пришли? Рано, старушки божьи, рано. Дайте прежде съ товаромъ разобраться… заговорилъ онъ, вылѣзая изъ телѣжки.
— Какія мы старушки! обидѣлась одна изъ бабъ.
— Не въ центру попалъ? Ахъ, ты, шустрая! Ну, прости, прости за обиду и будь молодкой… поправился кабатчикъ и сталъ вынимать изъ телѣжки перевязанную веревкой пачку платковъ съ разноцвѣтной бахромой.
Какая-то молодая бабенка не утерпѣла и сунулась пощупать доброту платковъ.
— Потомъ, потомъ разглядишь. Нечего тутъ… говорилъ кабатчикъ, отдергивая отъ нея пачку платковъ, и продолжалъ:- Ну, молодушки, тамъ, какъ стемнѣетъ, жду я васъ на вечеринку хлѣба-соли откушать и винца съ пивцомъ попить. Милости просимъ.
— Придемъ, придемъ. Не замедлимъ. У тебя имянины, что ли?
— Юбилей. Это господское празднество.
— Да, да… Юбилей… Вотъ какъ… подхватила Буялиха. — Бабы меня давеча спрашиваютъ, какой праздникъ, а я имъ и выговорить не могу. Забыла? какъ называется. Юбилей.
— Юбилей, юбилей… Это значитъ, что нонѣ осенью около Покрова дня исполнилось ровно одиннадцать годовъ, какъ я самъ хозяйствую. И ежели, вотъ, Богъ приведетъ заведеніе мнѣ здѣсь у васъ въ Колдовинѣ открыть, то кажинный годъ буду праздновать и васъ поить около Покрова, — ну, а ужъ не придется, такъ не прогнѣвайтесь.
— Да откроешь, откроешь. Наши мужики будутъ согласны. На что другое они согласія не дадутъ, а на это-то будь покоенъ… заговорили бабы.
— Ну, не скажите! Я слышалъ, что тутъ ужъ тремъ торговцамъ отказъ вышелъ. Развѣ ужъ только вы за меня доброе слово своимъ мужьямъ замолвите.
— Замолвимъ, замолвимъ. Платки-то только бы намъ были хорошіе.
— Быкъ забодаетъ, собаки лаять начнутъ, когда обновки мои одѣнете.
— А ты вотъ что… Ты пои больше, ты вина не жалѣй — тогда и разрѣшатъ тебѣ заведеніе, сказалъ хозяйкинъ сынъ. — А то я давеча попросилъ у твоего работника сороковочку — попотчеваться, а онъ не даетъ, да еще пронзительныя слова…
— А ему, милый человѣкъ, не велѣно было давать. Онъ работникъ, существенность подначальная. Онъ что привезъ сюда, то и обязанъ хозяину по накладной въ руки сдать.
— Да вѣдь я маменькинъ сынъ, стало-быть тоже здѣшній хозяинъ.
— А, милый человѣкъ, все равно нельзя. И ужъ ежели хочешь знать, то сегодняшнее угощенія только для одного дамскаго пола предназначено. Ты, какъ хозяйкинъ сынъ, свою препорцію сегодня получишь, но ужъ не такъ, чтобъ очень…
— А нешто мужикамъ сегодня подносить не будутъ? спрашивали остановившіеся у воротъ два мужика.
— Да приходите, приходите. По малости поднесемъ, а только настоящее мужское угощеніе будетъ на сходкѣ. На сходкѣ пять ведеръ я вамъ съ превеликимъ удовольствіемъ выставлю. Ну, Ферапонтъ, въѣзжай во дворъ! Вводи лошадей, отдалъ кабатчикъ приказъ работнику.
Буялихинъ сынъ распахнулъ ворота. Скрипнули колеса и возъ, а за нимъ и телѣжка начали въѣзжать во дворъ Буялихи.
— Стой! Стой! кричали мужики. — Погоди. А сейчасъ сороковочкой на насъ двоихъ попользоваться можно? Мы за твое здоровье въ лучшемъ видѣ бы выпили.
— Милые люди, да вѣдь на все своя препона есть, отвѣчалъ кабатчикъ. — Дожидайтесь своего термину и приходите вечеркомъ.
— То особь статья, а это особь статья.
— Да невозможно, голубчики. Видите, что я еще и не разгрузился съ своимъ.
— А разгрузиться нешто долго? Ты вотъ что, ты вина не жалѣй, вѣдь мы твои радѣтели. Будешь съ нами ласковъ и мы къ тебѣ на сходкѣ будемъ ласковы, а не будешь…
— Да ужъ нате, нате… Только никому не сказывайте, что отъ меня получили, а то вѣдь всѣ бросятся, досадливо сказалъ кабатчикъ. — Стой, Ферапонтъ! Стой!
Онъ вскочилъ на ступницу колеса у воза, порылся въ сѣнѣ, вытащилъ оттуда бутылку и, передавая ее мужикамъ, прибавилъ:
— Спрячьте только, Бога ради, подъ полу, когда понесете по деревнѣ. Эй, молодецъ! Хозяйкинъ сынъ! Запирай скорѣй за нами ворота! Запирай.
— Что я буду запирать и тебѣ угождать, коли ты однимъ далъ сороковку, а мнѣ не даешь! отвѣчалъ хозяйкинъ сынъ и, надувшись, отошелъ въ сторону. — Думаешь, что я безъ голоса на сходкѣ-то бываю? Слава Богу, у меня глотка-то здоровая.
— Да на, на… Подавись! Чортъ съ тобой! Не успѣлъ въѣхать я — а ужъ и подай тебѣ. Вѣдь ты туточный. Все въ твой домъ привезъ… А не даю теперь, потому, вѣдь ты облопаешься до вечера-то!
— Съ одной-то сороковки? Ну! Сказалъ тоже…
Кабатчикъ сунулъ и хозяйкину сыну бутылку.
Хозяйкинъ сынъ началъ запирать ворота.
XII
И произошло великое бабье пьянство въ избѣ вдовы Буялихи! Пили даже и непьющія женщины. Непьющія явились, главнымъ образомъ, за платкомъ, которые раздавалъ каждой бабѣ кабатчикъ Аверьянъ Пантелеичъ, оставались на минутку «пряничковъ пожевать», но увлеченныя примѣромъ пьющихъ бабъ и сами напивались. Водка и пиво лились рѣкой. Были чай и кофе, но на нихъ мало кто обращалъ вниманія. Были сласти въ видѣ пряниковъ, подсолнуховъ и дешевыхъ леденцовъ, но ими бабы только набивали карманы, приговаривая, что это ребятишкамъ. Нѣкоторыя бабы явились съ грудными ребятами на рукахъ. Начались пѣсни. Среди бабьихъ голосовъ раздавался плачъ грудныхъ дѣтей, но это мало мѣшало веселью. Въ пѣсняхъ славословили кабатчика Аверьяна Пантелеича и его щедрость, что онъ «съ гривенки на гривенку ступалъ и полтиною ворота запиралъ». При этомъ молодыя бабы клали ребятъ и приплясывали посреди комнаты, неистово притоптывая ногами въ полъ и помахивая платками. Пословица говоритъ, что баба выпьетъ на грошъ, а накричитъ на цѣлковый. Такъ было и теперь. Шумъ, визгъ, голосистый говоръ, пѣніе, жалобы на мужей — все слилось во едино. Въ половинѣ пира двухъ-трехъ бабъ пришлось вытаскивать изъ избы, какъ совсѣмъ упившихся. Онѣ подрались между собой и начали бить тарелки. Изъ мужиковъ на пиръ были званы только староста да сынъ Буялихи, но послѣдній въ самомъ началѣ вечера до того напился, что его пришлось связать и вынести на дворъ подъ навѣсъ, гдѣ онъ и уснулъ. Тѣмъ не менѣе очень многіе мужики явились и безъ зова и требовали себѣ водки. Одинъ вдовый мужикъ доказывалъ кабатчику про себя, что онъ не виноватъ въ своемъ вдовствѣ, а такъ какъ всѣ бабы получили по платку, то требовалъ и онъ себѣ платокъ за покойницу жену, грозя въ противномъ случаѣ галдѣть на сходкѣ противъ кабака. Платковъ у кабатчика больше не было, онъ всѣ ихъ роздалъ, но такъ какъ вдовый мужикъ не переставалъ грозиться, то его пришлось удовлетворить вмѣсто платка двугривеннымъ… Двѣ комнаты избы и сѣни были набиты гостями какъ боченокъ съ сельдями. Гости сидѣли на лавкахъ, на хозяйкиной постели, на печи, на подоконникахъ и на полу, но большинство тискалось къ столу, за которымъ подъ образами сидѣлъ самъ кабатчикъ, то и дѣло вынималъ изъ-подъ стола бутылки съ пивомъ и, ловко откупоривая ихъ крючкомъ, ставилъ на столъ съ совершенно мокрой, залитой разной хмельной дрянью, скатертью. Среди толпы время отъ времени протискивались къ столу и мальчишки-подростки, схватывали внезапно стаканъ съ пивомъ или рюмку съ водкой и выпивали ихъ.
Попойка кончилась въ десятомъ часу вечера, когда все привезенное кабатчикомъ угощеніе изсякло до капли. Нѣкоторые гости и гостьи требовали еще пива и водки, но взять было негдѣ. Кабатчикъ оставилъ работника собирать опорожненную посуду, а самъ сѣлъ въ телѣжку и уѣхалъ домой. Съ нимъ навязывался ѣхать, чтобы проводить его до Быкова, совсѣмъ уже пьяный староста, но кабатчикъ, предвидя и тамъ бражничество старосты, наотрѣзъ отказалъ ему, чѣмъ привелъ въ страшный гнѣвъ.
— Ну, ладно! Покажу же я тебѣ, коли такъ! кричалъ ему вслѣдъ староста.
— Ничего не покажешь. Завтра же я пришлю тебѣ сороковку водки и полдюжины пива на похмелье, отвѣчалъ кабатчикъ, стегая лошадь.
По отъѣздѣ его, на деревнѣ долго еще раздавались пьяныя пѣсни, крики, визгливые голоса бабъ, ругань и звуки гармоніи.
Степенный и исправный мужикъ Антипъ Яковлевъ, отринувшій въ первый пріѣздъ въ Колдовино кабатчика всякіе переговоры съ нимъ насчетъ открытія кабака въ деревнѣ, былъ у себя дома среди многочисленнаго семейства изъ женатыхъ сыновей и внучатъ. Онъ прислушивался къ крикамъ, пѣснямъ и бабьему визгу на деревнѣ и плевался.
— Продадутъ, анаѳемы, свою деревню кабатчику, какъ пить дать, продадутъ! Вотъ что вино да разные подарки-то дѣлаютъ! Люди на себя прямо руки накладываютъ, досадливо бормоталъ онъ. — Обрадовались даровому винищу и на разореніе идутъ. Черти! Дьяволы!
На слѣдующее утро Антипъ Яковлевъ, напившись чаю и расчесавъ гребнемъ свою длинную сѣдую бороду, пошелъ по деревнѣ, чтобъ увидать кой-кого изъ основательныхъ мужиковъ и уговорить ихъ не сдаваться на предложеніе кабатчика. Подойдя къ одной избѣ, онъ постучалъ въ окно. Въ фортку выглянула пожилая баба съ подбитымъ глазомъ и пахнула на Антипа Яковлева виннымъ перегаромъ. Антипъ Яковлевъ сурово взглянулъ на нее и спросилъ:
— Гдѣ это такъ разукрасилась?
— Охъ, ужъ и не говори, Антипъ Яковличъ! Согрѣшили мы вчера, окаянныя. Бѣсъ попуталъ.
— На мужнинъ кулакъ наткнулась, что ли?
— И сама не помню, какъ и обо что! Вина я прежде никогда не пила, развѣ только самую малость въ праздникъ, а тутъ вчера подъѣхалъ съ пирушкой этотъ самый дьяволъ и соблазнилъ меня, окаянную. Да какъ соблазнилъ-то! Голова сегодня словно пивной котелъ!
— Безстыдница. Еще не стыдишься разсказывать. Мужъ дома?
— Охъ, ушелъ, ушелъ, мерзавецъ! Должно быть, ушелъ въ Быково опохмеляться къ Аверьяну Пантелеичу.
— Тьфу ты пропасть! плюнулъ Антипъ Яковлевъ. — Основательный божескій мужикъ, и изъ-за дарового угощенія съ кругу сбился. Вернется и протрезвится, такъ ты, Мавра Алексѣевна, уговаривай его, чтобы онъ хоть на сходкѣ-то въ воскресенье противъ кабака стоялъ.
— Да какъ тутъ, голубчикъ, уговаривать, коли угощеніе мы отъ кабатчика приняли, платокъ взяли. Надо тоже и совѣсть знать.
— А онъ съ совѣстью! Кабатчикъ-то, я говорю, съ совѣстью? раздраженно крикнулъ бабѣ Антипъ Яковлевъ и пошелъ къ другой избѣ.
Въ другой избѣ онъ засталъ самого хозяина. Тотъ вышелъ къ нему за ворота безъ шапки, хмурый, тяжело вздыхая и почесываясь. Очевидно, онъ вчера сильно выпилъ и результаты вчерашняго хмеля сильно мучили его. Лицо было помято, голосъ хриплый.
— Праздновалъ вчера у кабатчика? спросилъ его Антипъ Яковлевъ.
— Да вѣдь какъ не праздновать, коли всѣ праздновали.
— А вотъ я не праздновалъ. Слышь, Ларивонъ Панкратовъ, не продавай хоть ты-то въ воскресенье на сходкѣ деревню кабатчику.
— Такъ-то оно такъ, Антипъ Яковлевичъ, да вѣдь Аверьянъ-то Пантелеевъ хочетъ намъ въ общество домъ пожертвовать.
— Какой домъ? Слушай его!
— Да какъ же… Двѣсти рублей каждый годъ отъ него на міръ будетъ, а черезъ десять лѣтъ онъ и домъ пожертвуетъ. Бумагу даетъ.
— Да вѣдь въ десять-то лѣтъ вы, черти, всѣ сопьетесь при кабакѣ, изъ исправныхъ мужиковъ сдѣлаетесь нищими…
— Ну, никто какъ Богъ, Антипъ Яковличъ. А вѣдь тутъ домъ подъ училище и двѣсти рублей каждый годъ. Оно, положимъ, двѣсти рублей для общества деньги не велики, но можно триста потребовать міромъ. Онъ триста дастъ, ежели міръ поторгуется. Но главная статья — домъ подъ училище…
— Да никакого тутъ училища не будетъ. До училища вы даже не доживете.
— Ну, никто какъ Богъ. Живой о живомъ и думаетъ.
— Дуракъ! крикнулъ ему Антипъ Яковлевъ и сердито пошелъ къ другой избѣ.
Въ другихъ избахъ то же самое или почти то же самое. Очевидно, кабатчикъ пустилъ корни крѣпко въ обитателей деревни.
Побывавъ въ пяти-шести избахъ исправныхъ мужиковъ, понуря голову возвращался къ себѣ домой Антипъ Яковлевъ и бормоталъ себѣ подъ носъ:
— Продали деревню, продали!
XIII
Было воскресное сѣрое, осеннее утро. Въ Крюковѣ звонили къ обѣднѣ и слабый звонъ колокола доносился до Колдовина, на грязной улицѣ котораго было замѣтно необычайное для праздничнаго утра движеніе. Молодыя и старыя бабы въ головныхъ шерстяныхъ платкахъ одного и того же рисунка, подаренныхъ имъ на пирушкѣ у Буялихи кабатчикомъ, поспѣшно перешныривали изъ калитки одного двора въ другой, вызывали сосѣдокъ и шушукались. Пошушукавшись, онѣ вмѣстѣ съ сосѣдками бѣжали на другой дворъ. Слышались отдѣльно произнесенныя громко фразы въ родѣ слѣдующихъ:
— По жестяному чайнику каждой въ придачу къ платку обѣщалъ… «Коли ежели, говоритъ, міръ рѣшитъ — бабѣ жестяной чайникъ?…
— Знаю, знаю, слышала. Чайникъ въ хозяйствѣ вещь хорошая. Неужто опускать?
— Зачѣмъ опускать? Мой Сергѣй на міру будетъ кричать за кабакъ.
— И мой Иванъ Иванычъ тоже. Говорятъ, братья Трынкины артачатся. И чего имъ? Всѣ трое народъ трезвый, такъ какая имъ опаска отъ кабака?
— Да и пьяному нѣтъ опаски. Все это пустое… Ужъ ежели кто захочетъ загулять, такъ и за четыре версты пить убѣжитъ. Ты съ Трынкиной, съ Василья Трынкина бабой повидалась?
— Повидалась. А та рохля. „Что жъ я, говоритъ, могу супротивъ мужа?“
— Однако, платокъ она отъ кабатчика взяла.
— Нѣтъ, Васильева Марья не брала. Ее мужъ и на пиръ не пустилъ. Вонъ невѣстка ейная, Мирона жена, взяла.
— Побѣжимъ къ Марьѣ. Вѣдь чайникъ, хорошій чайникъ…
И бабы побѣжали къ Марьѣ, Василья Трынкина женѣ.
У сарая, гдѣ хранились общественные пожарные инструменты, толпились мужики въ ожиданіи назначенной сегодня мірской сходки. Тутъ были пожилые и молодые. Нѣкоторые сидѣли на лежавшихъ у сарая бревнахъ и покуривали папиросы, свернутыя изъ махорки и газетной бумаги, и сплевывали длинной слюной. Слышалось:
— Сколько ведеръ?
— Пять.
— Мало. Надо требовать семь. А то не согласны.
— Онъ и привезъ съ собой, говорятъ, семь. Одно ведро теперь до сходки распаиваетъ, а другое подѣлитъ начальству: старостѣ, сотскому… Ну, на писаря.
— Да развѣ до сходки поитъ?
— Василій Мироновъ сейчасъ стаканъ выпилъ.
— Нѣтъ, ужъ я до сходки — Богъ съ нимъ, съ виномъ, Алексѣй Ивановичъ. — Лучше я дойду до часовни и три копѣйки на свѣчку подамъ.
Два мужика поднялись съ бревенъ и разошлись въ разныя стороны. Одинъ отправился къ маленькой часовнѣ, находящейся на концѣ деревни, другой пошелъ во дворъ Булялихи, стоящій наискось противъ пожарнаго сарая.
На дворѣ дома Буялихи давно уже дежурилъ кабатчикъ Аверьянъ Пантелеевъ. Онъ пріѣхалъ въ телѣжкѣ еще часовъ въ восемь утра и привезъ съ собой боченки съ водкой. Круглая сытая лошадь его, невыпряженная изъ телѣжки, стояла подъ навѣсомъ и позвякивала бубенчиками и мѣдными бляшками сбруи. Около него терся староста и былъ уже полупьянъ. Кабатчикъ былъ въ ажитаціи и лихорадочно пощипывалъ бороду.
Вошелъ мужикъ.
— Нашему богатѣю, Аверьяну Пантелеевичу? сказалъ онъ, раскланиваясь.
Кабатчикъ передвинулъ шапку со лба на затылокъ и, протянувъ мужику руку, спросилъ:
— Ты отъ пожарнаго сарая? Ну, что тамъ?
— Мало еще тамъ народу, но почитай что всѣ за тебя. Трынкины два брата проходили мимо. Ну, эти противъ тебя и даже хотятъ вмѣстѣ съ Антипомъ Яковлевымъ бумагу куда-то писать, коли ежели міръ…
— Да выдеретъ, выдеретъ твое дѣло. Чего боишься! хлопнулъ староста кабатчика по плечу.
Мужикъ улыбнулся и спросилъ:
— Подносить, что ли, до сходки-то? Я слышалъ, что подносишь.
— Поднести не расчетъ, коли бы люди настоящіе были, а то люди свиньи, раздраженно отвѣчалъ кабатчикъ. — Вонъ Ванюшкѣ, Буялихину сыну, поднесъ я сегодня два стаканчика, а онъ, подлецъ, на старыя-то дрожжи и не выдержалъ. Эво, въ углу валяется! А вѣдь онъ голосъ на міру. На сходку не явится — голосъ прочь.
— Вытрезвимъ къ тому-то времени, водой отольемъ. Вѣдь въ нашей власти, когда сходку назначать. А ты вотъ что… Ты поднеси-ка намъ съ Алексѣемъ Иванычемъ по стаканчику.
— Брось, староста. Ну, что за радость, ежели и ты налижешься! Вѣдь тебѣ на сходкѣ словесность нужна. Вѣдь ты начальство.
— Съ одного-то стакана? Да я, братъ, ни въ одномъ глазѣ…
— Ну, какъ ни въ одномъ глазѣ! Вѣдь ужъ изрядно пилъ сегодня. Ну, что за радость спозаранку? Вотъ выставлю міру вино, тогда и пей сколько хочешь.
— Полно. Ну, чего ты боишься?
— Какъ: чего? Ни коня, ни воза не видавши, я ужъ триста рублевъ просадилъ на угощеніе, да на подарки, а Богъ вѣсть, выдеретъ ли еще что.
— Выдеретъ, выдеретъ. Наливай намъ, сказалъ мужикъ Алексѣй.
Кабатчикъ полѣзъ въ телѣжку, вытащилъ бутылку съ водкой, посмотрѣлъ ее на свѣтъ и сказалъ:
— Фу, ты пропасть! Пока мы въ избу ходили, тутъ ужъ кто-то полбутылки высадилъ. Ну, народъ! Нате, пейте…
Онъ сталъ наливать въ стаканчикъ съ толстымъ дномъ.
Староста и мужикъ Алексѣй выпили. Показался еще мужикъ въ заплатанномъ нагольномъ полушубкѣ и съ рыжей всклоченной бородой.
— А Антипъ Яковлевъ у себя на дворѣ сейчасъ сходку собралъ. Такія рѣчи противъ тебя говоритъ, Аверьянъ Пантелееичъ, что упаси Боже! проговорилъ онъ. — Братья Трынкины тоже ему помогаютъ. Икону вынесли. Антипъ Яковлевъ заставляетъ прикладываться. Человѣкъ десять у него тамъ. Заманилъ и меня, но я убѣжалъ.
— Пущай, что угодно, дѣлаютъ. У насъ за Аверьяна Пантелеева двадцать восемь душъ печатныхъ. Вѣдь считали ужъ, сказалъ староста.
— Вонъ она, двадцать восьмая-то печатная душа гдѣ валяется! кивнулъ кабатчикъ въ уголъ подъ навѣсомъ на сына Буялихи. — Да скоро и двадцать седьмая душа свалится.
— Ты про меня, что ли? Оставь.
— То-есть, Господи Боже мой! Двѣсти рублей міру хочу заплатить ежегодной аренды, домъ послѣ десяти лѣтъ отдаю, бабъ всѣхъ перепоилъ, мужиковъ поилъ, еще поить буду, бабамъ по платку и по чайнику, ребятишкамъ полпуда пряниковъ, а люди этого не чувствуютъ! воскликнулъ кабатчикъ.
— Чувствуемъ, чувствуемъ, Аверьянъ Пантелеичъ, откликнулся рыжебородый мужикъ. — Даже очень чувствуемъ, а только желаемъ съ тебя не двѣсти рублей арендательскихъ получить, а триста.
— Здравствуйте! Да ужъ тогда мнѣ подвѣситься надо!
— Зачѣмъ вѣшаться? Въ нашемъ мѣстѣ — кабакъ золотое дно будетъ.
— Мужики толкуютъ у пожарнаго сарая, что и пяти ведеръ мало. Семь хотятъ, прибавилъ Алексѣй.
— Рѣку имъ изъ вина не сдѣлать ли? Разориться мнѣ, что ли?
— Полно, полно. Нѣтъ, ужъ ты семь-то ведеръ дай. Не обижай міръ, коли міръ тебя почитать хочетъ, уговаривалъ кабатчика рыжебородый мужикъ и, умильно взглянувъ на него, сказалъ: — Насыпь-ка стаканчикъ, чтобъ глотку прочистить. Ой-ой-ой, какъ я за тебя на сходкѣ кричать буду!
Кабатчикъ опять полѣзъ въ телѣжку за бутылкой и стаканомъ.
На крыльцо вышла старуха Буялиха и голосила пьянымъ голосомъ:
— Черти вы, дьяволы! Сами пьете, а нѣтъ того, чтобы мнѣ, старухѣ, хоть бутылочку пивца поднести!
XIV
Время близилось къ полудню. На дворъ Буялихи то и дѣло забѣгали мужики, клялись кабатчику въ вѣрности, ободряли его въ успѣхѣ и выпивали по стаканчику водки, такъ сказать, предварительно, въ ожиданіи послѣ сходки офиціальнаго мірского пьянства. Староста примазывался почти къ каждому въ компанію, отъ чего сильно покачивался на ногахъ. Кабатчикъ, боясь ему отказывать, только пожималъ плечами и упрашивалъ:
— Побереги себя, братъ, слезно прошу, побереги, а то вѣдь зарѣжешь меня.
— Теперь ужъ ничего, теперь ужъ дѣло обозначилось. Самъ ты зарѣжешь всякаго.
Пришелъ писарь изъ отставныхъ унтеръ-офицеровъ въ пальто, въ сапогахъ бутылками и съ подстриженными усами. Подъ мышкой держалъ онъ вмѣсто портфеля папку.
— Надо начинать, сказалъ онъ. — Иди и открывай сходъ, обратился онъ къ старостѣ, подошелъ къ кабатчику и спросилъ:- Такъ пятнадцать рублей и полведра?
— Да, да… По окончаніи всего происшествія получишь, ежели дѣло выгоритъ.
— Выгоритъ, выгоритъ, какъ не выгорѣть! Супротивниковъ всего шестнадцать душъ, да и то Миронъ Трынкинъ изъ-за совѣсти, что жена его взяла у тебя платокъ, запрегъ лошадь и уѣхалъ въ Крюково къ обѣднѣ. Ежели онъ на сходъ не явится, то ты ужъ пошли ему четвертушку вина, но только тайкомъ отъ его брата, чтобы братъ не зналъ.
— Да ладно, ладно… Станетъ ли дѣло за этимъ! Глотнешь стакашекъ? предложилъ ему кабатчикъ.
— Нѣтъ. Ты лучше дай мнѣ такъ бутылку, чтобы въ карманъ…
— Да вѣдь я полуведромъ тебѣ поклонюсь.
— То особь статья.
Передъ открытіемъ схода начали будить спящаго подъ навѣсомъ сына Буялихи. Тотъ не просыпался. Ему начали тереть уши. Онъ дрался.
— Тащи сюда ведро воды! Ведро воды сюда тащи! командовалъ мужикамъ староста.
Притащили ведро воды изъ колодца и начали лить Буялихину сыну на голову воду. Кой-какъ онъ прочухался. Ему вытерли лицо полотенцемъ, нахлобучили на голову шапку и въ мокрой рубахѣ и мокромъ армякѣ повели на сходъ, взявъ предварительно подъ руку. Кабатчикъ шелъ сзади всѣхъ. Выйдя за калитку, онъ перекрестился и остановился у воротъ Буялихи. Сходъ былъ наискосокъ отъ него черезъ улицу и онъ явственно могъ слышать и видѣть, что происходило на сходѣ у пожарнаго сарая.
На сходѣ были уже всѣ въ сборѣ. Толпа мужиковъ была подѣлившись на двѣ партіи: одна большая, другая маленькая. Маленькая партія состояла большею частью изъ мужиковъ-чистяковъ и групировалась около Антипа Яковлева.
— Достаточно ли зѣньки-то даровымъ виномъ налилъ? Ахъ, ты! А еще староста! встрѣтилъ старосту Антипъ Яковлевъ и презрительно посмотрѣлъ на него.
— Не твое дѣло! Чего задираешь! Ты подносилъ, что ли? огрызнулся староста. — Ты не подносилъ, такъ и корить другихъ нечего! Ты лучше покори себя, какъ ты у сиротъ Ермиловыхъ за пять рублей на лугъ арендатель, когда этому лугу цѣна тридцать цѣлковыхъ. Думаешь, бороду-то сѣдую до пупа отростилъ, такъ на святого похожъ! Знаемъ мы тебя тоже!
Староста бросилъ окурокъ папиросы, который курилъ, вошелъ въ толпу мужиковъ и пріосанился, стараясь не качаться на ногахъ. Писарь помѣстился съ нимъ рядомъ. Староста снялъ шапку, перекрестился.
— Открываю сходъ… произнесъ онъ.
Писарь полѣзъ въ папку, вынулъ бумагу и принялся читать предложеніе кабатчика Аверьяна Пантелеича міру объ открытіи трактира и постоялаго двора въ Колдовинѣ.
— Не надо! Не надо читать! Знаемъ! — кричали мужики.
— Нельзя, господа, не читавши… Долженъ же я для порядка…
Писарь продолжалъ читать. Мужики не слушали и разговаривали. Наконецъ чтеніе кончилось и заговорилъ староста.
— Такъ и такъ, православные. Бумагу мы слышали. Означенный крестьянинъ Ярославской губерніи, Любимовскаго уѣзда Аверьянъ Пантелеичъ кланяется міру и проситъ…
— Проситъ деревню продать? А ты ужъ продалъ! Ты Бога прежде побойся! послышалось изъ партіи Антипа Яковлева.
— Я Бога боюсь чудесно, отвѣчалъ староста и продолжалъ:- И означенный крестьянинъ проситъ двѣсти саженъ земли на выстройку дома, чтобы открыть заведеніе… И чтобъ на десять лѣтъ. А по окончаніи домъ нашъ и можемъ школу открыть… И пять ведеръ вина отъ него на поклонъ и двѣсти рублевъ денегъ кажинный годъ.
— Мало пять ведеръ… Семь желаемъ!.. раздались голоса изъ большой партіи мужиковъ. — Семь, а то не согласны! Пусть семь выставляетъ! Семь ведеръ и триста рублей арендательскихъ! Триста, а не двѣсти!
— Ничего не надо! Не надо намъ кабака! загалдѣлъ Антипъ Яковлевъ. — Православные! Не забывайте Бога! Не продавайте деревню! Э-эхъ, вѣдь есть же у людей совѣсть! Не согласны! Ни за что не согласны!
— Чего ты, Антипъ Яковличъ, орешь-то? Вѣдь тутъ какъ міръ, а не ты… Я міръ спрашиваю… оборвалъ его староста.
— Триста и пять ведеръ вина! Тогда согласны и будемъ молиться… Пять ведеръ достаточно… кричалъ изъ большой партіи рыжебородый Емельянъ Сидоровъ по прозванью Мясникъ. — А лучше мы такъ постановимъ и порѣшимъ, чтобъ Аверьянъ Пантелеевъ намъ каждый годъ объ эту пору два ведра вина выставлялъ. Вотъ ежели онъ на это согласенъ, то и пусть доброму дѣлу быть.
— Двѣсти рублей, ребята, довольно! Чего тутъ? Вѣдь домъ будетъ потомъ нашъ! слышалось возраженіе. — Двѣсти рублей, а вина семь ведеръ.
— Куда тебѣ семь ведеръ, лѣшему! И съ пяти облопаемся. Лучше же триста рублевъ на общество.
— Православные! Побойтесь Бога! Неужто же продавать деревню! снова гремѣлъ возгласъ Антипа Яковлева. — И такъ вѣдь у насъ пьяницъ-то достаточно… Вонъ двое еле на ногахъ стоятъ… кивалъ онъ на сына Буялихи и на старосту.
— А ты мнѣ подносилъ? Нешто подносилъ? подскочилъ къ нему староста. — Какую такую ты имѣешь собственную праву начальство корить! Я тутъ начальство, я тутъ набольшій, а ты…
— Не про тебя рѣчь… Чего ты лѣзешь-то? Я про другихъ говорю… увильнулъ Антипъ Яковлевъ и продолжалъ:- Не продавайте, православные, деревни, наплюйте вы на дьявола-искусителя, а ежели кто отъ него впередъ за это дѣло брюхомъ и подаркомъ вынесъ, то нечего его жалѣть. Мало нешто вы ему каждый годъ денегъ-то въ Быково перетаскаете — вотъ пусть это и будетъ изъ барышей.
— Триста рублей и семь ведеръ! ревѣлъ чей-то хриплый голосъ.
— Пять ведеръ достаточно… возражалъ тенористый голосъ.
— Пять ведеръ… Семь ведеръ… повторяли на всѣ лады ребятишки, какъ зрители, влѣзшіе еще далеко до начала схода на двѣ облетѣвшія отъ листа березы, помѣщавшіяся около пожарнаго сарая.
Кто-то изъ мужиковъ погрозилъ имъ кулакомъ, кто-то пустилъ въ нихъ камнемъ.
— Въ такомъ разѣ, господа почтенные мужички, надо будетъ у самого Аверьяна Пантелеева спросить, что онъ на это скажетъ — согласенъ или не согласенъ, проговорилъ староста и сталъ манить кабатчика, стоявшаго черезъ улицу у воротъ дома Буялихи.
Кабатчикъ перешелъ улицу и подошелъ къ сходу.
XV
Прежде чѣмъ заговорить, кабатчикъ Аверьянъ Пантелеевъ снялъ шайку и началъ креститься, потомъ поклонился міру впередъ, направо и налѣво, и началъ:
— Православные христіане! Мужички Божіи! Я радѣю деревнѣ, хочу выстроить зданіе на пользу общества, чтобы при немъ благообразіе въ видѣ украшенія… Къ примѣру, постоялый дворъ на манеръ гостинницы и лавочку… чтобы, значитъ, все подъ рукой… а вы тѣсните торговца во всемъ его составѣ… Я ли не дѣлалъ учтивости колдовинскимъ мужикамъ? Каждый, который, къ примѣру, приходилъ въ Быково, угощался съ полнымъ русскимъ гостепріимствомъ и уходилъ сытъ и пьянъ. Женское сословіе тоже получило свою учтивость отъ меня. А вы тѣсните. Я слышу крики: триста рублей… Я слышу словесность, чтобъ семь ведеръ вмѣсто пяти. Но, ей-ей, даже вотъ хоть сейчасъ побожиться, двѣсти рублей очень достаточно, коли ежели цѣлое оное зданіе черезъ десять лѣтъ въ вашу пользу… А что до семи ведеръ, то и далъ бы, православные, семь, не постоялъ бы изъ-за двухъ ведеръ, но по моей головной меланхоліи, только пять ведеръ и захватилъ. Желаете оныя получить полностію, прикажите выслать депутатовъ на дворъ къ Буялихѣ.
— Ты деньгами за два ведра въ придачу къ пяти додай! Мы деньгами возьмемъ… послышались голоса изъ группы мужиковъ, стоявшихъ около старосты.
Кабатчикъ развелъ руками.
— Не желаете помирволить торговцу — извольте… Красненькую накину. Гдѣ наше не пропадало! Ой-ой-ой, господа, какъ нынче трудно для комерціи! вздохнулъ онъ и полѣзъ въ карманъ за деньгами.
— Ничего намъ не надо! Ничего! Мы не пустимъ кабака въ деревню! Кабакъ впустить — надо себя загубить! кричали изъ группы, тѣснившейся около Антипа Яковлева.
— Милые мои собратья, господа мужички почтенные, славянскія вы души! Да нешто это кабакъ? Трактиръ во всемъ своемъ благолѣпіи, чтобы скромно и тихо по рюмочкѣ и чайку напиться. А то: кабакъ! Мысленность моя, чтобы по всей цивилизаціи завести… Пожалуйте десять рублей…
Кабатчикъ помахивалъ красненькой бумажкой, но ее никто не бралъ. Изъ группы мужиковъ около старосты кричали:
— Триста! Триста арендательскихъ! Не дозволимъ.
— Обижаете, православные… Вѣдь въ десять годовъ это тысяча лишняго. За что же, спрашивается, я вамъ всякую учтивость дѣлалъ, коли вы хотите меня зарѣзать! вопилъ кабатчикъ.
— Староста! Отбирай голоса и считай, кто за кабакъ и кто противъ! говорилъ Антипъ Яковлевъ. — Мы противъ, всѣ противъ… Братцы, становитесь ко мнѣ, кто противъ кабака.
— За триста пожалуй… а за двѣсти я не согласенъ… проговорилъ какой-то мужикъ въ группѣ старосты и перешелъ на сторону Антипа Яковлева.
Кабатчикъ испугался.
— Извольте… Пятерочку къ красненькой на угощеніе прибавлю!
Кабатчикъ опять полѣзъ за деньгами.
— Да что намъ въ пятеркѣ! Ты говори прямо: даешь арендательскихъ триста или не даешь? раздавались голоса за старостой. — Вѣдь и намъ тоже стоило бы вязаться! Триста, а нѣтъ, такъ и я супротивъ питейнаго. Въ самомъ дѣлѣ, ужъ коли ежели Бога забываемъ…
Второй мужикъ отдѣлился отъ группы старосты и двинулся къ группѣ Антипа Яковлева.
— Я и на вашу часовню пятьдесятъ рублевъ жертвую! Получайте! вскричалъ кабатчикъ.
— Въ годъ?
— Зачѣмъ же въ годъ? Пусть это будетъ единовременное происшествіе отъ щедротъ нашихъ.
— Староста! Дѣли народъ на согласныхъ и не согласныхъ… требовалъ Антипъ Яковлевъ.
Староста утерся рукавомъ и сказалъ, обращаясь къ своей группѣ:
— Православные! Что жъ давить-то человѣка? Вѣдь такой же христіанинъ. На часовню онъ полсотни жертвуетъ, такъ помирволимъ и мы ему. Ну, грѣхъ пополамъ… Возьмемъ съ него арендательскихъ двѣсти пятьдесятъ въ годъ, а на часовню особо.
— Пусть на часовню пятьдесятъ рублей въ годъ даетъ, тогда согласны.
— Православные, помилосердуйте!
Кабатчикъ воздѣлъ руки къ верху и сдѣлалъ умоляющую позу.
— Кто за двѣсти, кто за двѣсти пятьдесятъ? Выходи! кричалъ староста.
— Да мы ни за двѣсти, ни за триста не желаемъ кабака… стоялъ на своемъ Антипъ Яковлевъ. — Чего ты? Считай голоса, считай народъ.
Группа Антипа Яковлева увеличилась еще двумя мужиками. Староста медлилъ ставить вопросъ и считать голоса.
— Аверьянъ Пантелеичъ! Согласенъ ты на двѣсти пятьдесятъ или не согласенъ? задалъ онъ вопросъ кабатчику.
Кабатчикъ испуганно махнулъ рукой.
— Будь что будетъ. Пейте мою кровь… сказалъ онъ. — Пусть двѣсти пятьдесятъ.
Потъ съ него лилъ градомъ.
— И на часовню пятьдесятъ? послышалось изъ группы Антипа Яковлева.
— Пятьдесятъ, пятьдесятъ, но только въ нынѣшнемъ году. Что сказалъ, отъ того не отопрусь, отвѣчалъ кабатчикъ. — А пятнадцать рублевъ въ прибавку на угощеніе вотъ извольте получить.
Три мужика вышли изъ группы Антипа Яковлева и перешли къ группѣ старосты.
— Антропъ! Егоръ! Что жъ вы это дѣлаете! Бога вы не боитесь! укоризненно крикнулъ имъ Антипъ Яковлевъ.
— Чудакъ-человѣкъ! Да вѣдь онъ пятьдесятъ рублевъ на часовню жертвуетъ, отвѣчали мужики.
— Братцы! Не поддавайтесь ему. Самъ я вмѣсто евонныхъ денегъ пятьдесятъ рублевъ на часовню пожертвую! Его деньги грѣшныя, Богу не угодныя. Берите мои, но не поддавайтесь только.
Одинъ мужикъ опять перебѣлилъ къ Антипу Яковлеву.
— Сто на часовню жертвую! возгласилъ кабатчикъ. — Сто… Двѣсти пятьдесятъ арендательскихъ, пять ведеръ и пятнадцать рублевъ на похмелье.
— Вотъ такъ Аверьянъ Пантелеечъ! Вотъ такъ благодѣтель! Вотъ за часовню спасибо! За это тебѣ отъ Бога воздастся.
Три мужика ушли изъ группы Антипа Яковлева. Одного онъ было схватилъ за рукавъ, но тотъ вырвался. Кабатчикъ, замѣтивъ перевѣсъ на сторонѣ старосты, закричалъ:
— Староста! Да что же ты душу-то у меня вымучиваешь! Ставь вопросъ, считай голоса, да и пусть скорѣй рукоприкладствуютъ.
— Согласны, православные, двѣсти пятьдесятъ арендательскихъ и на часовню? спросилъ староста.
— Кто согласенъ? Вы согласны, да мы не согласны! Намъ хоть тысячу арендательскихъ давай — мы на кабакъ ни за что не согласны! размахивалъ руками Антипъ Яковлевъ. — Иванъ Максимовъ! Не грѣши! Иди къ намъ! Федоръ Антоновъ! Сюда!
Но мужики ужъ больше не переходили на сторону Антипа Яковлева. Мало того, пока онъ звалъ Федора Антонова, сзади его отдѣлился еще одинъ мужикъ и слился съ группой старосты. Староста считалъ голоса. Писарь провѣрялъ его счетъ. Кабатчикъ тяжело отдувался и, слѣдя за счетомъ, отиралъ потное лицо краснымъ платкомъ.
— Продали деревню, продали! крутилъ головой Антипъ Яковлевъ, уже предвидя малочисленность своей партіи. — Ну, да мы жалобу… Земскому начальнику жалобу… Даже выше… Я и къ исправнику поѣду, потому тутъ беззаконіе.
— Тридцать одинъ голосъ за заведеніе и тринадцать супротивъ заведенія! объявилъ староста. — Ну, Аверьянъ Пантелеевъ, поздравляю!
Аверьянъ Пантелеевъ, красный отъ волненія, лѣзъ въ свой бумажникъ, чтобы скорѣе разсчитаться въ пожертвованіи на часовню, и говорилъ старостѣ:
— Посылай скорѣй депутатовъ къ Буялихѣ на дворъ за боченкомъ-то съ водкой, посылай! Пусть пьютъ, да поздравляютъ другъ дружку. Ей-ей, вѣдь кругомъ облопошили меня. Никакъ нельзя такихъ денегъ давать, а только ужъ хотѣлось мнѣ очень Антипу Яковлеву носъ утереть, такъ вотъ я изъ-за чего.
Изъ калитки дома Буялихи показались два мужика. Они несли боченокъ водки.
1893