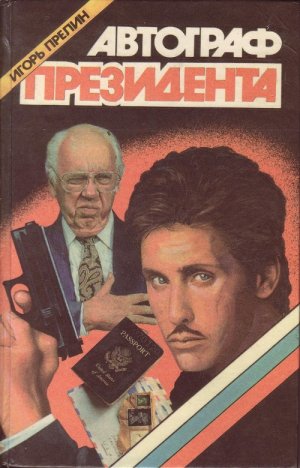
ОТ АВТОРА
Потомки, историки, которые будут определять место двадцатого столетия в истории человечества, наверняка будут испытывать немалые затруднения в выборе события или явления, которое могло бы претендовать на доминанту этого удивительного и бурного века и дать ему свое название. И наверняка предложат различные варианты: век великих социальных потрясений, самых разрушительных и кровопролитных в истории человечества войн, век ядерной энергии, космоса и кибернетики, век информации, человеконенавистнических теорий и осознания единства человечества.
Возможно, я пристрастен, но мне кажется, что кто-нибудь предложит назвать двадцатый век веком специальных служб, признав тем самым их роль и значение в политике, экономике, идеологии. Во всяком случае, если так случится, я совсем не удивлюсь: конечно, история нашего столетия не сводится лишь к истории борьбы разведок и контрразведок, но, право же, первая без последней теряет слишком много! И в самом деле, что такое век информации без разведки?!
Словом, объективный, всесторонний, глубокий и (хотелось бы!) профессиональный разговор о спецслужбах, их деятельности, роли и месте в современном политическом устройстве мира, обеспечении государственного суверенитета — это реальная потребность мирового сообщества. А профессиональный разговор без профессионалов — все равно что свадьба без жениха!
То, что такой разговор необходим и неизбежен, определяется еще одним важным обстоятельством.
В наследство от прошлого нам достался сложный и противоречивый мир.
В течение многих десятилетий средства массовой информации и другие государственные и общественные институты обеих противоборствующих систем — капиталистической и социалистической — упорно и неустанно создавали «образ врага». Начало этому процессу, как известно, положила «холодная война».
Теперь, в новую эпоху, когда в окружающем нас мире многое меняется и уже изменилось, все громче и настойчивее раздаются голоса о том, что вместо «образа врага» надо создать «образ друга», то есть видеть прежде всего не то, что когда-то разъединяло две системы, а то, что может их объединить, и на этом строить всю международную политику и межгосударственные отношения.
Такой подход, безусловно, больше отвечает современным реалиям, складывающимся в мире, и процесс всеобщего «братания» можно только приветствовать, хотя некоторые излишне эмоциональные и не слишком искушенные в политике люди, как мне кажется, несколько поспешили развенчать «образ врага», не уяснив как следует, каким же должен быть «образ друга». А друзья, как и враги, тоже бывают разные!
При всей кажущейся заманчивости идеи всеобщего «братания», я, как человек, тридцать лет прослуживший в органах государственной безопасности, не представляю себе, как могут «подружиться» сотрудники противоборствующих разведок и контрразведок.
Люди могут дружить независимо от их расы, идеологии, вероисповедания, отношения к сексуальным проблемам, рок-музыке или сюрреализму. Но, как показывает многовековой опыт, и в рамках одной политической системы специальным службам, даже при наличии делового сотрудничества, всегда найдется, что скрывать друг от друга.
Но если специальные службы не хотят или не могут «жить дружно», не стоит ли ликвидировать их тогда разом и повсеместно, чтобы они не мутили воду и не мешали стремлению народов к миру и всеобщему благоденствию?
Что ж, возможно, когда-нибудь так и произойдет!
Но для этого человечеству придется пройти еще длинный и, несомненно, трудный путь, и на пути этом будет много разочарований, крови и слез. А пока необходимо считаться с одним парадоксальным явлением: чем больше доверия между странами, тем совершеннее должна быть система взаимного контроля, потому что слишком многое брошено на карту и никто не хочет поставить под угрозу свои национальные интересы, безопасность своего государства.
А эффективный контроль, наряду с международными соглашениями, обменом информацией, официальными инспекциями и прочими «мерами доверия», невозможен без эффективной разведки! Вот и выходит, что разведка выступает как инструмент укрепления доверия между государствами и ее роль в век нового политического мышления будет неизбежно возрастать!
И тогда по мере сближения государств с различным общественным строем будет возрастать активность их разведывательных служб и совершенствоваться меры контрразведывательного противодействия.
Я уверен, ни у кого не вызывает сомнения, что в разговоре о спецслужбах никак не обойти Комитет госбезопасности, который, независимо от отношения к нему, бесспорно, являлся одним из самых могущественных и авторитетных ведомств и в течение многих лет оказывал определяющее влияние на расстановку сил в мире специальных служб.
За последнее время о советских органах государственной безопасности как в нашей стране, так и за рубежом написано и сказано столько, сколько не было написано и сказано за всю их предшествующую историю. Возникает законный вопрос: а можно ли сегодня сказать что-то новое, после того как на протяжении нескольких лет тема КГБ не сходила со страниц газет и журналов, и телевизионная передача без очередной «сенсации», связанной с КГБ, выглядела, как обед без десерта?
Но если проанализировать все эти публикации и передачи, то сразу бросается в глаза, что в них напрочь отсутствовал «взгляд изнутри», которым обладают только настоящие профессионалы, поскольку авторами подавляющего большинства из них являлись люди, как правило, весьма далекие от понимания специфики и проблем спецслужбы, наивно полагавшие, будто бы о разведке и контрразведке может судить каждый, кто прочитал хотя бы парочку «шпионских» романов.
В числе же авторов, которых можно отнести к профессионалам, к сожалению, попадались и такие, кто отнюдь не являлся гордостью и украшением КГБ, поскольку покинули они это ведомство не по своему желанию, а по причинам дискредитирующего и иного, не заслуживающего уважения характера. Жгучая обида или неудовлетворенные амбиции застилают глаза и совесть таким авторам, где уж тут рассчитывать на их объективность и честность!
Вот такие соображения и навели меня на мысль сесть за пишущую машинку и рассказать о том, чему довелось быть свидетелем или участником. И для начала я решил остановиться на двух темах, вызывающих, как мне кажется, большой общественный интерес: на сталинских репрессиях и разведке.
Конечно, в моем положении следовало бы писать, опираясь на подлинные события и реальных действующих лиц. Но по многим соображениям, в том числе из-за отсутствия согласия моих коллег и других ныне здравствующих людей быть упомянутыми в моем повествовании, а также до истечения «срока давности», я был вынужден отказаться от соблазнительной возможности обратиться к документальным материалам разведки и выбрать форму художественного повествования, придумав всех действующих лиц и изменив место и время действия, чтобы невозможно было провести исторические аналогии, а заодно использовав предоставленное автору право на художественный вымысел, хотя я искренне старался этим правом не злоупотреблять.
Да и не было необходимости напрягать воображение: за тридцать лет службы произошло столько всего примечательного, что главная проблема для меня состояла в том, какой факт удостоить внимания, а какой нет.
Мне остается только напомнить, что все, о чем я написал, происходило еще в те не столь давние времена, когда в нашей стране действовали другие законы и были совсем иные условия, и обе противоборствующие группировки отдавали предпочтение «образу врага», а об «образе друга» никто еще и думать не смел. И хотя с тех пор в стратегии и тактике «тайной войны», которая, несмотря на раздающиеся призывы к миролюбию, не прекращается ни на один день, мало что изменилось, я допускаю, что отдельные эпизоды нашего недавнего прошлого будут неоднозначно восприняты определенной частью читателей.
Найдутся, наверняка, и такие, чье отношение к описанным событиям разойдется со взглядами автора. Ну что ж, это закономерно! Действительно, многое из того, о чем я написал, как говорится, не для слабонервных, многие мои рассуждения, безусловно, далеко не бесспорны. Но я не стал ничего приукрашивать, памятуя, что мир специальных служб жесток и безжалостен по самой своей природе и далеко не каждый согласится и сможет в них работать прежде всего по своим нравственным убеждениям.
Но правда и то, что во всем мире на работу в спецслужбы принимают исключительно на добровольной основе и предлагают эту нелегкую и неблагодарную работу далеко не каждому!
Все, что я написал и еще напишу, я посвящаю моим товарищам по оружию, честно выполнявшим свой долг, — живым и павшим…
1
В том, далеком теперь, шестьдесят первом году я остался без отпуска.
Когда в самом начале января в отделе составлялся график отпусков, я ориентировался на календарь спортивных соревнований начинающегося года. Сроками городских и областных соревнований я, конечно, интересовался в меньшей степени, с участием в них не должно было быть никаких проблем, а вот выезд на соревнования в другие города был для меня связан с большими трудностями.
Поэтому с разрешения начальника отдела я запланировал себе отпуск на июнь с таким расчетом, чтобы иметь возможность принять участие в республиканских динамовских соревнованиях по современному пятиборью, а в случае удачного выступления остаться на тренировочный сбор и постараться попасть в состав участников всесоюзных соревнований.
Полтора года назад, переходя на работу в органы госбезопасности, я отлично понимал, что она потребует от меня полной самоотдачи и я не сумею тренироваться и выступать в соревнованиях, связанных с выездами в другие города, столь же интенсивно, как мог позволить себе во время учебы в университете. Теперь все было гораздо сложнее: я имел возможность хорошо подготовиться и принять участие в одном, максимум в двух соревнованиях в течение года, на большее у меня не было ни времени, ни сил. И таким соревнованием, конечно, было республиканское динамовское первенство.
Я ужасно любил спорт и все, что было с ним связано, но, несмотря на самый, так сказать, «боеспособный» возраст, без особых сожалений, сворачивал свою спортивную карьеру и не делал из этого трагедии. И, будучи новичком и добившись в спорте кое-каких успехов, я всегда рассматривал его как средство, а не как цель и никогда не собирался уделять ему больше времени, чем это было нужно для достижения определенных физических кондиций, а тем более посвящать ему всю жизнь, хорошо понимая, что спортивный век недолог и рано или поздно мне придется выбирать между спортом и основной работой.
И когда такой момент настал, я без колебаний пожертвовал значительной частью соревновательной программы, полагая, что поддерживать хорошую форму я смогу и без регулярного участия в соревнованиях, а выступить один-два раза в течение года мне всегда разрешат.
Конечно, со своей нынешней подготовкой мне было весьма трудно пробиться на соревнования всесоюзного уровня, поэтому я и решил провести отпуск на тренировочном сборе и прежде всего подтянуть верховую езду. Остальные виды, входящие в современное пятиборье, не вызывали у меня особого беспокойства.
Был у меня и резервный вариант на тот случай, если я неудачно выступлю на республиканских соревнованиях и не попаду на тренировочный сбор. В шестьдесят первом году первенство мира по современному пятиборью проводилось в Москве, и мне хотелось поприсутствовать на нем хотя бы в качестве зрителя, тем более что в сборной команде страны были динамовцы, за которых я болел.
И вот эти расчеты, да и весь спортивный сезон, не говоря уже об отдыхе, пошли прахом.
В феврале в областное управление КГБ поступила информация из Москвы, в которой сообщалось, что житель нашего города Цуладзе во время командировки в столице имел контакт с техническим сотрудником американского посольства, подозреваемым в принадлежности к Центральному разведывательному управлению США.
Конечно, и в Москве, и в нашем управлении понимали, что контакт контакту рознь, даже если это контакт с сотрудником американской разведки, и не всегда за этим кроется шпионаж. Методы работы ЦРУ были хорошо известны, в том числе и такой, как отвлечение внимания контрразведки на лиц, не имеющих к шпионажу никакого отношения.
Чтобы было ясно, о чем идет речь, постараюсь проиллюстрировать этот метод на конкретном примере.
Любой разведчик, работающий под прикрытием посольства своей страны, выходя в город для проведения операции по связи с агентом, отлично понимает, что контрразведка может организовать за ним наблюдение.
Чтобы избавиться от этой слежки, есть достаточно много самых разнообразных приемов, каждый из которых срабатывает в зависимости от того, какой тактики придерживаются те, кто следит за действиями разведчика.
Естественно, для контрразведчиков главное — выявить людей, сотрудничающих с иностранной разведкой и передающих сведения, которые составляют государственную тайну: поэтому контрразведка особенно тщательно фиксирует все контакты разведчика и берет их под наблюдение.
И вот один из отвлекающих приемов заключается в том, что разведчик начинает вступать в ложные контакты с посторонними людьми, рассчитывая тем самым дезориентировать контрразведку и отвлечь ее внимание и силы на «негодный объект». Конечно, это совсем не означает, что разведчик уподобляется Остапу Бендеру, который, пребывая в хорошем настроении, имел привычку задирать прохожих: он действует со знанием дела и очень изобретательно. Все обставляется, по возможности, очень естественно, чтобы контрразведка сделала вывод, что это не какие-то там случайные прохожие, а люди, которые могут иметь с разведчиком деловые отношения.
Одного он может остановить и спросить, как пройти на какую-то улицу; с другим перекинуться парой фраз на ходу; у третьего попросить прикурить и при этом сделать нечто такое, что дает контрразведке повод предположить, что во время этого контакта кто-то кому-то что-то передал; об четвертого он может «потереться» в каком-нибудь магазине или в метро, опять-таки инсценируя передачу или получение какого-то предмета, в котором, к примеру, может быть спрятана информация, ну и тому подобное. Все ухищрения даже перечислить невозможно.
И при этом разведчик выбирает не кого попало, а ориентируется на вполне определенный контингент граждан, которые по своему внешнему виду могут быть носителями государственных секретов.
Безусловно, ни один из подобных контактов не может остаться без внимания контрразведки. Всех, кто так или иначе общался с разведчиками, приходится брать под наблюдение и устанавливать их личность. К тому же число тех, кто следит за разведчиком, достаточно ограниченно, после каждого такого контакта ряды их редеют, и в итоге разведчику не составляет труда оторваться от слежки и беспрепятственно встретиться с тем, кто в действительности является его агентом.
Но и на этом дело не заканчивается, потому что контрразведка обязана не только установить личность человека, с которым разведчик вступал в контакт, но и разобраться, что общего могло быть между ними и что могло послужить причиной этого контакта. Причем сделать это надо так, чтобы проверяемый не догадался, что стал объектом внимания контрразведки. Это необходимо не только для того, чтобы с самого начала не провалить разработку возможного агента зарубежных спецслужб, но и для того, чтобы не испортить репутацию честного человека, ставшего объектом провокации со стороны иностранного разведчика.
Хорошо, если быстро удается установить, что это случайный прохожий, который не имеет никакого отношения к государственным секретам и хотя бы в силу этого обстоятельства не представляет интереса для иностранной разведки.
Хуже, если по случайному совпадению он окажется военнослужащим, сотрудником какого-то государственного учреждения, работником оборонного предприятия или закрытого научно-исследовательского института. Тогда на то, чтобы убедиться в его абсолютной непричастности к шпионажу, может потребоваться очень длительное время и кропотливая работа многих людей.
Но в информации на Цуладзе не было никаких ошибок или случайных совпадений, потому что американец перед встречей с ним усиленно пытался оторваться от наблюдения, а сам Цуладзе после кратковременного контакта в вагоне метро, во время которого они обменялись какими-то свертками, проявлял большое беспокойство и, используя довольно примитивные приемы, тоже пытался обнаружить, следят за ним или нет.
И все же не это было самым главным в этой истории. Главное состояло в том, что Цуладзе оказался ведущим инженером испытательной лаборатории особо режимного предприятия, а в свертке, который вручил ему американец и который Цуладзе сдал в камеру хранения, где в него и удалось заглянуть, лежало четыре тысячи рублей новыми деньгами, которые были в ходу всего полтора месяца.
Тут уж, как говорится, не хочешь, а обязан предполагать, что речь идет о действиях, смахивающих на передачу секретных сведений иностранной разведке за вознаграждение.
Контрразведывательным обеспечением того объекта, на котором работал Цуладзе, занималась группа из трех человек, самым молодым из которых был я; и с момента получения этой информации мы забыли, что такое выходные, потому что разработка человека, подозреваемого в шпионаже, требует от тех, кто в ней участвует, каждодневной работы и большого напряжения.
Не знаю уж, к счастью или нет, но довольно быстро удалось выяснить, что Цуладзе никакой не агент американской разведки, а человек, сколотивший небольшую, но весьма эффективно действовавшую группу, которая занималась хищением в больших количествах платиновой проволоки и продажей ее иностранцам, в числе которых был и этот американец, работавший на ЦРУ и при этом не забывавший и о собственном бизнесе.
В тот момент, когда Цуладзе «прокололся», в его группу входили еще два человека, и промышляли они уже довольно долго, что, безусловно, не делало чести нашему отделу, который был обязан еще в самом начале выявить и пресечь подобную деятельность. Все участники преступной группы являлись ведущими специалистами различных лабораторий и цехов, где полным-полно было всяких контрольно-измерительных приборов, в которых и применялась эта платиновая проволока, и занимались они незаконным промыслом с гораздо большим азартом, чем своей основной работой. Когда встал вопрос о том, чтобы дать этому групповому делу какое-то условное название, все сошлись на том, чтобы назвать его «Энтузиасты», поскольку это в наибольшей степени соответствовало той страсти к наживе, которая толкала этих людей к неизбежному финалу.
Таким образом, дело, начавшееся с подозрений в шпионаже, трансформировалось в банальную валютную спекуляцию в крупных размерах, потому что расхищалась эта платиновая проволоки килограммами.
Еще совсем недавно расследование такого дела было бы немедленно передано в прокуратуру, но Цуладзе и его сообщникам и на этот раз крупно не повезло, потому что примерно за год до того, как он совершил сделку с сотрудником американского посольства, дела такого рода были переданы в компетенцию органов государственной безопасности и нам пришлось вести его от начала и до конца. А конец таких дел, как известно, — арест, следствие и суд, после которого преступника ждет лишение свободы и конфискация имущества.
После возвращения из Москвы, где, как потом выяснилось, Цуладзе сумел наладить прочные связи с рядом иностранцев, занимавшихся в нашей стране незаконным бизнесом, сообщники, применяя различные технические новшества и рационализацию, на которые все они были большие мастера, стали собирать крупную партию платиновой проволоки и готовить очередную операцию по ее сбыту, надеясь на этом крупно подзаработать.
Допустить это мы не имели права, и было принято решение задержать того, кто в следующий раз поедет в Москву в качестве курьера, с поличным. Торопить мы их не могли, поэтому оставалось ждать, когда «честная компания» соберет необходимое количество платины и курьер двинется в путь.
Ожидание могло длиться сколь угодно долго, и уже в мае я понял, что мои спортивные планы на этот сезон по вине любителей легкой наживы вряд ли осуществятся.
Так и оказалось: сначала я не поехал на республиканские динамовские соревнования, а потом вообще остался без отпуска, потому что именно в августе Цуладзе и его ближайший «соратник» по преступному промыслу Юденков, возглавлявший лабораторию автоматики на том же особо режимном предприятии, решили приступить к реализации добытого незаконным путем драгоценного металла.
Встал вопрос о курьере.
Благодаря кое-каким усилиям с нашей стороны ни Цуладзе, ни Юденков по различным причинам поехать в Москву не могли. А предприняли мы эти усилия потому, что американец, связанный с ЦРУ, мог попытаться убедить их в том, что у работников режимного предприятия есть более простые и не такие хлопотные способы заработать себе на «сладкую жизнь», чем вытаскивать проволоку из приборов.
Так что рисковать нам совершенно не хотелось.
Оказавшись в затруднительном положении с реализацией продукции, Юденков предложил вовлечь в преступный бизнес своего младшего брата — бывшего футболиста местной команды мастеров, отчисленного в самом начале сезона за нарушения спортивного режима, а попросту говоря, за пьянку и дебош в одном из ресторанов. Оставшись, таким образом, не у дел и умея только играть в футбол и нарушать спортивный режим, Юденков-младший охотно согласился выступить в качестве курьера и после соответствующего инструктажа со стороны Цуладзе, отправился в железнодорожную кассу за билетом.
И вот в тот самый августовский день, когда в Москве открывался чемпионат мира по современному пятиборью, на котором мне так хотелось побывать, экс-футболист сел в московский поезд, имея при себе небольшую спортивную сумку. Вместе с ним в купе ехали майор Швецов, возглавлявший работу по делу «Энтузиастов», и я.
Ничего достойного упоминания в дороге не произошло. По прибытии в Москву мы «передали» Юденкова нашим московским коллегам, и в тот же вечер он был задержан ими при попытке вручить платину тому самому сотруднику американского посольства, с которым еще в феврале встречался Цуладзе.
После задержания обоих доставили в ближайшее отделение милиции, где и был составлен соответствующий протокол. Затем американца еще на некоторое время задержали для обстоятельной беседы — было бы просто неразумно не побеседовать по душам с подозреваемым сотрудником ЦРУ, попавшим в столь затруднительное положение, которое грозило ему очень большими неприятностями, — а Швецов, я и Юденков направились на вокзал.
Пока мы везли Юденкова обратно, были арестованы его брат, Цуладзе и еще один их сообщник.
Началось следствие, и теперь уже ни о каком отпуске до его завершения не могло быть и речи…
2
Но судьбе, видимо, этого оказалось мало, и она приготовила мне еще один сюрприз.
На этот раз все началось с вызова к начальнику отдела.
Когда я вошел в его кабинет, Василий Федорович разговаривал по телефону. Я сел за приставной столик и вдруг вспомнил, как ровно год назад, в такой же сентябрьский день впервые вошел в этот кабинет в качестве полноправного сотрудника отдела.
…Василий Федорович так же сидел за столом, в кабинете кроме меня было много сотрудников в форме и в штатском, они вполголоса переговаривались, рассаживаясь на стулья, стоящие вдоль стен, я с интересом посматривал на тех, с кем мне предстояло теперь работать.
Василий Федорович жестом установил тишину и сказал:
— Перед началом совещания я хочу представить нового сотрудника нашего отдела — лейтенанта Вдовина Михаила Ивановича…
Я поднялся со своего места.
Василий Федорович выдержал небольшую паузу, давая, видимо, всем собравшимся как следует меня разглядеть, и продолжил:
— Михаил Иванович — выпускник нашего университета, закончил контрразведывательную школу, можно сказать, потомственный чекист. Его отец был почетным сотрудником госбезопасности, в тридцатые годы принимал участие в ряде крупных операций, воевал в Испании, затем был заместителем начальника нашего управления. Мать Михаила Ивановича, всеми нами уважаемая Ирина Федоровна, командует нашей поликлиникой. — Василий Федорович тепло глянул на меня и добавил: — Надеюсь, что лейтенант Вдовин будет достоин светлой памяти своего отца и с честью продолжит дело, за которое тот отдал свою жизнь. Пожелаем ему успеха!
Василий Федорович подождал, пока я снова сяду на свое место, и деловым тоном произнес:
— А теперь перейдем к нашим текущим делам…
А еще через два дня он вручил мне служебное удостоверение и личное оружие.
По установившейся в управлении традиции эта церемония происходила в кабинете, являвшемся, по существу, небольшим музеем, экспонаты которого рассказывали об истории управления с момента образования губернской чрезвычайной комиссии. Здесь чествовали ветеранов, проводили встречи с молодыми сотрудниками, устраивали различные торжественные мероприятия.
На стендах были указаны фамилии сотрудников управления, погибших в боях с фашистами, висели фотографии участников Великой Отечественной войны и почетных чекистов.
А где-то в самом начале экспозиции, там, где находились стенды с фотографиями первых сотрудников губчека, висела фотография, дороже которой в этом небольшом зале для меня ничего не было. На ней был изображен человек в форме сотрудника госбезопасности тридцатых годов, с двумя орденами Красного Знамени на гимнастерке. Под фотографией была подпись:
ВДОВИН
Иван Михайлович
1902–1937
В конце краткой биографической справки было указано:
«В августе 1937 года погиб при выполнении специального задания».
Это был мой отец, с которым мы не виделись никогда…
Василий Федорович закончил телефонный разговор и обратился ко мне:
— Я вызвал вас вот по какому поводу… Мы предусмотрели в вашем плане освоения участка работы стажировку в следственном отделе, не так ли?
— Так точно, товарищ полковник.
Василий Федорович одобрительно кивнул.
— Вот я и хочу, параллельно с участием в расследовании дела «Энтузиастов», подключить вас к рассмотрению одного заявления… Оно поступило от гражданки Бондаренко Анны Тимофеевны. Ее муж, Бондаренко Григорий Васильевич, в тридцать седьмом году был прокурором нашего города и, по всей видимости, был незаслуженно репрессирован… — Василий Федорович потер пальцами виски и тяжело вздохнул. — Вот в этом вам вместе со старшим следователем Осиповым и предстоит разобраться.
Капитан Осипов был лучшим, на мой взгляд, следователем нашего управления и сейчас занимался делом «Энтузиастов».
— Если я правильно вас понял, Василий Федорович, речь идет о пересмотре дела Бондаренко?
Начальник отдела отрицательно покачал головой:
— В том-то и заключается проблема, что пересматривать нечего! В наших архивах нет никаких сведений о том, что прокурор был арестован или осужден. — Он помолчал немного и добавил: — Вообще на него нет никаких сведений!
— Как же его могли репрессировать, — недоуменно произнес я, — если при этом не осталось никаких следов?
— Могли, Михаил Иванович, могли! — тяжело вздохнул Василий Федорович. — В те годы человек мог исчезнуть бесследно! Нам уже не раз приходилось пересматривать такие дела.
Меня впервые подключили к пересмотру подобного дела, дела, которого, по сути, не было, и я, честно говоря, был в полной растерянности.
— С чего же тогда начать? — спросил я.
— Мы даем вас в помощь Осипову, чтобы вы проделали всю предварительную работу. Зайдите к нему, ознакомьтесь с заявлением Бондаренко и постарайтесь в возможно более короткие сроки во всем разобраться. О всех результатах сразу докладывайте мне.
— Есть, товарищ полковник! — ответил я и встал.
3
С заявлением Анны Тимофеевны Бондаренко я сумел ознакомиться только на следующий день, потому что Осипова не оказалось на месте: он проводил какие-то следственные мероприятия, связанные с расследованием дела «Энтузиастов».
К моему удивлению, Осипова совершенно не смущало то обстоятельство, что проверку этого заявления приходилось начинать на пустом месте: как и Василий Федорович, он уже привык к тому, что почти каждое дело, связанное с реабилитацией пострадавших в годы репрессий, ставило перед следователями массу всевозможных загадок и тайн, которые им предстояло разгадать.
— Вот что, Михаил, — сказал он, — прежде всего надо побеседовать с гражданкой Бондаренко и выяснить у нее все, что может пролить свет на судьбу ее мужа. Постарайтесь сегодня же с ней встретиться, а там будет видно.
Следуя его совету, во второй половине дня я поехал к Анне Тимофеевне. Она работала в школе и в это время, по моим расчетам, как раз должна была быть дома.
Жила Анна Тимофеевна практически в центре города, ехать было недолго, каких-нибудь пятнадцать минут на троллейбусе, и я не стал брать служебную машину. Да и вообще у нас было не принято на такие расстояния ездить на служебной машине.
Я быстро нашел нужный мне дом. Это было четырехэтажное кирпичное здание довоенной постройки с двумя подъездами. Я жил почти в таком же доме, только он стоял не в глубине двора, а выходил на улицу, и потому его наружные стены были оштукатурены и покрашены в бежевый цвет.
Поднявшись по лестнице на второй этаж, я остановился перед дверью шестнадцатой квартиры и уже собирался позвонить, как вдруг меня охватило какое-то странное чувство.
В те годы я еще скептически относился ко всякого рода предчувствиям, внутренним голосам и прочей, как мне казалось, мистике. Видимо, в моем тогдашнем возрасте и с моим скудным жизненным опытом еще рановато было обладать мало-мальски развитой интуицией. Но в этот раз, может быть, впервые в жизни, меня определенно охватило какое-то смутное беспокойство, словно там, за этой обитой потрескавшимся дерматином дверью, была скрыта тайна, разгадка которой будет иметь большое значение не только для обитателей этой квартиры, но и для меня самого.
Это длилось какое-то мгновение. Потом я не раз вспоминал об этой заминке у двери шестнадцатой квартиры, и мне казалось, что именно тогда я почувствовал: то, что вслед за этим произойдет, каким-то образом отразится и на моей судьбе!
Стряхнув с себя это секундное замешательство, я наконец решился и позвонил.
За дверью послышались шаги, щелкнул замок.
Дверь открыла женщина лет пятидесяти, со строгой гладкой прической и внимательными, неулыбчивыми глазами. Она молча посмотрела на меня, и, отвечая на ее вопросительный взгляд, я спросил:
— Это квартира Бондаренко?
— Да, молодой человек, — ответила женщина и, не дожидаясь моего второго вопроса, позвала: — Вера, это к тебе!
Из дальней комнаты вышла девушка моего возраста, внешне совсем непохожая на свою мать, и в то же время я сразу уловил какое-то несомненное сходство между ними.
Приглядевшись повнимательнее, я понял, что их роднит одинаковое выражение глаз, как будто чем-то встревоженных и в то же время очень доверчивых: такое сходство бывает не просто у родственников, а у людей, близких по духу и взглядам на жизнь.
Вера без особого интереса посмотрела на незнакомого ей человека, и меня, привыкшего к некоторому вниманию со стороны определенной части женской половины человечества, это даже несколько задело. Но я вспомнил, что пришел по делу, и поэтому, отбросив все посторонние мысли, деловым тоном произнес:
— Извините, Вера, но я не к вам. Я к Анне Тимофеевне.
С этими словами я протянул Анне Тимофеевне свое служебное удостоверение и пояснил:
— Я по поводу вашего заявления.
— Проходите, — даже не взглянув на мое удостоверение и нисколько не удивившись моему визиту, сказала Анна Тимофеевна, а затем обратилась к дочери: — Вера, помоги молодому человеку раздеться.
Пока я в прихожей снимал плащ, Анна Тимофеевна прошла в комнату.
Я последовал за ней.
Войдя в комнату, я увидел, что Анна Тимофеевна сидит за круглым столом, на котором стопками лежат ученические тетради.
Она отодвинула их в сторону и указала мне на стул:
— Садитесь, пожалуйста.
Проходя к столу, я успел бегло осмотреть комнату. Она была заставлена довоенной мебелью и служила, судя по всему, одновременно кабинетом и гостиной.
У меня сразу возникло ощущение, что время как будто остановилось в этой комнате лет тридцать назад. Единственными современными приметами были небольшая радиола на тумбочке и портрет Гагарина на стене.
Я сел на предложенный мне стул и, посмотрев в ожидающие глаза Анны Тимофеевны, сказал:
— Мне поручено рассмотреть ваше заявление… Могу я задать вам несколько дополнительных вопросов?
— Да, конечно, — с какой-то покорностью в голосе ответила Анна Тимофеевна и вздохнула.
Вера вошла в комнату следом за мной и остановилась у двери, оказавшись таким образом у меня за спиной. Из-за этого я испытывал определенное неудобство, так как не мог обращаться к обеим моим собеседницам. Но потом я подумал, что дело, по которому я пришел, касается прежде всего Анны Тимофеевны, и стал разговаривать только с ней.
— Дело в том, Анна Тимофеевна, — начал я, — что в наших архивах нет никаких сведений, подтверждающих, что ваш муж был репрессирован в тридцать седьмом году. Вообще нет данных о том, что он был арестован или находился под следствием.
Я ожидал, что Анна Тимофеевна удивится, услышав мои слова, но она, как ни странно, отнеслась к ним совершенно спокойно, как будто все, что я сказал, было ей давно известно.
Впрочем, так оно и оказалось.
— Да, я знаю, — сказала она и снова вздохнула. — Мне уже не раз это говорили.
— И вы все же настаиваете на том, что ваш муж, как вы пишете, «ушел в НКВД и не вернулся»? — спросил я. — Какие у вас для этого есть основания?
Анна Тимофеевна непроизвольным движением поправила стопку тетрадей на столе.
— Вы знаете… Простите, я не спросила ваше имя и отчество, — виноватым тоном сказала она.
— Михаил Иванович, — ответил я.
— Вы знаете, Михаил Иванович, — заметно волнуясь, заговорила она, — в те годы муж часто приходил поздно, тогда работали ночами, но он всегда мне звонил… А в тот день, когда он не пришел домой, он мне не позвонил…
Начало ее рассказа показалось мне каким-то сумбурным и несущественным, но я решил терпеливо выслушать ее, хорошо понимая, что сейчас творится у нее на душе.
— Около полуночи я позвонила ему на работу, но никто не ответил. Тогда я позвонила домой его помощнику, и он сказал мне, что Григорий Васильевич еще утром ушел в управление внутренних дел и в прокуратуру больше не возвращался.
— Но может быть, он сделал все свои дела, а потом уехал куда-нибудь в другое место? — предположил я.
Анна Тимофеевна отрицательно покачала головой:
— Нет, он должен был предупредить об этом своего помощника, потому что в тот вечер у него было назначено совещание с районными прокурорами. Оно не состоялось, и поэтому все разъехались по домам.
— Как вы полагаете, зачем он мог пойти в управление НКВД? — задал я довольно нелепый вопрос.
— Он часто туда ходил, — нисколько не удивившись моему вопросу, ответила Анна Тимофеевна. — Это была его служебная обязанность, он же осуществлял прокурорский надзор.
Ее спокойствие и рассудительность придали мне уверенности, и я, постепенно освоившись в непривычной для меня обстановке, спросил:
— Вы не помните фамилию помощника прокурора? Где он сейчас?
— Он погиб на фронте в сорок втором году, — с сожалением сказала Анна Тимофеевна. — А его жена жива, но она об этом ничего не знает.
Все сказанное Анной Тимофеевной могло, конечно, иметь какое-то отношение к происшествию с ее мужем, но все это пока были только косвенные данные.
— Анна Тимофеевна, может быть, исчезновение вашего мужа связано все же с какими-то другими обстоятельствами? — не слишком уверенно спросил я.
— Какие еще обстоятельства?! — горько усмехнувшись, воскликнула Анна Тимофеевна. — Я точно знаю, что он находился у вас… то есть, простите, в НКВД!
Я пропустил мимо ушей эту оговорку, хорошо понимая ее состояние, но ее обвинение в том, что к исчезновению мужа причастно управление НКВД, требовало доказательств, и поэтому я задал прямой вопрос:
— Откуда вам это известно?
Анна Тимофеевна ответила не сразу. Некоторое время она молчала, вспоминая, как все это было, и, по мере того как она вспоминала, ей все труднее было сдерживать подступившие слезы.
Наконец она сумела совладать со своими чувствами и стала рассказывать так, как если бы рассказывала кошмарный сон:
— Я всю ночь прождала мужа… Мы с ним дружно жили, он очень меня любил… Я тогда уже на восьмом месяце была. Не мог он просто так не прийти домой! И я сразу почувствовала, что с ним случилось что-то ужасное… Когда утром он не явился на работу, я сразу пошла в управление НКВД. Другие жены боялись туда ходить, а я пошла! Я вообще бы пошла за ним куда угодно!..
Ее опять стали душить слезы. Но и на этот раз она взяла себя в руки и продолжала:
— Меня принял дежурный, куда-то позвонил, а потом сказал мне, что никакими сведениями о моем муже они не располагают… Я вышла из управления, остановилась и плачу, плачу… Как чувствовала, что никогда больше не увижу моего Гришу…
Анна Тимофеевна прервала свой рассказ и тихо заплакала.
Слезы покатились по ее щекам, но она даже не пыталась их вытереть.
Я в замешательстве оглянулся и посмотрел на Веру. Она по-прежнему стояла у двери, только теперь была бледна до такой степени, что мне стало страшно за них обеих. Я ожидал, что она поможет матери успокоиться, но, увидев ее, понял, что ей самой вот-вот потребуется помощь.
Тем временем Анна Тимофеевна немного пришла в себя и снова заговорила:
— В это время кто-то трогает меня за плечо и спрашивает: «Что случилось, гражданка, почему вы плачете?» Подняла глаза и вижу: обращается ко мне такой высокий мужчина в форме, а рядом стоит еще один, пониже ростом… Я ему все и рассказала. Он спросил, кто мой муж, и говорит: «Я его знаю»… Успокойтесь, говорит, не плачьте, идите домой, я сейчас все выясню и обязательно вам позвоню. И так он мне это сказал, что я ему сразу поверила. Пришла домой и стала ждать. Так и уснула в кресле у телефона…
Анна Тимофеевна перевела дыхание и посмотрела в угол комнаты.
Я проследил за ее взглядом и увидел и этот телефон на столике у окна, и это старое кожаное кресло, в котором она, видимо, и коротала ту страшную ночь в ожидании известий о муже.
Анна Тимофеевна перевела взгляд на меня и закончила свой рассказ:
— А утром позвонила какая-то женщина и сказала, чтобы я не волновалась, что мой муж жив и здоров, что скоро он будет дома… Так я его и жду с тех пор.
В комнате воцарилось молчание.
Я долго не решался нарушить тишину, но меня интересовали не столько эмоции, сколько конкретные факты, и поэтому, учитывая состояние Анны Тимофеевны, я как можно деликатнее спросил:
— Этот человек назвал вам свою фамилию или должность?
— Нет, — отрицательно покачала головой Анна Тимофеевна, — он только сказал, что знает моего мужа.
— А вы помните, как он выглядел? — стараясь получить хоть какие-нибудь сведения, за которые можно будет зацепиться при проверке ее заявления, спросил я.
— Как я могу помнить, столько лет прошло?! — с сожалением развела руками Анна Тимофеевна. — Да и видела я его сквозь слезы.
Она посмотрела на меня долгим и каким-то пронзительным взглядом и извиняющимся тоном произнесла:
— Только вот поговорила я с вами, и показалось мне, что это с ним я разговариваю… Знаю, что это не так, а не могу избавиться от этого ощущения.
Я с недоумением посмотрел сначала на Анну Тимофеевну, потом на Веру. Она, как и я, тоже была заметно удивлена этим неожиданным признанием.
Еще не зная, как мне следует отнестись к тому, что сказала Анна Тимофеевна, я вдруг, как полчаса назад у двери ее квартиры, почувствовал какое-то странное беспокойство, словно весь этот разговор и в самом деле имел ко мне самое непосредственное отношение.
Повинуясь скорее какому-то неосознанному импульсу, чем обычной логике расследования, я задал Анне Тимофеевне вопрос, который представлялся мне весьма важным:
— А вы не можете хотя бы приблизительно сказать, когда это было?
— Почему приблизительно? — удивилась Анна Тимофеевна. — Я могу сказать совершенно точно. Такое не забывается!.. Мой муж не вернулся домой третьего июня, четвертого я разговаривала с этим сотрудником, а пятого мне звонила женщина.
Мое волнение нарастало, и я сделал над собою усилие, чтобы Анна Тимофеевна и Вера не почувствовали этого.
— А кто была та женщина, которая вам звонила? — спросил я, стараясь не встречаться взглядом с Анной Тимофеевной, чтобы по моим глазам она не догадалась, какое значение для меня имеет ее ответ.
— Не знаю, — разочаровала меня Анна Тимофеевна, — она не назвалась… Видимо, его сотрудница. Больше мне никто не звонил.
— А вы не пытались его найти? — спросил я, думая уже о том, какое неожиданное направление может принять это расследование, если подтвердятся мои предположения.
— Как его найдешь? — пожала плечами Анна Тимофеевна. — Фамилию я не знала, описала, как он выглядит, но мне сказали, что таких сотрудников в управлении нет.
Эти несущественные на первый взгляд детали тоже не противоречили очень зыбкой пока версии, которая постепенно приобретала все более четкие очертания.
— И вы больше в НКВД не обращались? — спросил я, догадываясь, что она мне ответит.
— Почему не обращалась? — безнадежно махнула рукой Анна Тимофеевна. — Примерно через неделю я пришла еще раз. И снова услышала: сведениями о вашем муже не располагаем. А потом родилась Вера.
Сказав это, Анна Тимофеевна посмотрела куда-то поверх моей головы. Я оглянулся и позади себя увидел висевшую над этажеркой фотографию мужчины лет тридцати с открытым, тонким лицом и строгими глазами.
— Это ваш муж? — задал я лишний вопрос, но Анна Тимофеевна совершенно спокойно, как будто перед ней сидел не слишком сообразительный ученик, кивнула:
— Да, это отец Веры.
Мне было страшно неловко сидеть спиной к Вере. И не столько потому, что это было невежливо с моей стороны — не я выбирал себе место, — сколько потому, что мне очень хотелось видеть ее перед собой. Воспользовавшись подходящим предлогом, я встал, подошел к этажерке и долго смотрел на фотографию ее отца, стараясь понять, каким был этот человек и на какие поступки был способен.
Не могу сказать, что я очень многое понял, но кое-какие выводы для себя все же сделал. И один из этих выводов заключался в том, что Вера была очень на него похожа и к тому же, как мне показалось, унаследовала от него не только черты лица, но и твердый, волевой характер.
Завершив этот осмотр, я вернулся к столу, повернул стул и сел так, чтобы видеть Анну Тимофеевну и Веру.
— А почему вы раньше не подавали на реабилитацию? — обратился я к Вере.
Вера посмотрела на мать, и та ответила:
— На какую реабилитацию? — В голосе ее прозвучало недоумение. — Мне никто и никогда не говорил, что мой муж осужден! Меня никто и никогда не называл женой врага народа! Считалось, что мой муж пропал, и все! Может, сбежал, бросил меня? Мне даже сочувствовали, — грустно усмехнулась она.
Я слушал ее и поражался необычности ситуации, в которой она оказалась. Но еще больше в ее рассказе меня удивляло другое: исчез человек, и не какой-нибудь малоизвестный, а прокурор города, и никому не было дела до его исчезновения!
Теперь мне было совершенно ясно, что, несмотря на отсутствие каких-либо сведений о судьбе прокурора, сам факт, что его не искали те, кто в первую очередь обязан был это делать, означал, что они знали, где он и что с ним случилось! А значит, Анна Тимофеевна обращалась именно туда, куда и следовало обращаться!
А она тем временем продолжала свой рассказ:
— Я по-прежнему работала в школе. Нам и квартиру эту оставили. Другим было хуже!
Да, безусловно, тем, кого нарекли «членом семьи изменника Родины», бросили в тюрьму, отправили в лагерь или выслали, тем было намного хуже. Что же спасло Анну Тимофеевну от подобной участи? То, что она смирилась со своей судьбой и перестала ходить в управление? То, что все последующие годы она молчала?
— Правда, во время войны нас уплотняли, — чтобы быть до конца объективной, вспомнила Анна Тимофеевна, — но тогда у всех жили эвакуированные. Потом они уехали… Так мы и живем здесь с Верой.
Я посмотрел на Веру: она стояла почти в той же позе у двери, слушала мать, и ее лицо было задумчивым и печальным.
А мне вдруг подумалось, что у нас с ней много общего.
И в самом деле: мы оба родились в тридцать седьмом году, оба не застали наших отцов, оба не знали, где и при каких обстоятельствах сложили они свои головы, нас обоих воспитывали матери и то время, в которое мы жили. Если бы мы встретились с Верой в другой обстановке, эти совпадения, возможно, могли бы как-то нас сблизить или хотя бы расположить друг к другу.
Но это в другой обстановке. А сейчас между нами была целая пропасть! Я чувствовал это по тому отчужденному взгляду, который Вера изредка бросала в мою сторону. И дело было, конечно, не в том, что она не догадывалась, как много общего в наших с ней судьбах, а в том, что я был сотрудником ведомства, которое, по ее убеждению, несло ответственность за все, что произошло с ее отцом!
Эти размышления не мешали мне слушать то, что говорила Анна Тимофеевна:
— После Двадцатого съезда многие писали, а я не стала. Все равно его не вернуть, да и пенсия за него мне не нужна… А имя его так и осталось незапятнанным, для меня это было главным!
«Каким же чувством собственного достоинства надо обладать, чтобы принять такое решение?! — подумал я. — И где она взяла силы, чтобы столько лет нести в себе эту боль?!»
Словно прочитав мои мысли, Анна Тимофеевна кивнула на дочь:
— Я бы и сейчас не стала писать, да вот Вера настаивает. Она институт на будущий год заканчивает, на работу будет устраиваться, а до сих пор в анкете ничего о своем отце написать не может. Пишет только, что с тридцать седьмого года отец с семьей не живет и где находится — неизвестно.
Я слушал Анну Тимофеевну, смотрел на Веру, а мысли мои сконцентрировались уже вокруг той догадки, которая возникла, когда Анна Тимофеевна намекнула на какое-то сходство между мной и тем сотрудником управления, который обещал помочь ее беде…
4
Выйдя из подъезда, я сразу направился к кабине телефона-автомата: мне нужно было срочно позвонить, и нетерпение подгоняло меня.
Звонить из квартиры Анны Тимофеевны я не мог, и не столько потому, что после такой беседы звонить по личному вопросу было не совсем удобно, сколько потому, что этот вопрос имел самое непосредственное отношение к самой беседе.
Теперь, когда никто не смотрел на меня и никому не было дела до моего душевного состояния, я позволил себе немного расслабиться и дать волю своим чувствам. Мое волнение было столь сильным, что я только с третьей попытки сумел правильно набрать номер: дважды мой палец срывался с наборного диска, и мне приходилось начинать набор снова.
После первого же гудка на другом конце провода подняли трубку, и женский голос ответил:
— Медсанчасть слушает.
— Ирину Федоровну, пожалуйста! — стараясь хоть немного сдержать свое нетерпение, попросил я, надеясь, что мать еще на работе.
— А кто ее просит? — полюбопытствовал женский голос, и я коротко ответил:
— Сын!
Ожидание было, мучительным. Наконец в трубке раздался голос матери:
— Я слушаю.
— Мама, это я! — возбужденно сказал я в трубку. — Ты будешь на месте?
— Да, а в чем дело? — поинтересовалась мать.
— Я минут через пятнадцать буду у тебя, пожалуйста, никуда не отлучайся, — сказал я. — Мне надо срочно с тобой поговорить!
— А что случилось? — встревожилась мать.
— Это не телефонный разговор, — ответил я и, увидев, как из-за угла показалось свободное такси, бросил: — Все, бегу!
Но побежал я зря, потому что такси, как всегда, когда очень спешишь, промчалось мимо, не реагируя на мои красноречивые жесты.
Пока подошел троллейбус, я успел проклясть все на свете и не раз помянуть нехорошими словами руководство предприятий общественного транспорта, пожалев, что не взял служебную машину.
Так, чертыхаясь при каждой заминке на остановке или у светофора, я все же минут через двадцать выскочил из троллейбуса возле медсанчасти областного управления КГБ, над проходной которой висело красное полотнище со словами «Достойно встретим XXII съезд КПСС!».
Показав несколько удивленному столь поздним визитом вахтеру свое удостоверение, я поднялся на второй этаж и постучал в дверь кабинета с табличкой «начальник поликлиники».
Женский голос за дверью разрешил мне войти, я открыл дверь и увидел мать. Она стояла у окна и курила. Окинув меня внимательным взглядом, мать покачала головой и сказала:
— Ты неважно выглядишь… Давай-ка измерим давление.
Я, наверное, и в самом деле выглядел не очень, но мне сейчас было не до моего самочувствия.
— Подожди, мама, — сказал я. — Я в полном порядке.
Не слушая меня, мать погасила сигарету в стоящей на подоконнике пепельнице, прикрыла форточку и направилась к столу, где у нее всегда наготове был тонометр.
— Садись! — тоном, не терпящим возражений, приказала она.
Я сел на стул, но от измерения давления категорически отказался.
— Ты чего такой возбужденный? — спросила мать.
— Помнишь, — вместо ответа сказал я, — ты рассказывала мне, как отец уезжал в Москву?
Мать удивленно подняла брови:
— Помню, конечно… А что?
— Когда это было? Какого числа? — не отвечая на ее вопрос, спросил я.
— Четвертого июня.
— Это точно? Ты ничего не путаешь? — на всякий случай уточнил я.
— Как я могу путать?! — изумилась мать. — Но объясни мне наконец, в чем дело!
— Сейчас я тебе все объясню, — пообещал я, вскочил со стула и возбужденно заходил по кабинету. — Отец перед отъездом просил тебя позвонить одной женщине?
— Откуда тебе об этом известно? — тоже безотчетно начиная волноваться, спросила мать.
— Значит, просил! — удовлетворенный тем, что моя догадка подтвердилась, сказал я и сразу как-то успокоился. Подойдя к матери, я уже более спокойным тоном спросил:
— Он сказал тебе, кто она?
— Почему ты меня об этом спрашиваешь, Михаил? — строго посмотрела на меня мать.
Теперь, когда я знал главное, можно было сесть и обсудить все спокойно.
— Мама, мне поручили рассмотреть одно заявление, — стал я посвящать ее в суть дела. — Его написала женщина, муж которой исчез в тридцать седьмом году при неизвестных пока обстоятельствах. Я должен во всем разобраться!
По глазам матери я понял, что она готова отвечать на мои вопросы. И тогда я повторил вопрос, на который она мне не ответила:
— Ты помнишь, как зовут эту женщину? Кто она?
Я спрашивал так, как будто не знал, кто та женщина, которая написала заявление с просьбой сообщить ей о судьбе мужа. Но сделал я это совершенно обдуманно: мне было очень важно, чтобы мать сама назвала эту женщину, в этом случае ее информация будет абсолютно достоверной!
Но мать разочаровала меня:
— Ни тогда, ни сейчас я этого не знаю, — с сожалением сказала она. — Отец написал мне ее телефон, назвал имя и отчество. Но я давно забыла.
Я подумал, что отец мог специально не сказать матери, с кем ей придется разговаривать. Бондаренко был хорошо известным в городе человеком, и, возможно, отец проявлял заботу о его репутации на тот случай, если все происшедшее с ним можно было как-то исправить.
А еще мне пришла в голову мысль, что, не сообщая матери ничего сверх того, что было ей необходимо, чтобы выполнить его поручение, отец не хотел делать ее сопричастной к тому делу, которым был обязан или вынужден заниматься сам. Но это, конечно, только в том случае, если эта сопричастность могла иметь для матери какие-то нежелательные последствия.
Чтобы во всем этом разобраться, я должен был задать ей еще несколько вопросов.
— Когда ты ей звонила? — спросил я.
— Отец уехал четвертого, я звонила на следующий день, значит, пятого.
Все, что она сказала, поразительно сходилось с тем, что поведала мне Анна Тимофеевна. Такие невероятные совпадения происходят раз в сто лет!
— Как ты думаешь, — задал я следующий вопрос, — почему именно тебя он попросил об этом?
— Этого я тоже не знаю, — пожала плечами мать. — Я в тот день дежурила в стационаре. Мне передали, что он просит меня срочно выйти в приемный покой…
Дверь ее кабинета приоткрылась, и в нее заглянула молоденькая девушка в белом халате и такой же шапочке. Увидев, что у начальника поликлиники посетитель, она не стала входить и закрыла дверь.
— Когда я вышла к нему, — продолжила она прерванный появлением медсестры рассказ, — я сразу поняла, что он ужасно возбужден. Я его никогда таким раньше не видела. Он держал себя в руках, конечно, но я-то его знала!
И так она это сказала, как будто прожила с отцом не три месяца, а целую вечность!
Мать тряхнула головой, словно отгоняя все, что могло помешать ей рассказать главное, и продолжила:
— Он сказал мне, что через час уезжает в Москву по важному делу, чтобы я не волновалась, что через два-три дня он вернется… Я же тебе не раз это рассказывала!
Это было так. Действительно, рассказ матери об отъезде отца в Москву я слышал много раз. Особенно часто она рассказывала об этом в детстве, когда мне хотелось как можно больше знать об отце. Но в этом рассказе, конечно, никогда не упоминалось о последнем поручении отца, и все, что мать сейчас об этом рассказывала, я слышал в первый раз.
Мать оглянулась на звук открывшейся двери: на пороге снова стояла девушка в белом халате, в руках у нее была папка с документами.
— Что тебе. Света? — спросила мать.
— Заключения военно-врачебной комиссии, — объяснила Света и стрельнула глазами в мою сторону.
— Оставь, я потом подпишу, — недовольно сказала мать и строго посмотрела на медсестру.
Света, не слишком озабоченная недовольством начальника поликлиники, положила папку на стол, бросила на меня еще один быстрый взгляд и не спеша, чтобы я имел возможность разглядеть ее с ног до головы, вышла из кабинета.
— Вот негодница! — незлобиво воскликнула мать, когда за Светой закрылась дверь. — Любой предлог найдет, лишь бы повертеть хвостом у тебя перед глазами!
Но меня сейчас ничто не могло отвлечь от дела, которым я занимался.
— Что еще он тебе говорил? — нетерпеливо спросил я. — Вспомни, пожалуйста, это очень важно!
Мать открыла папку, взяла ручку, но потом отложила ее в сторону и закрыла папку. Подумав немного, она медленно заговорила:
— Потом он сказал, что обещал позвонить одной женщине, но может не успеть, и просил меня подстраховать его… Да, еще он просил меня говорить с ней как можно мягче, успокоить ее, потому что она ждет ребенка…
Это была решающая деталь! Можно перепутать даты — ведь, что ни говори, а прошло больше двадцати четырех лет, — но ни придумать, ни случайно угадать, что в момент телефонного разговора собеседница была беременна, просто нельзя!
Теперь я тоже мог более свободно задавать свои вопросы, не опасаясь, что случайно наведу мать на нужный ответ и тем самым узнаю не то, что она знает, а то, что мне хотелось бы узнать.
— И он просил тебя сказать ей, что ее муж жив и здоров, да? — спросил я.
— Да, — коротко ответила мать, перестав удивляться моей осведомленности.
— Так… А потом? — поинтересовался я.
— А что потом? — грустно переспросила мать. — Потом он обнял меня, погладил по животу — я уже ждала тебя, — и собрался уходить… Но затем вернулся и сказал: «Если со мной что-нибудь случится, знай, что я всегда…»
Она замолкла и отвернулась. Я представлял, чего стоят ей эти воспоминания.
Но мне безумно нужно было знать все, что было связано с этим последним разговором матери с отцом, и поэтому я спросил:
— Что «всегда»?
— Ничего, — тихо ответила мать. — Он так и сказал: «Знай, что я всегда…» и сделал вот так… — И мать подняла правый кулак, как это делали интернационалисты.
Потом она в свою очередь спросила:
— Так ты объяснишь мне, что все это значит?
Я обнял ее за плечи, хотя, зная ее характер, не располагавший к подобным нежностям, делал это очень редко.
— Конечно, мама, — заверил я ее. — Только позднее. А сейчас мне надо идти в управление, меня ждут…
5
Однако поговорить с начальником отдела о результатах моих бесед с Анной Тимофеевной и матерью в этот вечер мне не удалось. Когда я пришел в управление, Василия Федоровича уже не было.
Разговор с ним состоялся на следующий день.
Выслушав мой доклад, он сказал:
— Ну что ж, по результатам этих бесед составьте справки и передайте их Осипову. И вместе с ним подумайте, что предпринять дальше.
— Товарищ полковник, — официальным тоном сказал я и заметил, как Василий Федорович с некоторым удивлением поднял на меня глаза. — Видимо, меня следует отстранить от расследования этого дела.
— На каком основании? — недоуменно спросил он.
— В нем оказался замешан мой отец, — объяснил я ему свою позицию.
— Что значит «замешан»? — переспросил Василий Федорович. — Вы считаете, что он сыграл негативную роль в судьбе Бондаренко?
Это был принципиальный вопрос! Если бы ответ на него был утвердительным, то меня не только следовало бы немедленно отстранить от расследования, но и вообще мог встать вопрос о возможности моей дальнейшей работы в органах госбезопасности.
— Нет, — твердо ответил я и добавил: — Скорее, напротив.
— Вот именно, — Василий Федорович с удовлетворением откинулся на спинку кресла. — Поэтому я не вижу никаких оснований для вашего отвода. К тому же вам поручен только розыск и предварительный опрос свидетелей. Все следственные мероприятия будет проводить Осипов.
— Ясно, товарищ полковник! — Я официально начал этот разговор и должен был официально его закончить. — Разрешите идти?
Но Василий Федорович не торопился меня отпускать. Он долго и внимательно смотрел мне в глаза, словно пытаясь заглянуть в самую душу. Потом, в отличие от меня, совсем даже неофициально, а скорее по-отечески сказал:
— Вот что, Михаил… Ты уж позволь мне сегодня так тебя назвать? Чувствую я, что в этом непростом деле и дальше все будет очень непросто. Поэтому мне хочется, чтобы ты, именно ты довел его до конца! Ты меня понял?
— Понял, Василий Федорович! — тоже совсем неофициальным тоном ответил я.
— Тогда действуй! — напутствовал меня Василий Федорович…
Вернувшись в свой кабинет, я сразу позвонил Осипову и сказал, что хотел бы доложить ему о результатах встречи с Анной Тимофеевной Бондаренко.
— Я сейчас занят, — ответил Осипов, — у меня допрос. Как только закончу, я тебе позвоню.
Я уже собрался положить трубку, как вдруг из нее снова донесся его голос:
— А впрочем, если свободен, заходи, поможешь мне кое в чем разобраться.
И только тут я вспомнил, кого сегодня собирался допрашивать Осипов. Поколебавшись немного, я ответил:
— Хорошо, иду!
А колебался я потому, что присутствие на этом допросе не только не могло доставить мне никакого удовольствия, но и было просто неприятно. И все же я согласился, но не из желания чем-то помочь Осипову — он и без моей помощи мог распутать любой клубок, — а потому, что мое присутствие могло быть полезно тому, кого он допрашивал.
Как только я вошел в его кабинет, сидевший за отдельным столиком человек бросил на меня быстрый взгляд, осекся на полуслове и низко опустил голову.
Это был Евгений Хрипаков, проходивший по делу «Энтузиастов» в качестве одного из поставщиков платиновой проволоки. А опустил он голову при моем появлении потому, что я был для него не просто сотрудником госбезопасности, а самым близким другом его детства. Естественно, как и он для меня.
Когда-то мы жили с ним в одном дворе, потом он переехал в другой район, но продолжал учиться в нашей школе, не хотел со мной расставаться. Десять лет мы просидели с ним на одной парте и все эти годы были неразлучны, хотя кое в чем наши интересы иногда и не совпадали.
Так, в шестом классе я записался в секцию плавания, а он начал заниматься фехтованием. В девятом классе он все же переманил меня в фехтование, и мы вместе выступали в юношеских соревнованиях, но потом, когда я уже учился в университете, а он в политехническом институте, я ушел в современное пятиборье, а он так и остался верен фехтованию.
Но и это было еще не все! В его жену Марину я был когда-то влюблен, это была моя первая любовь, безответная и полная драматизма. Собственно, я первый познакомился с Мариной, когда мы заканчивали десятый класс, а потом с ней познакомился Женька. Он не отбивал ее у меня, это Марина влюбилась в него с первого взгляда, Женька не был виноват передо мной, и на нашей дружбе это никак не отразилось.
А произошло это знакомство так.
Первого мая каждого года проводилась городская легкоатлетическая эстафета, в одном из забегов которой выступали школьные команды.
Мы с Женькой учились в мужской школе, поскольку в те годы существовало только раздельное обучение, а команды были смешанными, поэтому мы объединялись с одной из женских школ нашего района и выступали единой командой.
И вот в день эстафеты мужская часть команды, в которую входил и я, в сопровождении нашего учителя физкультуры отправилась в женскую школу, где нас распределили по этапам, а оттуда уже все вместе мы пошли к месту проведения эстафеты.
Я сразу обратил внимание на какую-то незнакомую девчонку, которую поставили бежать самый ответственный, последний этап. Всех быстроногих девчонок из женской школы мы отлично знали, потому что каждый год бегали с ними эстафету, участвовали в других соревнованиях, встречались на школьных вечерах, но эту я видел в первый раз.
По дороге к месту старта я навел справки и узнал, что это Марина из девятого класса, что она всего месяц назад вместе с родителями приехала из другого города, а на последний этап ее поставили потому, что она четырехсотметровку пробегает меньше, чем за минуту.
Мне достался этап где-то в середине эстафеты, но я уговорил нашего учителя физкультуры, и он поставил меня на предпоследний этап. Таким образом, мне предстояло передавать эстафетную палочку этой самой Марине.
Ни до этой эстафеты, ни после я, пожалуй, не бежал так, как на этом предпоследнем этапе. Мне передали эстафетную палочку пятым, но я готов был умереть, но прибежать первым!
Первым мне прибежать все же не удалось, но я «сделал» троих и почти достал четвертого. Потом я понял, что надрывался зря: Марина буквально выхватила у меня эстафетную палочку и, уже через какие-нибудь пятьдесят метров обогнав свою соперницу по этапу, финишировала первой.
Так состоялось знакомство. На следующий день я пригласил ее на наш школьный вечер, и там она познакомилась с Женькой.
Ему понадобилось три года, чтобы разглядеть Марину, и то исключительно благодаря ее настойчивости. Все это время я, испытывая ужасные мучения, служил чем-то вроде связующего звена, на котором держалась наша маленькая компания, и втайне надеялся, что Марина разлюбит Женьку и мне удастся наконец добиться ее взаимности.
Но взаимности добилась она, и, хотя теперь мне больше не на что было рассчитывать, я не изменил нашей дружбе.
А потом у меня появилось новое увлечение, заслонившее мою первую любовь, и с тех пор между нами не происходило ничего, что могло бы омрачить наши отношения.
Однажды, когда они были уже женаты, Женька признался мне, что ему всегда нравилась Марина, но он видел, что я в нее влюблен, и поэтому так долго не решался начать за ней ухаживать…
И вот теперь мой лучший друг сидел перед старшим следователем Осиповым с низко опущенной головой и давал показания, вернее, делал все возможное, чтобы их не давать.
— Так вот, Михаил Иванович, — обратился ко мне Осипов, — Хрипаков утверждает, что ни о какой платине он понятия не имеет, никакому Цуладзе ее не продавал, а его показания — чистейшей воды оговор и попытка свалить на него свою вину!
И Осипов, и я знали, что это заведомая ложь. И она опровергалась не только показаниями Цуладзе и других соучастников преступления, но и имевшимися в деле оперативными данными. Но поскольку оперативные данные не могли быть предъявлены суду, Осипов сказал:
— Ну что ж, Хрипаков, придется провести очные ставки и изобличить вас во лжи!
Хрипаков продолжал молчать, подавленный не столько словами Осипова, сколько моим приходом.
Поняв, что в моем присутствии Осипову вряд ли удастся добиться правдивых показаний и не желая доводить дело до очной ставки и подвергать Женьку унизительной процедуре вынужденного признания, я воспользовался тем, что он по-прежнему не смотрел на нас, и жестом показал Осипову, что хотел бы поговорить с Хрипаковым один на один.
Осипов согласно кивнул мне головой и сказал:
— Михаил Иванович, побудь, пожалуйста, здесь, а я пойду и распоряжусь о вызове Цуладзе.
Когда он вышел из кабинета, Хрипаков поднял на меня глаза и с горечью сказал:
— Я много слышал о коварстве сотрудников госбезопасности, но никогда не думал, что ты можешь ради своей карьеры предать друга!
— Это я предал друга? — возмутился я.
— А кто же? — презрительно посмотрел на меня Хрипаков. — Ты что, не мог предупредить меня, ну, намекнуть как-нибудь, что Цуладзе и его компания у вас под колпаком?
— Намекнуть? — переспросил я. — Да за такие намеки у нас отдают под трибунал!
— Значит, на то, что я сяду, тебе наплевать? — дрожащим голосом спросил Хрипаков.
— Об этом надо было думать раньше! — жестко сказал я, поскольку у меня к Женьке было гораздо больше претензий, чем у него ко мне.
— Но неужели ты не мог предпринять какие-то меры, чтобы я не угодил сюда? Или чекистам не положено выручать друзей из беды? — исподлобья посмотрел на меня Хрипаков.
— Предпринять, говоришь? — едва не взорвался я, совсем позабыв, что мы разговариваем в кабинете следователя. — А ты помнишь, как за несколько дней до полета Гагарина я приходил к тебе на завод?
Хрипаков ничего мне не ответил и только закрыл лицо руками…
Первая информация о том, что Хрипаков вступил в преступный сговор с Цуладзе, передал ему двухсотграммовый моточек платиновой проволоки и намерен передать еще, была получена в самом начале апреля.
Мне трудно было в это поверить, но сведения были получены с помощью оперативной техники, и их достоверность не вызывала никаких сомнений.
Когда на очередном совещании обсуждался этот вопрос и впервые прозвучала фамилия Хрипакова, я сразу заявил, что это мой друг, и, несмотря на очевидность его причастности к преступной группе, дал ему положительную характеристику. Другой характеристики я не мог ему дать не только потому, что он был моим другом, а потому, что за все время нашей дружбы он не совершил ни одного дурного поступка и всегда отличался большой порядочностью и честностью.
Примеров этому я мог бы привести множество. В спорте тоже, при желании, можно жульничать, особенно в тех видах, где результат оценивается не в метрах, секундах или очках, а в победах над конкретными соперниками, как в борьбе, боксе или фехтовании.
Я знал многих фехтовальщиков, которые умышленно «отдавали» бои, чтобы потом в нужный момент получить их обратно, или покупали победы при выполнении мастерского норматива. Но я твердо знал, что Женька никогда этим не занимался и звание мастера спорта заработал честно.
Как он мог изменить своим принципам и совершить преступную сделку, мне было совершенно непонятно, поэтому я попросил разрешения встретиться с Хрипаковым и попытаться склонить его к добровольной явке с повинной. Мне почему-то казалось, что стоит ему меня увидеть, как он одумается и сам расскажет мне о том, в какую неприятную историю попал. Я верил в нашу дружбу и хотел дать ему шанс избежать неминуемого наказания.
И еще, если уж быть до конца откровенным, я надеялся, что с помощью Хрипакова, пользующегося у Цуладзе и его компаньонов полным доверием, нам удастся многое прояснить в не совсем понятном пока для нас механизме совершения преступления и выявить неизвестных нам участников.
После некоторого раздумья Василий Федорович сказал:
— Хорошо, Михаил Иванович, давай попробуем. Только твердо условимся, по своей инициативе никаких разговоров с Хрипаковым на эту тему не вести, он должен сам рассказать тебе все и попросить совета.
Я понимал озабоченность Василия Федоровича, но такое предупреждение было излишним. Я и сам отлично понимал, какая ответственность ложится на мои плечи. И не только потому, что своими неграмотными действиями я мог провалить всю разработку. Еще важнее было то, что планировалось использовать намечавшуюся сделку как повод для «делового» разговора с сотрудником американского посольства, удачный исход которого сулил возможность приобретения источника информации в ЦРУ.
Мы обсудили тактику моей беседы с Хрипаковым, и в тот же день я поехал на машиностроительный завод.
Женька работал в сборочном цехе.
Мы встретились у одного из стапелей, на котором собирали баллистическую ракету.
— Ну, как дела? — чтобы как-то начать трудный для меня разговор, произнес я банальную фразу.
— Дела? Как видишь! — гордо сказал Хрипаков и бережно погладил полированную поверхность ракеты. — Говорил тебе, поступай в политех, работали бы сейчас вместе. Такие дела впереди — дух захватывает!
На сборке было очень шумно, и Хрипаков предложил пройти в лабораторию и там поговорить.
Не успел он открыть дверь своего маленького кабинета, как раздался телефонный звонок.
Хрипаков подскочил к столу и схватил трубку.
— Да, Хрипаков слушает, — по-деловому ответил он и тут же перешел на дружеский тон. — А, это ты? Гамарджоба, Гиви, — поздоровался он по-грузински, оглянулся на меня и жестом предложил мне сесть. — Пока нет… Я понимаю, но есть проблемы… Нет, столько я не могу… — Он опять посмотрел на меня, и мне показалось, что Хрипаков пытается говорить так, чтобы я ничего не понял. — Пол-литра смогу… Ну, пол-литра, понимаешь?.. Да, не один я… Ну, если по два пятьдесят, постараюсь… Ну все, я занят!
Он закончил разговор и повесил трубку. Я ожидал, что Хрипаков сейчас объяснит, с кем и о чем он разговаривал, но он вместо этого сказал:
— Что-то ты совсем тренировки забросил. Пора тебе завязывать с пятиборьем, раз времени не хватает. Возвращайся снова в фехтование.
Я понял, что разговора на интересующую меня тему не получится. Впрочем, мне и так все было ясно: только что при мне (надо же!) он обещал Цуладзе (именно его звали Гиви) добыть полкилограмма платиновой проволоки, а когда Цуладзе, видимо, повысил цену до двух рублей пятидесяти копеек за грамм, согласился добыть и больше.
К тому времени нам уже было известно, что Цуладзе и его компаньоны, скупая платиновую проволоку, платили, как правило, по рублю за грамм, хотя сами сбывали ее по пять, а то и по шесть рублей. Но это касалось маленьких партий, а Хрипаков мог сразу добыть около килограмма, и для него, видимо, было сделано исключение.
Мы поболтали еще несколько минут на разные нейтральные темы, потом его вызвали к начальнику цеха, и мы расстались.
— Заходи как-нибудь вечером, — сказал Хрипаков на прощание, — а то совсем пропал. Марина на тебя обижается.
— Вечером я, Женя, не могу, — сказал я, стараясь не смотреть ему в глаза, чтобы он не догадался, что я сейчас о нем думаю. — Занят я по вечерам. Но забегу обязательно.
Я так и не сдержал свое слово: через некоторое время мы получили данные, что Хрипаков передал Цуладзе около шестисот граммов платиновой проволоки, и после этого какие-либо личные отношения между нами стали невозможны…
— Так ты помнишь? — не дождавшись его ответа, снова спросил я. — А ведь я тогда приходил, чтобы выручить тебя. А ты в моем присутствии разговаривал с Цуладзе и обсуждал с ним предстоящую сделку! Так кто из нас предал нашу дружбу, я или ты?!
Хрипаков оторвал руки от лица и жалобным голосом сказал:
— Прости меня, Миша. Я влип в эту историю как последний дурак!
Мы надолго замолчали.
Что касается меня, то я умышленно ничего не говорил: мне хотелось, чтобы Женька сам решил, как ему поступить.
Но сам он решить, видимо, не мог и потому спросил:
— Что же ты посоветуешь мне теперь?
— Расскажи все как есть, — убежденно сказал я. — Извини, но другого совета я тебе дать не могу!
— Если я расскажу все, что со мной тогда будет? — заискивающе глядя на меня, спросил Хрипаков. — Меня посадят?
— Не знаю, — честно сказал я. — Это решаем не мы, а суд. Но то, что с секретной работы в любом случае тебе придется уйти, это точно!
Я знал, что Женька очень любил свою профессию и гордился тем, что имеет непосредственное отношение к покорению космоса, но лишение его допуска к совершенно секретной работе в этой ситуации было неизбежно. И виноват в этом был он сам.
Я видел, как он подавлен, и мне стало искренне жаль его. Впрочем, я уже давно жалел его. Мне только непонятно было, как он мог пойти на преступление, и я спросил:
— Зачем тебе все это было нужно?
— Да надеялся раздобыть пару тысчонок. Марине в декабре рожать, квартиру обещали дать в конце года, вот и хотелось сразу ее обставить. Обставил! — в сердцах сказал он и выругался…
Когда вернулся Осипов, я не захотел присутствовать на продолжении допроса и ушел.
Все, что Хрипаков мог сообщить по делу, мне уже было известно из оперативных материалов и показаний основных обвиняемых, а присутствовать при том, как кается твой друг, — что в этом приятного? Да и смущать Хрипакова не хотелось: выворачивать душу наизнанку лучше без близких друзей!
Через два часа Осипов позвонил мне и попросил зайти.
Хрипакова в его кабинете уже не было.
Я не стал интересоваться, как проходил допрос и какие показания он дал, и Осипов, понимая мое состояние, тоже не сказал мне об этом ни слова, резонно полагая, что если я захочу, то могу взять протокол и прочитать сам.
Я вручил Осипову справки о беседах с Анной Тимофеевной Бондаренко и Ириной Федоровной Вдовиной, которые я успел составить, пока ждал в кабинете его вызова.
Прочитав их, Осипов сказал:
— У нас в городе в настоящее время проживают всего пять человек, работавших до войны в управлении НКВД. Из них один совсем спился, и разговаривать с ним, я думаю, бесполезно. Второго, его фамилия Котлячков, я допрашивал по подобным делам много раз и, похоже, все из него вытряс. Но он никогда даже не упоминал фамилию Бондаренко. А третий, некто Семенкин, категорически отказывается что-либо рассказывать. По крайней мере, до сих пор все попытки заставить его говорить заканчивались неудачей.
— Неужели на него нельзя как-то воздействовать? — спросил я.
— Видишь ли, его прямое участие в репрессиях не доказано. А косвенную свою вину он искупил на фронте, инвалид войны. Вот такая ситуация, — развел руками Осипов. — И все же начни с него. Кто знает, может, тебе он что-нибудь и расскажет…
6
Два последующих дня я занимался проверкой и уточнением показаний Цуладзе, братьев Юденковых и их сообщников. Только на третий день в этой работе образовалось «окно», и мы с Осиповым решили использовать это время для встречи с Семенкиным.
Напутствуя меня перед беседой с бывшим сотрудником НКВД, Осипов сказал:
— Имей в виду, Михаил, как только разговор заходит об их службе в органах, они сразу ничего не помнят. Или много говорят на общие темы, стараются увести в сторону, но стоит затронуть вопрос, касающийся их личного участия в репрессиях, и каждое слово из них приходится клещами вытаскивать! Понимаешь, у них патологический страх перед тем, что спустя двадцать пять лет их уличат в каком-то ранее скрытом ими преступлении или как-то по-новому оценят их проступки, за которые они не понесли наказания, и предъявят им счет.
— И что вы мне посоветуете? — спросил я.
— Я думаю, — после некоторого раздумья ответил Осипов, что тебе надо провести этот разговор в форме частной беседы. Не изображай из себя этакого проницательного следователя. Держись как можно естественнее. Знаешь, у молодости да неопытности тоже есть свои преимущества в делах такого рода. Так что дерзай!
Осипов ободряюще улыбнулся, похлопал меня по плечу и добавил:
— И главное — что бы он ни говорил, как бы ни вилял, не теряй самообладания. Забудь, что перед тобой человек, на руках которого, возможно, невинная кровь! Никаких эмоций! Твоя задача — нащупать пункты, по которым мы его потом обстоятельно допросим…
Через пятнадцать минут я вышел из управления, сел в оперативную «Волгу», назвал водителю дяде Гене адрес, и мы поехали к Семенкину.
Дядя Геня, или Геннадий Семенович, работал в управлении с сорок пятого года после демобилизации из армии, тогда же мы с ним и познакомились: он катал меня на машине, и с той незабываемой поры я всегда называл его дядей Геней. Впрочем, поскольку дядя Геня был старше всех в управлении по возрасту, так же обращались к нему многие сотрудники, независимо от занимаемой должности.
Еще совсем недавно он водил старенькую «Победу», был страшно к ней привязан, считал лучшей автомашиной в мире, потому что она напоминала ему фронтовой «опель», и никак не хотел пересаживаться на двадцать первую «Волгу», находя в ней массу всевозможных недостатков. И, наверное, долго бы еще упирался, если бы не одно событие, после которого ему пришлось сменить наконец испытанную, исколесившую вдоль и поперек всю область «Победу» на новенькую голубую «Волгу», на которой, как ему казалось, только по городу и ездить.
А случилось это так.
В самом начале шестьдесят первого года главный конструктор завода, выпускающего бытовую технику, в составе группы специалистов ездил в ФРГ и привез оттуда кучу всяких рекламных проспектов и прочей документации, которую отдал на изучение своим заводским коллегам.
По просьбе женской части конструкторского бюро привез он также два журнала мод, а заодно несколько иллюстрированных журналов, потому что многим было очень интересно знать, как живет народ в побежденной Германии. Реакция на все эти иллюстрации была, конечно, сдержанной, другого в то время и ожидать было нельзя, поскольку люди не привыкли открыто высказывать свое отношение к условиям жизни на Западе, если это отношение отличалось от официальной пропаганды, но суть дела не в этом.
Спустя некоторое время этот главный конструктор рассказал майору Швецову, с которым его связывали деловые отношения, что в разделе юмора одного из иллюстрированных журналов кто-то отчеркнул ногтем одну очень смешную фразу.
В том, что кто-то оценил немецкий юмор на шестнадцатом году после безоговорочной капитуляции, безусловно, не было бы ничего удивительного, если бы не одно обстоятельство: по утверждению главного конструктора, во всем конструкторском бюро и в подчиненных ему службах и цехах завода, где мог побывать журнал, не было ни одного человека, владеющего немецким языком, тем более в такой степени, чтобы понять довольно труднопереводимую игру слов и заключенный в них смысл.
Подобное утверждение главный конструктор сделал на том основании, что, кроме него, никто не мог работать с привезенной им технической документацией, и специально для этого пришлось нанять по трудовому соглашению переводчицу из другой организации.
Из этой информации следовало, что на заводе бытовой аппаратуры (за пределы завода никто этот журнал не выносил) работает некто, свободно владеющий немецким языком, но по какой-то причине скрывающий этот факт от своего окружения.
Какую контрразведку не заинтересует подобный сигнал?
Его оперативная проверка началась с определения круга людей, в руках которых побывал иллюстрированный журнал. Затем из этого круга исключили тех, кто родился и вырос в нашем городе и области и жизнь которых прошла, как говорится, у всех на глазах. Потом выделили тех, в биографии которых были какие-то неясные пробелы или сомнительные места, кто в годы войны был в плену и на оккупированной территории, в образе жизни и поведении которых были подозрительные моменты.
В результате этой многомесячной, кропотливой работы удалось значительно сузить число потенциальных знатоков немецкого языка и приступить к их всесторонней и тщательной проверке.
К весне дело, начавшееся с продавленной ногтем черты под двумя строчками в западногерманском иллюстрированном журнале, закончилось тем, что все оперативные мероприятия были сконцентрированы на одном человеке, который, кстати, имел характерную и довольно редкую привычку оставлять ногтевые отметины в журнале или книге.
Прошло еще полтора месяца, и стало окончательно ясно, что этот человек — мастер испытательной лаборатории Алексей Сергеевич Лобода на самом деле никакой не Лобода и не Алексей Сергеевич, а Мажура Василий Охримович, родившийся в двадцать первом году в Херсонской области, в июле сорок второго года добровольно сдавшийся в плен и поступивший затем на службу к гитлеровцам.
Правда, сначала он попал в лагерь для военнопленных, но уже на следующий день одним из первых вышел из строя, когда начальник лагеря спросил, кто желает служить фюреру и великой Германии.
Вместе с ним тогда из строя вышли не только предатели, как он. Были и те, кто надеялся обмануть фашистов, вырваться из плена, а потом найти возможность уйти к партизанам или пробраться к своим. Но у гитлеровцев была отработана система вербовки, и она не оставляла шансов тем, кто пытался их обманывать: у немцев был надежный способ сразу и безошибочно определять тех, кто перешел на их сторону с намерением служить верой и правдой.
Начальник лагеря распорядился вывести из строя военнопленных столько же человек, сколько согласилось с его предложением, и приказал «добровольцам» расстрелять их.
Многие из тех, кто пошел на хитрость, отказались расстреливать своих товарищей, и тогда хитрецов в назидание другим поставили в одну шеренгу со смертниками, а Мажура и оставшиеся вместе с ним их расстреляли.
Так Мажуру и остальных предателей повязали кровью, и назад дороги им уже не было.
Вскоре Мажуру, как знавшего немецкий язык (а он владел им с детства, поскольку вырос среди бывших немецких колонистов, проживавших до войны в Херсонской области), определили переводчиком в одну из эсэсовских зондеркоманд. Сначала он участвовал в допросах и казнях патриотов, затем ему поручили более ответственное задание: из таких же, как он, изменников Родины создавались ложные партизанские отряды, которые грабили население, мародерствовали, подрывая доверие к партизанскому движению, боролись с забрасываемыми в тыл гитлеровских войск разведывательными группами.
В сорок четвертом году Мажура закончил разведывательно-диверсионную школу и под фамилией Лобода был переброшен в глубокий советский тыл. И тут он струсил во второй раз: не желая рисковать и предвидя неизбежное поражение фашистской Германии, решил дождаться конца войны.
Ему удалось отсидеться, со временем он сменил свои липовые документы на настоящие, закончил техникум, женился и спокойно работал на заводе, тщательно скрывая от всех свое кровавое прошлое и знание немецкого языка. Дело в том, что настоящий Лобода, погибший в концлагере, биография которого послужила основой для его легенды, разработанной еще в разведывательно-диверсионной школе, родился в глухой белорусской деревушке, дотла сожженной карателями, с бывшими колонистами никогда не общался и немецкого языка знать не мог.
Все послевоенные годы Мажура был в розыске, но найти его не удавалось, потому что в абверовской школе он учился под вымышленной фамилией, под какими установочными данными его забросили в советский тыл, было неизвестно, как и то, находится ли он на территории нашей страны, оказался ли после войны за границей и жив ли вообще.
Но его все равно искали, как искали всех тех, кто в годы войны совершил преступления против своего народа, пока наконец он не допустил такой промах, оставив ногтем след в иллюстрированном журнале.
На верный взгляд разоблачение Мажуры может показаться чистейшей случайностью, но это только на первый взгляд, потому что наблюдательность главного конструктора случайностью не была, а явилась результатом профессиональных консультаций майора Швецова.
Когда все это выяснилось и была получена санкция на арест Мажуры, он, как и все предыдущие годы, вместе с группой заводских механизаторов работал в одном из колхозов на самой границе с соседней областью. Это несколько осложняло его арест и доставку в управление, но препятствовать поездке Мажуры в колхоз не стали, так как убедительного предлога для этого не было, а любое непродуманное действие с нашей стороны могло его насторожить и провалить всю операцию.
Была создана оперативная группа, в которую вошли Швецов, Осипов и я. В конце дня на старенькой «Победе», за рулем которой сидел дядя Геня, мы под видом рыбаков прибыли в отдаленный колхоз. Пока Швецов ходил в деревню на рекогносцировку, мы раскинули палатку, на вечерней зорьке наловили рыбки, сварили уху, а рано утром без лишнего шума арестовали Мажуру.
Мы привели его в правление колхоза, и, как и положено в подобных случаях, Осипов предъявил ему постановление на арест, в котором были указаны его подлинные имя и фамилия, статьи преступлений, в совершении которых он подозревался, и сразу допросил его по одному из эпизодов его преступной деятельности.
…Осенью сорок третьего года зондеркоманда, в которой служил Мажура, в одном из лесов на территории Могилевской области блокировала заброшенную в тыл гитлеровских войск советскую разведывательную группу. В течение нескольких дней каратели преследовали эту группу, пока не окружили обессилевших разведчиков в полуразрушенном сарае на территории лесничества.
Разведчикам предложили сдаться, но на это предложение они ответили огнем.
И тогда каратели подожгли сарай.
Разведчики отстреливались до тех пор, пока не рухнула крыша и не погребла их под горящими досками. И только радистка, ослепшая от огня и дыма, уцелела в углу сарая, где товарищи укрыли ее на тот случай, если им удастся отбиться: они не просто надеялись уцелеть в этом огненном аду, но и продолжить выполнение задания, а потому до последней возможности берегли радистку, без которой вся их работа в тылу врага становилась бессмысленной и бесполезной.
Радистку выволокли из-под обгоревших бревен и долго пытали, требуя выдать сведения о других разведывательных группах, но она не сказала ни слова, и тогда Мажура лично повесил ее на воротах лесничества.
Мажура не стал запираться. Он понимал, что те, кто его разыскал, знают не только это, но и многое другое из его преступного прошлого. Он признался нам, что все послевоенные годы ждал разоблачения, но время шло, и он постепенно уверовал в свою безопасность. Беспокойство охватывало его только тогда, когда в печати появлялись сообщения о судебных процессах над фашистскими прихвостнями.
Единственное, о чем жалел этот душегуб, что шесть лет назад он женился и теперь жена и дочь узнают, кто он на самом деле.
Закончив допрос, мы посадили Мажуру на заднее сиденье машины, Швецов и я сели по бокам, Осипов занял место рядом с дядей Геней, и опергруппа двинулась в обратный путь.
Дядя Геня виртуозно преодолел все рытвины и ухабы проселочных дорог и примерно через час выбрался на покрытое щебенкой шоссе, мало-мальски приведенное в порядок к предстоящей уборочной кампании.
Шоссе проходило в каких-нибудь пятидесяти метрах от железной дороги, отделенной от него лесозащитными насаждениями. С другой стороны шоссе раскинулись колхозные поля.
Я слегка вздремнул под стук щебенки по днищу машины, тесно прижавшись к бывшему карателю Мажуре и всем телом ощущая, как его время от времени бьет нервная дрожь.
Из этого полудремотного состояния меня вывел сильный рывок машины в сторону.
Открыв глаза, я в первое мгновение увидел спину дяди Гени, отчаянно пытавшегося удержать неуправляемую машину в нужном направлении.
— Держись, мужики, скат лопнул! — успел крикнуть нам дядя Геня, и в следующее мгновение машину стало разворачивать против часовой стрелки и сносить на полосу встречного движения.
А по этой самой полосе, как назло, именно в эту минуту угораздило мчаться какому-то самосвалу.
Чтобы избежать с ним лобового столкновения, дядя Геня принялся выворачивать руль вправо, чего в этой ситуаций никак нельзя было делать, как нельзя было и резко тормозить на этой коварной щебенке.
Но другого выхода у дяди Гени не было, из двух зол ему приходилось выбирать меньшее.
Нас развернуло в противоположную сторону, но избежать столкновения с самосвалом все же не удалось: он ударил «Победу» в левое заднее крыло, машину стало кидать из стороны в сторону, и мы опомниться не успели, как она оказалась на крыше, а мы все вверх ногами.
Больше всех, как и следовало ожидать, досталось Осипову. Как потом выяснилось, сначала он сильно ударился о приборный щиток, потом обо что-то головой и на какое-то время, видимо, потерял сознание.
Дядя Геня не пострадал, потому что он больше всех был готов к такому исходу и заблаговременно приготовился. Но ему мешал руль, и он, кряхтя, пытался вытащить из-под него ноги и уйти со стойки на голове.
Левая задняя дверь, возле которой сидел Швецов, от удара открылась, и он вывалился из машины на кучу щебенки, ободрав лицо и руки.
Меня сложило пополам, и я застрял в таком неудобном положении, что никак не мог понять, где у меня что, а когда наконец сообразил и огляделся, то увидел, что Мажуры в машине нет.
Он отделался легче всех, потому что сидел между мной и Швецовым. Выбравшись из перевернувшейся машины, он оценил беспомощность своих конвоиров и понял, что судьба дает ему шанс спасти свою жизнь. Рядом была железная дорога, по ней с небольшими интервалами проходили пассажирские и товарные поезда, водитель самосвала, из-за которого мы оказались вверх колесами, видимо, испугавшись, что придется отвечать за неумышленное столкновение, скрылся за шлейфом пыли, других машин на шоссе не видно — все было на стороне Мажуры.
Но для того, чтобы беспрепятственно скрыться, ему необходимо было завладеть оружием, добить нас, а уже потом двигаться в сторону железной дороги. Только в этом случае у него появился бы резерв времени, чтобы успеть раствориться в необъятной стране, пока его не объявят в розыск.
Он попытался открыть переднюю дверцу, чтобы забрать у потерявшего сознание Осипова пистолет. Но дверцу заклинило, и тогда Мажура бросился к Швецову, сидевшему на куче щебенки и вытиравшему грязным рукавом кровь с разбитого лица, ударом ноги опрокинул его на спину и навалился на него, пытаясь залезть под брезентовую ветровку и извлечь из спецкобуры пистолет.
Но Швецов сопротивлялся, ворочался под ним, пытаясь сбросить его с себя, и Мажура не успел добраться до пистолета, потому что именно в этот момент я, невредимый, только слегка помятый, наконец-то выполз через ту же дверь, через которую за минуту до этого выбрался Мажура.
Убегать Мажуре было уже поздно, он, видимо, трезво оценивал свои возможности, особенно с учетом разницы в возрасте и наших физических кондиций. К тому же я тоже был вооружен, а пуля, хоть она и дура, но зато, как известно, летает очень быстро и способна догнать самого быстроногого бегуна.
И тогда Мажура оставил Швецова лежать на куче щебенки и пошел на меня…
7
За мою жизнь, насколько я помню, мне всего два раза было по-настоящему страшно.
В первый раз это случилось летом сорок второго года. На всех фронтах шли жаркие бои, раненых было очень много, и мать сутками пропадала в госпитале. Отводить меня в детский сад и забирать оттуда было некому, и она отправила меня в деревню к бабушке, матери отца, которая тогда еще была жива.
И вот там со мной и произошла эта ужасная история.
Однажды, выйдя гулять на деревенскую улицу, я из детского озорства погнался за гусенком. Погоня не удалась, гусенок шмыгнул под ворота, а меня атаковала стая взрослых гусей.
Ростом они были повыше меня и, окружив меня с трех сторон и прижав к воротам, так страшно шипели и так больно щипали меня своими клювами, что я просто обезумел от ужаса и разорался на всю деревню.
Прибежали мальчишки постарше, отогнали гусей, а я еще долго залечивал их весьма болезненные укусы, и потом не было для меня зверя страшнее, чем гусь.
Может быть, поэтому, когда в детском саду начинали игру в «гуси, гуси, га-га-га, есть хотите?» и т. д., я всегда просил назначить меня волком и, когда мне выпадало такое счастье, на полном серьезе занимал позицию «под горой», и оттуда с таким азартом кидался на своих сверстников, как будто и в самом деле собирался отомстить им за настоящих гусей.
Второй случай произошел, когда мне было пятнадцать лет.
Однажды с приятелями мы пошли на водную станцию «Динамо» и устроили состязание, кто нырнет дальше. Мне, конечно, как и всем мальчишкам в этом возрасте, очень хотелось отличиться, тем более, что я тогда уже плавал на уровне второго взрослого разряда, поэтому мне не составляло труда переплыть под водой пятидесятиметровый бассейн от стенки до стенки.
Но, прыгнув в воду первым, я не учел, что на реке есть течение и, что самое главное, это не закрытый бассейн, здесь нет стенки, а дощатые бортики уходят под воду всего на неполный метр.
И вот не успел я отсчитать количество гребков, которых обычно хватало на то, чтобы проплыть под водой пятьдесят метров, как в глазах вдруг резко потемнело.
Я сразу даже не понял, что произошло, но уже в следующую секунду до меня дошло, что я нырнул под противоположный бортик.
И вот тогда мне стало страшно.
В почти полной темноте, рискуя каждую секунду зацепиться за якорные тросы или удариться о сваю или еще что-нибудь, я решил не поворачивать назад, а плыть вперед до тех пор, пока снова не увижу солнечный свет.
От страха я сбился с курса и поплыл не поперек, а вдоль платформы. Так, почти теряя сознание от недостатка кислорода, я проплыл еще метров двадцать. Когда я вынырнул на другом конце платформы, то еще несколько минут не только не мог выбраться на дощатый настил от усталости и пережитого страха за свою жизнь, но даже не мог крикнуть.
А тем временем мои приятели, которые шли за мной вдоль бортика и видели, как я ушел под понтоны, сразу оценили грозящую мне опасность, а когда через определенное время я не дал знать о себе, были в полной уверенности, что я застрял под водой.
Одни из них, включая Женьку Хрипакова, попрыгали в воду, пытаясь оказать мне помощь, другие побежали за спасателями.
Спасатель пришел, когда я, немного отдышавшись, уже выбрался на настил, и хотел надрать мне уши, но, увидев, в каком я состоянии, и оценив расстояние, которое я пронырнул, только удивленно свистнул и похлопал меня по спине.
— Держись, парень, — уважительно сказал он, — с таким характером не пропадешь!
С тех пор я боялся только одного: струсить…
Увидев двинувшегося на меня Мажуру, я не то чтобы испугался, но мне стало как-то не по себе от его искаженного лютой ненавистью лица и осознания того факта, что он собирается меня убивать.
— Стреляй, Миша! — крикнул мне дядя Геня, сумевший все же опустить стекло дверцы и теперь пытавшийся протиснуться в это отверстие, которое было явно тесновато для его комплекции.
— Не стрелять! — прохрипел Швецов, очнувшийся от удара Мажуры, но все еще неспособный встать на ноги.
Я и сам понимал, что стрелять в этой ситуации нельзя.
Конечно, мне ничего не стоило в считанные мгновения выхватить пистолет, но Мажура был нужен нам живым и невредимым. Он должен был еще дать показания на всех, кого знал по зондеркоманде и разведывательно-диверсионной школе и кто скрывается сейчас, как он сам скрывался столько лет. Он должен был рассказать также обо всем, что натворил в годы войны, обо всех карательных акциях, обо всех уничтоженных разведывательных группах и разгромленных партизанских отрядах: еще столько людей числилось пропавшими без вести, бесследно исчезнувшими при невыясненных обстоятельствах, а он мог внести ясность в обстоятельства гибели некоторых из них и помочь установить такую необходимую истину.
Доставать пистолет, чтобы просто попугать его, тоже не имело смысла: Мажура правильно оценил ситуацию и не хуже меня со Швецовым понимал, что стрелять мне нельзя. Более того, я ничуть не сомневался, что пистолет в моих руках не остановил бы его. Он знал, что пощады ему не будет, по его тяжелому взгляду исподлобья было ясно, что он намерен бороться до конца.
Конечно, отказываясь от применения оружия, я шел на большой риск. Рассчитывать на помощь моих старших товарищей я не мог, надеяться на то, что подъедет какая-нибудь машина, тоже не приходилось: неизвестно, кто в этой машине будет ехать и захочет ли он или они вмешиваться в наш конфликт.
И если бы Мажура взял надо мной верх, он успел бы натворить новых бед и снова на долгие годы, возможно, исчез бы из нашего поля зрения.
Но обо всем этом я думал потом, когда в управлении проводился разбор этого происшествия и его возможных последствий и действия каждого из нас получили соответствующую оценку.
А тогда я просто занял боевую позицию и решил посостязаться с Мажурой во владении приемами нападения и защиты без оружия, а заодно посмотреть, чему его там учили в немецкой разведывательно-диверсионной школе.
По его стойке я сразу понял, что каратэ в то время еще не было в моде. Это, с одной стороны, облегчало, а с другой — осложняло мою задачу, потому что я мог вполне нарваться на какой-то не знакомый мне приемчик.
И тогда я решил не вступать с ним в тесный контакт — черт его знает, чем он там владеет, — а держать на дистанции и постараться переиграть его, используя свое преимущество в скорости и росте.
Мажура понимал, что ему надо спешить, пока кто-нибудь не пришел мне на помощь, и поэтому собрался нападать первым. Он попытался достать меня ногой, но в сорок лет уже не та растяжка, чтобы высоко задирать ноги, к тому же щебеночное покрытие шоссе — не такая надежная опора, как, скажем, бетон или асфальт. Щебенка поползла у Мажуры под ногой, отчего он едва не потерял равновесие.
Но Мажура, ослепленный ненавистью и стремлением поскорее разделаться со мной и моими товарищами, видимо, никак не хотел смириться с тем, что возраст и отсутствие регулярных тренировок лишили его прежней быстроты и ловкости, и сделал еще несколько попыток нанести мне удары ногой в различные чувствительные места, от которых я без особого труда уклонился.
Его упорство навело меня на мысль, что ногами он нападает лучше, чем руками, а значит, и защищается лучше. Но ногами верхнюю часть тела и особенно голову защищать, безусловно, сложнее, чем руками, и, отталкиваясь от этой истины, я и избрал способ ведения этого поединка.
На мой взгляд, мы были с Мажурой в соседних весовых категориях: я во второй средней, а он в полутяжелой. При этом я был чуть выше его ростом, а он поплотнее. Эти показатели и определяли сейчас тактику моих действий.
Опустив руки, чтобы на всякий случай обезопасить себя от удара ногой, я сблизился с Мажурой до предельно допустимого расстояния и стал вызывать его на очередной удар.
Мажура сразу клюнул на эту удочку и снова попытался ударить меня в пах, но я едва заметным движением увеличил дистанцию и, когда он опять потерял равновесие на коварной щебенке, встретил его прямым ударом в челюсть.
Это был хороший удар. Я понял это по тому, что ощутил его всей рукой, от кулака до плеча.
Но Мажура, видимо, умел держать удары. Он только охнул и снова с упрямством обреченного пошел на меня. И снова щебенка подвела его так же, как за несколько минут до этого подвела дядю Геню.
На этот раз я использовал свою любимую комбинацию. Когда он сблизился настолько, насколько я позволил ему сблизиться, и, пытаясь нанести удар, опять поскользнулся, я сделал ложный замах правой рукой. Он инстинктивно поднял руки, чтобы защитить голову, и тогда я нанес ему удар левой в солнечное сплетение и сразу же, как только он опустил руки, правый боковой по челюсти.
Этот удар потряс его, потому что я вложил в него весь вес своего тела, но он устоял на ногах и только, не мигая, уставился на меня. Увидев, что он «поплыл», я, не давая ему опомниться, нанес ему еще один удар в челюсть, а затем еще!
В любой другой ситуации я никогда не поднял бы руку на арестованного, тем более безоружного, даже если бы он был отъявленным негодяем. Но Мажура сам вызвался на этот поединок, и он был далеко не так безоружен, как могло бы показаться неискушенному свидетелю этой схватки, потому что умел убивать голыми руками, и поэтому я с неожиданной для самого себя злостью избивал его, как боксерский мешок.
Он был моим врагом, и я мстил ему и за расстрелянных военнопленных, и за повешенную радистку, и за все остальные его преступления, о которых я еще не знал, потому что это выяснится только в ходе следствия.
Только после четвертого или пятого удара он раскинул руки в стороны и плашмя грохнулся на спину…
Так и лежал Мажура на самой середине шоссе, пока мы с дядей Геней оказывали помощь пострадавшим. Окончательно придя в себя, Осипов распорядился сделать то, что мы обязаны были сделать еще в правлении колхоза, да посчитали излишним, убаюканные признанием Мажуры и его полной покорностью судьбе.
Выполняя это распоряжение, я подошел к все еще находившемуся в глубоком нокауте Мажуре, завел его руки за голову, надел на него наручники и пошел помогать дяде Гене вытаскивать наши вещи из «Победы».
Вскоре с двух сторон подъехали несколько машин, мы погрузились на одну из них и уехали в райцентр. Перед отъездом общими усилиями поставили «Победу» на колеса, и дядя Геня остался, чтобы отбуксировать ее на авторемонтный завод: он был уверен, что там возьмутся ее восстановить и ему не придется пересаживаться на другую машину.
Но ремонтировать «Победу» не было никакого смысла, ее списали, после чего дядя Геня и получил новенькую «Волгу»…
Пока я вспоминал всю эту историю, мы проехали центральную часть города, затем заводской район и остановились у железнодорожного переезда. До поселка, в котором жил Семенкин, от этого переезда было около километра, и я стал обдумывать, как лучше построить с ним беседу.
Дядя Геня поворочался на своем сиденье, глядя, как к переезду приближается товарняк, потом перевел взгляд на меня и спросил:
— Ты о чем задумался, Миша?
— Да так, волнуюсь что-то, — честно признался я.
— Что, сложный разговор предстоит? — участливо спросил дядя Геня.
— Как получится, — уклончиво ответил я, не ведая еще, что меня ждет.
Дядя Геня помолчал немного, посматривая на проходящий мимо состав, потом одобрительно произнес:
— Это хорошо, что ты волнуешься перед встречей с человеком.
— Что же тут хорошего? — удивился я, в ту пору искренне считавший, что чекисту в любой ситуации надлежит сохранять хладнокровие.
— Не скажи! — назидательно сказал дядя Геня, и по его тону я догадался, что за этим последует. — В сорок четвертом возил я начальника контрразведки армии, «Смерш» тогда называлась…
Истории о том, как дядя Геня возил на фронте начальника контрразведки армии, составляли целый эпос, потому что контрразведка армии, видимо, действительно жила бурной жизнью, а сам дядя Геня был великолепным рассказчиком. Он всегда начинал очередную свою историю одними и теми же словами, и в этих случаях мне сразу приходил на память герой одного популярного кинофильма и его коронная фраза: «Когда я служил под знаменами короля Генриха Четвертого…»
— …Так вот, железный, скажу я тебе, был человек, а любил повторять: в нашем деле волнение не только неизбежно, а даже необходимо! Чтобы не озвереть, значит. Понял? — спросил дядя Геня и назидательно поднял палец.
Я улыбнулся и кивнул головой.
— Давно хочу задать тебе один вопрос, — продолжал дядя Геня.
— Задайте, раз хотите. У меня от вас секретов нет, — снова улыбнувшись, ответил я.
Мимо нас промелькнул последний вагон, шлагбаум поднялся, и стоявшие перед нашей «Волгой» машины стали одна за другой трогаться с места.
Дядя Геня включил скорость и сказал:
— Помнится, когда ты еще пацаном в гараже вертелся, все мечтал чекистом стать. Как батя, значит. А школу закончил и подался в университет. Что ж так, а?
Для меня это был непростой вопрос, и я не сразу нашелся, что ему ответить…
Эти три или четыре буквы, из которых в разные годы складывалось название органов госбезопасности, — ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ или КГБ — у большинства людей всегда вызывали особенное чувство, представляющее хорошо протертую смесь гордости, почтительности и страха. Соотношение это зависело от того, в каких взаимоотношениях с этим ведомством находился тот или иной человек, в том числе и от того, по какую сторону колючей проволоки был он сам или его близкие в годы репрессий.
Что касается меня, то я к этим названиям относился совершенно спокойно и не испытывал никаких особенных чувств, потому что с самого детства принадлежал к чекистской среде и не находил в ней ничего исключительного.
Естественно, в детские и юношеские годы я не был вхож в служебные помещения. Впервые я зашел в управление КГБ, когда началось мое оформление на работу. Но уж зато в гараже, как правильно подметил дядя Геня, я вертелся довольно часто.
И все же самым доступным для меня местом была так называемая управленческая дача, расположенная в загородной роще на берегу реки, куда в те годы вход для посторонних был закрыт. Во время войны и в первые послевоенные годы вся ее территория была вскопана и превращена в один большой огород, картошкой и прочими дарами природы с которого кормились семьи сотрудников.
Я, как и все дети, рано приобщился к труду на выделенных нам с матерью четырех сотках и первые уроки трудового воспитания получил именно здесь.
В сорок восьмом году огороды на даче были ликвидированы то ли за ненадобностью, то ли чтобы не отвлекать сотрудников от их непосредственных обязанностей, требовавших все большей и большей отдачи в связи с развернувшейся во всей стране борьбой с «космополитизмом», «низкопоклонством» и другими напастями, и дача опять стала местом отдыха и физической подготовки сотрудников управления. На месте огородов снова появились футбольное поле, беговые дорожки, ямы для прыжков, волейбольные и городошные площадки, гимнастический городок, один из домиков приспособили под лыжную базу, и теперь не проходило практически ни одного воскресенья, чтобы я не появлялся на даче.
Начав заниматься современным пятиборьем, я бегал кроссы в роще, а старт и финиш у меня были на даче.
Иногда меня уговаривали сыграть в волейбол, но волейболистом я был неважным, а потому гораздо с большей охотой соглашался быть судьей.
Не знаю почему, но так уж, видимо, исторически сложилось, что самым популярным видом спорта в чекистских коллективах стал волейбол. И что интересно, какого бы уровня ни собирались на площадке игроки — были ли они сотрудниками одного или разных отделов, была ли это обычная физподготовка или игра на первенство управления, — все равно любая подобная игра проходила, как правило, в острейшей борьбе и отличалась таким азартом, какой не всегда увидишь и на соревнованиях более высокого ранга.
Сколько я себя помню, в нашем управлении острее всего проходили встречи между «молодежью» и «стариками»: теми, кому еще не было тридцати лет, и теми, кому уже было за тридцать. Вот такие встречи меня и приглашали судить как человека, с одной стороны, «своего», а с другой — нейтрального, потому что я не принадлежал ни к тем, ни к другим.
Специалисты по социальной психологии совершенно правильно определили, что лучше всего характер человека, многие его качества раскрываются во время командной игры. Вот во время таких игр, а также после них, когда победители и побежденные начинали «выяснять отношения» и на смену игровым приходили не менее впечатляющие послеигровые страсти, я и имел возможность, так сказать, в неофициальной обстановке наблюдать то, что многим просто недоступно.
И пришел к выводу, что сотрудники госбезопасности не какие-то таинственные личности, наделенные особыми, неведомыми простому человеку полномочиями, а самые обычные люди со всеми их достоинствами и недостатками. Одни нравились мне больше, другие меньше, некоторые совсем не нравились, но никаких иллюзий относительно их исключительности у меня никогда не было.
Я был убежден, что все они делают очень важную и чрезвычайно необходимую работу, одни добросовестнее и лучше, другие с меньшим прилежанием и хуже, однако сомнений в том, что кто-то из них может заниматься каким-то неблаговидным делом, у меня никогда не возникало.
Поэтому и к своей будущей работе в этой системе (а что я обязательно должен там работать, я ни секунды не сомневался!) я относился без какого-либо трепета, как к нечто само собой разумеющемуся. Просто в положенный срок это должно было случиться, и все!
А потом, когда в пятьдесят третьем году я закончил девятый класс и вопрос о том, кем стать, из риторического становился уже практическим (потому что оформление в специальное учебное заведение начиналось за год до начала учебы в нем), арестовали Берию и его подручных.
Я хорошо помню смятение и растерянность, охватившие всех знакомых мне сотрудников, обстановку неуверенности и почти полного паралича их служебной деятельности, поразившую до этого весьма дружный и сплоченный (по крайней мере, мне так казалось) коллектив, сразу разбившийся на тех, у кого не было причин опасаться за свою судьбу, и тех, кто боялся разделить участь своего бывшего шефа.
Вскоре началась реорганизация, сопровождавшаяся значительными кадровыми перемещениями, и я, не зная в деталях существа тех процессов, которые проходили в органах госбезопасности, и лишь чисто интуитивно чувствуя всю их сложность и остроту, впервые по-настоящему задумался над тем, что составляло основную суть их деятельности.
И спросил себя: а может ли быть благородной и полезной деятельность учреждения, если во главе его стоит такой страшный преступник, каким оказался Берия, и притом не один, а в компании с большой группой своих сообщников? Ответив самому себе на этот вопрос, я понял, что такая деятельность не для меня, и решил не связывать свою судьбу с органами госбезопасности.
Впрочем, в тот момент мне никто этого и не предлагал.
Суд над Берией и его подручными состоялся, когда я уже твердо решил, что, закончив десятый класс, буду поступать в университет.
После очередной реорганизации в управлении почти не осталось тех, кто работал там в послевоенные годы, и когда я снова появился на управленческой даче, в волейбол уже «резались» совершенно иные люди.
Все это знал, конечно, и дядя Геня, хотя он, наверное, не присматривался ко всему происшедшему столь же заинтересованно, как я.
И поэтому, отвечая на его вопрос, я отшутился:
— Сам до сих пор удивляюсь!
Дядя Геня недовольно хмыкнул, и я подумал, что он, видимо, неспроста спросил меня об этом. И тогда я ответил вполне серьезно:
— Не созрел я тогда еще для службы в органах, дядя Геня. Мечтать — одно, а быть, как отец…
В этот момент дядя Геня резко крутанул руль, и мы съехали с асфальтового шоссе на немощеную дорогу, идущую между частными домами. Объехав на скорости выбоину, он сказал:
— Через пару минут будем на месте…
8
И действительно, вскоре мы остановились у одного из частных домов под крышей из оцинкованного железа.
Я вышел из машины, перепрыгнул через идущую вдоль забора канаву, заполненную дождевой водой, подошел к калитке и без особой надежды, что меня кто-нибудь услышит за этим глухим забором, постучал металлическим кольцом.
За забором раздался хриплый лай собаки.
Подождав немного и убедившись, что моего стука не слышно, а на лай собаки тоже никто не реагирует, потому что ее сразу же поддержали соседские псы, и теперь вообще невозможно было понять, по какому поводу поднялся весь этот лай, я встал на стоявшую возле калитки лавочку и крикнул через забор:
— Есть там кто-нибудь?
На мой вопрос собаки ответили еще более заливистым лаем.
Тогда дядя Геня, хорошо знавший образ жизни обитателей предместья и царившие здесь порядки (он сам всю жизнь прожил на окраине города и только совсем недавно, и то по причине крайней служебной необходимости, сменил свою видавшую виды развалюху на городскую квартиру недалеко от управления) и с иронической улыбкой наблюдавший за моими прыжками возле запертой калитки, решил облегчить мою задачу и дал продолжительный сигнал.
…Надо сказать, что этот сигнал достоин особого разговора. Весь гараж собрался, когда дядя Геня вносил в конструкцию новенькой «Волги» некоторые усовершенствования.
Первым делом он разместил в багажнике два танковых аккумулятора, добытых через знакомых особистов в стоявшей неподалеку от города воинской части. Тем самым, утяжелив багажник, он не только превратил обычный легковой автомобиль в вездеход, способный преодолеть сельское бездорожье, но и решил куда более важную, как ему казалось, проблему: теперь его «ласточка» не только заводилась с полуоборота в любую стужу; теперь он мог, не ожидая, пока заведется мотор, и не выжимая сцепления, на одном зажигании трогать с места и сразу набирать скорость!
Кроме этого, запас емкости аккумуляторов навел его еще на одну интересную мысль: в дополнение к стандартному сигналу он установил еще целый комплект различных сигналов, после чего их суммарное звучание стало напоминать гудок речного буксира. Когда дядя Геня проводил в гараже опробование нового сигнала, в расположенном через дорогу штабе гражданской обороны подумали, что это учебная атомная тревога.
Получив после этого инцидента соответствующее внушение, дядя Геня во избежание паники среди населения и прочих недоразумений никогда не пользовался сигналом в центральной части города и вообще прибегал к нему только в исключительных случаях.
…Вот и сейчас сигнал произвел необходимый эффект.
Все собаки, как по команде, умолкли, на крыльцо дома вышла женщина лет пятидесяти пяти, недоуменно оглядела окрестности и, заметив над забором мою голову, настороженно спросила:
— Что нужно-то?
— Семенкин Степан Прохорович здесь живет? — осведомился я.
— Здесь, — ответила женщина, вытирая руки о фартук. — А вы по какому делу к нему? Если за картошкой, то мы уже всю продали.
— Нет, я не за картошкой. Я из Комитета госбезопасности.
Мои слова произвели нужное впечатление: женщина сразу засуетилась, хотела вернуться в дом, но потом спохватилась и пошла открывать калитку, приговаривая на ходу:
— Я сейчас, сейчас…
Впустив меня во двор, она снова закрыла калитку и пошла впереди по сделанной из битого кирпича дорожке.
— Он там, за домом, — объяснила она мне, — с соседом дрова пилит на зиму. Одному ему трудно, он ведь инвалид войны, руки у него нет, вот и попросил соседа помочь…
Все это она говорила каким-то извиняющимся тоном, словно было нечто предосудительное в том, что один человек попросил другого помочь ему по хозяйству, а инвалидность как-то оправдывала просьбу ее мужа.
В полутора метрах от дорожки, ведущей на противоположную половину приусадебного участка, металась на цепи здоровенная псина. Хозяйка прикрикнула на нее, и собака, пытавшаяся, видимо, взять реванш за пережитое после дяди Гениного сигнала потрясение, виновато поджав хвост, попятилась к конуре и продолжала рычать оттуда.
— Да вы проходите, не бойтесь, — успокоила меня хозяйка, — она не достанет.
Поверив хозяйке на слово, я безбоязненно прошел по дорожке мимо добротного, на кирпичном основании сруба, в котором было не меньше трех комнат, не считая всяких подсобных помещений, и, оказавшись на заднем дворе, увидел двух мужчин, пиливших у дровяного сарая старые шпалы.
Возле них вертелся мальчишка дошкольного возраста, который, пыхтя от усердия, оттаскивал уже распиленные шпалы к сараю.
Мой приход отвлек мужчин от работы. Один из них (судя по пустому рукаву телогрейки, это и был Семенкин) отпустил пилу и, разогнувшись наблюдал, как я пробираюсь между перекопанными картофельными грядками. Его сосед, по всем признакам отставной офицер, тоже распрямился и поглядывал то на меня, то на Семенкина.
— Бог в помощь, — подойдя к ним, сказал я первое, что пришло мне на ум, и затем обратился к Семеннику: — Степан Прохорович, прошу извинить меня за то, что приходится отрывать вас от работы, но мне нужно с вами поговорить.
— Говорите, раз нужно, — не слишком дружелюбно ответил Семенкин. Как мне показалось, он не очень удивился визиту незнакомого человека. Впрочем, если учесть систематически проводившиеся в то время по приусадебным участкам всевозможные проверки со стороны работников поселковых советов, фининспекторов, милиционеров в форме и в штатском, то в моем визите и в самом деле не было для него ничего необычного.
Перехватив мой взгляд в сторону его напарника по распиловке добытых где-то шпал, означавший, что я хотел бы разговаривать с ним наедине, Семенкин, предпочитавший, видимо, общаться с представителями власти (а по моему внешнему виду и несколько бесцеремонному появлению он, очевидно, сразу признал во мне представителя власти) при свидетелях, пояснил:
— Это мой сосед, фронтовик, подполковник в отставке, так что…
— У меня к вам личный разговор, — многозначительно сказал я.
— Личный, говорите? — окинул меня Семенкин внимательным взглядом. — А сами-то вы кто будете?
— Я сотрудник областного управления КГБ, — скромно представился я и полез в нагрудный карман. — Вот мое удостоверение.
Как и большинство бывших сотрудников органов, в подобных ситуациях доверяющих больше своему личному впечатлению, чем документу, Семенкин, удостоив мое удостоверение мимолетного взгляда, еще раз осмотрел меня с головы до ног и, по каким-то только ему известным признакам убедившись, что я действительно тот, за кого себя выдаю, сказал:
— А, теперь понятно! Ванек, — окликнул он мальчишку, — беги-ка к бабуле, узнай, скоро ли обед будет готов.
Отправив с заданием одного нежеланного свидетеля, он обернулся к соседу:
— Ну что, Петрович, раз такое дело, давай перекурим, пока я с молодым человеком потолкую.
Сосед снял форменную фуражку с черным околышем, вытер ладонью пот с лысеющей головы, потом протянул Семенкину пачку «Беломора».
Семенкин достал из пачки папиросу, прикурил ее от зажженной отставным подполковником спички.
— Вам не предлагаю, — сказал мне сосед. — Вы, поди, сигареты предпочитаете?
— Я вообще не курю, — ответил я.
— Ну ладно, — сказал сосед, — вы тут беседуйте, а я пока схожу к себе, посмотрю, как там да чего. Крикнешь мне, — обратился он к Семенкину, — как закончите…
Когда Петрович ушел и мы остались одни, Семенкин спросил:
— Ну что, пойдем в дом или здесь покурим?
Обстановка вполне располагала для интимной беседы, и я принял второе предложение:
— Можно и здесь.
Тогда Семенкин сел на шпалу, глубоко затянулся и указал мне на такую же шпалу, лежавшую рядом:
— Садитесь, коли не боитесь испачкаться. А то мешок постелите.
— Спасибо, — ответил я и, выбрав место почище, сел на предложенное мне место.
— Так о чем будем говорить? — настороженно спросил Семенкин.
— Мне необходимо задать вам несколько вопросов, относящихся к событиям тридцать седьмого года, — как можно безразличнее, не акцентируя его внимание ни на слове «события», ни на времени, к которому они относятся, ответил я.
Но моя уловка не удалась.
— Что же это, значит, допрос будет? — недобро посмотрел на меня Семенкин.
— Нет, пока это будет только частная беседа, — вспомнил я совет Осипова. — Но если окажется, что вы располагаете интересующими нас сведениями, мы вас допросим официально, как свидетеля.
— Говорите, беседа? — переспросил Семенкин. — В таком случае, если я не захочу, то могу не отвечать на ваши вопросы?
«Ах ты, „законник“, — с неприязнью подумал я. — Не забыл, выходит, еще уголовно-процессуальный кодекс? Или почитываешь на досуге на всякий случай, чтобы знать, как отвертеться от нежелательных для себя разговоров?»
А вслух совсем другим, совершенно спокойным тоном, в котором не было и намека на неприязнь к этому человеку, я отпарировал:
— Конечно, можете. Это ваше право. Только имейте в виду, что я расценю это как стремление уклониться от беседы, и тогда нам придется сразу допросить вас. А как свидетель вы будете обязаны отвечать на наши вопросы, иначе вас могут привлечь к ответственности за отказ от дачи показаний!
— Значит, хоть в лоб, хоть по лбу? — невесело усмехнулся Семенкин. — Да, против закона не попрешь!
— По-моему, во все времена это квалифицировалось как обязанность каждого гражданина содействовать установлению истины!
Произнося эту фразу, я не столько хотел блеснуть перед Семенкиным своими познаниями в юриспруденции, хотя и это было нелишне, чтобы отбить у него охоту прибегать к всевозможным уверткам, сколько хотел намекнуть, что и в его, и в наше время закон был один, только вот применяли его по-разному.
— Истины? — воскликнул не без сарказма в голосе Семенкин. — А кто ее знает, эту истину?!
Я сразу разгадал его попытку увести наш разговор в сторону от интересующей меня темы и предложил:
— Давайте оставим на время философские рассуждения и приступим к делу!
Семенкин крякнул, но ничего не сказал.
— Итак, — продолжил я, — до апреля тридцать девятого года вы были сотрудником органов НКВД?
— Ну и что из этого? — все с той же недоброжелательностью в голосе спросил Семенкин.
Я сделал вид, что не уловил, с какой интонацией вопросом на вопрос ответил Семенкин, и, как ни в чем не бывало, голосом, в котором не было ни неприязни, ни раздражения, спросил:
— За что вас уволили из органов и исключили из партии?
— А ни за что! — с вызовом ответил Семенкин. Он явно не был расположен вести разговор на предложенную мной тему.
— Как это «ни за что»? — удивился я, хотя удивляться мне было нечему, потому что я знал, за что Семенкин был уволен и исключен, и этот вопрос мне понадобился для того, чтобы постепенно подвести его к основной части беседы.
— А так! — не разгадав моей тактической уловки, попытался предложить мне свою версию Семенкин. — Тех, кого было за что, тех расстреляли! А таких, как я, которые не замарали свои руки кровью, тех исключили из партии и уволили, как скомпрометировавших себя во время репрессий. Только какая это компрометация, если мы выполняли приказы?!
Знакомая песня! Как часто люди, наделенные властью и превысившие полномочия, данные этой властью, по своей собственной воле или под влиянием созданной этой властью общей атмосферы беззакония и произвола, пытаются оправдывать свои неблаговидные поступки тем, что они действовали «по приказу», то есть по своеобразному принуждению, которое должно избавить их от ответственности, хотя бы в собственных глазах. Впрочем, оправдание в собственных глазах для многих людей намного важнее, чем в глазах остальной части общества!
Вот только всегда ли это может служить оправданием и может ли служить вообще — вот вопрос, на который не ответила еще самые известные юристы!
Изложив собственную точку зрения на причину своего увольнения и исключения из партии, Семенкин жадно затянулся папиросой и замолчал.
— Ну, хорошо, — прервал я затянувшуюся паузу, — вернемся к тридцать седьмому году… Вам фамилия Бондаренко о чем-нибудь говорит?
— Бондаренко? — переспросил Семенкин, хотя, судя по имеющимся данным, должен был сразу вспомнить этого человека. Да и как можно было забыть фамилию того, кто возглавлял городскую прокуратуру в тридцать седьмом году? — Нет, — внезапно ответил Семенкин и, чтобы, как ему казалось, окончательно убедить меня в том, что он говорит сущую правду, на всякий, так сказать, случай уточнил: — А кто он был такой?
— Почему вы считаете, что он «был»? — спросил я и посмотрел ему прямо в глаза.
Семенкин понял, что допустил явную оплошность. Он заметно смутился и, как бы оправдываясь, ответил:
— Я не считаю… Просто спросил.
— Вы правы — он действительно «был», — с упором на последнем слове сказал я. — Бондаренко Григорий Федорович был прокурором города и в тридцать седьмом году исчез. Вот сейчас мы и выясняем обстоятельства его исчезновения.
Семенкин уже оправился от допущенной оплошности и самым безразличным тоном, на какой был способен в этой ситуации, спросил:
— А я-то здесь при чем?
Я не ответил на его вопрос. Я только внимательно смотрел на него, стараясь понять, как долго и насколько квалифицированно может лгать человек, лгать даже в том случае, если не получает от этого никакой выгоды, потому что событие, о котором мы ведем беседу, не имеет к нему непосредственного отношения, и поэтому наш разговор не может иметь для него неприятных последствий. И тем не менее он продолжает лгать просто по инерции, раз и навсегда постаравшись вычеркнуть из своей жизни тот период, когда это событие произошло, а из своей памяти — все факты и имена, потому что только таким образом он может избавиться от воспоминаний, будоражащих его уснувшую совесть.
То ли не выдержав моего взгляда, то ли разгадав ход моих мыслей, Семенкин помялся немного и спросил:
— Прокурор, говорите?.. Припоминаю, ходили тогда слухи, — выдавил наконец из себя Семенкин и снова умолк, соображая, продолжать ему свой рассказ или нет и куда этот разговор может его завести.
— Какие слухи? — в предчувствии долгожданного признания выдержка несколько изменила мне, и мое нетерпение едва не погубило с таким трудом сдвинувшееся с мертвой точки дело.
— Да разные, — уклончиво ответил Семенкин и сделал еще одну попытку проверить мою квалификацию: — А что вам о нем известно?
Это меня развеселило, хотя веселье в этой ситуации было, конечно, неуместно. Я посмотрел на Семенкина с иронической улыбкой и спросил:
— Когда вы работали в органах, вы тоже отвечали на подобные вопросы?
— Да, действительно глупо, — смутился Семенкин. — Простите.
Этот маленький и по-своему забавный эпизод, как ни странно, расположил его к некоторой откровенности.
— Кое-что я и в самом деле помню, — начал он, но тут же словно спохватился, — да только вряд ли это вам много даст…
— Что именно? — не скрывая на этот раз своего нетерпения, поторопил его я.
Семенкин снова сделал глубокую затяжку и, тщательно подбирая слова, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего, стал рассказывать:
— Был у нас заместителем начальника управления Вдовин Иван Михайлович. Он здешний, работал еще в губчека, потом уехал в Москву. В тридцать седьмом снова вернулся, но проработал недолго, чуть больше месяца….
Я опустил глаза, чтобы ничем не выдать своего волнения, которое охватило меня, когда Семенкин вдруг заговорил о моем отце.
— Так вот, — продолжал Семенкин, — подъехали мы с ним как-то к управлению, вышли из машины и тут видим — стоит у входа какая-то беременная женщина и плачет. Вдовин подошел к ней, стал расспрашивать, что да почему, она и говорит, что ее муж, этот самый прокурор… как его?
Этот вопрос мне откровенно не понравился. Когда переспрашивают очевидные вещи, значит, в следующий момент готовятся что-то утаить или солгать.
— Бондаренко? — подсказал я и инстинктивно насторожился.
— Он самый, — подтвердил Семенкин. — Пропал, говорит, пошел к вам в управление и с концами… Вдовин, значит, стал ее утешать, обещал выяснить, что к чему, ну и наладил ее домой… — Семенкин тяжело вздохнул и махнул рукой: — А муженек-то ее в это время, поди, уже на том свете был!
— Почему вы так считаете? — спросил я.
— Тогда на все это дело — от ареста до расстрела — трех дней могло хватить…
Я уже было подумал, что мои опасения были напрасными, что Семенкин не собирается от меня что-либо утаивать или тем более лгать, и сейчас я услышу новые подробности, которые прольют полный свет на судьбу прокурора, как совершенно неожиданно для меня он сказал:
— Вот и все, что я помню об этом Бондаренко.
— А слухи? — напомнил ему я.
Семенкин разогнал окутавший его табачный дым, подумал и ответил:
— Слухи — они и есть слухи! В вашем деле, насколько я понимаю, нужны факты. А я больше ни одного факта не знаю — сам-то я Бондаренко никогда и в глаза не видел, это точно, можете проверить!
Только теперь мне стало ясно, каким образом Семенкин решил уйти от серьезного разговора. Признав кое-какие мелочи, рассказав то, что никоим образом не могло его скомпрометировать, он наконец выложил абсолютно достоверный факт, используя его, как опытный картежник использует козырного туза.
Этот факт состоял в том, что он не был лично знаком с Бондаренко и не имел никакого отношения к тому, что с ним произошло! А то, что это было именно так, можно не сомневаться и не проверять — с такой уверенностью Семенкин привел этот аргумент в свою защиту! И вот, использовав этот факт, Семенкин пытается теперь скрыть от меня главное, что известно ему по этому делу: обстоятельства, которые свидетельствуют против него, или людей, которые, возможно, могут рассказать нечто такое, что ему очень хочется утаить.
В общем, все произошло именно так, как меня предупреждал многоопытный Осипов. Видимо, Семенкин определил во мне начинающего оперативного работника, что, безусловно, не так уж сложно было сделать, и своей вынужденной откровенностью попытался усыпить меня, как зеленого новичка.
Ну что ж, спасибо за науку, Степан Прохорович! Преподав мне этот урок, вы заставляете и меня поступать, как учили!
— Когда это было? — как ни в чем не бывало, словно и не было этих взаимных тактических просчетов и побед, спросил я.
— Что именно? — как будто не понимая, о чем идет речь, спросил Семенкин.
— Я имею в виду этот разговор с женой Бондаренко.
— Да где-то в начале лета, — уклончиво сказал Семенкин.
— А точнее не можете сказать? — настаивал я.
— Точнее не могу, — отрубил Семенкин, и я понял, что выдержка постепенно начинает изменять ему. — Записей не вел, сами понимаете.
Из-за угла дома выбежал его внук и закричал:
— Дед, бабуля зовет обедать. Спрашивает, ты скоро закончишь давать показания?
— Ну, дура баба! — с досадой сплюнул Семенкин и, явно желая использовать этот так кстати подвернувшийся предлог, чтобы закончить наш разговор, продолжение которого не сулило ему ничего хорошего, крикнул в ответ: — Скоро, Ванечка, скоро! Сбегай за Петровичем, пригласи и его обедать!
Это был откровенный намек на то, что мне пора сворачивать беседу и удаляться.
Но я сделал вид, что не понял этого намека, и спросил:
— А откуда вы с Вдовиным приехали, когда встретили жену Бондаренко?
— А какое это имеет отношение к вашему делу? — не понял Семенкин и снова насторожился. В его положении это было вполне естественно: настороженность допрашиваемого — а наш задушевный разговор как-то незаметно стал походить на допрос — есть адекватная реакция на любое непонимание тактики допрашивающего!
— Кто знает, может, и имеет, — многозначительно ответил я, еще сам толком не зная, куда заведет меня этот разговор, но понимая, что мне во что бы то ни стало надо попытаться вновь разговорить Семенкина. Более того, я интуитивно чувствовал, что на этот раз я иду по верному пути. — Так откуда?
— Не помню, давно это было, — с явным нежеланием развивать эту тему ответил Семенкин.
Его ответ только вдохновил меня на то, чтобы проявить еще большую настойчивость. Я с сомнением покачал головой:
— Вы так четко воспроизвели все детали кратковременного разговора с женой прокурора, а куда ездили с заместителем начальника управления — не помните?! Он что, с вами регулярно ездил?
— Да нет, один раз всего. — В голосе Семенкина звучала растерянность.
— Вот видите! — с укоризной сказал я. — А вы, значит, не помните?
— Не помню! — окончательно потеряв выдержку, почти прокричал мне прямо в лицо несговорчивый свидетель.
От его крика врассыпную бросились колготившиеся у наших ног куры. Видимо, услышав голос хозяина, за домом залаяла собака.
Стало ясно, что, попав в трудное положение и видя, что от меня не так легко отделаться, Семенкин ушел в глухую защиту и теперь любые мои усилия заставить его раскрыться просто бесполезны. Дальнейший разговор был пустой тратой времени.
— Ну ладно, не помните так не помните! — сказал я и встал. — Завтра будем вспоминать вместе. Придете к одиннадцати часам в управление. Надеюсь, не забыли, где оно находится?.. Скажете, что вы к старшему следователю Осипову.
— Это вы Осипов? — удивленно спросил Семенкин, у которого должность старшего следователя, видимо, не состыковалась с моим возрастом.
— Нет, не я, — успокоил я его. — Моя фамилия Вдовин.
Я заметил, как Семенкин аж привстал от неожиданности.
— Надо же! — поразился он. — Как у нашего бывшего замначуправления!.. Да, сильный был мужик, ничего не скажешь!
Даже спустя столько лет Семенкин с откровенным восхищением отозвался о моем отце, и, не скрою, мне это было чрезвычайно приятно.
— Выходит, однофамильцы вы с ним? — предположил Семенкин.
И я без всякого умысла, а просто чтобы одержать над ним маленькую моральную победу, ответил:
— Я его сын… Значит, до завтра, Степан Прохорович! Не опаздывайте! — подвел я итог нашему разговору и по дорожке между перекопанными картофельными грядками направился к дому…
9
Папироса в руке Семенкина давно догорела и погасла. Он бросил окурок, вдавил его каблуком сапога в землю и встал.
Я дошел уже почти до угла дома, когда сзади раздался его голос:
— Подождите, как вас?..
Я понял, что он надумал еще что-то мне сказать, и пошел обратно. Пока я шел, Семенкин похлопал себя рукой по карману телогрейки, достал смятую пачку и спичечный коробок, захватил губами мундштук, затем ловко зажег одной рукой спичку и прикурил.
Когда я подошел поближе, Семенкин с нескрываемым интересом посмотрел на меня, как будто до сих нор у него для этого не было возможности, и сказал:
— А я-то думаю, кого вы мне напоминаете? — Он несколько раз жадно затянулся. — Ладно, расскажу вам, как дело-то было…
Он сел на шпалу и спросил:
— Зовут-то вас как? Знаю, что Иваныч, а вот имя…
— Михаил, — ответил я и тоже сел на старое место.
— Значит, Михаил Иванович? — удовлетворенно кивнул головой Семенкин. — Так вот… Никому не рассказывал, а вам расскажу. Очень я вашему отцу обязан. Жизнью и совестью своей обязан!
Он выдохнул дым по-фронтовому, в рукав телогрейки, и продолжил взволнованным голосом:
— В начале тридцать седьмого года приехал к нам новый начальник управления по фамилии Сырокваш. Я в то время обслуживал сельский район, потом его расформировали, когда вводили новое административное деление. А вскоре после приезда Сырокваша состоялся пленум ЦК, который поставил задачу разоблачить и до конца истребить всех врагов народа, или, как их тогда называли, «право-троцкистских агентов фашизма»…
Я понял, что он имеет в виду февральско-мартовский Пленум Центрального Комитета партии, на котором с докладом выступил Сталин.
— И тогда этот самый Сырокваш, — произнеся эту фамилию, Семенкин плюнул себе под ноги, — провел совещание и установил план по арестам для каждого отдела, для каждого сотрудника. Сказал, что есть такая директива из Москвы…
Папироса в руке Семенкина задрожала. Чтобы унять эту предательскую дрожь, он сунул папиросу в рот и несколько раз сжал и разжал пальцы, но это не помогло: когда он снова взял папиросу в руку, она дрожала еще сильнее.
— И началось у нас соревнование, — усмехнулся он, — кто больше обезвредит шпионов, вредителей и диверсантов! Кто этот план перевыполнит, тому почет и уважение! Как в колхозе или на заводе, словно это шестеренки какие, а не живые люди!..
Семенкин посмотрел на меня, и мне показалось, что он ждет от меня каких-то слов. Но я, памятуя, как одной неосторожной репликой уже чуть не испортил первую часть нашей беседы, решил дать ему возможность высказаться до конца.
— А где их взять, — так и не дождавшись от меня ни звука, продолжал Семенкин, — этих самых шпионов и диверсантов, если у нас в области до войны ни одного военного объекта не было?! Это уже в сорок первом сюда эвакуировали оборонные предприятия, а тогда на всю область один объект был — железнодорожный мост, да и тот практически не охранялся по причине своего ограниченного стратегического значения!..
Семенкин перевел дух, кашлянул в кулак и заговорил снова:
— И вот стали выдумывать, что чуть ли не все разведки мира дают своим агентам задание взорвать этот мост! На этом и выполняли план по арестам! Сколько людей под расстрел подвели!..
Он безнадежно махнул рукой, потом глубоко затянулся и закашлялся. Откашлявшись, Семенкин с раздражением бросил папиросу и продолжал:
— А у меня в районе даже моста не было! Да и не стал бы я никогда обвинять людей в сотрудничестве с японской или турецкой разведкой, если они японца или турка даже в кино не видели!.. Понял я, что творится страшное преступление, но помешать этому не мог и тогда решил для себя: не буду в этом участвовать!
Семенкин снова пошарил по карманам в поисках папирос и спичек, но почему-то раздумал закуривать и опять заговорил:
— Решить-то решил, да как это сделать? — Он посмотрел на меня, словно сейчас, спустя столько лет, спрашивал у меня совета.
Я слушал его, не перебивая.
— В марте недовыполнил я план по арестам, и начальник управления на совещании обвинил меня в недостатке большевистской бдительности. А еще сказал, что я своей подозрительной беспечностью играю на руку врагам народа! Вы знаете, что в те времена могли означать такие обвинения?
Я знал. Варианты последствий могли быть различными, но цель была одна: превратить таких, как Семенкин, в послушных исполнителей злой воли!
— И вот, когда я в апреле опять недовыполнил план, Сырокваш заявил мне, что если я не арестую хотя бы одного из запланированных врагов народа, то буду арестован вместо него!
Семенкин замолк и опустил голову.
— И вы испугались? — сделал я казавшийся мне очевидным вывод, догадываясь, что последовало за этой угрозой.
— Да не за себя я испугался! — резко вскинул голову Семенкин. — Вот погиб бы я на фронте, и дети бы мои были детьми героя! А тогда объявили бы меня врагом парода, и всю жизнь над моими близкими висело бы это проклятие! Вот чего я испугался!
Из-за дома опять появился его внук. Но не успел он позвать Семенкина к столу, как тот опередил его:
— Начинайте обедать без меня. Скажи бабуле, как закончу разговор, так и приду.
— И как же вы поступили? — спросил я, когда малыш снова скрылся за домом.
— А так и поступил! — еле слышно ответил Семенкин. — Арестовал недостающее количество «врагов народа» и отправил их в область! Конечно, не кого попало, — поправился он, — на каждого из арестованных были различные сигналы, попросту говоря, доносы, большей частью анонимные, но я-то обязан был сначала все проверить, а уж потом арестовывать, кто этого заслуживал!..
Он как-то заискивающе глянул на меня и, словно пытаясь спустя почти четверть века найти оправдание своим действиям, пояснил:
— Но времени на это у меня не было, и я решил: в области опытные следователи, они допросят свидетелей и разберутся, кого посадить, а кого оправдать за недоказанностью преступления…
Он снова замолчал.
Я не торопил его, будучи уверен, что на этот раз он не сможет прервать свой рассказ, пока не исповедается до конца.
— Весь май я ждал, — снова заговорил Семенкин, — что хоть кто-нибудь из них вернется домой, да так и не дождался. А потом я поехал в управление и узнал, что у всех выбили признания, а затем расстреляли… Так я загубил этих людей!
Голос Семенкина задрожал, и он отвернулся.
Дав ему немного успокоиться, я спросил:
— И чем же все это кончилось?
Он ответил не сразу. Какое-то время он смотрел себе под ноги, шмыгал носом, вздыхал, потом наконец посмотрел на меня выцветшими глазами и снова заговорил:
— Вот после этой истории и приехал ко мне с проверкой ваш отец. Пробыл он у меня в районе три дня, изучил все дела, встретился с кем надо и понял, конечно, что все эти «агенты фашизма» — сплошная липа… В общем, устроил он мне ужасный разнос, отстранил от оперативной работы и велел вместе с ним ехать в управление. Мне бы обидеться на него или испугаться, — вымученно улыбнулся Семенкин, — а я, не поверите, даже обрадовался, что не придется больше заниматься этим грязным делом…
— И вы вместе с ним поехали? — уточнил я.
— Да, — кивнул головой Семенкин. — Приехали мы в управление, вот тогда он и беседовал с женой этого самого Бондаренко, а потом завел он меня к начальнику управления, обрисовал все мои «достижения» в борьбе с контрреволюционным элементом и сообщил о своем решении…
— И как к этому отнесся Сырокваш? — спросил я.
— Его аж передернуло всего, — Семенкин повел плечами, словно изображая, как передернуло Сырокваша, — потому как я исключительно выполнял его указания. Но отменять решение не стал: Вдовин-то был человеком авторитетным, заслуженным, не ему чета… В общем, приказали мне сдать дела и возвратиться для получения нового назначения. На том беседа и закончилась.
Завершив свою исповедь, Семенкин облегченно вздохнул и достал папиросы. Пока он прикуривал, я сидел и думал, как бы поделикатнее получить у него дополнительные сведения об отце, чтобы он не догадался, что Иван Вдовин по странному стечению обстоятельств тоже стал объектом нашего расследования.
Не придумав ничего путного, я задал ему нейтральный вопрос:
— И что же было дальше?
— А ничего, — пожал плечами Семенкин. — Когда я вернулся, вашего отца уже не было. Вызвали его в Москву. Уехал — и все. Говорили, месяца через два погиб где-то при выполнении специального задания, а где и какого, спрашивать было не принято.
После того как Семенкин исповедался, можно было верить: ничего другого о моем отце он не знал. А то, что знал, было мне уже известно.
— А вы? — задал я очередной вопрос.
— А что я? — усмехнулся Семенкин. — Меня перевели в хозяйственное отделение, там я и работал, пока не уволили.
Он замолчал, и наступила тишина. Слышно было только, как за домом повизгивала от восторга собака, с которой, видимо, забавлялся внук Семенкина, да в сарае хрюкали поросята.
Я сидел и размышлял над судьбой Семенкина. Все в ней оказалось не так просто, как думалось до нашей встречи.
Рассказанная им история не вписывалась в сложившуюся в моем сознании схему деления общества тех лет на палачей и жертв, кое-что в ней оставалось вне моего понимания. И действительно, как случилось, что ему в одно и то же время довелось быть и палачом, и жертвой? Кем он был сначала и кем потом? Или сразу тем и другим одновременно?
Семенкин стал палачом, потому что уже был жертвой, заложником системы, безжалостно превратившей его в бездумного «винтика» и заставившей слепо служить ей, выполнять самые бесчеловечные приказы.
Став палачом, он снова превратился в жертву, как ни дико это звучит! И только ли он один? Таких были тысячи и тысячи!
А всему виной годами насаждавшаяся атмосфера страха. Кто помнит атмосферу тех лет, поймет таких, как он, хотя, может быть, и не простит никогда!
Так, значит, всему виной страх? Каким же он должен быть?
И мне захотелось задать ему еще один вопрос.
— И все-таки никак не пойму, — нарушил я затянувшуюся паузу, — как вы могли тогда смалодушничать и взять, как говорится, грех на душу, а потом храбро воевать на фронте?
— Так то фронт! — воскликнул Семенкин. — Я вот, считайте, всю войну в полковой разведке прослужил, десятки раз в тыл к немцам ходил, два ордена Славы имею, до Восточной Пруссии дошел, руку там оставил! В сорок втором в партии меня восстановили, под Сталинградом! Всякое было, но на войне страх другой, меня от него в жар бросало!.. А тогда, в этом проклятом тридцать седьмом, страх был холодный, липкий какой-то, мне от него самому на себя противно смотреть было!
Семенкин прервал свой взволнованный монолог, помолчал немного, потом очень тихо сказал:
— Я, может, всю войну свою вину перед теми людьми замаливал, а только когда в госпитале лежал уже после войны, понял, что никакие военные подвиги мою вину не искупят!.. Так и жил с ней все эти годы!
Он сказал это так искренне, что я готов был даже посочувствовать ему. Имел ли он право на сочувствие? Заслуживал ли снисхождения? Скажу честно, я не мог сам себе ответить на эти вопросы.
Но Семенкин, похоже; и не рассчитывал на мое участие. Он как-то виновато улыбнулся, стряхнул пепел с папиросы и добавил:
— Поговорил вот с вами, выговорился, может, впервые в жизни, даже как-то легче стало.
Пора было заканчивать нашу беседу. Мне оставалось выяснить последний вопрос:
— Кто мог бы подтвердить ваши слова?
— Сырокваш мог бы, да кое-кто из его ближайших приспешников. Только их еще в тридцать девятом всех к стенке поставили…
Семенкин задумался на мгновение, потом решительно сказал:
— А про Бондаренко вы у Котлячкова спросите, он тогда у нас начальником учетно-архивного отделения был. Думаю, он все знает: слухи-то от него как раз исходили…
10
Допрашивать Семенкина Осипов не стая. Вместо этого он попросил меня составить справку по результатам беседы с ним и приобщил ее к материалам проверки заявления Анны Тимофеевны Бондаренко.
Зато Котлячкова он вызвал на допрос сразу.
Я присутствовал на этом допросе и вел протокол.
Перед нами на самом краешке стула уселся низенький, худосочный старичок, виновато моргавший слезящимися глазами и все время покашливавший. При этом он прикрывал рот маленькой ладошкой и отворачивался в сторону, словно боялся инфицировать нас той страшной болезнью, которая поразила органы государственной безопасности в тридцатые годы.
Осипов задал первый вопрос, я записал его в протокол и теперь ждал ответа Котлячкова.
Но тот, судя по всему, не торопился отвечать. Он по-прежнему моргал, покашливал, ерзал на стуле и смотрел на нас преданным взглядом.
Пауза явно затянулась, и Осипов решил поторопить свидетеля:
— Ну, что вы задумались, Котлячков? Может, вам непонятен мой вопрос?
— А почему вы обратились именно ко мне? — робко спросил Котлячков.
Осипов откинулся на спинку стула и, с трудом сдерживая смех, сказал:
— За последние пять лет я, наверное, уже в десятый раз допрашиваю вас, и всегда вы задаете мне этот вопрос!
Осипов перестал улыбаться и строго глянул на Котлячкова.
— Пора бы уже уяснить, — сказал он, — не только права, но и обязанности свидетеля. Или вы все еще продолжаете жить прошлым?
Котлячков непроизвольно поежился под его взглядом и заискивающим тоном произнес:
— Что поделаешь, гражданин следователь, инстинкт самосохранения… В те времена, которыми вы всегда интересуетесь, разница между свидетелем и обвиняемым была столь незначительной, что мне до сих пор…
— Да поймите, наконец, Котлячков! — перебил его Осипов. — Я уже неоднократно объяснял вам: лично против вас не может быть выдвинуто никаких обвинений, потому что вы работали в учетно-архивном отделении и не имели прямого отношения к репрессиям. Чего же вы боитесь?!
Котлячков потупил взгляд и тихо произнес:
— Да кто вас знает… Это сегодня я ни в чем не виноват. А что будет завтра?
— А завтра будет то же, что и сегодня, — жестко ответил Осипов, — потому что возврата к беззаконию быть не может! Не для того мы пересматриваем сейчас дела, чтобы прошлое когда-нибудь повторилось!
Котлячков снова поморгал, покашлял, но не проронил ни слова.
— Мы слушаем вас, Котлячков, — напомнил ему Осипов.
Старичок тяжело вздохнул и начал свой рассказ:
— Я действительно хорошо помню тот случай… Дело в том, что до тридцать седьмого года я поддерживал регулярный контакт с Бондаренко, поскольку он по роду своей работы имел доступ ко всем следственным делам. Бондаренко часто бывал в управлении, присутствовал на допросах. В общем, осуществлял прокурорский надзор. Повторяю, так было до тридцать седьмого года…
Я старался не упустить ни одного слова из рассказа Котлячкова и как можно точнее занести все сказанное им в протокол.
— Когда же приехал новый начальник управления, — продолжал Котлячков, — все довольно быстро изменилось. Уже через пару месяцев Бондаренко вообще перестали приглашать в управление. Да и что ему было там делать, когда вместо законного суда все вершила «тройка»?!
Котлячков произнес последнюю фразу таким тоном, как будто во всем, что тогда происходило, он был сторонним наблюдателем, а не одним из непосредственных участников. С годами он как бы отстранился от событий тех лет, сам себя освободив даже от моральной ответственности за творившееся беззаконие.
Сам-то он себя освободил, но каждый такой вызов к следователю напоминал ему простую истину, человек только судить себя имеет право сам, потому что только он знает все им содеянное, а оправдать себя сам он не может, не в его это власти! И если есть у кого на совести какое-то грязное дело, то сколько ни будет такой человек убеждать себя, что он ни в чем и ни перед кем не виноват, все равно жизнь его будет отравлена страхом, что рано или поздно придется ему за это ответить.
А Котлячков тем временем продолжал:
— Но однажды Бондаренко пришел в управление и потребовал, чтобы ему дали возможность побеседовать с арестованными, находившимися в камерах внутренней тюрьмы. Видимо, в прокуратуре накопилось много жалоб от родственников арестованных, вот он и решил разобраться…
Котлячков сказал «видимо», и я подумал, что он лукавит: он знал это наверняка, потому что не только в прокуратуру, но и в управление НКВД обращались родственники тех, о судьбе которых после ареста не было никакой информации.
Я посмотрел на Осипова, но тот ничем не выражал своего отношения к показаниям Котлячкова.
— Дело было утром, Сырокваш где-то задержался, а его заместитель, Вдовин, помнится, уехал в район. Дежурным по управлению в тот день был Стручков. Если вы помните, я о нем уже рассказывал…
Осипов утвердительно кивнул головой, и Котлячков, заметно приободрившийся по сравнению с началом допроса, деловым тоном закончил свой рассказ:
— Так вот, Стручков сначала предложил Бондаренко подождать, пока придет начальство, но тот был очень настойчив… В общем, Стручков растерялся и дал команду пропустить Бондаренко во внутреннюю тюрьму. Тот и пошел по камерам… Когда приехал начальник управления и Стручков доложил ему, что прокурор беседует с арестованными, Сырокваш пришел в ярость и распорядился не выпускать его из внутренней тюрьмы… Так Бондаренко и остался в одной из камер!
— Как это понимать: остался? — переспросил Осипов. — Его что, арестовали?
— Нет, нет, — торопливо пояснил Котлячков и в такт своим словам снова заморгал. — Да и за что его могли арестовать?! Просто не выпустили из камеры, и все!
И все? Я даже остановился, не записав последние слова Котлячкова.
Осипов бросил на меня быстрый взгляд, словно напоминая, что во время допроса следователю не полагается проявлять свои эмоции, иначе они могут захлестнуть его, и тогда это будет уже не допрос, а черт знает что.
— А вам откуда об этом известно? — совершенно спокойно, как будто сказанное Котлячковым не было верхом произвола и не должно было возмутить его как юриста и просто как человека, спросил Осипов.
Котлячков снова закашлялся, прикрыв рот ладошкой, потом придвинулся поближе к Осипову и с какой-то странной для его положения доверительностью заговорил:
— Видите ли, на следующий день после визита Бондаренко я стал невольным свидетелем разговора начальника управления с Иваном Михайловичем Вдовиным, его заместителем…
Записывая показания свидетеля Котлячкова, я представил себе, как это могло выглядеть тогда, в тридцать седьмом году, и в моем воображении возникла такая картина.
Лейтенант госбезопасности Котлячков, еще более щуплый и тщедушный, чем сейчас, держа в руке папку для доклада, важно шагал по коридору управления НКВД, чинно раскланиваясь с попадавшимися ему навстречу сотрудниками.
Те кивали ему и с серьезным видом проходили мимо, но затем обязательно оглядывались и не могли сдержать улыбку: уж очень комично выглядел Котлячков, которого буквально распирало от сознания собственной значительности.
Как многие низкорослые люди, он очень хотел казаться хоть чуть-чуть повыше, а потому носил сапоги на завышенном каблуке, сшитые ему по спецзаказу в военном ателье, и, кроме этого, при ходьбе задирал вверх подбородок. Однако, несмотря на все его старания, он становился не выше, а смешнее, тем более что военная форма, тоже сшитая по спецзаказу, топорщилась на его нескладной фигуре, как будто он ее впервые надел всего полчаса назад.
Котлячков вошел в приемную начальника управления как раз в тот момент, когда резко открылась дверь кабинета, закамуфлированная под дверцу массивного шифоньера, и оттуда выскочил взъерошенный, распаренный нагоняем сержант госбезопасности Семенкин. От пережитого волнения он забыл как следует прикрыть за собой дверь «шифоньера», и она так и осталась приоткрытой.
Котлячков довольно равнодушно посмотрел вслед Семенкину, он давно привык к тому, как начальник управления разговаривал со своими подчиненными, так что внешний вид и настроение Семенкина после беседы с руководством не вызвали у него никакого удивления.
Когда Семенкин, ничего не видя вокруг себя после взбучки, пронесся мимо него, Котлячков в нерешительности остановился перед «шифоньером», раздумывая, стоит ли сейчас попадаться на глаза начальнику управления или выждать, когда тот несколько поостынет.
Пока он раздумывал, входить ему или не входить, через приоткрытую дверь до него донеслись приглушенные голоса.
Котлячков подошел ближе, прислушался и узнал скрипучий голос начальника управления:
— Я не стану отменять твое распоряжение, но впредь прошу без самодеятельности! Не забывай, что пока я начальник управления, и я не позволю…
— Семенкин нарушил соцзаконность, — перебил его другой голос, и Котлячков сразу узнал Вдовина, — и его следовало наказать!
Сырокваш резко оборвал своего заместителя:
— Семенкин выполнял мои указания, и поэтому наказывать его или нет — решать буду я! Все, Вдовин, ты свободен!
Котлячков продолжал топтаться у двери, по-прежнему не решаясь войти в кабинет. Он взялся было за ручку двери, но Вдовин заговорил снова:
— У меня есть еще один вопрос. На каком основании арестован Бондаренко?
— Никто его не арестовывал, — раздраженно ответил Сырокваш.
— Тогда почему он второй день находится в камере?
— Чтобы не совался, куда не следует! — повысил голос Сырокваш. — Тоже мне, защитник нашелся!
— Что значит, защитник? — удивился Вдовин. — Он прокурор и стоит на страже закона! Это его долг!
— Слушай, Вдовин, — в голосе начальника управления зазвучали недобрые нотки, — оставь эту демагогию! Мы ведем непримиримую борьбу с врагами народа, и от нас в первую очередь требуется высокая большевистская бдительность! А ее сущность, как тебе должно быть известно, состоит в том, чтобы разоблачить врага, как бы хитер и изворотлив он ни был!
— Вот именно, — согласился с ним Вдовин. — Но не в том, чтобы без разбора арестовывать тех, кто попадается под руку!
На какое-то время в кабинете начальника управления наступила тишина. Было слышно только, как кто-то из двоих ходит по кабинету.
Потом снова раздался голос Вдовина:
— А у нас в управлении нашлось достаточно много карьеристов, которые стремятся отличиться и выдвинуться на репрессиях! Они готовы арестовать десятки, сотни людей, чтобы приписать себе заслуги в разоблачении врагов!
— На кого ты намекаешь? — проскрипел Сырокваш.
Вдовин не ответил.
И тогда Сырокваш с откровенной неприязнью в голосе сказал:
— Странные разговоры ты ведешь, Вдовин! Уж не в Испании ли ты этому научился?
— Не трогайте Испанию! — Голос Вдовина зазвенел от возмущения. — Там мы боролись с настоящими фашистами, а не делали себе карьеру!
После этих слов Котлячков втянул голову в плечи и решил было уйти, чтобы не слушать этот разговор, становившийся все более острым. Но какая-то непреодолимая сила снова заставила его приблизиться к приоткрытой двери.
— Я требую немедленно освободить Бондаренко! — снова донесся до него голос Вдовина.
— Ты что себе позволяешь, Вдовин?! — взорвался Сырокваш. — Кто ты такой, чтобы требовать?! Да ты понимаешь, что значит освободить Бондаренко?! Из-за этого олуха Стручкова он целый час ходил по камерам и беседовал с арестованными! И теперь знает все!
Подслушивая этот разговор, Котлячков постоянно оглядывался на дверь, ведущую из приемной в коридор. Он очень боялся, что кто-нибудь неожиданно войдет в приемную и застанет его за этим не только малопочтенным, но и небезопасным занятием.
Из-за двери «шифоньера» вновь послышался голос Вдовина:
— Если эти люди арестованы на законном основании, нам нечего опасаться. А если мы нарушили закон…
— Какой еще закон?! — Голос начальника управления едва не сорвался на фальцет. — Для меня есть один закон — приказы и указания наркома внутренних дел!
— А для меня, — спокойно и твердо ответил Вдовин, — это всего лишь приказы и указания. А закон для меня — это советская Конституция, а также уголовный и уголовно-процессуальный кодексы!
За дверью стало тихо, но пауза на этот раз была совсем короткой. Не успел Котлячков прислушаться к тому, что происходит в коридоре, как в кабинете начальника управления снова заговорил Вдовин:
— Повторяю: я требую немедленно освободить Бондаренко! Если вы это не сделаете, я сегодня же поеду в Москву!
— Как это «поеду»?! — Начальник управления даже задохнулся от гнева. — Я не разрешаю тебе никуда уезжать из города!
На этот раз слух не обманул Котлячкова: по коридору действительно кто-то шел! Он отпрянул от двери и сделал вид, что ожидает вызова к начальнику управления.
Голоса за приоткрытой дверью стали глуше, и он теперь не мог слышать всего, о чем там говорили.
Когда шаги в коридоре удалились, Котлячков вновь осторожно приблизился к «шифоньеру» и услышал конец фразы, произнесенной Сыроквашем:
— …Ты ответишь за нарушение дисциплины!
— Я готов ответить за все, — спокойно ответил ему Вдовин. — Но сначала я доложу наркому о том, что происходит в нашем управлении!
— Ты думаешь, товарищ Ежов будет с тобой разговаривать?! — с откровенной издевкой в голосе спросил Сырокваш.
— Ну что ж, тогда я добьюсь, чтобы меня принял товарищ Сталин.
Котлячкову стало ясно, что сейчас разговор закончится и Вдовин направится к выходу из кабинета. Он осторожно прикрыл дверь и, на цыпочках пройдя через приемную, бочком выскользнул в коридор…
— И что было потом? — спросил Осипов, когда Котлячков замолчал.
— Не знаю. Я не стал ждать конца разговора и ушел.
— Как ушли? — удивился Осипов. — Вы же собирались что-то докладывать!
— Собирался, — подтвердил Котлячков, — да не стал. Они могли догадаться, что я слышал их разговор. А в те времена… понимаете, свидетеля такого разговора запросто могли убрать!
Это не были пустые домыслы: Котлячков, видимо, хорошо знал то, о чем говорил.
— И все же, — продолжал настаивать Осипов, — что последовало за разговором Сырокваша с Вдовиным?
Я даже отложил ручку, так меня интересовало то, что скажет Котлячков. Но он разочаровал меня.
— Я же сказал — не знаю! Знаю только, что в тот же вечер Вдовин уехал в Москву и больше в управление не возвращался.
И Осипову, и мне было ясно, что Котлячков не обманывает нас: его показания в отдельных деталях сходились с тем, что нам уже было известно.
Оставалось выяснить последний вопрос.
— Ну хорошо, — сказал Осипов. — А что же стало с Бондаренко?
Котлячков махнул рукой:
— А то же, что и со всеми, кто находился тогда во внутренней тюрьме. Оттуда никто не выходил. Если уж попал туда, то виноват не виноват, а дорога была одна — под лестницу!
Я не понял, что он имеет в виду, и вопросительно посмотрел на Осипова, не зная, как записать в протокол сказанное Котлячковым.
Осипов перехватил мой недоуменный взгляд и уточнил:
— Вы хотите сказать, что Бондаренко расстреляли?
— Да, — совершенно будничным голосом, как будто речь шла о ничего не значащем событии, подтвердил Котлячков.
Когда я занес его слова в протокол, Осипов спросил:
— А когда это случилось, не можете сказать?
Котлячков опять поморгал глазами, разок кашлянул, а затем довольно уверенно произнес:
— Думаю, это случилось шестого июня.
— Почему вы так считаете? — спросил Осипов.
Котлячков снова придвинулся к нему и перешел на доверительный тон:
— Потому что седьмого июня мы отмечали день рождения моей покойной супруги, и у меня в гостях был Стручков. Мы вышли с ним во двор покурить, Стручков все переживал, что Сырокваш накажет его за то, что он пустил Бондаренко во внутреннюю тюрьму. Вот во время этого разговора Стручков и сказал мне под большим секретом, что «вчера Бондаренко шлепнули». А «вчера» — это было шестое июня, — рассудительно закончил он.
— А откуда об этом стало известно самому Стручкову? — задал следующий вопрос Осипов.
— Скорее всего, от кого-то из комендантов внутренней тюрьмы, — ответил Котлячков. — Он же был с ними в постоянном контакте.
— Вы хотите сказать, что он с ними постоянно пьянствовал? — видимо, вспомнив его прежние показания относительно Стручкова, уточнил Осипов.
— Да, — с готовностью подтвердил Котлячков.
Осипов дал мне знак, что официальная часть допроса окончена и я могу заканчивать оформление протокола.
Пока я писал на последней странице наши должности и звания, Осипов обратился к Котлячкову:
— Хочу задать вам еще один вопрос, как говорится, без протокола… Скажите, Котлячков, почему вы мне раньше никогда не рассказывали эту историю?
— Потому что вы никогда меня об этом не спрашивали, — с невинным видом ответил Котлячков, и я подумал, сколько еще всего знает этот тщедушный человек и как нелегко это из него вытянуть.
Словно желая подтвердить мою правоту, Котлячков впервые за время допроса позволил себе улыбнуться и добавил:
— Зачем же я сам буду напрашиваться на эти разговоры?
Осипов посмотрел на него долгим, критическим взглядом, потом взял у меня протокол допроса и протянул его свидетелю.
— Ну ладно, прочитайте и распишитесь!
Когда Котлячков подписал протокол, сначала самым внимательным образом его прочитав и настояв на внесении кое-каких исправлений, Осипов протянул ему пропуск и, сказал:
— Можете идти, Котлячков. Если понадобитесь, мы вас еще побеспокоим.
— Всегда к вашим услугам, гражданин следователь, — с покорной учтивостью произнес Котлячков, как будто каждая такая встреча доставляла ему необыкновенное удовольствие, взял пропуск и засеменил к двери.
У двери он еще раз учтиво раскланялся и, наверное, совсем как когда-то из приемной начальника управления, бочком выскользнул в коридор…
11
Когда за Котлячковым закрылась дверь, Осипов еще раз пробежал глазами протокол его допроса, одобрительно кивнул и сказал:
— Итак, можно считать, что с делом Бондаренко удалось разобраться. Теперь надо выяснить, что произошло с твоим отцом.
Осипов положил протокол в папку и добавил:
— Сегодня же надо подготовить запрос в Москву!
У меня все не выходила из головы одна произнесенная Котлячковым фраза.
— Александр Капитонович, — обратился я к Осипову, — а о какой лестнице говорил Котлячков?
— А ты разве еще не знаешь? — удивленно спросил Осипов и тут же спохватился. — Впрочем, откуда тебе знать?
Он посмотрел на меня, словно раздумывал, говорить мне об этом или нет, потом спросил:
— Ты рощу вокруг нашей управленческой дачи хорошо знаешь?
— А как же? — воскликнул я. — Да я, когда был пацаном, всю ее облазил!
— Тогда ты должен знать это место. Помнишь, на другом берегу реки есть такая лестница, с вазами?..
Конечно, я отлично знал эту обшарпанную бетонную лестницу.
Она находилась примерно в километре вниз по течению реки, которая в этом месте делала крутой поворот, так что с территории дачи ее не было видно. Ширина лестницы была около десяти метров, по краям еще сохранились остатки полуразрушенных перил и цветочных ваз в стиле парковой архитектуры тридцатых годов.
Это было излюбленное место местных художников-любителей и рыболовов. Отсюда открывался живописный вид на противоположный берег реки и на город, а с нижней ступени, где бетон обрывался и отвесно уходил в темную воду, было очень удобно рыбачить.
Когда я был мальчишкой, я частенько вместе с приятелями переплывал на другой берег, чтобы позагорать на прогретых солнцем ступенях этой лестницы и понаблюдать, как рисуют художники.
— …Знаю я эту лестницу, — еще не догадываясь, о чем пойдет речь, ответил я. — С нее рыбачить хорошо!
То, что я услышал от Осипова, буквально потрясло меня.
— Ну так вот, — продолжил он, — это сейчас там зона отдыха. А до войны это было глухое место, запретная зона, которая называлась «спецучастком НКВД». Когда начались репрессии, то тела расстрелянных по ночам вывозили из внутренней тюрьмы на этот «спецучасток». Там их и закапывали…
Я слушал его и чувствовал, как спине становится холодно. В первые годы службы в органах госбезопасности такое ощущение появлялось всякий раз, когда мне становились известны сведения, составляющие государственную тайну. А то, что данные о местах захоронений репрессированных людей являются государственной тайной, я нисколько не сомневался.
А Осипов тем временем заканчивал свой рассказ:
— В тридцать девятом году был очень большой паводок, берег возле захоронения сильно подмыло, и трупы поплыли по реке. Их быстренько выловили, вокруг захоронения забили сваи, сверху все забетонировали, а для полной маскировки и соорудили эту лестницу.
Осипов посмотрел на меня и грустно усмехнулся:
— Так что рыбачил ты на братской могиле.
И вдруг я вспомнил, что неприглядный вид этой заброшенной лестницы и нанесенные ей беспощадным временем разрушения всегда вызывали у меня какое-то щемящее чувство и наводили на мысль, что либо она была построена в этом пустынном месте по какому-то недоразумению, либо давно утратила свое первоначальное предназначение и потому стала ненужной.
И только теперь мне стало ясно, почему у меня возникало ощущение бессмысленности существования этой странной лестницы: она вела из НИОТКУДА в НИКУДА!
А еще мне было непонятно, почему сейчас, несмотря на реабилитацию тех, кто лежал под этой лестницей, место их захоронения продолжало оставаться тайной для их родственников. Я так и спросил об этом Осипова.
— Разве дело только в этой лестнице? — усмехнулся Александр Капитонович. — Такие захоронения есть во всех областных городах, по всей стране, где орудовали особые совещания и «тройки». А в Москве, я думаю, таких захоронений несколько, там счет шел на многие тысячи. Вот оттуда и надо начинать.
— И что же мешает? — пытался я докопаться до сути.
— Спроси что-нибудь полегче! — сказал Осипов, достал из стола нераспечатанную пачку сигарет и встал.
— Пошли на доклад, — сказал он и направился к выходу из кабинета…
Начальника отдела на месте не оказалось.
Пока мы размышляли, ждать его в коридоре или уйти, из расположенной напротив приемной начальника управления вышел Швецов и, увидев нас, сказал:
— Василий Федорович у начальника управления.
— Он там надолго? — спросил Осипов, которому не терпелось поскорее доложить новые данные по делу Бондаренко.
— Не думаю, — коротко сказал Швецов и пошел в секретариат.
— Что будем делать? — спросил я у Осипова. — Будем ждать или вернемся к вам?
— Давай подождем, — предложил Осипов, — а я пока покурю.
Мы встали с ним на лестничной площадке, где висела табличка «место для курения» и откуда просматривался кабинет начальника отдела.
Осипов распечатал пачку сигарет и закурил. Сделав несколько затяжек, он посмотрел на меня и спросил:
— О чем задумался, Михаил?
— Да все о том же, — ответил я, имея в виду те мысли, которые не давали мне покоя с того самого момента, как я занялся делом Бондаренко.
— Поделись, если не секрет, — предложил Осипов.
От Осипова у меня не было секретов, и вообще он был одним из наиболее уважаемых мной сотрудников управления.
В органы госбезопасности Осипов пришел после войны. А войну начал заряжающим противотанкового орудия в том сражении под Сталинградом, когда танки Манштейна безуспешно пытались прорваться к окруженной армии Паулюса.
Свою самую главную боевую награду — орден Отечественной войны Осипов получил за бои в Померании, но сам он больше всего дорожил медалью «За отвагу», полученной за свой первый бой.
— В Померании наши пушки стояли одна от другой в десяти-пятнадцати метрах, — рассказывал мне он, — и мы расстреливали немецкие танки, как на полигоне. Какое тут геройство?! А под Сталинградом наша батарея держала почти километр фронта, и в таком бою мне больше не пришлось бывать ни разу до конца войны!
Такому человеку, как Осипов, я мог доверить самые сокровенные мысли.
— Александр Капитонович, — сказал я, — вот вы пересмотрели уже десятки дел на репрессированных и, наверное, много размышляли над этим…
— Конечно! — не дослушав меня, сразу ответил Осипов.
— Из того, что мне довелось читать и слышать, получается, что одной из главных причин массовых репрессий тридцатых годов было стремление Сталина утвердиться в качестве «великого вождя». Так?
— Так-то оно так, но ты сильно упрощаешь, — покачал головой Осипов.
— Почему?
— Да потому, что нельзя начинать отсчет преступной политики Сталина с репрессий! Особенно нам…
Конечно, вспоминая сейчас этот давний разговор, я отлично понимаю, что с позиции сегодняшнего дня наши рассуждения были временами наивными, временами поверхностными, а порой вообще не соответствующими действительности. И это было вполне естественно: тогда мы еще не знали многого из того, что всем нам хорошо известно теперь, не знали всех ужасающих подробностей и истинных масштабов репрессий, о чем в полный голос заговорили только в конце восьмидесятых годов.
В этом разговоре мы не упоминали о репрессиях сороковых и начала пятидесятых годов, да и не могли упоминать, потому что об этом периоде нам было известно еще меньше, чем о том, что происходило в нашей стране в тридцатые годы.
К тому же мы с Осиповым, как и многие наши сограждане, по-прежнему находились в плену тех установок и представлений об истории партии и государства, которые насаждались десятилетиями и до такой степени извратили нашу историю, что до сих пор не удалось пока с предельной точностью установить, как же все происходило на самом деле.
Мы говорили с Осиповым об одном Сталине, не касаясь такого явления, как сталинизм, и не ведая еще, что это явление окажется намного шире и не ограничится только репрессиями и произволом, что это целая система с очень живучей психологией, суть которой заключается в нетерпимости к любому инакомыслию, к любой оппозиции, в стремлении монополизировать власть и идеологию.
Гораздо важнее наших тогдашних заблуждений и ошибок в оценке событий прошлого было то, что мы могли откровенно и всесторонне обсуждать темы, разговор на которые в чекистской среде еще совсем недавно был бы просто немыслим.
Из бесед с ветеранами я знал, какой была обстановка в органах госбезопасности при Сталине. Но когда я пришел туда на работу, я застал уже атмосферу профессионального и товарищеского доверия, когда можно было общаться со своими коллегами, не опасаясь, что на тебя донесут и что разговор на волнующую тебя политическую тему может быть расценен, как колебание от линии партии или неверие в идеалы, которым ты обязан служить.
Эта атмосфера имела большое значение еще и вот почему.
Пройдут годы, на смену «оттепели» шестидесятых придет безвременье семидесятых и первой половины восьмидесятых годов. Всю страну захлестнет мутная волна разложения и коррупции, и только органы госбезопасности в это трудное для страны время сумеют сохранить чистоту и неподкупность основной массы своих кадров.
Этот феномен вызовет общественный интерес, будут высказываться различные суждения, но только немногим удастся найти этому правильное объяснение.
Что касается меня, то, зная обстановку, как говорится, изнутри, я вижу тому несколько причин, хотя, если как следует разобраться, все они примерно одного свойства.
Конечно, сказались заложенные еще при создании ВЧК, традиции.
Но не менее важно и то, что двойная мораль, безнравственность и лицемерие, поразившие наше общество, не прижились в органах госбезопасности. А не прижились потому, что в силу специфики своей профессии чекисты знали (они были просто обязаны это знать!) истинное положение дел в стране, все ее болевые точки, все процессы, происходящие в обществе, и не только знали, но, пожалуй, единственные во всей стране, имели право открыто обсуждать это.
Я не знаю, насколько часто и откровенно обсуждали реальную ситуацию в стране тогдашние руководители партии и государства и заботила ли их эта ситуация, но зато я доподлинно знаю, что чекистов она заботила всегда и обсуждали они ее ежедневно!
Да и как могло быть иначе, если самая, как ее тогда называли, «негативная» информация, полученная кем-либо из сотрудников через его оперативные связи, немедленно должна была докладываться его непосредственному руководителю, тот докладывал своему руководителю, потом эта информация обсуждалась на оперативном совещании и спустя какое-то время становилась известна едва ли не всему личному составу управления.
И так происходило практически каждый день, потому что «негативной» информации было много, она поступала со всех сторон и до каждого сотрудника доводилась в обобщенном виде.
А кроме разнообразных оперативных возможностей чекисты могли еще читать ту литературу, которая для всех других считалась запрещенной, весь «самиздат», поступающую из-за границы продукцию многочисленных так называемых антисоветских центров и организаций, сводки радиоперехвата всевозможных «голосов», и не только читать, но и обмениваться мнениями в своей среде.
Это ли не гласность?!
…И все же в нашем разговоре с Осиповым была затронута одна тема, которая, как мне кажется, и сегодня не утратила своей актуальности.
Помнится, это случилось после того, как Осипов сказал:
— Знаешь, Михаил, есть такой афоризм: «Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно». Я думаю, все дело именно в этом. Понимаешь, при жизни Ленина Сталин был всего лишь равным среди многих его соратников, и чтобы установить режим личной власти — а именно к этому он стремился, — необходимо было устранить всех, кто знал правду о вкладе каждого в победу большевиков и мог оспорить или поставить под сомнение право Сталина называться преемником и продолжателем дела Ленина.
— Но все, кто вместе с Лениным делал революцию и мог, как вы полагаете, оспорить или поставить под сомнение, жили в Москве, Ленинграде, других крупных центрах страны, не так ли?
— Ну, не только! — возразил Осипов.
— Но в основном там, согласитесь! — настаивал я.
— К чему ты клонишь? — не уловил ход моих мыслей Осипов.
— А к тому, — пояснил я, — что я не могу понять, зачем было нужно и на периферии, так сказать, в глубинке, репрессировать тысячи невинных людей?! Ведь они не имели никакого отношения к Сталину и его политическим амбициям! За что пострадали они?!
— Я тоже думал об этом, — сказал Осипов. — И пришел вот к какому выводу…
Он бросил в урну докуренную сигарету, достал новую, прикурил ее и только тогда заговорил снова:
— Я, конечно, не претендую на полноту анализа и бесспорность рассуждений, но полагаю, что это была своего рода «операция прикрытия».
— Как это? — не понял я.
— А так! Чтобы картина непримиримой борьбы с «врагами народа» выглядела более правдоподобно!
Заметив мой недоуменный взгляд, Осипов объяснил:
— Посуди сам, не могло же быть так, что враги окопались только в Москве или, скажем, в Ленинграде, а в других местах их нет! Понимаешь, чтобы замаскировать ликвидацию тех, кто мешал насаждению в стране культа личности, репрессии надо было проводить в масштабах всей страны. И термин «право-троцкистские агенты фашизма» был придуман специально! Секрет этого термина в том, что под него при желании можно было подогнать любой поступок любого человека! Не исключено также, что в какой-то момент репрессии вышли из-под контроля.
— Как это могло случиться? — удивился я, зная, как четко и беспрекословно выполнялись на местах распоряжения руководства.
Осипов не торопился с ответом. Некоторое время он смотрел на тлеющий кончик своей сигареты, потом затянулся и только после этого заговорил:
— Видишь ли, Михаил, во все времена и во всех странах в самые сложные периоды истории активная часть общества всегда делилась надвое: по одну сторону становились те, для кого превыше всего были такие понятия, как долг, достоинство, честь, а по другую — политические авантюристы разного калибра, беспринципные негодяи и самые заурядные подлецы! Так произошло и в тридцатые годы. В то время как одни демонстрировали величие духа и предпочитали погибнуть за свои убеждения, другие упивались властью, получая патологическое наслаждение от расправ над людьми, сводили личные счеты, выслуживались или делали карьеру!
Осипов пристально посмотрел на меня, словно обдумывая, стоит ли мне все это говорить, и наконец, спросил:
— Ты думаешь, если сейчас началось бы нечто подобное, все было бы иначе? Думаешь, среди тех, кто работает вместе с нами, не нашлось бы и тех и других?
Я так не думал. Но догадывался, кого Осипов имеет в виду под «теми» и «другими», я уже успел ко всем присмотреться и тоже мог предполагать, кто как себя поведет, когда потребуется сделать выбор!
— Сталин олицетворял культ личности, — снова заговорил Осипов, — а вся эта мразь — то, что наша партия относит к извращениям этого самого культа. Так что ответственность за то, что репрессии приняли столь массовый характер, несет не только Сталин!
Осипов подождал, пока рассеялся дым от последней затяжки, и задумчиво сказал:
— Конечно, чтобы до конца понять, почему произошла деформация механизма власти в тот период, как могло случиться, что насилие стало инструментом личной власти, нужно знать гораздо больше, чем знаем мы с тобой. Подождем, что решит съезд!
Я тоже надеялся, что на предстоящем Двадцать втором съезде партии будет продолжен процесс разоблачения культа личности и его последствий и что на нем будут даны ответы на многие волнующие миллионы людей вопросы.
Словно не разделяя мой оптимизм, Осипов добавил:
— А вообще я уверен, что оценки личности Сталина и всего того, что произошло в годы его правления, будут еще не раз меняться, по мере того как будет проясняться историческая правда. Если, конечно, у нас хватит мужества довести начатое дело до конца!
Никто из нас тогда еще не мог знать, насколько оправданной была тревога Осипова и что волновался он не зря. Во всяком случае, я и предполагать не мог, что Осипов может оказаться прав, и потому наивно спросил:
— Неужели не хватит?
Осипов не успел мне ответить: из приемной начальника управления показался Василий Федорович.
Бросив недокуренную сигарету в урну, Осипов сказал:
— Ну ладно, потом договорим!..
12
Официальные ответы на заявления и просьбы граждан, поступающие в органы госбезопасности, полагалось давать не позднее, чем через месяц. И только если проверка заявления или выполнение какой-то просьбы требовали проведения длительных и сложных мероприятий, этот срок мог быть продлен с обязательным уведомлением заявителя.
Но с заявлением Анны Тимофеевны Бондаренко мы с Осиповым сумели разобраться значительно быстрее. Правда, после того как Осипов допросил Котлячкова, нам понадобилось еще некоторое время, чтобы завершить кое-какие формальности, но тем не менее не прошло и трех недель, как эта работа была полностью закончена.
Обычно, намереваясь проинформировать родственников репрессированных о результатах проверки их заявления, мы по телефону или повесткой приглашали их в управление. Но на этот раз, учитывая своеобразие ситуации, Василий Федорович распорядился послать за Анной Тимофеевной машину.
Накануне вечером я позвонил ей домой, предупредил о том, что заеду за ней на следующий день в половине одиннадцатого, и в назначенное время мы с дядей Геней подъехали к ее дому.
Как я и ожидал, Анна Тимофеевна вместе с Верой уже ждала нас у подъезда.
Увидев Веру, я поймал себя на мысли, что с нетерпением ждал этой встречи. Все эти дни, пока я занимался делом ее отца, я часто думал о ней и, должен признаться, может быть, вообще впервые в жизни испытывал столь сильное волнение перед встречей с девушкой.
В любом другом случае, если бы девушка мне понравилась и я захотел бы с ней встретиться, мне не составило бы никакого труда найти для этого подходящий повод и время. Но с Верой все было не так просто: мое служебное положение и участие в расследовании обстоятельств гибели ее отца исключали (во всяком случае, до окончания расследования) возможность каких-либо личных встреч.
Это не только противоречило профессиональной этике, но и было запрещено законом. И вообще, пока шло расследование, каждый свой контакт с Верой и ее матерью, как и со всеми другими лицами, имеющими отношение к этому делу, я должен был обязательно согласовывать с Василием Федоровичем.
А кому захочется идти к руководству, чтобы получить разрешение на свидание с девушкой, которая тебе нравится?
Дядя Геня остановился у подъезда. Я вышел из машины, открыл заднюю дверцу, помог Анне Тимофеевне и Вере сесть на заднее сиденье, снова сел рядом с дядей Геией, и мы поехали.
За всю дорогу никто из нас не проронил ни слова.
Я молчал, потому что говорить что-либо в этой ситуации, тем более за несколько минут до официальной беседы, было бы просто бестактно.
Анна Тимофеевна (я понял это, как только увидел ее) была вся напряжена, как струна, готовая лопнуть от любого резкого прикосновения. Я представил, какую ночь она провела после моего вчерашнего звонка, и пожалел, что не догадался позвонить ей сегодня утром.
Что касается Веры, то за все время нашего общения с ней в связи с этим делом я не слышал от нее ни одного слова, и вообще мне иногда казалось, что она даже не замечает меня.
Через десять минут дядя Геня остановил «Волгу» напротив входа в управление, там, где когда-то мой отец в последний раз вместе с Семенкиным вышел из «эмки».
Когда мы втроем направились к центральному подъезду, Анна Тимофеевна на секунду остановилась на том месте, где почти четверть века назад разговаривала с моим отцом, потом провела рукой по лицу, словно отгоняя давние воспоминания, и, не глядя по сторонам, прошла в открытую дверь.
Войдя вслед за Анной Тимофеевной и Верой, я предложил им присесть в вестибюле на стоявшую у стены скамью, а сам прошел в приемную управления, чтобы узнать, все ли готово там к встрече.
Начальник отдела и Осипов были уже в приемной.
Осипов предусмотрительно налил два стакана воды и поставил их на приставной столик. Рядом положил большой синий конверт из плотной бумаги.
Василий Федорович посмотрел, как Осипов расставил стулья по обеим сторонам приставного столика, и сказал:
— Знаешь что, Александр Капитонович, поставь-ка стулья рядом. Так им, пожалуй, будет удобнее.
Осипов выполнил его указание и спросил:
— Ну что, Василий Федорович, можно приглашать?
— Погоди, Александр Капитонович, — тяжело вздохнул полковник. — Дай собраться с духом!
Он отошел к окну и на несколько секунд отвернулся от нас…
Сейчас этот много повидавший на своем веку человек, которого было очень трудно вывести из душевного равновесия, был явно взволнован. Во всяком случае, я еще никогда не видел его в таком состоянии.
Мне казалось, что я догадываюсь, чем это вызвано.
До этого дня мне не доводилось присутствовать при том, как людям объявляют о судьбе их репрессированных родственников. Но от старших товарищей, имевших кое-какой опыт в подобных делах, я знал, что во время таких бесед бывало всякое: и слезы, и обмороки, и вызовы «скорой помощи», не говоря уж об упреках и обвинениях в адрес тех, кто занимался пересмотром дела и затем сообщил им страшную весть.
При этом люди забывали, что тот, кто беседует с ними, не только не имел никакого отношения к расправе над близким им человеком, но зачастую даже не работал в те годы, когда это случилось.
И по-человечески их можно было понять: для них каждый сотрудник госбезопасности, независимо от его возраста и стажа работы, так или иначе олицетворял учреждение, ответственное за гибель их родственника, и они переносили на него всю свою обиду и боль.
А может, все заключалось в том, что беседа эта, как правило, происходила в тех же самых стенах, где когда-то звучали стоны допрашиваемых с пристрастием людей, гремели выстрелы и обрывались жизни тех, кого теперь реабилитировали?
По этой или по какой другой причине, но некоторые сотрудники, чей возраст был больше сорока лет, стремились уклониться от таких бесед и передоверить их проведение своим более молодым коллегам, не без оснований опасаясь, что их могут спросить: «А чем вы занимались в годы репрессий?» И пусть даже этот вопрос будет задан не вслух — на это не каждый решится, — а глазами, все равно это пугало еще больше, чем если бы спросили об этом на многолюдном собрании.
Наконец Василий Федорович отошел от окна и негромко сказал:
— Ну ладно, Михаил Иванович, приглашай!
Я вышел в вестибюль и увидел, что Анна Тимофеевна и Вера сидят все в той же позе, ожидая, когда их позовут, чтобы объявить трагическое для них известие. Услышав мои шаги, они повернули головы в мою сторону, и в их глазах застыл немой вопрос.
— Прошу вас, — сказал я и отступил в сторону, пропуская их мимо вахтера.
Они вошли в приемную и остановились в дверях.
Я указал им на стоявшую в углу вешалку и предложил раздеться, но они отказались.
Анна Тимофеевна судорожным движением руки стянула с головы черный платок, и они с Верой сели рядом на приготовленные для них стулья.
Анна Тимофеевна увидела на приставном столике стаканы с водой, и по выражению ее лица я догадался, что она сразу все поняла.
— Мы пригласили вас… — заговорил Василий Федорович внезапно охрипшим голосом. Он откашлялся и повторил: — Мы пригласили вас, Анна Тимофеевна, чтобы сообщить о результатах рассмотрения вашего заявления.
От этих слов Анна Тимофеевна вся сжалась и с напряженным вниманием посмотрела на начальника отдела. Он выдержал этот взгляд и продолжил:
— Наши товарищи, — он кивнул в нашу с Осиповым сторону, — сумели восстановить те события, которые произошли в тридцать седьмом году…
Василий Федорович говорил очень медленно, как делал всегда, когда хотел скрыть от окружающих свое волнение. Произнеся первые фразы, он сделал небольшую паузу, а затем, еще больше растягивая слова, сказал:
— Наберитесь мужества, потому что мне предстоит сообщить вам тяжелое известие.
— Говорите, я давно готова к любому известию, — тихо произнесла Анна Тимофеевна.
— Анна Тимофеевна, третьего июня тридцать седьмого года ваш муж, Григорий Васильевич Бондаренко, был незаконно арестован. Я говорю незаконно, — повторил Василий Федорович, — потому что он не совершил никаких противоправных действий и ему не было предъявлено никаких обвинений…
Василий Федорович снова сделал вынужденную паузу, немного перевел дыхание и закончил:
— Он всегда был честным человеком, настоящим большевиком и до конца исполнил свой служебный долг! Вы, Анна Тимофеевна, и вы, Вера, можете им гордиться!
— Меня не надо убеждать в его честности, — тем же тихим голосом ответила Анна Тимофеевна. — Я всегда им гордилась. И Веру так воспитала…
Она замолчала. Потом, словно вспомнив нечто очень важное, спросила:
— Что с ним произошло?
На этот раз Василий Федорович говорил более ровным голосом:
— Шестого июня тридцать седьмого года он без суда и следствия был расстрелян. Те, кто совершил это преступление, давно ответили за все!
Я посмотрел на Анну Тимофеевну. Ее лицо было похоже на застывшую маску, глаза наполнились слезами.
Она, конечно, давно все знала, давно свыклась с тем, что ее мужа уже нет в живых, и тем не менее конкретность и неотвратимость этого известия потрясли ее.
— Шестого июня, — одними губами прошептала она.
Вера обняла ее за плечи и хотела дать ей воды, но Анна Тимофеевна отвела ее руку со стаканом.
— У меня есть две просьбы, — обратилась она к Василию Федоровичу.
— Слушаю вас, Анна Тимофеевна, — ответил тот.
— Я бы хотела ознакомиться с делом моего мужа, — сказала она по-прежнему тихо, но очень настойчиво.
— Я уже вам сказал, что следствие по делу вашего мужа не велось, суда над ним не было, поэтому нам нечего вам показать, — как можно мягче произнес начальник отдела.
Василий Федорович сказал сущую правду, но по лицу Анны Тимофеевны было видно, что она ему не поверила.
Она, безусловно, понимала, что за три дня, прошедших со времени ареста Григория Васильевича Бондаренко и до его расстрела, состряпать, даже при всем желании, объемистый том было невозможно. Но женское чутье подсказывало ей, что должен же быть какой-то повод для ареста, и таким поводом, по ее представлению, мог быть только донос. Поэтому она и хотела увидеть этот донос, из-за которого был арестован ее муж, и узнать, кто на него донес.
Но даже если бы следственное дело на Бондаренко существовало, Василий Федорович — я это точно знал — не разрешил бы выдать это дело его вдове, как не разрешал выдавать имевшиеся в архиве нашего управления следственные дела родственникам других репрессированных людей. И не только потому, что это не предусматривалось процессуальным законом, хотя, конечно, хорош закон или плох, но это закон, и его надо выполнять. Помимо строгого следования букве закона, Василий Федорович руководствовался и другими соображениями не столько юридического, сколько этического порядка.
Он рассуждал примерно так.
Ну, допустим, ознакомится человек с делом и узнает, по чьему доносу или на основании чьих показаний был арестован его родственник, и возникнет у него естественное желание найти этого виновника всех его бед или кого-то из его близких, потому что сам доносчик вполне мог разделить участь того, на кого донес или дал показания. И скажет этот человек все, что он думает о том, по чьей вине был репрессирован его родственник, свершит, так сказать, моральное правосудие, хотя вполне могут найтись такие, кто захочет свести счеты или учинить кровную месть. А дальше?
А дальше этот самозваный судья должен знать, что завтра в дверь его дома могут постучаться другие люди, родственников которых оговорил близкий ему человек, и тоже устроить моральный или физический самосуд.
И процесс этот может повторяться бесконечно, потому что те, кто творил беззаконие и произвол, были не так глупы и в своем изощренном коварстве старались предусмотреть все. Они всех связали круговой порукой: жертв и палачей, доносчиков и тех, на кого донесли, обвиняемых и свидетелей — все были опутаны кровавой паутиной! Они не только уничтожали физически, но и стремились всех без исключения лишить права хотя бы после смерти остаться порядочным и честным человеком! И в большинстве случаев им это удавалось.
Далеко не в каждом следственном деле можно найти первопричину ареста того или иного человека, но зато практически в каждом аккуратно подшит список людей, на которых дал показания подследственный и которые были затем арестованы на основании этих показаний!
И обвинять кого-либо в том, что он, находясь в нечеловеческих условиях, оговорил себя и других, может только тот, кто сам не испытал на себе весь этот кошмар, потому что это было не следствие, а выбивание показаний, не суд, а расправа.
И потому не только ради строгого соблюдения процессуального закона органы госбезопасности не показывали следственные дела родственникам репрессированных, но и для сохранения общественного спокойствия и недопущения морального и физического террора.
Пока я размышлял над этой очень непростой проблемой, Анна Тимофеевна высказала свою вторую просьбу:
— Скажите, где похоронен мой муж.
— Мы, к сожалению, пока этого не знаем, — ответил Василий Федорович. — Если нам удастся выяснить, где он похоронен, мы обязательно вам сообщим.
Василий Федорович на этот раз сказал неправду, но он был обязан так поступить, и осуждать его за это было нельзя.
Развенчав культ личности и начав процесс реабилитации жертв сталинских репрессий, высшее руководство партии и государства тем не менее не решалось сказать народу всю правду. Было категорически запрещено указывать места массовых захоронений, во многих случаях родственникам сообщались вымышленные даты и причины смерти их близких, не публиковались статистические данные. Все это делалось, чтобы скрыть истинные масштабы злодеяний против собственного народа, потому что многие высшие руководители сами были причастны к этому.
Видя, что Анна Тимофеевна не удовлетворена его ответами, и желая как-то разрядить возникшую напряженность, Василий Федорович указал ей на лежащий на приставном столике конверт и сказал:
— В этом конверте, Анна Тимофеевна, все официальные документы, дающие вам право…
— Оставьте себе эти документы! — гневно оборвала его Анна Тимофеевна. Затем она вытерла слезы платочком и тихо сказала: — Пойдем, Вера, отсюда…
Она с трудом поднялась со стула и в сопровождении Веры пошла к двери. У дверей она остановилась, посмотрела на меня и сказала:
— Теперь я поняла, почему тогда, в тридцать седьмом, тот сотрудник стал избегать меня! Видимо, ему было стыдно!
От несправедливости высказанного Анной Тимофеевной подозрения мне стало так обидно, как будто это меня обвинили в чем-то очень непристойном. Я растерянно посмотрел на начальника отдела, не зная, ответить Анне Тимофеевне или промолчать.
Василий Федорович встал из-за стола и подошел к Анне Тимофеевне.
— Сотрудник, который разговаривал с вами, — сказал он, — был заместителем начальника управления. Поверьте мне, Анна Тимофеевна, он ни в чем перед вами не виноват! А увидеться с вами он не сумел, потому что тоже погиб!
— Как погиб? — с недоверием посмотрела на него Анна Тимофеевна. — А он-то почему?!
— Мы пока не знаем всех подробностей, — объяснил ей Василий Федорович, — но полагаем, что он погиб, пытаясь спасти от расправы вашего мужа, как ваш муж пытался защитить от расправы невинных людей.
— Разве тогда среди этих нелюдей были такие? — с еще большим недоверием спросила Анна Тимофеевна.
— Были! — убежденно сказал Василий Федорович. — Настоящие люди были во все времена! Их и уничтожили потому, что они не позволяли творить беззаконие!
Анна Тимофеевна виновато посмотрела сначала на начальника отдела, потом на меня и, с трудом сдерживая слезы, произнесла:
— Простите меня! Простите, ради Бога!
— Это вы нас простите, Анна Тимофеевна, — сказал Василий Федорович, наклонился и поцеловал ей руку.
Затем он открыл перед ней дверь и посторонился.
Осипов взял со стола конверт с документами и вслед за Анной Тимофеевной и Верой вышел из приемной.
Василий Федорович вернулся к столу, выпил залпом стакан воды, приготовленный для посетительниц, и страшным голосом прохрипел:
— Почему мы?!.. Почему мы должны краснеть за содеянное другими?
Он сел за стол, сжал кулаки так, что побелели пальцы, и сказал:
— Заставить бы этих стервецов самих смотреть в глаза родственникам своих жертв!..
13
Последующие несколько недель я, как и все сотрудники управления, был очень сильно занят. В Москве начался Двадцать второй съезд партии, приближалась годовщина Октября, а в период и накануне таких событий все органы госбезопасности всегда работали по очень напряженному графику.
В последний день работы съезда я тоже вернулся домой поздно.
Войдя в подъезд моего дома, в котором я прожил всю свою жизнь, я стал подниматься по лестнице, как вдруг до слуха моего донесся какой-то странный звук.
Я прислушался и отчетливо услышал, как под лестницей кто-то шмыгнул носом.
Я снова спустился и заглянул под лестницу.
Там, в полутемном углу, прижавшись к теплой батарее парового отопления, сидел парнишка лет двенадцати.
— Юра? — узнал я соседского мальчишку. — Ты что здесь делаешь?
— Ничего, — угрюмо ответил Юра.
— Почему ты не идешь домой? — не отставал я от него.
— Чего я там не видел? — отвернувшись к стене, ответил Юра и снова шмыгнул носом.
Я подошел к нему и сел рядом на батарею.
— Ну, старик, что-то ты совсем закис.
С Юрой мы были большими приятелями. Он был, пожалуй, самым верным из всех моих болельщиков и не пропускал ни одних соревнований с моим участием, радуясь больше меня самого моим успехам и намного болезненнее меня переживая мои неудачи.
Юре я отдавал все завоеванные мной в спортивной борьбе значки и жетоны, потому что никогда не любил все эти побрякушки и ни разу в жизни не надевал ни одной из них. В последние годы Юрина коллекция пополнялась не так часто, я все реже и реже участвовал в соревнованиях, и он по этому случаю переживал, наверно, даже больше, чем я.
Между нами давно установилось то абсолютное доверие, которое может установиться только между мальчишкой в этом славном возрасте и его старшим кумиром, на которого он стремился быть похожим.
Пользуясь этим доверием, я обнял Юру за плечи и спросил:
— Что все-таки случилось?
— Да опять этот лысый пришел! — с откровенной неприязнью в голосе сказал Юра.
Я сразу понял, что произошло.
Проблема заключалась в том, что отец Юры работал испытателем на авиационном заводе и около трех лет назад погиб. Проведенным расследованием было установлено, что отказала гидравлическая система управления самолетом, в одном из трубопроводов которой был обнаружен пыж из стекловолокна.
По этому факту, похожему на диверсию, было возбуждено уголовное дело, которое вел Осипов. Одновременно проводились различные оперативные мероприятия, и вскоре было установлено, что этот пыж засадил в трубопровод один из контролеров военной приемки, которому, вопреки его надеждам, не дали квартиру в строящемся доме и который в связи с этим обозлился на своего непосредственного начальника и заодно на весь белый свет.
Вот так, желая отомстить одному, он угробил другого и осиротил Юру и его годовалую сестренку.
Два года Юрина мама бедовала с двумя детьми на мужнину пенсию, не имея возможности работать, потому что надо было присматривать за детьми и ухаживать за свекровью, которая слегла после гибели сына, пока наконец не встретила этого самого «лысого», которого так невзлюбил Юра.
Честно говоря, мне он тоже не очень-то нравился, но жить с ним собиралась Юрина мать, и ей было виднее, с кем связывать свою жизнь и жизнь своих детей.
— Ах, вот в чем дело? Зря ты так, Юра! — укоризненно сказал я и привел единственный имевшийся в моем распоряжении довод в пользу «лысого». — У него вся грудь в орденах!
— Ну и пусть! — упрямо стоял на своем Юра. — Все равно он мне не нужен!
Я прекрасно понимал его настроение.
Я сам вырос без отца и испытал на себе все прелести безотцовщины, страшно завидуя тем своим, прямо скажем, немногим товарищам, у кого отцы были. Я ужасно хотел, чтобы у меня был отец, но чтобы это был именно мой родной отец, а не какой-то чужой дядя.
После гибели отца всю свою оставшуюся жизнь мать хранила ему верность и потому растила меня одна, хотя, конечно, не раз могла бы выйти замуж.
Году в сорок девятом за ней очень настойчиво ухаживал капитан Нечаев, бывший фронтовой разведчик, вся семья которого погибла на оккупированной территории от рук полицаев. Он был в нашем управлении начальником розыскного отделения и мог не спать неделями, идя по следу какого-нибудь фашистского пособника. Это был во всех отношениях просто замечательный человек, и я очень хорошо к нему относился.
Но однажды мама пришла с работы и за ужином, погладив меня по голове, сказала:
— Поздравь меня с капитаном!
Я подумал, что она решила выйти замуж за капитана Нечаева, и пришел в ужас. Нам было так хорошо вдвоем, что в своем детском эгоизме я и представить себе не мог, что в нашу маленькую, но дружную семью придет кто-то третий.
Но мои страхи тогда оказались напрасными: маме просто присвоили очередное воинское звание!
Вспомнив сейчас этот эпизод, я посмотрел на Юру и сказал:
— А ты, оказывается, эгоист! О маме ты, значит, не думаешь? А Лариску ты спросил? Она-то к нему как относится?
Юра передернул плечами и, снова отвернувшись к стене, ответил:
— Лижется с ним, дура!
— Вот видишь! — обрадовался я тому, что у меня есть такой союзник. — Она хоть и младше, а лучше тебя понимает, как маме трудно с вами одной. Да и вам не сладко, по себе знаю.
Юра порывисто повернулся ко мне и возбужденно проговорил:
— Да был бы он летчиком, как мой папа, или хотя бы шофером! А то!.. — И Юра безнадежно махнул рукой.
— Знаешь, что я тебе скажу… — прижал я его к себе, не представляя пока, как доказать ему, что профессия строителя, а «лысый» был именно строителем, ничуть не хуже профессии летчика или шофера.
И все же мне удалось, как мне кажется, найти кое-какие аргументы и успокоить Юру.
Мы просидели с ним на батарее минут пятнадцать, пока я сумел уговорить Юру вернуться домой, пообещав ему в один из ближайших дней показать свой пистолет.
— А вы мне его точно покажете, дядя Миша? — не веря своему счастью, переспросил Юра, когда мы поднимались с ним по лестнице.
— Покажу, покажу, — успокоил я его, но ему этого показалось мало, и он потребовал с меня честное слово.
— Честное слово, — сказал я и подтолкнул к двери его квартиры.
Пока он звонил, я успел взбежать на следующий этаж и услышал, как внизу открылась дверь и взволнованный женский голос произнес:
— Юра, ну где ты ходишь?! Мы с Петром Даниловичем уже собирались тебя искать!
Пока я решал с Юрой его проблемы, мать готовила ужин и слушала радио.
Передавали отчет о последнем дне работы съезда партии.
Она что-то помешивала в сковороде, когда голос диктора привлек ее внимание. Она отошла от плиты и повернула ручку регулятора громкости.
Голос диктора стал отчетливее:
— …Затем Двадцать второй съезд КПСС принял постановление «О Мавзолее Владимира Ильича Ленина»…
Услышав, как я открываю дверь, мать крикнула мне из кухни:
— Миша, иди сюда!
— Мама, как насчет поужинать? — снимая пальто, спросил я. — Я голоден, как…
— Быстрее! — поторопила меня мать. — Передают важное сообщение!
Я прошел на кухню и встал в дверях, пытаясь уловить смысл того, что говорил диктор московского радио:
— …именовать впредь Мавзолеем Владимира Ильича Ленина. Второе — признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом Иосифа Виссарионовича Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее Владимира Ильича Ленина…
Закончив чтение постановления съезда, диктор умолк.
После непродолжительной паузы в динамике раздался женский голос:
— А теперь послушайте концерт из произведений Сергея Рахманинова…
Некоторое время мы с матерью молча вслушивались в фортепьянные аккорды. Каждый из нас думал о своем.
Я вспомнил разговор с Осиповым и его надежду на то, что съезд примет какие-то важные решения по преодолению последствий культа личности Сталина.
На плите что-то зашипело, и, видимо, это вывело мать из состояния глубокой задумчивости. Она сняла с плиты сковороду, выключила газ и, словно продолжая неначатый еще разговор, сказала:
— Сегодня он умер во второй раз!
Я даже не сразу понял, кого она имеет в виду, а когда наконец сообразил, мать добавила:
— Кто бы мог подумать, что его ждет такой бесславный конец?
— Зато теперь все будет по справедливости. Без тайн, без мистики, без обожествления! — ответил я.
— По справедливости?! — возмутилась мать. — Сначала положить в Мавзолей, а потом вынести его оттуда — разве это справедливо?!
— Может быть, не следовало помещать его гроб в Мавзолей? — После всего, что я узнал за один этот год, нахождение тела Сталина в Мавзолее казалось мне ужасным кощунством.
— Не следовало?! — воскликнула мать и нервно заходила по кухне. — А ты помнишь, что творилось, когда он умер?
— Еще бы! — Я отлично помнил эти бессонные ночи накануне похорон Сталина.
Я учился тогда в девятом классе, и все эти дни наша школа походила на караульное помещение, потому что уроки были отменены, а все старшеклассники круглые сутки, поочередно сменяясь, стояли с учебными винтовками в руках в почетном карауле у большого портрета Сталина на лестничной площадке между вторым и третьим этажами.
Наши классные руководители тоже находились вместе с нами и выполняли роль разводящих, выводя через каждые тридцать минут очередную смену для несения караула.
— А его похороны? — продолжала мать. — Ты помнишь, как плакали люди?
И это я тоже хорошо помнил.
В день похорон нас вывели на центральную площадь города к памятнику Сталину, где состоялся траурный митинг.
По репродукторам шла трансляция с Красной площади, все вокруг слушали траурную музыку и речи ораторов, прощавшихся с «вождем всех народов» и плакали.
— Это было такое горе! — словно комментируя мои воспоминания, говорила мать. — Всенародное! Нам всем было страшно, мы не знали, как будем жить без него, что будет с нами!
И это тоже было верно. Я, правда, не помню, чтобы в тот момент я не представлял себе, как буду жить дальше, но помню, что, поддавшись всеобщему настроению, страшно переживал за стоявших рядом плачущих людей, на лицах которых действительно было неподдельное горе.
— Представляешь, — спросила мать, — если бы в этот момент кто-то сказал, что Сталину не место в Мавзолее?! Да его бы растерзали на месте!
И сейчас мать была абсолютно права, потому что фанатичная вера большинства людей в гений Сталина была столь велика и безгранична, а убеждение, что он является единственным и верным продолжателем дела Ленина, столь прочно укоренилось в их сознании, что иного места для его тела и быть не могло!
— И вот теперь те же люди, — мать горько усмехнулась, — которые бились в истерике на его похоронах, проголосовали за это постановление!
Вот здесь я никак не мог с ней согласиться, потому что по разным причинам люди бились в истерике и голосовали сначала за одно решение, потом за другое.
Одни знали все и горевали потому, что с уходом Сталина из этой жизни их собственное благополучие в любой момент могло превратиться в прах, и поэтому стремились продлить его эпоху.
Другие ни во что и никогда не верили, и их слезы и горе были также фальшивы и лицемерны, как до этого были фальшивы и лицемерны их здравицы в честь созданного с их помощью живого бога.
Но больше всего было обманутых, в головы которых десятилетиями вдалбливали слепую веру в гениальность и величие вождя, и прозрение было для них, пожалуй, не меньшей трагедией, чем до этого бездумное поклонение извращенным до неузнаваемости идеалам.
— Разве можно их осуждать за то, что они верили мифам? — имея в виду тех, кто прозрел, подобно мне, за годы, прошедшие после смерти Сталина, спросил я. — Ты, по-моему, до сих пор им веришь!
— Не смей со мной так разговаривать! — вспылила мать. — Что ты знаешь о Сталине?
— А ты? Что ты знала о Сталине? — задал я ей встречный вопрос. — Что знало о нем все твое поколение?
Мать пыталась что-то мне ответить, но я, не слушая ее, продолжал:
— Вы жили среди его портретов, статуй, вы превратили его в божество, да и нашу идеологию едва не превратили в религию!
Я поймал себя на мысли, что слишком резко разговариваю с матерью, и постарался говорить спокойно.
— А мое поколение знало о нем еще меньше. Нам только все время твердили: Сталин — это Ленин сегодня! Это сегодня мы знаем, что Сталин встал над всеми. И чтобы удержаться на этой недосягаемой для других высоте, запустил карательную машину!
Мать даже задохнулась от возмущения:
— Ты не имеешь права так говорить о Сталине! Как ты можешь судить великого человека?!
— Я его не сужу, — возразил я. — Его судит весь наш народ. И еще долго будет судить.
Мать тяжело опустилась на табурет и устало махнула рукой.
— Судить легко, — сказала она. — Но почему все сразу забыли про его заслуги? Ведь их было намного больше, чем ошибок!
— Мама, пойми, — попытался я ее убедить, — арифметические подсчеты здесь неприменимы! И кроме ошибок, как тебе известно, у Сталина были тягчайшие преступления!..
Я встал, подошел к окну и поразился той необыкновенной перемене, которая произошла на улице за какой-то десяток минут. Когда я возвращался домой, было морозно и сухо, а сейчас за окном все побелело: пошел первый снег.
Я повернулся и посмотрел на мать.
Она сидела, сложив руки на коленях, и мне показалось, что она уже почти готова со мной согласиться, но что-то мешает ей это сделать.
— Уже пять лет все органы КГБ занимаются реабилитацией невинно пострадавших людей! — отойдя от окна, заговорил я снова. — И сколько лет потребуется еще? Поэтому никакие заслуги не могут оправдать бесчеловечности! Да и с заслугами Сталина тоже еще предстоит разбираться!
Мать недоуменно посмотрела на меня, и я спросил:
— Разве это справедливо — ему одному приписывать все самое значительное, что было сделано многими людьми, всем народом? Вспомни хотя бы войну! В поражениях был виноват кто угодно, только не он, а когда пришли победы…
— Михаил! — умоляющим голосом произнесла мать.
— Что, мама?
— Михаил, прекрати, прошу тебя, — сказала мать. — Не забывай — ты чекист! Ты должен верить, а ты сейчас рассуждаешь, как… — она запнулась, подбирая подходящее сравнение.
«Бедная моя мама, — подумал я. — Неужели жизнь ничему тебя не научила?».
А вслух я сказал:
— Да, ты права, я должен верить. И я верю! Поэтому после Двадцатого съезда я твердо решил, что мое место в органах госбезопасности. Но нельзя верить слепо! Надо знать все, разобраться во всем до конца! Чтобы прошлое никогда не повторилось!
— Но я не могу так, Михаил! — покачала головой мать. — Я не могу так сразу зачеркнуть то, во что верила. Ведь я тоже когда-то плакала на его похоронах вместе со всеми.
Я не видел мать во время похорон Сталина, потому что был на траурном митинге вместе со своей школой. И только сейчас эта железная женщина призналась мне, что тоже плакала тогда, и это было самым большим доказательством ее преклонения перед Сталиным.
Мне стало обидно за мать. Она еще не знала ничего, что было связано с расследованием дела Бондаренко, не знала, какие показания дал Котлячков о последнем разговоре отца с Сыроквашем: Василий Федорович считал преждевременным, до получения результатов расследования в Москве, информировать ее об этом, чтобы не травмировать понапрасну, поскольку некоторые наши предположения могли и не подтвердиться.
Но я-то знал все, и поэтому мне стало обидно за мать. Я подошел к ней, погладил по голове и сказал:
— Когда-нибудь тебе станет жаль своих слез…
14
Следствие по делу преступной группы торговцев драгоценным металлом было закончено в установленные сроки и в конце ноября передано в суд.
Всего по групповому делу «Энтузиасты» проходило более двадцати человек, и, если формально следовать закону, всех их можно было предать суду. Однако управление КГБ внесло в суд ходатайство о привлечении к уголовной ответственности только семи человек, нанесших государству наибольший ущерб, а остальных предложило использовать в качестве свидетелей, отразив тем не менее столь массовый характер этого преступления в специальном частном определении и направив его на промышленные предприятия, на которых при попустительстве администрации совершались хищения.
Четверо обвиняемых содержались в следственном изоляторе, у троих, в том числе у Хрипакова, оказавшего следствию существенную помощь в установлении истины по данному делу, были отобраны подписки о невыезде.
После нашей последней встречи в кабинете Осипова я больше не видел Хрипакова. Сам я появлялся в фехтовальном зале от случая к случаю, вконец раздосадованный тем, что этот спортивный сезон оказался для меня безвозвратно потерянным, а Женя с момента привлечения его к уголовной ответственности вообще забросил спорт.
Не состоялась даже наша традиционная встреча на его дне рождения, хотя в былые времена, за исключением одного раза, когда я учился в контрразведывательной школе, эту дату мы всегда праздновали вместе. На этот раз я даже не знал, отмечал Хрипаков свой день рождения или нет.
Накануне того дня, когда Хрипакову исполнялось двадцать четыре года, я с каким-то смешанным чувством, в котором были тревога и тайная надежда, ждал приглашения, но у него оказалось достаточно здравого смысла или такта этого не делать. Я говорю о здравом смысле или такте потому, что обиды на меня, судя по его поведению на следствии, не должно было быть. А вот совместная гулянка обвиняемого и сотрудника органа, ведущего следствие, за несколько дней до судебного процесса была нежелательна со всех точек зрения.
Непосредственно в день рождения я долго думал, поздравить его хотя бы по телефону или нет, но счел благоразумным воздержаться. В его теперешнем положении мои поздравления выглядели бы фальшиво и вряд ли доставили бы ему удовольствие. Да и что я мог ему пожелать в этот день?
Эта довольно двусмысленная ситуация дала мне повод для раздумий, итогом которых было осознание того непреложного факта, что мое служебное положение диктует теперь жесткие правила поведения с окружением, в том числе с близкими друзьями и даже с родственниками, которых у меня, правда, было не так уж много. До этого у меня как-то не было повода об этом задумываться. Но отныне эти правила должны были распространяться на всю мою повседневную жизнь.
Каждому сотруднику госбезопасности, который при исполнении своих служебных обязанностей общается с очень широким и разнообразным кругом людей, вне работы приходится жить в довольно замкнутом мире, ограниченном в основном членами его семьи и сослуживцами. Некоторые склонны считать этот замкнутый мир особой «кастой», но это, на мой взгляд, никакая не каста, а добровольное самоограничение, избавляющее сотрудника госбезопасности от всевозможных компрометирующих его ситуаций, а его окружение — от искушения использовать родственные отношения или дружеское знакомство с ним в неблаговидных или корыстных целях.
За каждым сотрудником госбезопасности внимательно наблюдают десятки, а иногда и сотни глаз, и одним из профессиональных качеств каждого, кто заботится о безупречности своей репутации и репутации ведомства, в котором он служит, становится большая разборчивость в связях и умение интуитивно чувствовать ситуации, в которые ему никоим образом не полагается попадать.
Все это теоретически было мне известно, поскольку входило в профессиональный кодекс поведения, основные заповеди которого я усвоил в контрразведывательной школе. И после случая с Хрипаковым я не собирался отказываться от своих друзей, а тем более от родственников, но кое-какие выводы в смысле определенной осмотрительности при дальнейшем общении с ними я был просто обязан для себя сделать.
В эти же дни произошло два события, каждое из которых было по-своему примечательно и оставило заметный след в моей жизни. Одним из них был прием кандидатом в члены партии.
Сразу после ноябрьских праздников меня вызвал секретарь парткома управления и, просмотрев подготовленные для вступления в партию документы, сказал:
— Не хватает рекомендации от комсомола. Я звонил Щеглову, он обещал все сделать и просил, чтобы завтра к трем часам ты подошел в горком комсомола.
Первый секретарь горкома Щеглов в мои студенческие годы был секретарем комитета комсомола университета, и мы были давно и довольно близко знакомы, хотя он был на три года меня старше. Отправляясь в горком, я рассчитывал, что получение рекомендации будет пустой формальностью, как было своего рода формальностью и само вступление в КПСС: не всех коммунистов брали работать в КГБ, но каждый чекист должен был быть членом партии, поэтому прием на работу в КГБ автоматически означил прием в ряды КПСС. Да и какие могли возникнуть проблемы с рекомендацией в партию офицера органов госбезопасности, которого два года назад этот самый горком комсомола как раз и направил на эту работу?
Но все оказалось несколько сложнее, чем я думал.
В приемной первого секретаря я застал человек десять комсомольцев, ожидавших приема. Не успел я их оглядеть, как из кабинета вышла длинноногая девица, заправила в пишущую машинку лист бумаги и стала что-то печатать, периодически поглядывая в вынесенный из кабинета листок. Когда я сказал ей, что мне нужен Щеглов, она, не отрываясь от работы, ответила:
— Он ведет бюро. А вы кто будете?
— Моя фамилия Вдовин. Щеглов назначил мне встречу на три часа.
Девица допечатала последнюю строчку, вынула лист из машинки и сказала:
— Он меня предупредил. Вам придется подождать. Сейчас закончится обсуждение персонального дела и начнется утверждение рекомендаций. Вас вызовут первым.
Я не ожидал, что меня пригласили на бюро горкома и совершенно не был к этому готов. Но отступать было поздно. Я уселся в углу приемной и постарался представить себе, как будет выглядеть процедура утверждения рекомендации и о чем меня будут спрашивать.
Однако ничего конкретного представить я не сумел, потому что присутствовать при том, как комсомольский комитет утверждает рекомендации для вступления в партию, мне никогда не доводилось, и даже рекомендацию для работы в органах госбезопасности горком в свое время выдал мне заочно, то есть без моего личного присутствия при ее обсуждении. И теперь мне оставалось только полагаться на свою способность благополучно выпутываться из самых неожиданных ситуаций.
Пока шло бюро, я оглядел собравшихся в приемной. Большинство из них, как я догадался, были такие же, как я, соискатели горкомовского благословения, однако ничего полезного для себя из этого открытия мне извлечь не удалось: все они сидели молча, друг с другом не разговаривали, предстоящее им испытание не обсуждали, и по их озабоченным и одновременно одухотворенным лицам ничего невозможно было понять.
Но вот наконец из кабинета первого секретаря вышли два распаренных, словно после бани, комсомольца, внешний вид которых соответствовал как минимум строгому выговору, возможно, даже с занесением, девица чинно прошла в кабинет, пробыла там с полминуты, снова вышла в приемную, посмотрела на меня и, слегка улыбнувшись, сказала:
— Проходите, товарищ Вдовин.
Я вошел в кабинет и по сосредоточенным лицам членов бюро понял, что меня ждет трудное испытание: они явно не остыли еще от только что закончившегося персонального дела и по инерции вполне могли перенести на меня весь свой нерастраченный задор.
— Садитесь, Михаил, — по давней традиции называть всех комсомольцев только по именам обратился ко мне Щеглов.
Я сел на стул, стоявший у противоположного края длинного стола, за которым сидели члены бюро. Щеглов достал из лежавшей перед ним красной папки мою справку-объективку и прочитал:
— Вдовин Михаил Иванович, выпускник нашего университета, оперуполномоченный областного управления КГБ, лейтенант. Просит дать ему рекомендацию, для вступления кандидатом в члены КПСС.
Я ничего у горкома не просил, но возражать Щеглову не стал, решив полностью отдаться накатанной годами процедуре.
— Какие у членов бюро будут вопросы? — закончил Щеглов.
Члены бюро встрепенулись и посмотрели на меня с явным интересом, словно впервые увидели живого сотрудника КГБ, а сидевший слева от меня парень в пестром свитере сделал знак, что мне следует встать.
«Зачем нужно было садиться, если все равно полагается стоять?» — успел подумать я, и в этот момент прозвучал первый вопрос:
— Какое участие вы принимаете в жизни комсомольской организации вашего управления?
— Видите ли, — ответил я всем сразу, — среди офицеров нашего управления всего два комсомольца, поэтому у нас нет своей комсомольской организации.
Члены бюро недоуменно переглянулись, а один из них спросил:
— А где же вы состоите на учете и платите взносы?
— Мы состоим на учете в управлении внутренних дел. Но в силу специфики нашей работы на комсомольские собрания не ходим и никакого участия в жизни их комсомольской организации не принимаем.
Я заметил, как члены бюро насторожились. Видимо, впервые в их богатой практике комсомолец, собирающийся вступить в партию, вместо того чтобы красочно расписывать свой вклад в славные дела ВЛКСМ, сделал такое откровенное и неожиданное признание.
— Что это за специфика такая, что она мешает присутствовать на комсомольских собраниях? — не без ехидства поинтересовался тот самый член бюро, который за минуту до этого поднял меня со стула.
Я только сообразил, как ему ответить, чтобы он понял и при этом не очень обиделся, как Щеглов решил прийти мне на помощь и направить обсуждение в привычное русло.
— Расскажите о правах и обязанностях члена КПСС.
Его вопрос меня разозлил. «Ну, паразит, — подумал я. — Ты не мог заранее предупредить, что меня собираются слушать на бюро да еще экзаменовать по Уставу партии?!»
Отвечать на этот и другие подобные вопросы мне совершенно не хотелось. И не только потому, что, идя в горком, я не догадался еще раз повторить основные положения Устава КПСС. В конце концов, в отличие от своих экзаменаторов, я уже входил в своеобразную элиту, в «боевой отряд партии», как все годы советской власти именовались органы госбезопасности, и мне, офицеру-чекисту, не к лицу было уподобляться школяру, бездумно отвечающему вызубренный урок! Если им так хочется, пусть экзаменуют тех, кто за дверью ждет своей очереди, но не меня!
— Я прошу прощения, — предельно вежливо парировал я, — но мне кажется, что подобные вопросы уместнее задавать на партийном собрании во время приема в партию.
Члены бюро удивленно переглянулись, словно спрашивая друг друга: «Что это за нахал — учит нас, какие вопросы можно задавать, а какие нет! Не пора ли поставить его на место?»
— Но сначала нужно получить рекомендацию, товарищ Вдовин, — назидательно заметил рано начавший лысеть блондин, сидевший на дальнем от меня конце стола. — Вы со мной согласны?
— Согласен, — смиренно ответил я. — Но неужели при этом нельзя обойтись без формализма?
Щеглов сверлил меня взглядом, давая понять, что не в моих интересах вступать в полемику с членами бюро.
— А о чем бы вы хотели, чтобы мы вас спросили?
Лица молодой женщины, задавшей этот вопрос, я не видел, ее заслонял от меня лысеющий блондин, но голос показался мне ужасно знакомым.
— Ну хотя бы о том, кто я, как работаю, чем живу. Ведь, насколько я понимаю, вам нужно выяснить — достоин ли я вашей рекомендации или нет. А знание устава — дело второстепенное.
Щеглов сделал страшные глаза и сокрушенно покачал головой.
— Однако! — воскликнул кто-то из членов бюро, и я понял, что крайне неудачно сформулировал свою мысль, потому что последние слова могли быть истолкованы превратно.
— Ну что ж, резонно! — сказал Щеглов, решив в эту критическую минуту бросить мне спасательный круг, и тем самым загладить свою вину за то, что не предупредил меня о предстоящем допросе с пристрастием.
Его слова прозвучали весьма весомо, и я почувствовал, что обстановка несколько разрядилась.
— Тогда расскажите нам о себе, — снова раздался знакомый женский голос.
Для меня это был самый легкий вопрос, потому что за свою жизнь мне приходилось неоднократно на него отвечать, да и было что рассказать. Когда я закончил краткий обзор прожитой мной жизни, последовал очередной вопрос:
— Чем вы занимаетесь в областном управлении КГБ?
Я не понял, имел ли спросивший в виду лично меня или под словом «вы» подразумевался весь личный состав управления, и потому решил ответить за себя.
— Я веду оперативную работу на одном из оборонных объектов, а также решаю некоторые другие задачи.
— А можно поточнее? — явно неудовлетворенный моим ответом, спросил какой-то не в меру дотошный член бюро. — Что это за «другие задачи»?
— Можно, — с готовностью ответил я и, как мне показалось, с предельной откровенностью доложил: — Речь идет о сохранности государственных секретов, розыске государственных и военных преступников и расследовании особо опасных государственных преступлений на предприятиях промышленности и транспорта.
Неоднократное употребление слова «государственных» произвело на членов бюро необходимое впечатление и несколько охладило их любопытство. Один из них даже не удержался и призвал:
— Товарищи, давайте воздержимся от излишней детализации! Не забывайте, что товарищ Вдовин работает не на заводе или в совхозе, а в органах госбезопасности!
— Чем вы занимаетесь в свободное время? — перевел обсуждение на нейтральные рельсы парень в пестром свитере. — Что читаете? Ходите ли в кино, в театр?
Я попытался вспомнить, когда в последний раз был в кино или в театре, но так и не вспомнил: почти все вечера я отдавал встречам с агентами, их у меня на связи было четырнадцать человек, и с каждым полагалось встретиться два раза в месяц. С чтением литературы по тем же причинам тоже была напряженка. И потому я сказал честно:
— Свободного времени у меня практически нет. Все, что я успеваю, — это тренироваться.
— К сведению членов бюро, — снова поддержал меня Щеглов, — товарищ Вдовин пятиборец, мастер спорта.
Его слова не произвели на членов бюро особого впечатления. Видимо, они считали, что члену партии нужнее не здоровое тело, а здоровый дух. Это стало очевидно из следующего вопроса.
— А как же вы тогда повышаете свой идейный и культурный уровень? — снова раздался знакомый женский голос, и в этот момент заслонявший ее от меня своим телом лысеющий блондин откинулся на спинку стула, дав мне возможность наконец увидеть ту, которая проявляла такой неподдельный интерес к моей персоне…
Случилось так, что после шестого класса мы вместе с Хрипаковым в первый и последний раз вместе поехали отдыхать в пионерский лагерь. Обычно мы проводили лето в разных местах: родители Женьки, работавшие на оборонном заводе, отправляли его в заводской лагерь, а я отдыхал где придется, потому что своего пионерского лагеря областное управление госбезопасности не имело. В это лето Женька уговорил, отца, и тот с большим трудом выхлопотал путевку и для меня.
Еще на сборном пункте вокруг нас сгруппировалась значительная часть наших сверстников, и когда пришло время выбирать руководство отряда, мы уже были признанными вожаками мальчишеской стаи. Поэтому не было ничего удивительного в том, что меня избрали председателем совета отряда, а Женьку звеньевым.
Произошло это к заметному неудовольствию наших воспитателей, потому что, как это и полагается настоящим вожакам, мы держались чересчур независимо, а большинство педагогов всегда предпочитают иметь во главе любых форм детского самоуправления послушных и исполнительных подростков. Все это, понятно, было чревато конфликтом. Так и произошло, причем повод для конфликта мы дали сами.
Наши мятежные мальчишеские души, зажатые суровой лагерной дисциплиной, требовали хоть какой-то отдушины. И такой отдушиной стали ночные рыбалки, на которые мы с Женькой в компании нескольких самых надежных приятелей отправлялись перед рассветом, чтобы вернуться к лагерному подъему.
Мы прятали улов, а сразу после завтрака уходили в лес, в строгом соответствии с пионерскими традициями разводили костер и на прутиках жарили рыбу. При этом у костра собирались не только те, кто ходил с нами на рыбалку, но и значительная часть отряда.
Один из мальчишек долго упрашивал нас взять его на рыбалку, а когда мы ему отказали, в отместку нас «заложил». Будь мы в ладах с воспитателями, они бы, наверное, нас пожурили и этим ограничились. Но отношения у нас не сложились, и потому было принято решение примерно нас наказать.
Когда мы под утро возвращались с очередной рыбалки, у отрядной палатки нас поджидала засада во главе со старшей пионервожатой Ольгой Михайловной — восемнадцатилетней студенткой пединститута.
Пойманные с поличным, мы не стали унижать себя публичным раскаянием и мольбами о прощении, на что очень рассчитывали наши воспитатели, а решили с достоинством встретить суровый приговор. И вот после завтрака, как раз в то время, когда мы собирались жарить на костре пойманную на рассветной зорьке рыбу, на общем собрании отряда нас с Женькой освободили от занимаемых должностей, причем за наше отречение от власти проголосовали даже те, кто вместе с нами лакомился ночным уловом.
Но этого принципиальной Ольге Михайловне показалось мало, ей захотелось не только нас наказать, но еще и унизить.
И вот после обеда в пионерской комнате собрался совет дружины, и там нас с Женькой, как зачинщиков и организаторов, исключили из пионеров до конца лагерной смены. Для нас, искренне решивших посвятить всю свою жизнь без остатка борьбе за дело Ленина — Сталина, это было настоящей трагедией!
Когда Ольга Михайловна под одобрительные возгласы членов совета дружины сняла с нас пионерские галстуки, нам показалось, что вместе с галстуками у нас отнимают жизнь!
С этого дня и до конца смены во время утренних и вечерних линеек мы без галстуков стояли позади своего отряда, не имея права даже встать в общий строй.
Все последние дни пребывания в лагере мы ожидали, что нас вызовут на совет дружины и Ольга Михайловна в торжественной обстановке снова повяжет нам на шею так несправедливо снятые с нас пионерские галстуки. Но день проходил за днем, а никто не собирался нас никуда вызывать.
В последний день, за пару часов до того как отряды строем должны были отправиться на железнодорожную станцию, мы разыскали задерганную Ольгу Михайловну и напомнили ей об обещании снова принять нас в пионеры.
— Что же вы раньше мне не напомнили? — всплеснула руками Ольга Михайловна, словно это была наша, а не ее обязанность помнить. — Сейчас на это уже нет времени.
С минуту она размышляла, как поступить, потом деловито сказала:
— Ну хорошо, идемте! Только быстрее, мне некогда вами заниматься.
Мы поплелись за ней в пионерскую комнату, там она долго рылась в ящиках своего письменного стола, наконец нашла наши скомканные галстуки и, возвращая их нам, сказала:
— Вот, возьмите, можете снова считать себя пионерами. И никогда больше не нарушайте дисциплину!
Мы пережили невероятное унижение, когда нас исключили из пионеров. Но такой «прием» был еще большим унижением! С тех пор и до самого вступления в комсомол мы с Женькой никогда больше не надели пионерские галстуки…
Прошло шесть лет, и я снова оказался в том же пионерском лагере, на этот раз в качестве инструктора по плаванию. За эти годы на месте палаток возвели жилые корпуса, и теперь я жил вместе с физруком Александром Георгиевичем в бывшей пионерской комнате, в той самой, где когда-то заседал совет дружины, исключивший нас с Женькой из пионеров.
Мои обязанности, заключавшиеся в том, чтобы обучать детей плаванию и обеспечивать порядок и безопасность во время купания на реке, были не слишком обременительными, и потому в свободное время я интенсивно тренировался, а также помогал физруку проводить различного рода спортивные мероприятия. Делал я это с большим удовольствием, потому что Александр Георгиевич был учителем физкультуры в нашей школе, мы с Женькой были обязаны ему тем, что он привил нам любовь к спорту и сделал спортсменами. К тому же именно он устроил меня в лагерь, чтобы я под его руководством мог за лето подтянуть свою беговую подготовку и немного подзаработать.
В лагере я встретил кое-кого из тех, кого помнил по своему пионерскому прошлому. И одной из них была Ольга Михайловна. За прошедшие годы она успела закончить институт, побывать замужем, родить сына, развестись, но все эти события мало отразились на ее внешнем облике и образе мыслей: она оставалась все такой же принципиальной и строгой, как и шесть лет назад. Меня она, конечно, не узнала, и я тоже не стал напоминать ей о нашем знакомстве.
С первых дней я почувствовал к себе повышенное внимание со стороны старшей пионервожатой и очень быстро сообразил, что за всем этим кроется. Трудно сказать, что побудило Ольгу Михайловну добиваться моего расположения. Возможно, ей просто хотелось утолить жажду и совратить понравившегося парня. Возможно, как это иногда случается в педагогической среде, у нее был устойчивый интерес к юношам моложе себя, возможно, такой уж у нее был характер. Как бы то ни было, но я не стал во всем этом разбираться, а до поры до времени делал вид, что не замечаю ее телодвижений.
Во-первых, она была старше меня и в мои девятнадцать лет казалась мне старухой.
Во-вторых, у меня все время перед глазами стояла унизительная сцена гражданской казни, которой она в назидание другим меня подвергла.
Но со временем мое отношение к Ольге Михайловне несколько изменилось. Не могу сказать, что я внезапно почувствовал к ней непреодолимое влечение: в отличие от большинства моих приятелей-студентов, за исключением, пожалуй, Хрипакова, который был без памяти влюблен в Марину и потому на других девушек не обращал никакого внимания, я не отличался всеядностью и был весьма разборчив в своих интимных привязанностях, хотя и своего, как говорится, не упускал. Что касается Ольги Михайловны, то в конце концов, видимо, возобладала смесь юношеского любопытства и тайное желание отплатить ей за пережитое унижение.
Так или иначе, но я затеял с ней тонкую любовную игру, изо дня в день стал дразнить ее женское самолюбие, втайне надеясь, что этот флирт рано или поздно спровоцирует ее на какой-то безумный поступок и у меня появится возможность расквитаться за старую обиду. Если бы я знал, чем все это кончится!
Незадолго до окончания смены, после отбоя педагогический состав лагеря собрался в столовой, чтобы скромно отметить день рождения одной из воспитательниц. Мне и нескольким вожатым, как самым молодым, выпало дежурить в корпусах и следить за тем, чтобы все дети мирно отошли ко сну. Когда все угомонились, я решил не идти в столовую, а отправиться в свою обитель и лечь спать. Александр Георгиевич еще утром уехал в город за призами для предстоящей спартакиады и должен был вернуться на следующее утро, и потому в эту ночь я был в комнате один.
Проснулся я от того, что кто-то осторожно тряс меня за плечо. Спросонья я подумал, что меня будят в связи с каким-то происшествием в лагере, но, открыв глаза, увидел в лунном свете склонившееся надо мной женское лицо. Не надо было быть провидцем, чтобы догадаться, что это Ольга Михайловна, поскольку других претенденток на то, чтобы разделить со мной жесткое односпальное ложе, в лагере не было.
И хотя внутренне я был готов к тому, что в ближайшие дни должно произойти нечто подобное, ее неожиданное появление в моей комнате привело меня в некоторое замешательство. Но я быстро от него оправился: бывают ситуации, когда мужчина не имеет права отступать, и это был как раз тот самый случай…
Ольга Михайловна добилась того, чего хотела. Это была непродолжительная, но запоминающаяся сцена. Заслуга в том, что она надолго мне запомнилась, целиком принадлежит Ольге Михайловне, а вина за ее непродолжительность полностью ложится на меня. У нас были все возможности, чтобы ее продолжить и получить максимальное наслаждение, но я все испортил. Когда Ольге Михайловне наскучили мои неумелые ласки, и она попыталась снова взять инициативу в свои руки, я решил прояснить наши отношения.
— А помнишь, как ровно шесть лет назад в этой самой комнате ты исключала из пионеров двух пацанов?
— Каких пацанов? — продолжая меня взбадривать, спросила Ольга Михайловна.
— Они бегали ночью ловить рыбу, а ты их за это…
— Так это был ты?! — В ужасе отстранилась от меня Ольга Михайловна. — Этого не может быть!
— Может! — злорадно сказал я и, чтобы добить ее окончательно, добавил: — Могла ли ты тогда предположить, что этот разжалованный пионер когда-нибудь станет твоим любовником?
Она ушла не сразу. Сначала с ней был обморок, потом истерика. И только после этого она наспех оделась, обозвала меня сопляком и выскочила из комнаты.
Возмездие свершилось, но я не испытал удовлетворения. Напротив, лежа в темноте и обдумывая случившееся, я пришел к выводу, что с моей стороны было пошло и глупо мстить женщине, даже если она этого заслуживала. Ну чего я добился? Разве не лучше было потом, в более подходящей обстановке, напомнить ей эту давнюю историю и вместе посмеяться над превратностями судьбы?
И я решил попросить у Ольги Михайловны прощения и вообще никогда больше не пытаться сводить с женщинами личные счеты.
Но наутро Ольга Михайловна вела себя так, словно мы с ней даже не были знакомы. Когда я сделал попытку извиниться и предложил ближайшей ночью исправить допущенную бестактность, она окинула меня презрительным взглядом и прошипела:
— Я прошу вас, Михаил Иванович, забыть о том, что было между нами, и никогда больше не напоминать мне о своем существовании!
Я не знал, как сложилась дальнейшая жизнь Ольги Михайловны, и, конечно, не подозревал о том, что она стала членом бюро или даже одним из секретарей горкома комсомола. И вот теперь я снова, как одиннадцать лет назад, стоял перед ней и отвечал на ее вопросы.
Конечно, мне не составило бы труда дать ответ на любой из них, особенно если кое-где приврать и кое-что приукрасить. Но в таком святом деле, каким было для меня вступление в ряды КПСС, я хотел быть предельно откровенным и честным. И потому не стал ничего выдумывать и заявил, что свой идейный и культурный уровень повышаю исключительно в процессе работы.
Услышав мой ответ, члены бюро в очередной раз переглянулись. По всему было видно, что такого ответа они еще не слышали.
— А какую общественную работу вы ведете? — продолжила допрос Ольга Михайловна.
— Да, в общем, никакую, — снова честно признался я.
— Как это — никакую?! — Голос Ольги Михайловны зазвучал в прокурорской тональности.
Мне основательно надоели ее вопросы, и я решил тоже кое о чем ее спросить:
— А какую общественную работу, на ваш взгляд, может вести офицер госбезопасности?
Ольга Михайловна оказалась в легком замешательстве, но быстро от него оправилась (что значит опыт!) и, вспомнив, видимо, крылатое изречение о том, что в жизни всегда есть место подвигу, ответила:
— Ну, я полагаю, всегда можно найти возможность проявить себя, было бы желание!
Чувствуя, что бюро все больше настраивается против меня, Щеглов в очередной раз пришел мне на выручку:
— Мне известно, что товарищ Вдовин регулярно выступает с лекциями о политической бдительности.
— Я бы не стал рассматривать эти лекции в качестве общественной работы, — обуреваемый стремлением к объективности, сказал я. — Повышение политической бдительности советских людей входит в служебные обязанности всех сотрудников госбезопасности.
Но Щеглов, лучше меня понимавший, чем может закончиться это обсуждение, окончательно решил выполнять обязанности моего адвоката.
— Я разговаривал с секретарем парткома вашего управления, и он сказал, что вы также уделяете большое внимание профилактической работе. Это верно?
Я не мог опровергнуть слова секретаря парткома, но счел себя все же обязанным внести небольшое уточнение.
— Профилактическая работа, как и чтение лекций, тоже относится к моим непосредственным служебным обязанностям.
— Что же получается, товарищи? — подытожила Ольга Михайловна. — Участия в жизни комсомольской организации товарищ Вдовин не принимает, никакой общественной работы не ведет, над повышением своего политического и культурного уровня не работает. Можем ли мы рекомендовать в партию такого комсомольца?
Ее слова были встречены одобрительными репликами собравшихся.
Я ждал, что она сейчас расскажет членам бюро о таком позорном факте в моей биографии, как исключение из пионеров, но ее, видимо, остановило воспоминание об единственной ночи, проведенной со мной в бывшей пионерской комнате, и пережитом тогда потрясении.
Однако и без этого факта дела мои были достаточно плохи! Я понял, что несколько переоценил фактор откровенности на подобных заседаниях и, как говорится, слегка заигрался.
И вот тут Щеглов доказал, что умеет справляться с борцами за чистоту партийных рядов!
— Извините, Ольга Михайловна, — официальным тоном сказал он, — но я не могу с вами согласиться. Товарищ Вдовин выполняет ответственную, чрезвычайной важности работу, связанную с разоблачением шпионов и диверсантов, с риском для жизни обеспечивает государственную безопасность! И за одно это он достоин быть в партии!
И на этот раз я хотел было возразить, что мне еще не довелось разоблачить ни одного шпиона или диверсанта и что рисковать своей жизнью мне тоже не приходилось, если не считать драки с Мажурой, да и то это было скорее следствием непредвиденных обстоятельств, чем какой-то закономерности. Но я вдруг представил, как вернусь в управление и заявлю, что горком комсомола отказался дать мне рекомендацию, и решил больше не искушай, судьбу и не вмешиваться в действия Щеглова.
Его авторитет среди членов бюро оказался значительно выше, чем роковые чары Ольги Михайловны. Все быстренько с ним согласились и единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать меня в партию. Воздержалась только Ольга Михайловна, да и то скорее по инерции, чем из желания реально повлиять на коллегиальное решение.
Я встретился с ней взглядом, и хотел подмигнуть, но потом вспомнил, кто я и где нахожусь, и посчитал это неуместным.
Щеглов объявил перекур и вслед за мной вышел из кабинета. Пока девица из приемной печатала выписку из решения бюро, мы прошли с ним в туалет и, убедившись, что, кроме нас, там никого нет, обменялись своими впечатлениями о только что закончившемся обсуждении.
— Конечно, ты прав, — согласился Щеглов, — в наших заседаниях, да и во всей комсомольской работе много формализма. Но ты тоже даешь! Нашел где откровенничать!
Он вымыл руки, потом хитро посмотрел на меня и спросил:
— А что это наша Ольга так на тебя взъелась?
— Я-то почем знаю? — пожал я плечами. — Это у нее надо спрашивать.
Разве не он мне объяснил, что горком комсомола не то место, где можно вести откровенные разговоры?
А спустя несколько дней произошло еще одно событие, имевшее, как я теперь понимаю, некоторые последствия сугубо личного характера. А может, как раз напротив — ни к каким последствиям не приведшее. Ему предшествовали довольно длительные раздумья, поскольку дело касалось Веры.
Теперь, когда я несколько разгрузился и у меня стало больше свободного времени, я все чаще вспоминал ее, и мне очень захотелось ее увидеть. Несколько дней я ломал себе голову, как лучше организовать с ней «случайную» встречу, чтобы это выглядело совершенно естественно, перебрал массу вариантов, в том числе применяемых с этой целью в оперативной практике, но так ничего путного и не придумал, пока мне не помог счастливый случай.
Я отношусь, наверное, к числу везучих людей, хотя не могу сказать, что это проявляется во всем и всегда, но иногда мне и в самом деле очень везет. Во всяком случае, если мне нужен какой-то человек, но его поиски связаны с невероятными трудностями или требуют значительного времени, то как-то само собой получается, что он сам попадается мне навстречу.
Так случилось и на этот раз.
Только я признался себе в своей полной беспомощности, как в тот же вечер повстречал Веру. Причем повстречал в самом неожиданном месте.
Мы еще с утра договорились с матерью, что вечером я зайду за ней в медсанчасть и мы пойдем в наш клуб на французский фильм. Но во второй половине дня она позвонила и сказала, что ее срочно вызывают на консультацию в областную клиническую больницу. Такое в ее практике случалось довольно часто: мать считалась одним из лучших терапевтов, и ее периодически приглашали для консультаций.
И вот она попросила, чтобы в половине седьмого я ожидал ее у входа в больницу. Конечно, она могла бы и не обращаться ко мне с подобной просьбой, а назначить встречу у клуба и приехать туда к началу фильма, но в последнее время в наших отношениях произошли некоторые изменения, она все чаще стала использовать любую возможность, чтобы подольше побыть со мной, словно ее стали одолевать какие-то предчувствия.
Причин отказываться от ее предложения у меня не было, и я обещал ждать ее возле больницы.
И вот, прогуливаясь по заснеженному тротуару у проходной, я через решетчатый забор заметил, как по территории больницы идет Вера.
Я подумал, что она, очевидно, проходит здесь практику, поскольку учится на шестом курсе медицинского института, но, как потом оказалось, я ошибался. Во всяком случае, в этот день она оказалась в больнице совсем по другому поводу.
Я подошел к двери проходной и, когда Вера вышла из больницы, загородил ей дорогу.
Вера на ходу искала что-то в хозяйственной сумке и поэтому шла, опустив голову, и только почувствовав, что кто-то стоит у нее на пути, подняла глаза.
— Здравствуйте, Вера! — весело сказал я, очень обрадованный этой неожиданной встречей.
— Здравствуйте, Михаил Иванович, — чуть заметно удивившись, ответила она.
— Зачем так официально? — смутился я. — Можно просто по имени.
— Спасибо, но мне так удобнее, — покачала она головой.
— Я очень рад нашей встрече, — искренне сказал я. — Честно говоря, давно хотел с вами увидеться.
— Ну и что же вам мешало? — пристально посмотрела на меня Вера.
— Было очень много работы, — как всегда, когда мне надо было оправдаться за что-то несделанное в моей личной жизни, ответил я.
Но в этот раз мое банальное оправдание имело совершенно неожиданные последствия.
— Все еще исправляете грехи ваших предшественников? — довольно неприязненно спросила она.
Сколько раз каждому, кто пришел на службу в органы госбезопасности в одно время со мной и даже много позже, пришлось слышать подобные вопросы? Не на все из них, конечно, надо было отвечать, да и невозможно постоянно оправдываться и доказывать, что те, кто виновен в массовых репрессиях — никакие нам не предшественники, а мы никогда не были и не будем их последователями.
Но и обижаться на тех, кто задает подобные вопросы, тоже нельзя, потому что в общественном сознании крепко, может быть даже навсегда, укоренилось представление о единстве мыслей и поступков всех поколений чекистов независимо от времени, в которое они находились на службе.
И изменить подобные представления очень трудно, потому что об обстановке и делах любой закрытой организации лучше всех осведомлены только те, кто в ней работает, а они хранят молчание.
Вот и я не стал обижаться на Веру, как не стал и отвечать на ее вопрос, а в свою очередь поинтересовался:
— Как поживает Анна Тимофеевна?
— Плохо, — тихо ответила Вера и отвернулась. — Она тяжело больна. Я только что была у нее.
— А что с ней? — попытался я заглянуть ей в лицо.
— Инсульт, — едва слышно вымолвила Вера.
— И давно это случилось? — спросил я.
— На другой день после визита к вам, — не глядя на меня, ответила Вера.
До меня постепенно доходила вся тяжесть ее положения.
— Могу ли я чем-нибудь вам помочь? — с самым искренним сочувствием спросил я.
— Чем? — Вера посмотрела на меня, и от ее взгляда мне стало не по себе. — Все, что вы могли для нас сделать, вы уже сделали!
Она обошла меня, как обходят дерево или столб, и пошла в сторону троллейбусной остановки…
Больше я никогда не видел Веру, хотя до сих пор не знаю, что помешало мне еще хотя бы раз встретиться с ней и поговорить. Может быть, уверенность в том, что я в любой момент могу с ней увидеться, стоит только этого захотеть, заставляла меня со дня на день откладывать нашу встречу. А может быть, я просто не придал тогда большого значения тому, что так нелепо оборвалось едва возникшее чувство. Если бы знать заранее, как сложится наша жизнь!
С годами я стал верить в судьбу, и иногда мне кажется, что она специально распорядилась тогда таким образом, чтобы навсегда разлучить нас.
Но так мне стало казаться значительно позднее. А было время, когда я был уверен, что безвозвратно потерял нечто гораздо большее, чем просто очередное увлечение.
И когда я понял, что люблю Веру и что ничего уже нельзя поправить, меня охватила глубокая тоска.
Эта тоска жила во мне долго, целых шесть лет, пока в одном из сочинских санаториев я не встретил девушку моей мечты и любовь к ней не заглушила все остальные воспоминания, ставшие с той поры для меня просто частью моей предшествующей жизни.
15
В середине декабря состоялся суд над «энтузиастами».
По оперативным соображениям фамилия технического сотрудника американского посольства, которому Цуладзе, а затем Юденков-младший продали похищенную платину, ни в материалах следствия, ни в ходе судебного процесса не фигурировала. Он упоминался как «неустановленный иностранец» наряду с другими покупателями платины.
Скрыть от широкой общественности одного из основных соучастников преступления оказалось делом несложным.
Составу суда объяснили, что акцентировать внимание на его личности нецелесообразно, так как это может повредить советско-американским отношениям.
С подсудимыми было и того проще: их такой подход очень устраивал, так как в этом случае последняя, наиболее крупная сделка считалась не совершенным преступлением, а всего лишь покушением на него и в «зачет» поэтому не шла.
И только немногие знали, что на самом деле эти оперативные соображения расшифровывались как забота о безопасности американца, согласившегося работать на советскую разведку.
Больше всех, пожалуй, от этого выиграл Хрипаков, поскольку похищенная им платиновая проволока не попала в преступные руки, а была возвращена государству. Естественно, это обстоятельство значительно снижало степень его вины.
Все дни, пока шел судебный процесс, Марина приходила в зал суда и со слезами на глазах смотрела на скамью подсудимых, где в компании с другими обвиняемыми сидел ее муж. На последнем заседании, когда оглашали приговор, ее уже не было: накануне вечером ее отвезли в родильный дом.
И в тот час, когда у нее родилась дочь, суд приговорил четверых подсудимых к различным срокам заключения, а Хрипакова и еще двоих к трем годам условно с возмещением нанесенного государству ущерба.
По окончании процесса группа сотрудников управления, имевших непосредственное отношение к разоблачению преступной группы, и в их числе Осипов и я, были представлены к поощрению.
Но эта первая за время моей недолгой работы в органах госбезопасности награда не принесла мне, как и некоторым моим коллегам, удовлетворения.
Отошли в прошлое те времена, когда о работе того или иного сотрудника или органа судили по количеству арестованных и осужденных. Теперь едва ли не каждый осужденный, особенно по групповым делам, рассматривался как определенный брак в работе, результат несвоевременного получения первичной информации о готовящемся преступлении, из-за чего его и не удалось предотвратить.
Вот и нас не покидало ощущение, что мы сработали плохо, некачественно, не сумев предотвратить преступление, которого могло и не быть, прояви мы больше профессионализма и сумей вовремя получить информацию о намерениях Цуладзе и его ближайших сообщников.
Окажись мы на высоте, все могло бы еще на самой ранней стадии закончиться «задушевной» беседой с организаторами всей этой затеи, а вместо группового дела под многозначительным названием «Энтузиасты» в отчетах управления фигурировала бы заурядная профилактика.
И тогда не было бы семи осужденных и десятков опороченных по собственной глупости людей.
Так закончилась эта в общем-то невеселая, но довольно поучительная история…
А в самом конце декабря в областное управление поступило указание срочно командировать нас с матерью в Москву.
То, что нас вызвали вдвоем, без всякого сомнения означало, что речь пойдет о судьбе отца.
В тот же вечер мы сели в проходящий поезд на Москву.
Никаких разговоров о том, что ждет нас завтра, мы в поезде не вели. Обсуждать возможные итоги проведенного расследования и делать на этот счет какие-то предположения не хотелось да и не имело смысла: многое было уже переговорено за прошедшие с начала расследования четыре месяца, предугадать выводы, сделанные в Москве, мы все равно были не в состоянии, а, кроме того, условий для такого разговора не было никаких. В купе мы были не одни, там уже ехали два производственника из соседнего областного центра выбивать в министерстве фонды на следующий год.
Едва мы с матерью расположились и поезд тронулся, они достали очередную бутылку коньяка, курицу, домашние пироги и прочую снедь, которую берут с собой в дорогу бывалые командированные, и снова принялись обсуждать свои проблемы.
Пока они ели и пили, мать курила в коридоре, а я сразу завалился спать.
Когда угомонились наши попутчики, когда мать вернулись в купе, я уже не слышал…
В семь часов утра мы были в Москве.
Обычно, приезжая по делам в столицу, мать останавливалась у своих родственников или знакомых. Я тоже мог остановиться у своих бывших однокашников по контрразведывательной школе. Но на этот раз нам был заказан номер в гостинице «Пекин», поэтому с вокзала мы сразу поехали на площадь Маяковского.
Оставив вещи и наскоро позавтракав в гостиничном буфете, мы на троллейбусе доехали до центрального телеграфа, а оттуда пошли пешком.
К приемной КГБ можно было пройти по проезду Художественного театра и Кузнецкому мосту, это был самый короткий путь, но мы были настолько поглощены ожиданием назначенной на десять часов встречи, что как-то даже не подумали об этом и машинально направились в сторону проспекта Маркса.
Я шел по городу, бессознательно фиксируя все, что происходило вокруг нас.
Москва готовилась к встрече шестьдесят второго года.
В сквере у Большого театра устанавливали елку.
У красочно оформленных по случаю Нового года витрин «Детского мира» толпились возбужденные малыши: их глазенки горели от множества выставленных в витринах подарков и елочных украшений.
На часах, установленных на бывшем здании Наркоминдела, было без четверти десять, когда мы вышли из бюро пропусков на Кузнецком мосту и, пройдя по Фуркасовскому переулку вдоль гранитного цоколя центрального здания КГБ, вошли в четвертый подъезд.
По логике с нами должны были беседовать в управлении кадров. Чтобы попасть туда, следовало входить через пятый подъезд, но на наших пропусках почему-то был указан кабинет, расположенный в другом крыле здания. Там, насколько я помнил, находилось руководство Комитета.
Мы разделись в гардеробе, потом долго шли по коридорам, постепенно огибая здание по часовой стрелке, и когда наконец нашли нужный кабинет, то, по моим расчетам, должны были оказаться на противоположной стороне огромного здания.
И действительно, отворив дверь кабинета, я сразу увидел памятник Дзержинскому за окном и понял, что мы находимся где-то в районе первого подъезда, через который ходили только председатель КГБ и некоторые его заместители.
Находившийся в кабинете сотрудник поздоровался с нами, посмотрел на часы, удовлетворенно кивнул, встал из-за стола и сказал:
— Прошу вас, идемте со мной.
Мы проследовали за ним по коридору, и вскоре он предупредительно отворил перед нами дверь другого кабинета, значительно большего по площади, в центре которого стоял стол с многочисленными телефонами, а слева и справа от входа были расположены двери в смежные кабинеты.
Я сразу догадался, что это приемная какого-то руководителя, возможно, начальника главного управления или даже заместителя председателя Комитета. Сопровождающий нас сотрудник (видимо, это был помощник этого руководителя) указал нам на стоявшие у стен кресла и предложил:
— Пожалуйста, присядьте, я доложу о вашем прибытии.
Сказав это, он скрылся за дверью, которая вела в правый кабинет.
Мать села на уголок кресла, а я остался стоять, ожидая, что помощник сейчас выйдет и пригласит нас войти.
Примерно через минуту дверь действительно открылась и появился помощник. Он придержал дверь, посторонился и пропустил в приемную рослого, худощавого человека лет пятидесяти пяти в форме генерал-лейтенанта. Тот окинул нас внимательным взглядом и направился к матери.
Мать встала и негромким голосом, но очень четко доложила:
— Подполковник медицинской службы Вдовина по нашему вызову прибыла!
Генерал подошел к матери, протянул ей руку и как-то совсем по-домашнему сказал:
— Здравствуйте, дорогая моя Ирина Федоровна!
— Здравствуйте, товарищ генерал, — смущенно ответила мать и в некоторой растерянности посмотрела на меня.
Генерал, не отпуская ее руку, тоже посмотрел на меня и тем же тоном произнес:
— Так вот ты какой, Михаил Вдовин!
Я собрался было, подобно матери, тоже доложить о своем прибытии, но, как и она, застыл в растерянности, не зная, как мне следует отвечать на это неуставное приветствие.
А генерал тем временем снова обратился к матери:
— Просто невероятное сходство с отцом, правда, Ирина Федоровна? Если бы я его случайно встретил на улице, сразу узнал бы, честное слово!
— Вы знали моего мужа? — Мать не могла скрыть своего удивления.
— Знал, дорогая моя Ирина Федоровна, знал! — ответил генерал, отступил на шаг и жестом пригласил нас в кабинет.
Пока мы проходили в его кабинет, генерал обратился к вошедшей в приемную секретарше и распорядился:
— Приготовьте нам по чашечке кофе и не соединяйте ни с кем!
Войдя вслед за нами в кабинет, генерал закрыл за собой дверь и пригласил сесть. Когда мы уселись по обе стороны длинного стола для совещаний, он с укоризной посмотрел на мать и спросил:
— А вы, значит, меня не узнаете?.. Обижаете старого знакомого! Неужели я так сильно изменился?
И, уловив во взгляде матери недоумение, генерал улыбнулся и продолжил:
— Ну ладно, помогу вам: январь тридцать седьмого… Ивана с тяжелым ранением привезли из Испании… госпиталь… Неужели не помните?
По мере того как он напоминал события двадцатипятилетней давности, мать внимательно вглядывалась в его лицо, на котором возраст и все пережитое за минувшие четверть века оставили свои жестокие следы, но так и не смогли потушить блеск карих глаз и приглушить тембр его звонкого голоса.
На лице матери последовательно отразилась целая гамма воспоминаний. Глядя на нее, я просто физически ощущал, как она вспомнила сначала эти карие глаза, потом этот звонкий голос, а потом ее память убрала седину с волос генерала, разгладила на его лице морщины, и перед ней возникло молодое лицо человека, который когда-то был лучшим другом ее мужа.
— Так это вы?! — словно все еще не решаясь поверить давним воспоминаниям, воскликнула мать.
— Я это, Ирина Федоровна! — подтвердил генерал. — Честное слово, я!..
16
Наблюдая эту сцену, я еще, конечно, не мог знать, что моего отца и генерала связывала многолетняя дружба, как не мог знать и многого другого, хотя история знакомства матери с отцом была мне известна во всех деталях по ее многократным рассказам. Но в этой истории не фигурировали ни друзья отца, ни прочие его сослуживцы и знакомые, потому что мать никогда мне не рассказывала, в чем заключалась работа отца, кто был его друзьями в те годы: то ли не знала сама, то ли не считала нужным посвящать меня в некоторые подробности, выходившие за рамки их личных взаимоотношений.
Возможно, обстоятельства, при которых мать познакомилась с генералом, так и остались бы для меня неизвестными, но спустя примерно четыре года у меня состоялась еще одна совершенно неофициальная встреча с генералом, можно сказать, на переломном этапе моей чекистской карьеры, во время которой он рассказал мне многое из того, что связывало его с моим отцом и что было совершенно неведомо моей матери, в том числе и об этом эпизоде в госпитале, где после тяжелого ранения, полученного в Испании, лежал мой отец.
Именно тогда генерал познакомился с матерью, хотя, конечно, в момент этого знакомства ни он, ни она и предполагать не могли, что она станет женой чекиста Ивана Вдовина.
Я постараюсь воспроизвести этот эпизод так, как он мне запомнился со слов генерала.
…Они шли по длинному госпитальному коридору: молодой врач Ирина Киселева в белом халате и белой шапочке, из-под которой выбивались густые пряди темных волос, и рядом с ней тридцатилетний статный мужчина в военной форме и в небрежно накинутом на плечи белом халате.
Военный виновато улыбался, слушая, как «врачиха» сердито ему выговаривает:
— Повторяю, это безобразие, товарищ лейтенант! Сначала ваше начальство приказывает нам сделать все возможное, чтобы спасти Вдовина, а на второй день после операции присылает к нему стенографистку! — Голос «врачихи» буквально дрожал от праведного возмущения. — И так продолжается несколько дней! А Вдовин, между прочим, еще в реанимации!
— Ирина Федоровна, поймите, — как мог, оправдывался военный, — его сведения для нас на вес золота! Дорога каждая минута! Я друг Вдовина и…
— А я его лечащий врач! — перебила его Ирина Федоровна. — И несу ответственность за его здоровье!
У двери реанимационной палаты она на секунду задержалась и строго сказала:
— Даю вам пять минут, и никаких разговоров, которые могут неблагоприятно отразиться на его состоянии!
Она взялась за ручку двери и, глядя на военного снизу вверх, тем же строгим тоном продолжила:
— Если вы не выполните мое указание, я доложу начальнику госпиталя и добьюсь, чтобы все визиты к Вдовину были прекращены до его полного выздоровления! Обещайте мне не говорить с ним о делах!
— О чем же нам тогда говорить? — недоуменно пожал плечами лейтенант госбезопасности.
— Обещайте, или я вас не пущу к больному! — настойчиво потребовала «врачиха».
— Ну хорошо, — сдался лейтенант, — обещаю его ни о чем не спрашивать и говорить с ним только о приятном.
— А конкретно? — недоверчиво спросила «врачиха», несколько удивленная тем, что лейтенант так быстро принял ее условия.
— О вас, например, — с улыбкой ответил лейтенант. — Можно?
— Обо мне можно. — Лицо Ирины Федоровны тоже озарила милая улыбка. — Ну ладно, идите, — великодушно разрешила она и открыла дверь.
Лейтенант госбезопасности вошел и увидел своего раненого друга.
Голова и правое плечо Вдовина были забинтованы, небритые щеки ввалились, на бледном лице выделялись только лихорадочно поблескивавшие от высокой температуры глаза.
— Салют, компаньеро Хуан! — бодро сказал лейтенант и поднял правый кулак в интернациональном приветствии.
— Привет, — тихим голосом ответил, Вдовин и попытался улыбнуться. Улыбка получилась какой-то вымученной и совсем не жизнерадостной. Почувствовав это, Вдовин отвернулся.
— И чего твоя «врачиха» паникует? — продолжал с наигранной веселостью в голосе лейтенант. — Выглядишь ты вполне геройски!
— Не ври! — повернул голову Вдовин и прикрыл глаза. — Выгляжу я хреновато… Но это все ерунда. — Он открыл глаза и убрал левую руку, освобождая место на кровати. — Садись, рассказывай, как там?
Лейтенант оглянулся на дверь и развел руками:
— О делах не могу, дал слово твоей «врачихе». Чего доброго, выгонит да еще нажалуется!
— Дай ей волю, так она никого ко мне не пустит, — вздохнул Вдовин, а затем сказал потеплевшим голосом: — Но вообще-то она ничего!
— Да? — с интересом посмотрел на него лейтенант. — Ну, раз ты уж это заметил, значит, дела пошли на поправку!
Он еще раз оглянулся на дверь, затем сел на краешек кровати, наклонился к самой подушке и тихо заговорил почти на ухо Вдовину:
— Ну ладно, пошутили — и хватит, а то времени мне отпущено всего пять минут… Твою информацию о положении в Испании докладывали товарищу Сталину. Он дал ей высокую оценку. Это во-первых… Во-вторых, тебя представили к ордену Красного Знамени, так что крути дырку на пижаме! После выздоровления с тебя причитается… Так, в-третьих, меня просили кое-что у тебя уточнить…
Лейтенант достал из кармана карандаш и маленький блокнотик.
В течение нескольких минут лейтенант полушепотом задавал различные вопросы и Вдовин так же полушепотом на них отвечал. Закончив свои расспросы, лейтенант спрятал карандаш и блокнотик в карман гимнастерки и выпрямился.
— А где сейчас Роман? — поинтересовался Вдовин.
— Его отправили в Саратов начальником областного управления, — ответил лейтенант.
— А Антон? Почему не показывается? — снова спросил Вдовин.
— Его направили работать куда-то на Дальний Восток.
— Зачем? — удивился Вдовин. — Он же германист… На него столько дел замкнуто!
— Новому начальству виднее, — пожал плечами лейтенант.
Вдовин устало прикрыл глаза, полежал молча, а потом сказал:
— Если мне предложат уехать из Москвы, буду проситься в свое управление. Там Карташев, да и другие меня, наверное, еще не забыли.
— Карташев в Москве, — покачал головой лейтенант. — Отозван в распоряжение кадров.
— Жаль, — вздохнул Вдовин, — а кто вместо него?
— Ты его не знаешь, — ответил лейтенант. — В органы он пришел недавно. До этого был на партийной работе. Поговаривали у нас, что он «человек наркома».
— А что это значит — «человек наркома»? — спросил Вдовин.
— А то и значит! — ушел от прямого ответа лейтенант. — Ежов не только центральный аппарат, но и многие областные управления «укрепляет» своими людьми.
— А сам-то он как?
— Кто? — не сразу понял лейтенант.
— Новый нарком, — пояснил Вдовин.
— Вникает, — уклончиво ответил лейтенант.
Вдовин внимательно посмотрел на друга. Лейтенант выдержал этот взгляд, и тогда Вдовин попросил:
— Объясни мне, что происходит?
Лейтенант поднялся и сделал несколько шагов по палате. Потом он снова присел на край кровати, взял Вдовина за руку и осторожно сжал ее.
— Послушай совет старого друга, — негромко сказал он. — Никому больше не задавай и ни с кем не обсуждай подобные вопросы!
Больше того, что он сказал, он сказать не мог.
Но Вдовин этого не понял или не смог понять. Та информация об обстановке в органах госбезопасности, которая доходила до него в Испании, те намеки и отрывочные сведения, которые содержались в высказываниях лейтенанта, были выше его понимания. Он еще слишком хорошо помнил ту атмосферу всеобщего и абсолютного доверия, взаимопомощи и взаимовыручки, готовности пожертвовать собой ради успеха общего дела, ради спасения своего товарища, которая была создана еще во времена Дзержинского.
И вот теперь на его глазах, на глазах других ветеранов, в день смерти железного Феликса поклявшихся хранить и приумножать традиции ВЧК, происходило нечто совершенно непонятное и по его глубокому убеждению противное самой природе органов, стоящих на защите завоеваний революции.
— Почему? — с настойчивостью, свойственной только очень больным людям, спросил Вдовин.
— Потому что это вредно для здоровья! — многозначительно ответил лейтенант. — И потому, что тебе нельзя волноваться. Вот выйдешь из госпиталя, сам во всем разберешься. А пока лежи и помалкивай.
Вдовин хотел еще что-то спросить, но в этот момент дверь палаты отворилась и на пороге появилась Ирина Федоровна. Вдовин посмотрел на нее и осекся.
— Все, товарищ лейтенант, — решительно сказала Ирина Федоровна, — прошу заканчивать разговор.
Лейтенант откровенно обрадовался ее появлению. Он дотронулся рукой до плеча своего друга и встал:
— Вот видишь, и доктор не велит говорить с тобой о делах. — Он одернул халат и улыбнулся. — Выздоравливай поскорее, а то все разъехались — работать некому…
Больше лейтенант в госпитале не появлялся.
— …Куда же вы тогда так внезапно пропали? Даже на свадьбе нашей не были! — укоризненно сказала мать.
Генерал развел руками и тяжело вздохнул:
— Так уж получилось: срочно пришлось выехать в командировку. Уезжал на месяц, а вернулся через одиннадцать лет! Вот так у нас случается…
На приставном столике возле письменного стола зазвонил один из многочисленных телефонов.
Генерал встал, подошел к столу, поднял трубку, послушал и произнес:
— Перезвоните через час, я занят!
Положив трубку, он вернулся на свое место и, улыбнувшись матери, спросил:
— А вас, значит, Иван увез-таки из Москвы?
— Увез, — с грустью в голосе ответила мать, но потом вдруг улыбнулась, видимо, вспомнив, как это все произошло, и добавила: — Разве против его натиска можно было устоять?!
— Это верно! — подтвердил генерал. — Помню, уж если он чего надумал, остановить его было невозможно!
— Да если честно, я не очень-то и сопротивлялась! — словно оправдывая действия отца, сказала мать. — Влюбилась-то я в него, можно сказать, с первого взгляда.
Я с большим интересом слушал их разговор, стараясь вникнуть во все его детали, многие из которых были понятны только им.
Конечно, со слов матери я знал, как она познакомилась с моим отцом и как стала его женой. Но, рассказывая мне об этом, она, как я догадывался, обходила некоторые подробности, носившие сугубо личный характер и поэтому касавшиеся только ее. И вот теперь у меня появилась возможность узнать несколько больше того, что я знал с детских лет.
Эта история, которую я помнил наизусть, всегда казалась мне какой-то необыкновенной, романтической сказкой, хотя на самом деле в ней, наверное, не было ничего необыкновенного и романтического.
И действительно, сколько раз в этой жизни пациенты влюблялись в своих исцелителей, а врачи в своих пациентов! Это происходило в различной обстановке, различные произносились при этом слова, но сама ситуация стара, как этот мир.
Ее продолжение тоже, наверное, не отличалось оригинальностью, хотя в ней и были некоторые специфические особенности: после выписки из госпиталя после ранения или тяжелой болезни сотрудникам госбезопасности всегда предоставляются путевки в санаторий, и мои будущие родители вместе поехали отдыхать в Сочи.
С этого и началась их недолгая совместная жизнь!..
— Такой уж он был человек, — сказал генерал и посмотрел на меня, словно отыскивая во мне те качества, которыми был наделен отец, что в него не только влюблялись, но и верили ему с первого взгляда!
Он посмотрел на сразу погрустневшую мать, потом на меня, тяжело вздохнул и задумчиво произнес:
— Да, вот ведь как жизнь распорядилась… И встретиться бы нам давно следовало, в другой обстановке и по другому поводу, да ничего не поделаешь!
Я почувствовал, что сейчас он перейдет к деловой части беседы, и постарался заранее взять себя в руки, чтобы ни слоном, ни жестом не выдать того возбуждения, которое возникло в тот момент, когда мне стало известно о вызове в Москву, и которое я сейчас с большим трудом пытался унять. Мне почему-то казалось, что любое проявление вполне естественных в этой ситуации чувств не к лицу офицеру-чекисту, обязанному в любых обстоятельствах сохранять выдержку и самообладание. Как часто в молодости хочется выглядеть сильнее и тверже духом, чем ты есть на самом деле! Впрочем, в зрелом возрасте тоже!
— Я полагаю, вы догадываетесь, по какому поводу мы вызвали вас в Москву? — спросил генерал.
Мать молчала, и я ответил за нас обоих:
— Догадываемся, товарищ генерал!
Как ни старался я держать себя в руках, голос мой предательски дрогнул.
Генерал уловил мое состояние и махнул рукой:
— Оставь это, сынок! Я для тебя сейчас не генерал, а друг твоего отца! Вот так!
Он хлопнул ладонью по столу, затем тяжело встал, подошел к сейфу, достал оттуда папку с документами и вернулся к столу.
Мы с матерью, словно завороженные, следили за каждым его движением.
Генерал положил папку перед собой, провел по ней рукой, словно снимая с нее дьявольское заклятие, и сказал:
— Первые сомнения в правдивости версии о гибели Ивана… — он посмотрел на меня и поправился, — Ивана Михайловича Вдовина появились еще в пятьдесят шестом году, когда в процессе пересмотра дел начали поднимать все архивы НКВД за тридцать седьмой год. Но тогда не удалось детально во всем разобраться, многое так и осталось неясным. Например, как Иван Михайлович оказался в Москве, почему его арестовали…
— Арестовали? — переспросила мать сдавленным голосом.
— Да, арестовали, — подтвердил генерал. — Ваша информация по делу Бондаренко, — он снова посмотрел в мою сторону, — позволила восполнить этот пробел, сопоставить некоторые факты и найти ответы на все вопросы…
Он достал из папки довольно объемистый документ, полистал его, потом положил перед собой и сказал:
— В соответствии с принятым порядком мне следует ознакомить вас с заключением по делу. Только вы уж извините — читать вам этот документ я не буду!
Он вновь, на этот раз очень внимательно, окинул нас взглядом, словно оценивая, сможем ли мы с матерью пройти через такое испытание, и закончил:
— Люди вы свои, закаленные, так что читайте сами!
С этими словами он протянул нам документ с грифом «совершенно секретно», а сам встал из-за стола и отошел к окну, за которым жила своей суетной предновогодней жизнью площадь Дзержинского.
Мать первая, очень осторожно, словно это были последние, хрупкие осколки ее давнего и такого короткого счастья, взяла в руки этот документ, придвинулась ко мне, как мне показалось, не столько для удобства чтения, сколько в поисках поддержки с моей стороны, и мы начали читать.
И, по мере того как мы читали этот документ, перед нашим мысленным взором прошло все, что случилось с Иваном Михайловичем Вдовиным в начале июня тридцать седьмого года…
17
Всю ночь Вдовин просидел в своем купе, не смыкая глаз, и только под самое утро, когда поезд уже шел по Подмосковью, часа на полтора погрузился в какое-то чуткое забытье. Из этого состояния его вывели толчки вагона, замедлявшего ход, стук колес на стрелках и голоса пассажиров, снимавших с верхних полок чемоданы и узлы.
Он открыл глаза и увидел, что поезд уже приближается к перрону, дверь купе открыта, а его попутчики уже стоят в коридоре, торопясь поскорее выйти из вагона. Тогда он встал, поправил портупею, одернул гимнастерку, застегнул воротничок, снова сел за стол и стал смотреть в окно.
В толпе встречающих ему бросились в глаза двое военных в форме сотрудников НКВД — лейтенант и сержант госбезопасности, которые медленно шли за движущимся вагоном, внимательно посматривая на окна. Когда поезд наконец остановился и пассажиры стали выходить на перрон, они подошли к выходу из вагона, встали в сторонке, подальше от людского потока, и, бросая по сторонам быстрые взгляды, на всякий случай взяли под наблюдение сразу несколько вагонов.
Не вызывало сомнения, что они кого-то встречают, но Вдовин не придал этому значения: о своем приезде в Москву он никому не сообщал, встречать его не просил, мало ли по какому делу могли приехать на вокзал сотрудники госбезопасности.
Когда в коридоре стало свободно, он взял свой маленький чемоданчик, надел фуражку и пошел к выходу. Как только он показался в дверях вагона, сотрудники госбезопасности направились в его сторону, подождали, когда он спустится на перрон, а затем лейтенант, небрежно козырнув, спросил:
— Вы Иван Михайлович Вдовин?
Вдовин утвердительно кивнул головой:
— Так точно. А в чем дело?
— Нам поручили встретить вас, — ответил лейтенант. — За вами прислали машину.
«Надо же, даже машину прислали. Не иначе, Сырокваш постарался, предупредил о моем прибытии», — подумал Вдовин и пожалел, что не вышел из поезда на какой-нибудь подмосковной станции и не поехал другим транспортом. Впрочем, все эти ухищрения в данном случае не имели никакого смысла — он ведь не собирался скрываться, а приехал по важному делу и все равно должен явиться в наркомат. Какая разница: пешком, на трамвае или на служебной машине?
— Поехали, — коротко бросил он и направился к выходу с перрона.
Втроем они вышли на привокзальную площадь, сели в ожидавшую «эмку» и поехали на Лубянку…
Через полчаса «эмка» остановилась у железных ворот Наркомата внутренних дел. Ворота открылись, машина въехала в образованный многоэтажными зданиями двор, проехала под одной аркой, затем под другой и остановилась у какого-то подъезда.
Вдовин отлично знал это здание: здесь размещалась комендатура.
Выйдя из машины, он и встретившие его на вокзале сотрудники прошли в помещение комендатуры и зашли в одну из комнат, вдоль стен которой стояли жесткие скамьи, а в центре — массивный стол, крышка которого была обита оцинкованным железом.
— Ожидайте здесь, — сказал лейтенант и удалился.
Вдовин машинально отметил про себя, что лейтенант, сказав «ожидайте здесь», не добавил «товарищ капитан» или «товарищ Вдовин», как это положено, когда младший по званию обращается к старшему. Хотя если учесть, что его привезли не к руководству, а доставили в комендатуру, завели в «приемный покой» и теперь сержант госбезопасности не сводит с него настороженного взгляда, то на подобные мелочи не следовало обращать внимания.
Вскоре лейтенант возвратился в сопровождении грузного мужчины с бритой наголо головой. Тот мрачновато глянул на Вдовина и сказал:
— Следуйте за мной!
Вдовин поднялся со скамьи и хотел взять свой чемоданчик, но бритоголовый приказал:
— Чемоданчик оставьте здесь!
Вдовин повиновался и вслед за бритоголовым вышел в коридор. У дверей «приемного покоя» его ожидали два рослых коменданта. Кобуры их наганов были расстегнуты.
Бритоголовый, не оглядываясь, пошел по коридору, Вдовин последовал за ним, а сзади них на небольшом удалении шагали коменданты.
Они долго шли по коридорам, поднимались и спускались по лестницам, пролеты которых были затянуты металлическими сетками, проходили через решетчатые двери, которые с лязгом открывались и закрывались за ними, пока не оказались на втором этаже внутренней тюрьмы.
Перед одной из камер бритоголовый остановился, посмотрел в глазок и дал знак открыть дверь.
Один из комендантов вынул из-за пояса длинный ключ, привычным движением открыл замок и отворил металлическую дверь.
Бритоголовый вошел в камеру первым, оглядел ее, а затем жестом радушного хозяина пригласил Вдовина.
Вдовин вошел и увидел, что камера пуста. Через зарешеченное окно под самым потолком, закрытое металлическим козырьком, едва пробивался дневной свет.
— Ждите здесь, — сказал бритоголовый и направился к двери.
— Что все это значит? — остановил его Вдовин.
— Не могу знать, — равнодушно ответил бритоголовый. — Мне приказали привести вас сюда!
— Кто приказал? — спросил Вдовин.
— Это не ваше дело! — грубо ответил бритоголовый и вышел из камеры.
Дверь захлопнулась. Лязгнул засов. Наступила тишина.
Вдовин сел на голые нары и стал ждать…
Так навсегда и осталось тайной, о чем думал Иван Вдовин, оказавшись в камере внутренней тюрьмы.
Понял ли он, что фактически его арестовали и ему уже никогда не выйти отсюда, как не вышли отсюда тысячи его арестованных товарищей? Возможно, он понял это, возможно, нет, но одно можно утверждать наверняка: когда захлопнулась дверь камеры и он сел на нары, первое, что он сделал, — многократно прокрутил в своей памяти все события последнего часа, начиная с того момента, как он заметил на перроне вокзала двух сотрудников госбезопасности, и до того, как его привели сюда.
Безусловно, все, что с ним произошло, очень походило на арест. В том, что ему об этом не сказали, не было ничего удивительного — такое в последнее время вошло в практику. К тому же он сам был чекистом, это было сугубо внутренним делом НКВД, и в этом случае действовали не законы, а служебные инструкции.
Но за что его могли арестовать?! И почему тогда ему оставили документы, не забрали личные вещи (чемоданчик не в счет, там могло быть оружие да и мало ли что еще!), не сняли с него портупею, знаки различия и ордена?
На эти вопросы он не мог найти ответа.
А может, все это проделки Сырокваша? Позвонил наркому или кому-либо из его заместителей, например, Фриновскому, а тот его, Вдовина, не любит, не любит давно, вот и нашел возможность отыграться!
Но в чем Сырокваш мог его обвинить? В том, что он ему не подчинился, самовольно выехал в Москву? Нарушил служебную дисциплину? Пожалуй, именно таким образом он мог преподнести руководству их разговор и потребовать наказания за самоуправство! Гауптвахты в НКВД не было, на гарнизонную «губу» чекистов никогда не сажали, для этого вполне могли использовать одну из камер внутренней тюрьмы.
Значит, начальник комендатуры, этот бритоголовый, фамилию которого он никак не мог вспомнить, говорил правду, когда приказал ему ждать? Ждать чего? Что его вызовут к руководству для объяснений? Или к нему придут? И как долго ждать?
А что, если это все-таки арест? Почему тогда он, боевой оперативник, не раз смотревший смерти в лицо, не знавший, что такое страх, проявил такую беспомощность, так безропотно следовал за своими конвоирами, не только не оказал им никакого сопротивления, но даже не потребовал немедленно проводить его к руководству? Да неужели он позволил бы без всякого сопротивления арестовать себя любым врагам? Разве, внедряясь в банду какого-нибудь атамана или уходя в тыл к франкистам, он не продумывал до мелочей все свои действия на случай провала, не был готов в самом крайнем случае покончить с собой, но не дать взять себя живым. Почему же он дал себя арестовать на этот раз?
Да, но тогда он стоял лицом к лицу с врагами, внутренними или внешними врагами его страны, его системы. Попасть к ним в руки, сдаться или предать — значило бы изменить своей стране, своей системе! А сейчас он имел дело с органами, сотрудником которых был сам, они олицетворяли систему, которой он служил и перед которой ничем не провинился! Это сбивало с толку, дезориентировало не только его, но и всех, кто оказывался в подобной ситуации.
И тогда он решил не ломать себе голову над этими проблемами, а дождаться встречи с руководством и в зависимости от нее делать выводы. В конце концов, именно для этого он и поехал в Москву!
О ходе его дальнейших мыслей можно только догадываться.
Возможно, он вспоминал работу в центре подготовки диверсантов в окрестностях Барселоны, свой последний рейд по тылам франкистов во главе разведывательно-диверсионной группы бойцов-интернационалистов.
Они собирали и передавали разведывательные данные, разрушали линии связи, устраивали засады на дорогах. На обратном пути, чтобы не нести назад неизрасходованный запас взрывчатки, он принял решение осуществить какую-нибудь крупную диверсию. Им удалось проникнуть на немецкий аэродром, снять часовых и заминировать десятка полтора «Юнкерсов». Они уже отходили в сторону покрытых кустарниками холмов, когда раздался первый взрыв, затем второй, зарево от вспыхнувших самолетов осветило безлесную равнину, и тогда неожиданно ожил пулемет на сторожевой вышке.
Длинная очередь накрыла отходящую группу, сразив нескольких бойцов. Его ударило в плечо, и он, выругавшись про себя, успел подумать, что надо было установить взрыватели минут на пятнадцать попозже и тогда бы они успели отойти, но внезапно его мозг ослепила яркая вспышка и наступила темнота…
А может быть, он вспоминал, как бойцы его группы по очереди, выбиваясь из сил, несли на руках своего командира и еще двух раненых товарищей — американца и венгра, как они, натыкаясь на патрули фалангистов, с боями прорывались к линии фронта, как, блокированные в горах, собрались на совет и решали, что делать с ранеными, и он приказал своему заместителю пристрелить себя, но тот отказался выполнить его приказ, и они стали прорываться все вместе. Как потом, на дневном привале, когда группа в ожидании наступления темноты укрылась среди камней, отдыхая перед ночным броском через самый опасный участок маршрута, он, на короткое время придя в сознание, случайно услышал разговор двух испанцев.
Один из них, совершенно обессилевший и разуверившийся в том, что они смогут выбраться живыми из этой переделки, предлагал другому бросить группу и самим пробираться дальше.
Другой, хорошо понимая его состояние и не осуждая его за проявленное малодушие, рассудительно сказал:
— Подумай, что ты предлагаешь! Люди со всего мира приехали сражаться и умирать за нашу свободу, а мы, испанцы, предадим их, чтобы спасти свою жизнь! Как же мы будем жить после этого?
И ночью бойцы разведгруппы стали прорываться через линию фронта, а когда попали под минометный обстрел, тот испанец, который хотел уйти в одиночку, закрыл его своим телом и был сражен осколком, предназначавшимся для товарища.
Все эти факты, упомянутые в отчете о служебной командировке в Испанию, мог вспомнить Иван Вдовин…
Но мне почему-то казалось, что он должен был вспоминать о том, как впервые увидел мою мать.
Ее лицо возникло из светлого пятна, когда после многодневного беспамятства к нему вернулось сознание и он наконец открыл глаза.
Пятно постепенно отдалялось, его очертания становились все четче и четче, фокусируясь на сетчатке глаз, как будто кто-то подкручивал в его сознании невидимую рукоятку, наводя объектив на резкость, пока это светлое пятно не превратилось в женское лицо.
В тот момент выхода из небытия весь мир сконцентрировался для него в этом незнакомом женском лице. Он вцепился в него взглядом, изо всех сил стараясь не дать ему снова расплыться в светлое пятно, чтобы не потерять сознания.
Это и была она…
А еще я думаю, что он вспомнил, как мать впервые вывела его на прогулку в госпитальный двор, как он зажмурился от внезапно ослепившего его тусклого зимнего солнца, искрящегося снега, как перехватил ему дыхание первый глоток морозного воздуха…
И конечно, он обязательно должен был вспоминать их поездку в Сочи, потому что это были лучшие дни в их короткой совместной жизни.
Мои предположения о ходе его мыслей переросли в уверенность, когда я дочитал справку до конца. Если бы он не думал обо всем этом, он, наверное, принял бы другое решение…
От воспоминаний Ивана Вдовина отвлекли какие-то странные звуки.
Он прислушался: внутренняя тюрьма жила своей обычной и от этого еще более страшной жизнью.
Где-то лязгали запоры, слышались приглушенные голоса: «Савченко, на допрос!», «Баскаков, с вещами на выход!».
Уводили и приводили людей.
Иногда было слышно, как во двор въезжали машины и раздавались резкие команды: «Выходи!»
Часам к девяти за окном стало темнеть, и в камере зажгли яркий свет. Свет раздражал Вдовина, он прислонился к стене, закрыл глаза и снова попытался думать о чем-то приятном, чтобы время не тянулось так томительно. Ему стало казаться, что о нем все забыли. И вдруг он неожиданно вспомнил, что за весь день, проведенный в камере, его ни разу не накормили!
Само по себе отсутствие пищи его не слишком беспокоило: за тридцать пять лет жизни он наголодался вдоволь и вообще легко переносил любые лишения. Но он хорошо знал, как неукоснительно соблюдается всегда тюремный режим, что в любой тюрьме ничто не происходит просто так, без соответствующего предписания, что скорее рассыпятся в прах толстые тюремные стены, чем кто-то позволит себе отступить от инструкции и нарушить тюремный распорядок.
Лишать его пищи в качестве меры наказания не было никаких оснований. С ним еще ни о чем не беседовали и не добивались от него никаких показаний. Да и каких показаний от него могли требовать, когда он был готов сам рассказать обо всем, что привело его в Москву?
И чем больше он думал над этим обстоятельством, тем с большей уверенностью делал один и тот же вывод: его не накормили, потому что не поставили на тюремное довольствие.
Из этого вывода следовал другой: значит, по каким-то соображениям его не зарегистрировали в качестве арестованного и, таким образом, он не числится в списках содержащихся во внутренней тюрьме. Говоря другими словами, формально его пребывание в этой камере не является арестом!
Но тогда это не похоже и на дисциплинарное взыскание за самовольный приезд в Москву! А может, кому-то очень нужно, чтобы о его пребывании во внутренней тюрьме никто не знал?
Пока Вдовин размышлял над возможными вариантами дальнейшего развития событий, совсем недалеко от его камеры, в кабинете, расположенном, если считать по прямой, всего в каких-то тридцати метрах от внутренней тюрьмы, решалась его судьба…
Время приближалось к полуночи.
В одной из камер внутренней тюрьмы, приспособленных под дежурку, находились два коменданта.
Один из них по фамилии Зубков лежал на нарах и отдыхал, второй по фамилии Хабаров сидел у стола и курил, тупо уставившись в пол.
В коридоре раздался звонок. Хабаров нехотя встал и вышел из дежурки. Вскоре он вернулся с бритоголовым начальником комендатуры.
Тот поставил на стол алюминиевую фляжку, небрежно бросил рядом сколотую канцелярской скрепкой стопку узких полосок желтоватой бумаги и сказал:
— Этих в расход! И не забудьте расписываться на обороте, а то под конец совсем перестаете соображать!
Зубков встал с нар, подошел к столу и стал просматривать справки о приведении в исполнение приговоров особого совещания НКВД.
— Как там наш капитан? — тем временем поинтересовался начальник комендатуры.
— Сидит тихо, — ответил Хабаров.
— Его сегодня тоже в расход! — распорядился начальник.
Зубков закончил просматривать справки и спросил:
— А где на него бумажка?
— Делайте, что вам говорят! — грубо оборвал его начальник комендатуры и направился к выходу.
— А расписываться где? — недоуменно уставился на него Хабаров.
— На том свете распишешься, — криво ухмыльнулся Зубков и пошел проводить начальника комендатуры.
Хабаров в задумчивости почесал затылок, словно переваривая в уме реплику своего напарника, потом махнул рукой, взял с полки две эмалированные кружки, открыл фляжку и плеснул из нее в обе кружки.
Когда Зубков вошел в дежурку, Хабаров взял стоявшую в углу швабру и вертикально подкинул ее верх.
Зубков сноровисто поймал на лету ручку швабры посередине и протянул Хабарову. Поочередно перехватывая ручку швабры руками, они добрались до ее конца. Хабаров с досадой хлопнул ладонью по кулаку Зубкова, зажавшего конец ручки, и хмуро сказал:
— Опять мне начинать!
Затем он взял со стола кружку с водкой и молча выпил.
То же сделал и Зубков, сказав при этом:
— Господи, прости меня, грешного!
Хабаров помусолил пальцами верхнюю бумажку и спросил:
— Где у нас Авдеев?
Зубков заглянул в тюремный журнал и ответил:
— В четвертой.
После этого они расстегнули кобуры с наганами и вышли из дежурки. Хабаров подошел к четвертой камере, открыл длинным ключом дверь и отрывисто крикнул:
— Авдеев, на выход!
Из камеры в коридор вышел невысокий мужчина в очках и помятом костюме. Ворот его несвежей сорочки был расстегнут. Он отошел к противоположной стене, заученным движением заложив руки за спину, и остановился. Его потухший взгляд уперся в покрытый мелкими трещинами бетон.
Хабаров закрыл камеру и скомандовал:
— Вперед!
Авдеев вздрогнул, неловко повернулся направо и пошел впереди коменданта.
Зубков помахал им вслед рукой и вернулся в дежурку…
А дальше все пошло по хорошо отлаженной системе.
Вскоре Хабаров возвратился в дежурку, расписался на желтоватом листке и в тюремном журнале.
Зубков тем временем опорожнил свою кружку до конца, потом они вместе с Хабаровым открыли другую камеру, вызвали другого арестованного, и на этот раз уже Зубков увел его направо по коридору…
Стоя у двери своей камеры, Вдовин слышал, как то справа, то слева от нее лязгал засов, со скрипом или глухим стуком открывалась и закрывалась дверь, снова лязгал запираемый засов, раздавалась отрывистая команда «вперед», а потом гулким эхом по тюремному коридору разносился звук шагов.
Когда Зубков в очередной раз возвратился в дежурку, Хабаров сидел за столом и перезаряжал наган. Зубков расписался на последней бумажке, затем в тюремном журнале, захлопнул его и сказал:
— С этими все! Теперь ступай за капитаном!
— Почему я! — мрачно спросил Хабаров.
— Потому что твоя очередь! — заорал на него Зубков, рывком плеснул водку в горло и крякнул.
— Нет, — запротестовал Хабаров, — на этот раз пойдем вместе! Вместе и распишемся!
— Где распишемся, дура? — Зубков отодвинул от себя пустую кружку и заржал.
Тогда Хабаров выплеснул в свою кружку остатки водки из фляжки, выпил, откусил от луковицы и непослушными пальцами стал вставлять в барабан револьвера патроны из маленькой картонной коробочки.
— Куда тебе столько? — остановил его Зубков. — Думаешь, если из своих, так ему одного не хватит?
— Заткнись! — ответил Хабаров, бросил на стол упрямый патрон, который никак не хотел влезать в отверстие барабана, закрыл защелку, крутнул барабан ладонью, тяжело поднялся и засунул наган за ремень.
— Идем! — сказал он Зубкову и посмотрел на него недобрым взглядом.
Выйдя из дежурки, Хабаров в сопровождении Зубкова неверной походкой пошел по коридору, глядя себе под ноги. Один раз его сильно повело в сторону, он едва не потерял равновесие, но сумел удержаться на ногах, ухватившись за какую-то трубу, лежавшую на кронштейнах вдоль стены. Постояв немного, он оторвал руку от трубы, чертыхнулся и пошел дальше.
Добравшись до камеры, в которой находился Вдовин, он открыл дверь и хотел дать команду на выход, но в замешательстве остановился: он не знал фамилии стоявшего посреди камеры человека с двумя орденами Красного Знамени на гимнастерке!
Эта заминка несколько нарушила привычную, доведенную почти до автоматизма процедуру, и тогда он произнес не предусмотренные тюремными правилами обращения к арестантам слова:
— Ну, пошли!
— Куда? — спокойно спросил Вдовин.
— Там узнаешь! — из-за плеча Хабарова, пьяно ухмыляясь, ответил Зубков.
Вдовин внимательно посмотрел на одного, потом на другого и вышел из камеры. Зубков закрыл за ним дверь.
— Куда идти? — снова спросил Вдовин.
— Туда! — неопределенно махнул рукой Хабаров в ту сторону, куда до этого они уводили других арестованных.
Вдовин повернулся в указанном ему направлении и зашагал, свободно размахивая руками. Это противоречило тюремным правилам, предписывавшим арестованному всегда держать руки за спиной, но Хабаров не решился приказать ему заложить руки за спину.
Так Вдовин и шел по тюремному коридору, время от времени выполняя короткие команды Хабарова «направо», «налево», «на лестницу» или «прямо».
Они шли довольно долго, пока не свернули в боковое ответвление коридора, в конце которого было совсем темно, как будто там был тупик.
Впрочем, это так и было.
В этом ответвлении не было дверей, но зато на полу было несколько квадратных люков, закрытых металлическим крышками, и решетки для стока воды. Вдоль правой стены лежал резиновый шланг, из которого тонкой струйкой сочилась вода.
Вдовин по инерции сделал несколько шагов и скорее почувствовал, чем воспринял на слух, что тяжело шагавшие за ним коменданты остановились.
И вдруг он сразу все понял. Понял, почему так темно в конце коридора, для чего здесь и эти квадратные люки, и решетки для стока воды, и резиновый шланг, откуда лужи на бетонном полу.
Он резко обернулся.
Прямо в грудь ему смотрел черный глазок нагана!..
18
За многолетнее пребывание на оперативной работе Вдовину много раз приходилось попадать в ситуации, когда на него направляли оружие. Причем это оружие всегда было в руках людей, владевших им в совершенстве. Но раньше, участвуя в той или иной операции, он всегда был готов к тому, что в него будут стрелять, и знал, как надо действовать. К тому же он почти всегда сам был вооружен.
Но даже в тех редких случаях, когда он был без оружия или по каким-то соображениям не мог его применить, он не испытывал страха перед целившимся в него противником. Напротив, его охватывала холодная, отчаянная решимость, позволявшая с честью выходить из самых безнадежных ситуаций.
Но сейчас, в полутемном тюремном коридоре, на него направил револьвер человек в одинаковой с ним форме, и произошло это не где-нибудь, а в самом центре Москвы, в здании наркомата, сотрудником которого он являлся! Это было столь неожиданно и противоестественно, что на какое-то мгновение парализовало его волю и способность двигаться.
Хабаров тоже несколько опешил от неожиданности: только что перед ним маячила спина в гимнастерке, и он уже привычно примерился, куда будет стрелять, а теперь вдруг перед его замутившимся взором заплясали два ордена Красного Знамени.
Он отвел наган чуть в сторону и нажал на спусковой крючок.
Курок сухо щелкнул: видимо, боек попал в стреляную гильзу или в пустую камеру барабана.
Хабаров выругался, инстинктивно отступил на шаг и собрался второй раз нажать на спусковой крючок.
Во время этой неожиданной заминки Вдовин успел взглянуть Хабарову в лицо и увидел в его глазах растерянность и страх. Этого было достаточно, чтобы он осознал происходящее, понял, что перед ним стоит враг, ощутил свое превосходство над ним и в один миг сбросил с себя охватившее его оцепенение.
И прежде чем Хабаров успел выстрелить, Вдовин сделал резкий бросок вперед, ударом ноги выбил у него наган, а затем коротким, точным ударом в подбородок бросил его на металлическую решетку.
Увидев это, Зубков отскочил к стене и стал лихорадочно шарить рукой по кобуре. Ему удалось выхватить наган; но было уже поздно: Вдовин перехватил его руку и прижал ее к шершавому бетону.
Раздался выстрел, пуля ударила в пол возле их ног.
В следующее мгновение Вдовин нанес Зубкову удар коленом в низ живота, того согнуло пополам, и вторым ударом по затылку Вдовин повалил его на пол. Продолжая крепко держать руку с наганом, он бил ею по ручке люка, в который сбрасывали тела расстрелянных, бил до тех пор, пока Зубков, сумев сделать еще несколько выстрелов, не выронил наган.
Вдовин свободной рукой взял наган, потом отпустил руку Зубкова и встал.
Зубков сел на люк и закрыл голову руками, ожидая выстрела.
Вдовин оглянулся на Хабарова.
Тот стоял на четвереньках и, держась рукой за стену, пытался подняться. Когда Вдовин взял его наган, он снова тяжело опустился на пол, затравленно уставился на него и заскулил.
Держа в каждой руке по нагану, Вдовин смотрел то на одного, то на другого, раздумывая, как ему с ними поступить. Ему ничего не стоило пристрелить обоих мерзавцев, но тогда бы он поставил себя вне закона и не смог бы довести до конца дело, ради которого прибыл в Москву. Он все еще продолжал верить, что ему удастся довести его до конца.
Вдовин перешагнул через ноги Зубкова и пошел туда, откуда они его привели. Он успел сделать всего несколько шагов, как откуда-то снизу раздался встревоженный голос, приглушенный крышкой люка:
— Эй, что там у вас происходит?!
Он услышал, как где-то неподалеку, за одним из поворотов, лязгнул засов, заскрипела дверь, раздались возбужденные голоса, а затем топот бегущих по коридору людей. Он понял, что нельзя медлить ни секунды: в этих коридорах из-за каждого угла мог прозвучать выстрел!
И тогда Вдовин тоже побежал. Он не запомнил обратную дорогу и на бегу ему было гораздо труднее ориентироваться в этом лабиринте, но какое-то обостренное смертельной опасностью чутье безошибочно довело его до открытой двери дежурки.
Он вбежал в дежурку и закрыл дверь на внутренний засов.
Не успел он оглядеться, как топот ног приблизился к запертой двери, послышались приглушенные голоса, потом кто-то сильно дернул дверь.
Не обращая на все это внимания, Вдовин осмотрел наганы, пересчитал в барабанах нерасстрелянные патроны, потом приступил к планомерному осмотру помещения. Он обвел взглядом нары, стол, пустую фляжку, две кружки, несколько луковиц и полбуханки черного хлеба, стреляные гильзы, тюремный журнал, сколотые скрепкой полоски желтоватой бумаги.
Затем он выдвинул ящик стола и достал оттуда несколько картонных коробочек с револьверными патронами. Он перезарядил наганы и, почувствовав себя готовым к отражению любой попытки силой ворваться в дежурку, посмотрел в сторону двери, откуда по-прежнему доносилась какая-то возня.
И только тут на глаза Вдовину попался телефонный аппарат. Он стоял на тумбочке у самой двери, и Вдовин даже вздрогнул от неожиданности. Не заметить телефона! Только сейчас Вдовин осознал всю силу пережитого им потрясения.
Он перенес телефонный аппарат на стол, подальше от двери, и поднял трубку. Услышав гудок, он на мгновение задумался, вспоминая номер, потом четыре раза крутанул диск.
На другом конце провода моментально подняли трубку, и незнакомый голос четко и значительно произнес:
— Аппарат наркома внутренних дел слушает!
Это была удача! Она давала ему шанс выбраться отсюда.
Вдовин посмотрел на дверь и громким, слегка охрипшим от волнения голосом сказал:
— С вами говорит заместитель начальника областного управления НКВД капитан госбезопасности Вдовин Иван Михайлович! — Он сознательно назвал свой полный титул, а также фамилию, имя и отчество. — Я звоню вам из внутренней тюрьмы. Меня только что хотели расстрелять! Прошу срочно соединить меня с наркомом!
На другом конце провода не удивились, не задали ни одного дополнительного вопроса, как будто все услышанное было чем-то совершенно ординарным, и коротко ответили:
— Одну минуту, я сейчас доложу!
— Хорошо, я жду! — ответил Вдовин и прислушался.
Шум в коридоре стих: видимо, там расслышали, что говорил Вдовин по телефону, и решили подождать, чем закончатся эти переговоры.
Ждать пришлось довольно долго. Вдовин успел полистать тюремный журнал, просмотреть сколотые канцелярской скрепкой бумажки с фамилиями осужденных особым совещанием НКВД и подписями Зубкова и Хабарова под словами «приговор приведен в исполнение», когда наконец телефонная трубка ожила снова.
Чей-то резкий голос произнес:
— Алло, Вдовин!
— Я слушаю! — Он плотно прижал трубку к уху, чтобы не пропустить ни одного слова.
— Товарищ Ежов занят и говорить с вами не может. Он приказал вам явиться к нему самому, он вас немедленно примет. Начальник комендатуры проводит вас…
Вдовин посмотрел на дверь и недоверчиво усмехнулся. Да эти палачи и шага не дадут ему сделать!
— Я убедительно прошу товарища Ежова спуститься сюда и выслушать меня!
После этих слов трубка снова надолго умолкла…
Пока шли эти телефонные переговоры, в коридоре возле дежурки собралось с десяток комендантов с наганами в руках во главе с начальником комендатуры. Его бритая голова побагровела от негодования и предчувствия неизбежного взыскания, если не удастся в короткий срок локализовать произошедший инцидент. Он разнес в пух и прах едва оправившихся после схватки с Вдовиным Зубкова и Хабарова, пригрозил им арестом за разгильдяйство, а затем приказал взять ломы с противопожарного щита и приготовиться взламывать дверь дежурки.
Начальник комендатуры отдавал последние приказания, когда на площадке за решетчатой дверью зазвонил внутренний телефон. Он взял трубку и стал докладывать кому-то об обстановке. Получив новые указания, он расставил комендантов по обе стороны двери, а сам, став и стороне, прокричал в дежурку:
— Вдовин, выходите! Мне приказано проводить вас к наркому!
В его голосе не было и намека на то, что он действительно собирается вести Вдовина к наркому. Он даже не пытался хоть как-то замаскировать свои истинные намерения.
Ответ Вдовина был хорошо слышен и в коридоре, и тому, кто сейчас тяжело дышал в трубку:
— Я не выйду отсюда до тех пор, пока нарком сам не придет сюда! Так и передайте товарищу Ежову!
И тогда из лежащей на столе трубки снова раздался резкий голос:
— Что вы себе позволяете, Вдовин?! Немедленно сложите оружие и сдайтесь! Иначе мы поступим с вами, как с врагом народа!
Вдовин понял: ему не дадут выйти отсюда живым!
Все дальнейшее разговоры не имели никакого смысла. Они с самого начала были все заодно!
— А до сих пор со мной поступали как с кем?! — зло сказал он в трубку и бросил ее на рычаг.
Тем временем в коридоре все было готово к штурму дежурки.
Хабаров и Зубков, втянув голову в плечи, стояли с ломами в руках по обеим сторонам двери. За ними, держа наганы наготове, стояли другие коменданты.
Начальник комендатуры не выпускал телефонную трубку, ожидая новых указаний. Внезапно он услышал, как в дежурке снова зазвонил телефон.
Вдовин снял трубку и вновь услышал тот же резкий голос:
— В последний раз предлагаем вам сложить оружие и сдаться! Даем минуту на размышление…
Из трубки доносились еще какие-то слова, но Вдовин больше не слушал. Он положил трубку на стол, взял в руки наганы, взвел курки и произнес сквозь зубы:
— Будьте вы все прокляты!
Начальник комендатуры выслушал какие-то указания, повесил трубку, подошел к решетчатой двери и крикнул:
— Откройте, Вдовин, или мы взломаем дверь!
Ответа не последовало, и начальник комендатуры подал своим подчиненным сигнал начинать.
Хабаров и Зубков с обреченным видом, каждую секунду ожидая получить пулю через дверь, подняли ломы.
Когда они по разу ударили в обитую железом дверь, в дежурке раздался глухой выстрел.
Все изготовившиеся к штурму отпрянули от двери, но потом до них дошло, что означает этот выстрел, и они опустили наганы.
Начальник комендатуры вытер вспотевшую голову и снял трубку…
19
В заключении об обстоятельствах гибели моего отца, составленном на основании материалов расследования, было около пятнадцати страниц. Будь это любой другой документ, не имеющий к нам прямого отношения, мы бы наверняка прочитали его за пятнадцать — двадцать минут. Но это заключение мы читали почти час.
Когда мы заканчивали вторую страницу, в кабинет вошла секретарша с подносом, на котором, прикрытые белой салфеткой, стояли кофейник, сахарница, вазочка с печеньем и три кофейные чашечки, но генерал, посчитав, видимо, неуместным в такой момент отвлекать нас от чтения, дал ей знак поставить поднос на стол.
Изредка звонил телефон, на диске которого был прикреплен государственный герб, и генерал вполголоса с кем-то разговаривал. Все остальное время он в основном бесшумно ходил по ковровой дорожке, останавливаясь у окна и глядя на площадь, или молча сидел за своим рабочим столом, машинально перебирая служебные бумаги.
Я читал быстрее матери и, дочитав до конца страницы, ожидал, пока она тоже дочитает и уберет руку, давая тем самым знак, что я могу эту страницу перевернуть. Как только я это делал, она кончиками пальцев прижимала нижний край листа, словно опасалась, что я переверну его раньше, чем она успеет прочитать последнюю строчку.
В эти непродолжительные паузы перед переворачиванием очередной страницы я украдкой поглядывал на нее, и меня поражало непроницаемое выражение ее лица, тем более странное, что я уже знал содержание прочитанной страницы, и мне казалось просто невероятным, что ей удается сохранить самообладание и ничем не выдавать своего состояния. Она только чуть побледнела, но в остальном выглядела так, как будто читала историю болезни и смерти совершенно постороннего для нее человека.
Что касается меня, то, к своему большому удивлению, я тоже не испытывал особого волнения, как если бы в заключении говорилось не о моем отце, а о каком-то незнакомом мне Иване Вдовине. Впрочем, примерно так оно и было, потому что, не зная отца живым, я и смерть его не мог воспринять столь же мучительно остро, как смерть хорошо знакомого и близкого человека. Примерно так же на похоронах родителей ведут себя маленькие дети. А может, я еще заранее, настраиваясь на эту встречу и предвидя ее характер, подсознательно так заблокировал свои органы чувств, что стал эмоционально невосприимчив к информации, которая могла травмировать мою душу?..
Когда мы закончили чтение последней страницы и я отложил документ в сторону, генерал снова сел напротив нас, и некоторое время мы молчали, не глядя друг на друга.
Потом мать, не поднимая глаз, тихо спросила:
— Когда же… это случилось?
Я посмотрел на генерала. Он молчал, погруженный в свои мысли, и я попытался ответить на вопрос матери:
— Отец уехал четвертого июня… Значит, пятого он был в Москве. Выходит, он, как и Бондаренко, погиб в ночь на шестое!
Мать провела рукой по лицу и задумчиво произнесла:
— А мне сообщили только в конце августа!
Она помолчала немного, словно осознавая это временное несоответствие, а потом, удивленно посмотрев на генерала, спросила:
— Для чего им понадобилась эта ложь про специальное задание? Мы жили с этой ложью почти двадцать пять лет!
Прежде чем ответить, генерал протянул руку и дотронулся до ее тонких, длинных пальцев. Я заметил, как рука матери вздрогнула.
— Эта ложь тем не менее спасла вашу честь, а может, и жизнь! Вам и вашему сыну…
Мать отняла свою руку и очень тихо, так, что я еле расслышал ее слова, спросила:
— Значит, мы им еще чем-то обязаны?
— Нет, Ирина Федоровна. — Генерал отрицательно покачал головой. — Если вы кому и обязаны, то только Ивану Михайловичу, а не им! — Он сделал ударение на последнем слове. — Да и что могли значить ваши жизни в той преступной игре, которую они вели? Просто в тот момент они стремились скрыть, что значительная часть кадровых чекистов выступает против беззакония и произвола.
Он убрал документ в папку и продолжил:
— Поэтому они и решили расправиться с Иваном Михайловичем таким образом, чтобы никто и никогда не узнал правду. И так поступили со многими, с целыми коллективами, как, например, с сотрудниками омского управления… Если бы Иван не обезоружил комендантов, возможно, мы так никогда и не узнали, что произошло с ним в Москве!
Генерал умолк. Он молчал довольно долго, и, когда заговорил снова, я не узнал его голоса: у него был совсем иной тембр, глухой и одновременно резкий.
— Это потом они опьянели от пролитой крови и стали беззастенчиво объявлять врагами народа самых честных и преданных делу партии сотрудников. Тех, кто предпочел погибнуть, но не пошел на сделку со своей совестью! И таких было около четырнадцати тысяч!..
Так я впервые услышал эту страшную цифру.
Но и она впоследствии окажется неполной. Пройдут годы, будут посчитаны те, кто безвинно сложил головы в годы сталинских репрессий, и тогда окажется, что среди миллионов жертв было почти двадцать три тысячи сотрудников органов госбезопасности, что превышало девяносто процентов их личного состава. И это не считая полутора тысяч тех, кто подобно Ягоде, Ежову, Фриновскому и другим, был расстрелян в разные годы за преступления, связанные с нарушениями законности и фальсификацией дел!
Чекисты раньше других рассмотрели опасность истерии всеобщей подозрительности, и поэтому они стали самыми первыми жертвами массовых репрессий, первыми приняли на себя удар, обескровивший затем всю страну.
Судьба всех жертв сталинских репрессий была ужасной, но судьба большинства репрессированных чекистов была ужасной вдвойне, да и сами репрессии в органах госбезопасности по своему цинизму и жестокости превосходили все, что последовало за ними.
Арест и расправу над людьми, известными советской и мировой общественности: видными политическими деятелями, крупными военными, знаменитыми писателями или учеными — необходимо было как-то оправдать, дать соответствующее обоснование. Чекистов же уничтожали, не задумываясь над тем, кому и как это следует объяснять, они просто исчезали из бытия, неизвестные никому, кроме своих близких и сослуживцев, которые следовали за ними и уносили с собой тайну их исчезновения.
Эта невидимая миру расправа продолжалась до тех пор, пока им на смену не пришли беспринципные, бездумные, порой просто безграмотные исполнители, для которых единственным законом являлись сталинские директивы и инструкция о методах ведения следствия, составленная Ежовым и его подручными. Именно после этого органы защиты государства превратились в карательный орган, в послушный инструмент еще более массовых репрессий, с помощью которого все последующие годы поддерживался созданный Сталиным тоталитарный режим, безжалостно расправлявшийся с теми, на кого указывал перст вождя, его ближайших соратников и многочисленных приспешников по городам и весям несчастной страны.
Волнение перехватило генералу дыхание, он непроизвольно потянулся к вороту форменной сорочки. Его голос стал еще глуше:
— Они расправились с лучшими чекистами, соратниками Дзержинского: Артузовым, Пиляром, Стырне, Федулеевым, Сыроежкиным, многими другими нашими боевыми товарищами…
Генерал умолк, видимо, в сотый раз за свою жизнь вспомнив всех друзей, которых он потерял в те страшные годы: оклеветанных, растоптанных, морально и физически уничтоженных чекистов его поколения.
Он назвал совершенно незнакомые мне имена, Я не встречал их ни в специальной литературе, ни тем более в открытых публикациях. Словно прочитав мои мысли, генерал воскликнул:
— Какие это были люди! Это они провели операции «Синдикат» и «Трест», они разгромили организацию Бориса Савинкова, парализовали антисоветскую деятельность монархистов! И их посмели обвинить в контрреволюционной деятельности!..
Он стукнул кулаком по столу, помолчал, потом обвел нас взглядом и твердо сказал:
— Скоро советские люди узнают правду и о них, и об их подвигах!
— А как же теперь будет с Иваном… моим мужем? — тихо спросила мать.
Генерал задумался, потом грустно усмехнулся:
— Парадоксально, но те, кто убил его, стремясь скрыть свое преступление, вынуждены были сами обессмертить его имя!.. Вот уж действительно, правда восторжествовала, несмотря ни на что!
— Но как быть со «специальным заданием»?
— Это легко поправить, — успокоил ее генерал. — Главное в том, что Вдовин Иван Михайлович был и останется героем! В его деле теперь будет записано: «Погиб при исполнении своего служебного долга»!
— Как у Бондаренко, — невольно вырвалось у меня.
— Все по справедливости! — согласился генерал. — Два солдата отдали жизнь, выполняя свой долг!
Он вынул из папки еще два документа, каждый исполненный на отдельном листе, показал нам и сказал:
— Соответствующие заключения будут приобщены и к вашим личным делам.
С этими словами он встал и отнес папку на свой рабочий стол. Потом снова вернулся, сел напротив и задумчиво посмотрел на мать.
— А как сложилась ваша жизнь в те годы? — спросила она.
Генерал ответил не сразу, словно ему потребовалось какое-то время, чтобы переключиться с судьбы своего друга на свою собственную судьбу.
— Мне, можно сказать, повезло, — усмехнулся он. — В тридцать восьмом меня хотели отозвать из-за границы, но, к счастью для меня, связник, который должен был передать мне приказ вернуться в Москву, задержался в дороге, и мы с ним не встретились. Как я потом узнал, это спасло мне жизнь: по возвращении в Москву меня наверняка бы расстреляли. А так связь со мной на какое-то время прервалась, вскоре началась война…
Он остановился, словно размышляя, рассказывать ли о том, что произошло с ним дальше, и, решив, видимо, воздержаться, закончил:
— В общем, судьба меня хранила.
— А после войны? — не удержался я от вопроса.
— После войны? — переспросил генерал. — После войны война еще долго для меня не кончалась! Это вот теперь жизнь у меня стала несколько поспокойнее, хотя и сейчас еще нет-нет да приходится иногда возвращаться к старым делам…
На его рабочем столе зазвонила «кремлевка».
Генерал сказал: «Прошу прощения», встал, подошел к столу и поднял трубку.
— Слушаю… Да… Обязательно! — бросал он в трубку отрывистым, деловым тоном. — Нет, справка по этому делу будет нужна мне сегодня… Нет, не позже семнадцати часов… На коллегии я буду докладывать завтра… Договорились!
Генерал положил трубку, вернулся за стол для совещаний и, продолжая прерванный разговор, обратился к матери:
— А что, если мы переведем вас в Москву? Вы же коренная москвичка? Вместе с Михаилом, конечно. А, Ирина Федоровна?
— Спасибо за заботу, — отрицательно покачала мать головой, — только ни к чему все это. Скоро на пенсию, внуков нянчить, какая уж тут Москва?!
Генерал обратился ко мне:
— Ну а ты, Михаил? У тебя же два иностранных языка! Может, перевести тебя в разведку?
Кто не мечтает о работе в разведке? Мечтал и я, конечно. Но еще с юношеских лет и всю жизнь я испытывал глубокую неприязнь к любой форме покровительства, независимо от того, кто мне его предлагал, твердо взяв себе за правило всего и всегда добиваться сам. Вот и сейчас, несмотря на искреннее стремление друга моего отца содействовать успеху моей карьеры, я ответил так:
— Когда я заканчивал спецшколу, мне предлагали работать в Москве, но я отказался. Хотел бы и впредь работать в городе, где я родился, где работал мой отец.
Отвечая так, я, естественно, не мог знать, что уже через несколько месяцев жизненные обстоятельства заставят меня пересмотреть свое мнение.
— Твой отец и в Москве работал, — напомнил генерал.
— В Москве он погиб! — довольно резко возразил я. — А жил и работал он там. Там и память о нем.
— Ну что ж, — задумчиво посмотрел на меня генерал, — может, ты и прав. Впрочем, время покажет…
20
Все, что окружает нас в этой жизни, на нашей планете и во Вселенной, имеет свой цвет: каждый неживой предмет, каждое живое существо, каждое явление природы, солнечный свет, свет далеких звезд.
Но тот или иной цвет имеет не только то, что мы видим своими глазами. Цвет воспринимают и другие органы наших чувств.
Ученые изучают «кожное зрение», когда человек с завязанными глазами может определить цвет предмета, прикоснувшись к нему пальцами.
Есть люди, которые различают цвет звуков, каждого в отдельности, и тогда, когда они сливаются в рев стихии или прекрасную музыку, звучащую в этом мире.
Другие утверждают, что для них окрашены в разные цвета происходящие в мире явления и события, как глубоко личные, касающиеся отдельного человека, так и имеющие значение для целых народов. Особенно различного рода переживания и потрясения: рождение и смерть, любовь и измена, подвиг и предательство, войны, революции, всенародные триумфы и трагедии, землетрясения, ураганы и прочие стихийные бедствия и катастрофы. Потому что в памяти каждого человека, как и в памяти народов, они оставляют не только эмоциональный, но и образный след.
А образ всегда имеет конкретные очертания и определенный цвет.
Такие люди убеждены, что свой цвет имеет каждое мгновение, каждый прожитый ими год, каждый исторический период, каждая эпоха, из которых и складывается ВРЕМЯ.
Что касается меня, то я не слишком доверял подобным утверждениям, полагая, что видеть цвет времени, если это вообще возможно, — удел особо одаренных людей, наделенных богатым воображением. Говорят, таким людям снятся только цветные сны.
Мне же за всю жизнь всего один раз приснился цветной сои, но зато я запомнил его на всю жизнь.
Такой это был сон!..
Но вот сейчас, по прошествии многих лет, снова вернувшись к началу своей чекистской карьеры, я вдруг совершенно неожиданно для себя самого ощутил, что в моем воображении каждый описанный мной эпизод тоже ассоциировался с определенным цветом, соответствующим характеру происходящего.
Так, все, что имело отношение к тридцать седьмому году, виделось мне в холодном, синеватом, а иногда даже черно-белом цвете, а то, что произошло в шестьдесят первом, запечатлелось в памяти моей в каких-то размытых полутонах, в той усеченной цветовой гамме, которой соответствуют краски наступающей зимы. Как бы то ни было, но этот декабрьский день в Москве запомнился мне именно таким.
Я не боюсь обвинений в плагиате и тем более не претендую на приоритет в подобном образном восприятии того, что со мной произошло. Мне отлично известно, что к такому цветовому решению прибегают некоторые кинематографисты, стремясь усилить эмоциональное воздействие того или иного эпизода на зрителя. После всего пережитого я полностью солидарен с ними, хотя такой прием, насколько я помню, всегда вызывает не только одобрение, но и неприятие со стороны определенной части зрителей…
Около двух часов дня мы вышли из здания КГБ.
Подморозило, шел небольшой снег.
Мы обогнули здание и медленно пошли в сторону Большого театра.
Каждый думал о своем, хотя правильнее будет сказать, что мы оба думали об одном и том же, только по-своему. Я был в этом уверен, потому что «свое» на самом деле было для нас общим.
И это общее с одинаковой тяжестью давило сейчас на нас обоих.
Я просто физически ощущал на себе этот страшный груз. Он прижимал меня к покрытому тонким слоем снега асфальту площади Дзержинского, но я не пытался стряхнуть его со своих плеч, зная, что мне это все равно не удастся и теперь этот груз всегда будет давить на меня.
А еще я знал, что от того, как я буду нести этот груз, будет зависеть вся моя дальнейшая жизнь.
К стыду своему должен признаться, что, погруженный в свои мысли, я на какое-то время совсем позабыл о матери. А случилось это, скорее всего, потому, что, уверовав в ее «железный» характер, я и допустить не мог, что свалившаяся на нас обоих тяжесть согнет или сломает ее.
Я слишком хорошо знал мать, чтобы всерьез этого опасаться, и потому посчитал излишним брать ее под руку. Да мы так с ней и не ходили, к тому же и ходили мы вместе очень редко, а по Москве так и вообще в первый раз за последние пять лет.
Так мы и шли рядом, вроде бы вместе, но каждый наедине со своими мыслями.
Я размышлял о том, почему отец застрелился.
Что вообще толкает людей на самоубийство?
При каких обстоятельствах человек имеет право на такой поступок?
Во всех ли случаях можно найти ему оправдание?
И чем больше я думал об этом, тем яснее мне становилось, что в основе всех самоубийств, независимо от обстоятельств и избранного способа покончить с собой, лежит осознание человеком трагической безысходности своего положения.
Если бы отец не застрелился сам, его бы все равно ждала смерть, он уже фактически прошел через нее. Но, прежде чем его стали бы убивать снова, ему пришлось бы испытать немыслимое унижение, да и сама смерть от руки полупьяного палача была невыносимо унизительна!
Потому он и предпочел умереть, как жил, — с гордо поднятой головой, бросив своим врагам — а он был убежден, что это его враги! — последнее проклятие.
Впрочем, это мне так думалось, что он, прежде чем заглянуть в дуло револьвера, проклял своих врагов. А думалось мне так потому, что я, окажись на его месте, обязательно бы их проклял.
Пока я размышлял об этом, мы обогнули площадь и вышли на проспект Маркса.
В этот час на проспекте было многолюдно, как всегда.
Окружавшие нас люди вели себя по-разному: одни спешили, поглощенные своими предновогодними заботами, другие — веселые, оживленные, беззаботные — шли неторопливо, останавливались, чтобы получше разглядеть праздничное убранство площадей и скверов, создавали невообразимую толчею на тротуарах, в подземных переходах, на перекрестках.
И только мы с матерью, наверное, не были похожи ни на тех, ни на других, но никому не было до нас никакого дела. Мало ли какие люди и с какими заботами ходят по московским улицам!
Неожиданно мать качнулась в мою сторону, едва не потеряв равновесие.
Сначала я подумал, что она поскользнулась, быстро протянул ей руку, и она ухватилась за нее, чтобы обрести ускользающую опору, и через это судорожное прикосновение я ощутил, каким спасением для нее оказалась моя рука.
Я заглянул ей в лицо, и меня охватила тревога: я понял, что она шла как в бреду, механически переставляя ноги и не замечая ничего вокруг себя, и вот теперь ноги перестали ее слушаться, и без моей помощи она идти уже не сможет. И я больше не отпускал ее слабеющую руку, и по мере того как мы удалялись от площади Дзержинского, ее тело наливалось тяжестью, и это требовало от меня все больших усилий.
Я медленно вел ее через людской круговорот, обходя различные препятствия и оберегая ее от столкновений с прохожими. У Малого театра мне пришлось решительно придержать ее, потому что она едва не пошла на красный свет, прямо наперерез двинувшемуся транспорту.
Переждав автомобильный поток, мы пошли дальше, но, поравнявшись со сквером у Большого театра, я почувствовал, как силы вдруг оставили ее, и мне пришлось усадить мать на заснеженную скамью.
Некоторое время мать сидела неподвижно, устремив невидящий взор на рабочих, которые заканчивали установку елки, на суетившихся вокруг школьников, с любопытством наблюдавших за их работой, потом из ее груди вырвался глухой стон, и долго сдерживаемые рыдания, сначала редкие и слабые, потом все более частые и сильные, исказили гримасой страдания ее лицо, судорожной волной прошли по всему ее телу.
Это было так неожиданно, что мне стало страшно: впервые в жизни я видел, как плачет моя мать.
Я не пытался ее успокаивать, понимая, что ей просто необходимо выплакаться. Я приготовил платок, но в ее глазах не было ни слезинки, даже снежинки не таяли на ее лице.
Этот страшный плач без слез тем не менее принес ей, видимо, некоторое облегчение. Она сама взяла у меня платок, приложила его к сухим глазам, потом, словно извиняясь передо мной за свою минутную слабость, заговорила.
Ее речь изредка прерывалась затихающими рыданиями, из-за чего отдельные слова можно было разобрать только по движению побелевших губ.
— Все эти годы я держалась, и вот… — виноватым голосом произнесла она. — Одна я знаю, чего мне это стоило… Твой отец ничего мне не рассказывал, я не имела права все это знать, весь этот ужас. Он берег меня. Но я же все видела… Я видела, каким он приходил домой, как он не мог уснуть… Он весь почернел. Это было ужасно!
Спазмы перехватили ей горло, и она умолкла. Прошло несколько минут, прежде чем она снова заговорила.
— Когда он уезжал в Москву, я чувствовала… Но разве я могла предполагать?! Ведь он же был такой!..
Она не договорила, но по запомнившимся на всю жизнь рассказам я догадался, что она хотела сказать.
Снег усилился. Я обнял мать за плечи и сказал:
— Пойдем отсюда, мама. Ты можешь простудиться.
Мне хотелось поскорее увести ее в гостиницу и уложить в постель. В ее положении сейчас сон был просто необходим.
— Нет, подожди! — Она освободилась от моих объятий и судорожно сжала мне руку. — Сначала поклянись мне, что ты, как твой отец, всегда!..
Она не договорила и эту фразу: невыплаканные слезы комом стояли у нее в горле, не давая говорить, и только в глазах ее застыл немой вопрос.
Я взял ее руку, прижал к своей щеке и тихо сказал:
— Я уже давно поклялся, мама…
Я сказал ей чистую правду.
При поступлении на работу в органы госбезопасности я давал воинскую присягу, но, кроме этой присяги, я дал себе клятву, что никогда, как бы ни сложилась моя дальнейшая служба, ни при каких обстоятельствах я не пойду против своей совести и не опозорю памяти моего отца.
Права власть, которой я присягнул служить верой и правдой, или не права, но во имя миллионов людей, отдавших жизнь за эту власть или по ее вине, я поклялся сделать все от меня зависящее, чтобы кровавое прошлое никогда не повторилось.
И еще я твердо знал, что если я буду служить делу, а не людям, волею судьбы поставленным во главе этого дела, то меня никогда не постигнет разочарование в том, что я делал.
Когда я давал эту клятву, я еще не знал всей правды о моем отце. И вот теперь, когда я узнал все, мне не было необходимости вносить какие-либо коррективы или тем более пересматривать свою клятву.
Правда о судьбе моего отца только укрепила решимость до конца, до последнего вздоха быть верным этой клятве.
Теперь мне еще больше хотелось быть достойным сыном своего отца…
Что было потом?
Прошло полгода, и меня снова вызвали в Москву, в управление кадров, а в сентябре шестьдесят второго года я приступил к учебе в разведывательной школе.
Пока я овладевал новой для меня разновидностью чекистской профессии, волна реабилитации жертв сталинских репрессий стала постепенно затухать. Все меньше и меньше говорилось и писалось о преступлениях «вождя всех народов» и его «верных соратников», а когда я закончил учебу, едва набравшая силу «оттепель» снова сменилась холодом и безразличием к судьбам тех, кто сложил свои безвинные головы в годы репрессий.
Потребовалось еще целых двадцать пять лет, прежде чем эта очистительная волна всколыхнулась снова, на этот раз уже окончательно и бесповоротно. И хотя время сделало свое дело, и в живых осталось не так уж много жертв и палачей, справедливость восторжествовала, и каждый получил то, чего был достоин.
Палачи были всенародно прокляты, а жертвы восстали из небытия, их имена были увековечены в памяти людей.
Благодаря настойчивости активистов общества «Мемориал», с помощью доживших до этой поры свидетелей, при содействии чекистов моего и последующих поколений, были разысканы и указаны места многих тайных захоронений, казалось бы, навеки спрятанных в глухих урочищах, на речных откосах, в потаенных кладбищенских уголках и других укромных местах, на них были установлены величественные монументы и скромные обелиски.
Был установлен памятник и на выщербленной бетонной лестнице на крутом берегу реки, у которой раскинулся город моего детства. На мраморных плитах были высечены имена нескольких тысяч людей, и среди них имя отважного городского прокурора Григория Васильевича Бондаренко.
Что касается места захоронения моего отца, то оно так и не было найдено. Да и найти его было невозможно: места, где закапывали расстрелянных чекистов, прятали особенно надежно.
Правда, моя мать ничего этого уже не увидела и не узнала.
Она умерла через несколько месяцев после нашей совместной поездки в Москву, ранней весной шестьдесят второго года, не дожив нескольких дней до своего пятидесятилетия.
Не выдержало сердце…
1974–1987 гг.